Мишель Дюшен Герцог Бекингем
Предисловие
История XVII века, «эпохи барокко», изобилует яркими личностями, будь то государственные деятели, такие как Ришелье, Мазарини и Оливарес, или военачальники, такие как Конде, Валленштейн и Густав-Адольф. Однако ни у одного из них карьера не была столь стремительной, ослепительной и драматичной, как у Джорджа Вильерса, герцога Бекингема, судьба которого оказалась связанной с Англией, Испанией и Францией.Для французского читателя Бекингем остается в первую очередь героем одного из самых знаменитых эпизодов «Трех мушкетеров»: любовная страсть, безумная бравада, сказочная щедрость. Кроме того, уже не в столь романтическом образе, его помнят как командующего английским флотом и армией, захватившими остров Ре и безуспешно пытавшимися помочь гугенотам Ла-Рошели, осажденным Ришелье.Большинство англичан воспринимает его совершенно иначе: для них это человек, который хотел навязать Англии абсолютного монарха в лице своего друга Карла I, чуть не погубил королевство и погиб из-за того, что противопоставил свою власть парламенту, глашатаю воли народа. Именно такой образ насаждался историками-«вигами»[1] в течение почти двух столетий. Сегодня подобный образ Бекингема хотя и не забыт полностью, но все же значительно скорректирован современными историками. Они сходятся во мнении, что, несмотря на слишком очевидные личные недостатки, этот человек обладал качествами, которые, не ставя его в ряд политических гениев, все же обеспечивают ему почетное место среди английских государственных деятелей той эпохи. Нельзя также забывать, что в течение некоторого времени, пусть и недолго, он был «народным кумиром».Более того, при ближайшем рассмотрении Джордж Вильерс оказывается весьма симпатичным человеком. И не только благодаря личному обаянию, которому поддавались все его современники (и современницы), но и благодаря таким качествам, как щедрость, искренность и преданность, довольно редким у фаворитов его времени, да и других времен.«Фаворит» – самое точное слово, определяющее положение Бекингема от начала и до конца его короткой карьеры. Королевский конюший, главный адмирал британского флота, командующий армией, дипломат – все это так, но в первую очередь – фаворит, близкий и доверенный друг короля, даже двух королей. «Фаворит» – это категория неотделима от эпохи, когда в большинстве стран Европы почти вся власть была сосредоточена в руках монарха. Личная привязанность короля становилась основным, если не единственным, условием восхождения к вершинам государственной иерархии. Поэтому статус фаворита был официальным и признавался всеми. Бекингема, как и Оливареса и Ришелье, современники так и называли фаворитом: именно благодаря подобному статусу эти люди имели возможность руководить политической жизнью своих стран.И все же феномен Бекингема исключителен в том смысле, что, в отличие от Оливареса в Испании, Ришелье во Франции, Оксеншерны в Швеции, он стал фаворитом не в результате долгой государственной службы. В течение нескольких месяцев, с апреля 1615-го по февраль 1617 года, этот стройный и приветливый молодой человек, не имевший никакого политического или военного опыта, поднялся со скромной должности королевского виночерпия до поста члена Тайного королевского совета, получил титул герцога Бекингема, стал кавалером ордена Подвязки и близким другом королевской семьи. Было бы абсурдом отрицать или игнорировать (как это делали ханжески добродетельные историки времен королевы Виктории) сексуальный аспект отношений, связывавших, хотя бы поначалу, красавца Джорджа Вильерса и короля Якова I, чьи гомосексуальные наклонности были хорошо известны современникам. Бекингем, фактически единственный из фаворитов того времени, приобрел политическое могущество благодаря любви своего государя (конечно, можно было бы также привести пример Мазарини, однако в его случае речь шла о королеве, а не о короле…).Начавшаяся таким образом карьера могла ограничиться рамками обычной чувственной и нежной связи, не имеющей политических последствий. Однако ум Джорджа Вильерса, его умение адаптироваться в разных условиях, а также преданность королю обеспечили ему положение первого министра (без титула). Он исполнял эту обязанность по меньшей мере с 1625 по 1628 год, вплоть до своей гибели от кинжала убийцы.Таким образом, в жизни Бекингема соединились разные аспекты, не противоречащие друг другу, а скорее друг друга дополнявшие, и в результате его карьера, пусть короткая – самое большее 13-14 лет – получилась исключительно разнообразной. Он был не только государственным деятелем, вознамерившимся изменить равновесие сил в Европе, но также романтическим героем, ценителем искусств, меценатом и, наконец, почти легендарным персонажем, о котором помнят уже почти четыре века.Мы постараемся описать здесь жизнь этого человека, не упустив ни одной из ее сторон. Приводимые в книге документальные свидетельства были обнаружены в архивах его времени, в переписке, в воспоминаниях современников. В них содержатся разные, порой противоречивые суждения о нашем герое. Сам Бекингем не оставил дневников, однако его политическая деятельность отражена в его речах, выступлениях в парламенте, докладах, записках, и мы надеемся, что подобных свидетельств окажется достаточно для того, чтобы читатели составили собственное мнение о Джордже Вильерсе, сердцееде и государственном деятеле, – а подобное сочетание, что ни говорите, встречается в истории нечасто.N. В. Все закавыченные цитаты в тексте даются с указанием источников. Вместе с тем, учитывая тот факт, что стиль английской письменной речи XVII века многословен, напыщен, зачастую изобилует повторами и неясностями, мы позволили себе в данной книге передать некоторые фразы в сжатом виде, сократить некоторые рассуждения, опустить или вкратце пересказать ряд фрагментов текстов, не отмечая в каждом случае купюры скобками и многоточиями, как это принято в научных изданиях. Само собой разумеется, что подобные небольшие изменения, вносимые в цитируемые тексты, ни в коем случае не искажают их смысла и не снижают информативности.
Пролог
Дебаты в английском парламенте, февраль-июнь 1628 годаСэр Эдвард Кок, депутат:«Я утверждаю, что герцог является причиной всех наших бед и что, пока королю не доложат об этом, у нас не будет передышки. Если мы примемся изучать причины наших несчастий, то источником каждого окажется герцог».Сэр Джон Элиот, депутат:«В характере герцога слишком много предательского и лживого. Его можно сравнить разве что со зверем, которого древние именовали Stellionatus [2], таким ужасным и грязным, что они не знали, как с ним обходиться. Мы – свидетели того, как герцог унижает людей, нарушает законы, презирает правосудие. Почему человек столь вредоносный, столь опасный для государства до сих пор жив? Его поистине можно назвать зловонной язвой государства. Я даже не знаю, с кем сравнить его; разве что с Сеяном, о котором Тацит пишет, что он был "дерзок, двуличен, преступен, горд и притеснял людей". Милорды, я сказал достаточно: таков этот человек».Граф Джордж Бристоль:«Неуместно было бы сейчас, перед лицом палаты, рассматривать в подробностях поведение герцога в Испании, где он дал волю своим порочным страстям к великому бесчестью нашей нации. Его поведение было таково, что король Испании и его министры не пожелали больше иметь с ним дела, и подписание договора между нашими странами оказалось сорвано».Сэр Джордж Элиот:«Он должен быть уничтожен, иначе он уничтожит всех».
* * *
Этим человеком, этим чудовищем и причиной всех бед был Джордж Вильерс, герцог Бекингем. Тот самый, в адрес которого двумя годами ранее прозвучали такие слова: «Лорды и общины нашего королевства, объединенные в парламенте, выражают герцогу Бекингему величайшую благодарность за выказанные им преданность и искусство и нижайше просят Его Величество благосклонно утвердить сие свидетельство почета и уважения, которое будет внесено в Журнал дебатов этого собрания».В ответ герцог поблагодарил «от всего сердца лордов и общины» и пообещал, что посвятит «все свои действия и мысли службе Его Величеству и благу государства и народа нашего королевства».Вечером в Лондоне звонили в колокола и разжигали праздничные костры в честь героя дня.
* * *
Кто же был этот человек, который всего через два года оказался низвергнут с высот всеобщей популярности в пропасть всеобщего осуждения?На страницах этой книги мы постараемся разрешить эту загадку истории.
Глава I «Личность поистине необыкновенная»
Детство Джорджа Вильерса
4 января 1606 года леди Мэри Вильерс, проживавшая в своем поместье Бруксби близ Лестера, овдовела.Ей было тридцать два или тридцать три года; она была красива; муж одарил ее четырьмя детьми и еще пятью своими от первого брака. Надо было как-то жить и обеспечивать будущее семьи.В Европе XVII века женщина не могла сама по себе занять значительное место в обществе и тем более стать главой семьи. Леди Вильерс хорошо это понимала. Она вскоре вновь вышла замуж, сначала за сэра Уильяма Рейнза, а потом, опять овдовев, – за мелкопоместного дворянина Томаса Комптона, деревенщину и пьяницу, зато богатого. Поскольку отец ее детей, сэр Джордж Вильерс, оставил ей в наследство приносящие хороший доход земельные владения, прилежащие к владению Гоудби [3], вдова не испытывала материальных трудностей. Однако она была еще молода, любила деньги и роскошь и мечтала о более яркой жизни, нежели жизнь в провинции при муже-деревенщине. И потому, как многие другие матери в подобных обстоятельствах, она возложила все свои честолюбивые надежды на сыновей.
Их было трое. К сожалению, старший, Джон, которому в год смерти отца исполнилось пятнадцать лет, был, по словам современника, «слаб телом и духом»; а у самого младшего, одиннадцатилетнего Кристофера, здоровье было не намного лучше. По счастью, второй сын, тринадцатилетний Джордж, оказался весьма жизнеспособным и сильным. Учился он не блестяще, но был умен, открыт и выделялся в первую очередь в разного рода спортивных занятиях, а в то время подобное качество было для дворянина обязательным. Леди Вильерс решила во что бы то ни стало обеспечить Джорджу хорошее будущее, – для начала, понятно, его следовало выгодно женить.
Четвертым ребенком леди Вильерс была дочь Сьюзан, чуть моложе Джорджа: так что время заботиться о ее будущем еще не настало.
Род Вильерсов вел свое происхождение из Нормандии. Как утверждали, их предки пришли в Англию во времена Вильгельма Завоевателя и принадлежали к тому же родовому корню, что знаменитые Вилье де Лиль-Адан, подарившие Франции в XV веке известного маршала, а в XVI – Великого магистра Мальтийского ордена. Впрочем, английская ветвь этого рода не сумела возвыситься до уровня придворной аристократии, хотя и занимала достойное место в графстве Лестер. Герб Вильерсов представлял собой расположенные крест-накрест серебряные и красные поля и был украшен пятью золотыми раковинами.
Что касается леди Мэри, то она была урожденная Бомон, то есть тоже происходила из древнего рода средневековых выходцев из Франции. Однако Бомоны были бедны. В юности леди Мэри пришлось служить компаньонкой у богатой родственницы, и именно в ее доме она познакомилась с сэром Джорджем Вильерсом, вдовцом с пятью детьми. Он сразу же взял ее в жены, и, насколько мы можем судить, они прожили в любви и согласии пятнадцать или шестнадцать лет. Умирая, сэр Джордж не сомневался, что его потомков ожидает блестящее будущее и что они выдвинут род Вильерсов в первые ряды аристократии королевства.
Такую блестящую карьеру суждено было сделать юному Джорджу: в возрасте двадцати пяти лет он получил титул герцога Бекингема, а историю его жизни с полным правом можно сравнить с историями героев модных романов его времени.
О детстве и отрочестве Джорджа Вильерса мы знаем мало. На мальчиков из провинциальной мелкопоместной дворянской семьи обычно никто не обращает внимания. Позднее, когда он стал знаменит и могуществен, о нем рассказывали множество историй, но нет доказательств, что это не сплетни. Лишь один автор, хорошо знавший Бекингема во времена его могущества и собиравший сведения о его семье и друзьях детства, способен сообщить нам некоторые детали, которые можно считать достоверными. Это дипломат Генри Уоттон (мы будем неоднократно упоминать его в этой книге). Около 1640 года он составил «Краткое описание жизни и смерти Джорджа Вильерса, герцога Бекингема» – основной источник информации о юных годах нашего героя.
Итак, Джордж Вильерс учился в школе в Биллсдене, неподалеку от дома, где жили мать и отчим. Как уточняет Уоттон, он был «мало склонен к учению и размышлениям» {1}. В это нетрудно поверить, однако не следует думать, что Джордж остался неучем или тем более был тугодумом: история его жизни в изобилии представит нам доказательства его ума и способности усваивать знания в самых различных областях.
В 1610 году – ему было тогда 17-18 лет – мать, идя на огромные финансовые жертвы, послала его во Францию, чтобы он получил приличествующее дворянину образование. Он пробыл во Франции два года.
Нам неизвестно, находился ли юный Вильерс в Париже в день убийства Генриха IV, 14 мая 1610 года. Возможно, он приехал позже, когда уже регентствовала Мария Медичи. В любом случае, Джордж жил во Франции как раз в то время, когда утвердилось могущество итальянца Кончини [4] и ярко проявилось своеволие крупных феодалов, которых с большим трудом умел удерживать в повиновении покойный король.
В 1610 году Франция еще не была той великой державой, какой спустя пятьдесят или шестьдесят лет ее сделали Ришелье, Мазарини и Людовик XIV. Она казалась бледной тенью рядом с Испанией, переживавшей золотой век. Однако после умиротворяющего правления Беарнца [5] еще сияла светом Возрождения, и благородные иностранцы любили приезжать в эту страну: кто-то – чтобы развлечься, кто-то – чтобы занять достойное место при дворе. Поэтому весьма вероятно, что юный Вильерс именно во Франции научился светским манерам, фехтованию (то была эпоха дуэлей, в которых настоящий дворянин не мог не участвовать) и французскому языку, на котором с тех пор говорил очень бегло. Его враг Энтони Уэлдон язвительно замечает, что «в грамматике этого языка он разбирался не лучше, чем в английской» (однако, если судить по письмам, которые он писал впоследствии, это не соответствовало действительности). Он совершенствовался также в двух других искусствах, которые процветали во Франции, равно как в Италии и Испании: в верховой езде и танцах – и этим искусствам предстояло сыграть решающую роль в восхождении нашего героя по социальной лестнице.
Нам неизвестны имена людей, с которыми Джордж Вильерс тогда общался во Франции. Поскольку он не был сыном богача или аристократа, он вряд ли имел доступ в Лувр. Он не упоминается ни в одном донесении английского посольства. Мы знаем только (опять же от Генри Уоттона), что он подружился с молодым англичанином, своим сверстником Джоном Элиотом, изучавшим во Франции право: этот Элиот впоследствии вписал свое имя в историю Англии, и его отношения с Джорджем Вильерсом, превратившимся в герцога Бекингема, сыграли первостепенную роль в карьере последнего.
Двадцатилетний Джордж Вильерс вернулся в Англию в 1612 году, и его матушка сразу же стала хлопотать о том, чтобы пристроить его ко двору – источнику всех благ и богатства.
Выгодная женитьба?
К этому времени относится эпизод, о котором нам мало известно. В нем, в зависимости от точки зрения, можно видеть романтическую идиллию (версия тех, кто относился к герцогу терпимо) или неудачную попытку заключить брак с богатой наследницей (версия, принятая всеми врагами Джорджа).
Девушку звали Энн Эстон (или Эштон), она была дочерью шотландского дворянина, смотрителя королевского гардероба сэра Роджера Эстона, который умер в мае 1612 года, оставив большое состояние.
Вряд ли есть основания сомневаться в том, что Джордж действительно влюбился в Энн (ей было 18 лет) и что это чувство было взаимным. Однако опекуны девушки опасались охотников за приданым. Они требовали, чтобы Джордж, прежде чем его сватовство будет принято к рассмотрению, предоставил гарантии содержания в размере 80 фунтов стерлингов. Но такую сумму Джордж не мог получить ни у матери, ни у отчима. К великому огорчению обоих, молодым людям пришлось расстаться.
Не сказались ли в этом деле интриги честолюбивой леди Комптон, которая надеялась подобрать своему сыну более престижную невесту, нежели сиротку покойного слуги короля? Это вполне возможно. Однако Уоттон, опираясь на достоверные источники, приводит другое объяснение: как раз в это время Джордж начал привлекать благосклонные взоры короля Якова, и камергер короля сэр Джон Грэм подумал, что молодому человеку удастся сделать карьеру при дворе. Грэм посоветовал юному Вильерсу отказаться от Энн и карьеры богатого провинциального дворянина. Судя по тому, что Энн Эстон вскоре вышла замуж и больше ни разу не появлялась в жизни Бекингема, так и было. И вероятно, влюбленный Джордж печалился недолго.
Кембридж? Эпторп? На сцене появляется король Яков
О первой встрече Джорджа Вильерса с королем Яковом мы ничего точно не знаем, однако некоторые свидетельства позволяют представить, как это могло быть.
В августе 1614 года Яков I совершал поездку {progress, как тогда говорили) по Центральной Англии. Желая поохотиться, он остановился в замке Эпторп в графстве Нортхемптон, во владениях сэра Энтони Майлдмэя, бывшего придворного Елизаветы I и бывшего посла во Франции, человека весьма богатого. Если верить Уоттону, то именно там король впервые заметил в окружавшей его толпе двадцатидвухлетнего Джорджа Вильерса. Спустя три месяца дворянин Джон Чемберлен, знаток придворных новостей и большой любитель анекдотов, упомянул в письме к другу «Вильерса, нового фаворита». Скорее всего, Чемберлен преувеличил, потому что на Джорджа еще только начали обращать внимание, однако ясно, что его имя уже было на слуху.
В марте следующего года мы видим Джорджа Вильерса в Кембридже, где в это время находился король, любивший участвовать в ученых беседах с профессорами. Яков I до слез посмеялся на представлении комедии «Неучи» («Ignoramus»), сыгранной для него студентами. То была жестокая сатира на адвокатов и законников, и они начали было возмущаться, однако государю так понравилось развлечение, что он потребовал дать еще один спектакль! Хронист Роджер Кок, который, правда, писал много позже, утверждает, что именно тогда король оценил внешность Джорджа и был вынужден «разрываться между лицезрением комедии и созерцанием красоты молодого человека» {2}. Кок был, видимо, плохо информирован: ведь Яков I приметил юного Вильерса месяцев за семь до поездки в Кембридж. Однако фактом является то, что при разных обстоятельствах и в разных местах Джордж обращал на себя внимание короля, современники это заметили.
Заговор в замке Бейнард
На самом деле встречи Джорджа Вильерса с королем в Эпторпе и Кембридже не были случайностью. Эти встречи были тщательно подготовлены заинтересованными лицами – по всей вероятности, тем самым камергером короля сэром Джоном Грэмом, который отсоветовал молодому человеку жениться на Энн Эстон, а также королевским секретарем сэром Томасом Лейком. Нам неизвестно, как эти два человека, приближенные короля, познакомились с семьей Вильерсов; ясно только, что за появлением Джорджа в окружении государя скрывается интрига, которую пора разъяснить.
Всем известно, что король Яков питал слабость к красивым молодым людям (к этому мы еще вернемся). Чем старше он становился – а в 1614 году ему было 48 лет, – тем более усиливалась его потребность держать при себе компаньона- фаворита, конфидента и советника в одном лице, и тем большую роль этот компаньон играл в жизни двора и королевства.
Дело в том, что английский двор, как и все прочие дворы Европы, был разделен на партии, во главе которых стояли влиятельные лица и высшие чиновники, придерживавшиеся различных взглядов на внутреннюю и внешнюю политику и не забывавшие при этом о своей собственной выгоде.
В 1614 году главным вопросом, вызывавшим разногласия в Англии, был союз с Испанией и связанная с ним проблема отношения к католикам. Можно сказать, что существовала своего рода «испанская», прокатолическая, партия и партия «протестантская», враждебная Испании. В зависимости от того, которая из них получала перевес в Тайном королевском совете (его эквивалент мы теперь называем правительством), политические весы королевства колебались в ту или другую сторону.
Понятно, что в подобных условиях позиция королевского фаворита играла решающую роль. Сам Яков I (по причинам, которые мы позже рассмотрим) был сторонником союза с Испанией. Однако он не мог игнорировать мнение противников этого союза и понимал, что, учитывая тонкости политических хитросплетений, было бы неосторожно допустить явное преобладание одной из партий.
В 1614 году официальным фаворитом короля был молодой шотландец Роберт Кер (англичане называли его Карром), милостью короля ставший графом Сомерсетом, лордом-камергером и супругом Фрэнсис Говард, дочери графа Суффолка, одного из вождей «испанской» партии. Эта ситуация вызывала недовольство протестантской партии, и однажды возникла идея попытаться подорвать влияние Сомерсета, противопоставив ему другого кандидата на роль фаворита.
Авторами этого проекта были Джон Грэм и Томас Лейк, остановившие свой выбор на Джордже Вильерсе. Лейк одолжил молодому человеку денег, чтобы тот смог достойно одеться и появиться при дворе; Грэм постарался обратить внимание короля на новое лицо в его окружении, и благодаря высокому росту и голубым глазам юноша сразу же привлек к себе взгляд государя, ибо последний, как деликатно выражается Кларендон, «обладал натурой и склонностями, заставлявшими его проявлять интерес к лицам, одаренным достоинством красоты» {3}.
С согласия короля, Лейк купил для молодого человека должность виночерпия (cup-bearer), обеспечивавшую весьма скромное положение, однако позволявшую ежедневно находиться подле государя. То была первая ступенька иерархической лестницы, но никто не мог даже предположить, как высоко сумеет Джордж Вильерс подняться по ней.
В то же время, не желая торопить события, Яков I поручил Грэму просветить молодого виночерпия в том, как положено вести себя при дворе и каких подводных камней следует избегать. Оказалось, что Джордж весьма способный ученик, до такой степени способный, что на него обратили внимание те, кому было небезынтересно положение дел в королевском окружении.
Наконец, в начале 1615 года – незадолго до описанного выше эпизода в Кембридже – влиятельные лица, враждебные роду Говардов, фавориту Сомерсету и испанскому влиянию, составили нечто вроде небольшого заговора. Это произошло во время завтрака в замке Бейнард в пригороде Лондона. На завтраке присутствовали самые могущественные руководители протестантской партии: граф Пемброк, граф Монтгомери, граф Бедфорд, лорд Сеймур и другие. Они решили поддержать возвышение молодого Вильерса с тем, чтобы подорвать влияние Сомерсета. Выпив немного доброго вина, заговорщики навеселе возвращались в Лондон и, увидев в витрине книжной лавки гравюру с портретом Сомерсета, велели одному из слуг бросить в картину ком грязи. Таковы были нравы эпохи. Об инциденте много говорили и в городе, и при дворе {4}.
«Шедевр в духе Платона»
Джордж Вильерс обладал достоинствами, необходимыми не только для того, чтобы привлечь внимание Якова I, но и для того, чтобы завоевать его любовь.
Все современники единодушно восхищались его физической красотой. В 1614 году ему было двадцать два года. Его описывали как «самого прекрасно сложенного мужчину во всей Англии» {5}. Епископ Хэккет, который, казалось бы, не должен был быть чувствительным к внешности молодого человека, утверждал, что «от ступней и до макушки в нем не было ни одного недостатка; все его движения, все позы были великолепны» {6}. В воспоминаниях тех, кто позже стал недругом Джорджа, мы читаем, что «его руки и фигура казались слишком женственными» {7}; однако Кларендон признает, что «те, кто по этой причине пытались пренебрегать им, вскоре убедились, что за изящной красотой скрывается несгибаемое мужество».
Джордж Вильерс не походил ни на Адониса, ни на салонного миньона. «Он был действительно необыкновенным человеком, причем не только из-за красоты, а из-за прочих своих выдающихся качеств, – пишет далее Кларендон. – Его речь была приятна; он был приветлив; имел твердость суждений, быстро все понимал» {8}. «Смелый, закаленный, щедрый, честный с теми, кто ему доверял» {9}. И прежде всего: «он обладал всеми необходимыми придворным манерами и всегда был предан королю, который полюбил его» {10}.
Понятно, что с такими качествами молодой виночерпий не мог не привлечь к себе внимания. А Яков I любил воображать себя воспитателем. «Его Величество долго расспрашивал меня о моих знаниях, так что даже напомнил мне моих университетских экзаменаторов, – сказал как-то дворянин Джон Харрингтон после аудиенции у короля. – Он хотел знать, насколько я силен в философии, цитировал Аристотеля и других подобных авторов, которых я никогда не читал и которых, как я думаю, никто толком не понимает…» {11}
В лице Джорджа Вильерса король обрел идеального ученика. «Он захотел сотворить из него шедевр в духе Платона, воспитывал его согласно собственным представлениям» {12}. Учитывая наклонности короля, то был лучший путь завоевать его доверие и дружбу. Вскоре весь двор заметил интерес государя к молодому человеку.
Шпага принца Карла
Несмотря на расположение к новому виночерпию, король пока был далек от того, чтобы позволить ему быстро сделать карьеру. В ноябре 1614 года, когда освободилась должность джентльмена королевской опочивальни, Джону Грэму не удалось пристроить на нее Джорджа. Фаворит Сомерсет оставался могуществен, как и вся стоявшая за ним партия Говардов.
Однако поддержку бейнардским заговорщикам неожиданно оказал архиепископ Кентерберийский, его высокопреосвященство Джордж Эббот, враждебно настроенный к католицизму, Испании и, следовательно, Говарду. «Королевство стонало под властью триумвирата Нортхемптона, Суффолка и Сомерсета [6] и от души желало избавиться от них», – писал он в мемуарах {13}. Джорджа Вильерса представили архиепископу, и тот, отметив его «изысканность и скромность», посчитал возможным оказать влияние на короля в противовес Сомерсету. Архиепископ поговорил об этом с королевой Анной. Она поначалу противилась появлению нового фаворита (она симпатизировала «испанской» партии), но затем позволила себя убедить, ибо ненавидела Сомерсета.
Король понимал, какие игры ведутся вокруг него, и продолжал сомневаться. Он отдавал себе отчет в том, что возвышение Вильерса изменит расстановку сил при дворе, и не хотел – во всяком случае, пока – ссориться с Говардом и его могущественными сторонниками.
Именно в этот момент архиепископ и сыграл решающую роль. Сам он так описывает эту интригу: «Король Яков взял за правило не допускать никого в круг близких друзей без рекомендации королевы, потому что, буде она позже начала бы жаловаться, он мог ответить, что она-де сама и приблизила этого человека. Такие вещи весьма развлекали нашего старого государя. Благородная королева хорошо знала своего супруга, и, поскольку, как в Шотландии, так и в Англии, фавориты не раз обижали ее, она сомневалась, стоит ли рисковать ради нового человека. […] Однако в конце концов она позволила убедить себя в том, что Вильерс, в отличие от Сомерсета, добр по натуре, и согласилась замолвить о нем словечко перед королем».
Речь шла о назначении Вильерса на должность камергера и посвящении его в рыцарское достоинство, что было уже почетным положением и весьма исключительной милостью для двадцатитрехлетнего мальчишки, не проявившего себя ни на полях сражений, ни в каком-либо ином рискованном деле. После разговора с королевой в своих личных покоях в присутствии принца Карла, наследника престола, которому было в то время пятнадцать лет, король дал согласие. Разговор состоялся в день Святого Георгия, 23 апреля 1615 года.
«Поскольку следует ковать железо, пока оно горячо, – пишет Эббот, – церемонию решили провести сразу же». Дверь комнаты приоткрыли и кликнули Вильерса, который, судя по всему, находился поблизости. Сомерсет хотел войти вслед за ним, но стражник не пропустил его; он остался за дверью, трепеща от ярости. Для церемонии посвящения в рыцари была нужна шпага, и король взял ее у своего сына (архиепископ, к сожалению, не сообщает, какие чувства испытал при этом юный принц). Виночерпий преклонил колена перед государем, получил ритуальный удар шпагой плашмя по плечу и поднялся уже сэром Джорджем. На следующий день он стал камергером с ежегодным жалованьем в тысячу фунтов стерлингов.
«Сразу же после церемонии, – продолжает рассказ архиепископ, – новоиспеченный рыцарь вышел из комнаты и разыскал меня в галерее. Он обнял меня, поклялся, что всю жизнь будет чтить меня как отца, и попросил наставить его в правильном поведении. Я посоветовал ему три вещи: во- первых, каждый день на коленях молить Господа, чтобы Он благословил государя и даровал самому Джорджу умение угождать своему господину; во-вторых, всегда действовать на благо доброго взаимопонимания между королем и королевой и между королем и принцем; и, наконец, в-третьих, никогда не лгать королю. Он пообещал мне следовать этим трем советам, и на следующий день, когда я находился в галерее Уайтхолла вместе с наставником принца Карла, Вильерс подошел к нам и сказал, что передал королю наш разговор, а король ответил: "Архиепископ дал молодому человеку достойные советы"».
Карьера королевского камергера Джорджа Вильерса начиналась при благоприятном расположении звезд.
Глава II «Я сверну вам шею, если только мне представится такая возможность»
«Клин клином вышибают»?
Рассказывая о том, как Сомерсета заменили Джорджем Вильерсом, архиепископ Эббот использует колоритное выражение: «Клин клином вышибают» {14}. Посмотрим, как же это происходило.
Понятие «фаворит» при дворах XVII века не носило оттенка скандальности. Поскольку власть полностью сосредоточивалась в руках королей, все зависело от их воли. Их окружение неизменно составляли честолюбцы, затевавшие всевозможные интриги. Чтобы справиться с возложенной на него ответственностью, почти каждый король нуждался в верном друге, способном дать совет, направить, разъяснить; а у некоторых государей даже была потребность в человеке, который правил бы вместо них. Подобным человеком мог стать вельможа, соратник по оружию, реже – человек более скромного происхождения, однако в любом случае граница между «общественной» стороной жизни фаворита и «интимной» была нечеткой. Функции двора еще не размежевались с функциями государства – это произойдет лишь столетия спустя.
Понятно, что все зависело от личности короля. Энергичный монарх, такой, например, как Филипп II в Испании, Елизавета I в Англии или Генрих IV во Франции, мог иметь министров и близких друзей, но не всемогущих фаворитов, сравнимых с визирями при восточных султанах. Если же корона венчала чело человека слабого, вялого и не умного, то фаворит становился ключевой фигурой в его государстве: Лерма в Испании при Филиппе III, Оливарес при Филиппе IV, Люинь и Ришелье во Франции при Людовике XIII. В Испании даже возник своего рода институт так называемых valido, и в конце концов стало невозможно представить себе короля без своего valido. Римские папы (или, во всяком случае, некоторые из них) в делах управления Церковью опирались на «кардиналов-племянников», чьи права вполне признавались современниками.
Однако нельзя не заметить, что фавориты Якова I Английского представляли собой некоторое исключение: ни Сомерсет, ни Бекингем не могли похвастать карьерой, характером или исторической ролью, сравнимыми по значению с положением Оливареса или Ришелье {15}.
Фавориты короля Якова
Король Яков I Стюарт [7] был весьма противоречивой личностью. Подданные с трудом понимали его, историки также расходятся во мнениях на его счет. Ему приписывают такие достоинства и недостатки, которые трудно назвать совместимыми: он был умен (и это правда), но временами до странности наивен; осознание собственного королевского достоинства доходило у него до крайней самонадеянности, но при этом он совсем не заботился о благопристойности; он был расточителем и скупцом; порой он проявлял картинное великодушие, порой – исключительную мелочность. И главное: он обладал трезвым умом и изворотливостью хорошего политика, однако ему не хватало энергии для того, чтобы достойно выполнять задуманное; короче, это был как раз тот тип короля, который не может не разделить тяготы правления с близким другом.
Кроме того, у этого человека была еще одна слабость: гомосексуализм. Современники Якова I не питали иллюзий на этот счет. Моральные установки того времени запрещали называть подобные вещи своими именами, однако никто не сомневался в истинном смысле высказываний, подобных приведенному нами в предыдущей главе: о том, что государь проявлял интерес к лицам, одаренным красотой. Отсутствие у Якова интереса к женщинам было замечено, еще когда он был ребенком, и особенно проявилось в ранней юности. Став королем Англии, этот женоненавистник шокировал придворных. «Он презирает женщин, – отмечал венецианский посол. – Когда их ему представляют, он велит им вставать на колени; он призывает их к добродетели и насмехается над мужчинами, которые оказывают им уважение. Английские дамы также терпеть его не могут и с удовольствием перемывают ему кости в своих беседах» {16}.
Склонность Якова к молодым людям проявилась еще в Шотландии в страстной любви к своему французскому родственнику Эсме д'Обиньи. Эта страсть вспыхнула, когда Якову было тринадцать, а д'Обиньи сорок лет. Окружавшие юного короля строгие пастыри-кальвинисты обеспокоились и возмутились, тем более что д'Обиньи, вскоре ставший герцогом Ленноксом, был католиком. Первые упоминания о сексуальной связи между юным королем и Ленноксом вышли из-под пера и из уст проповедников: «Герцог Леннокс приобщил Его Величество к плотским излишествам» {17}. Почти сразу составился заговор политических и религиозных противников подобной связи, который заставил юного государя расстаться с кузеном, и тот вернулся во Францию, где вскоре умер.
После этого у Якова I была долгая связь с молодым графом Хантли, шурином Леннокса и тоже католиком, из-за которой трон оказался в опасности, ибо сам буйный фаворит являлся искусным интриганом. Позже заговорили об Александре Линдсее, так называемом «Сэнди», «самом любимом из миньонов короля» [8]. В начале 1580-х годов пришел черед графа Босуэлла, которого Яков «нежно обнимал к изумлению присутствующих». Однако впоследствии Босуэлл предал короля и стал его злейшим врагом; Якову вообще не везло с фаворитами. Патрик Грей, «самый красивый мужчина своего времени, отличавшийся почти женской красотой», был близким другом короля с 1584 по 1586 год, пока его не разоблачили как изменника. Королева Елизавета Английская была хорошо осведомлена о наклонностях своего шотландского племянника, поэтому, желая добиться его расположения в момент, когда ей грозила война с Испанией, отправила к нему в мае 1585 года посла столь прекрасной наружности, что Яков сразу же почувствовал к нему интерес и сделал своим конфидентом.
Когда Яков в возрасте 37 лет взошел на английский престол (это было в марте 1603 года), его страсть стала проявляться с еще большей силой. Он окружил себя молодыми шотландцами, которые напоминали ему о родине, и осыпал их подарками. Поначалу англичане удивлялись, потом начали возмущаться: дело в том, что фавориты стали вторгаться в область, традиционно принадлежавшую представителям английской аристократии – в сферу политического влияния.
Первым, о ком заговорили, был Джеймс Хей, который быстро сделался рыцарем, а затем камергером (как позже Джордж Вильерс). В 1606 году он получил титул барона. В 1613-м стал смотрителем королевского гардероба, в 1618-м – виконтом Донкастером, в 1622-м – графом Карлайлом. Это был любезный и красивый молодой человек, изысканный придворный, хороший дипломат, безумный расточитель, кумир женщин. В отличие от многих других друзей Якова I, он сумел удержаться на плаву до самого конца его правления, и даже дольше, но никогда не оказывал на короля такого влияния, как Сомерсет или Бекингем.
Король Яков также долгое время испытывал нежные чувства к юному графу Монтгомери, младшему брату графа Пемброка, принадлежавшему к древнему английскому роду. Этот юноша был столь же красив, элегантен и спортивен, сколь склонен к конфликтам и интригам. В противоположность Джеймсу Хею, он стал объектом всеобщей ненависти: «Все свои титулы он получил только из-за благорасположения короля, а также благодаря тому, что разбирался в собаках и лошадях; однако этого оказалось достаточно, чтобы привлечь к нему взгляды Его Величества», – писал Кларендон.
Следует упомянуть еще Генри Рича, «столь красивого и элегантного, что он мог бы сравниться с самыми прекрасными женщинами» {18}. Эти достоинства принесли ему титул барона Кенсингтона, а позже – титул графа Холланда.
Но типичным фаворитом Якова I, сразу же начавшим играть роль первого плана при дворе и в правительстве, был Роберт Карр, граф Сомерсет, которого мы уже упоминали в первой главе. В течение нескольких месяцев ему было суждено соперничать с Джорджем Вильерсом, чья звезда начала свое восхождение.
Сердечный друг Сомерсет
Поначалу Роберт Карр служил пажом у короля Шотландии. Приехав в Англию в составе королевской свиты, он оставался в тени вплоть до памятного дня в декабре 1607 года, когда во время конного турнира на глазах государя упал с лошади и поранил ногу. Взволнованный и пораженный красотой пострадавшего дворянина монарх бросился к нему, лично проследил за тем, чтобы юноше оказали помощь, и отчаянно влюбился. Два года спустя Карр уже был осыпан дарами, в 1611 году получил титул виконта Рочестера (он оказался первым шотландцем, который заседал в английской Палате лордов), стал кавалером ордена Подвязки, членом Тайного совета, а затем – графом Сомерсетом и супругом прекрасной Фрэнсис Говард, дочери очень влиятельного графа Суффолка. Наконец в 1614 году Сомерсет получил титул лорда-камергера.
Мы уже говорили, что он превратился в одно из самых могущественных лиц королевства и служил «испанской» партии и что ради того, чтобы противодействовать его влиянию, лорды-противники Испании с помощью архиепископа Кентерберийского исхитрились вытолкнуть на сцену Джорджа Вильерса.
Именно здесь следует задать вопрос: каковы были по сути взаимоотношения между сорокалетним королем и молодым белокурым шотландцем?
Несомненно, в их отношениях присутствовал чувственный аспект. Ничто другое не могло бы объяснить, почему всего за несколько месяцев необразованный и не очень умный мальчишка сумел занять столь значительное место в жизни такого ценителя эрудиции, как Яков Стюарт. Кроме того, существуют недвусмысленные свидетельства современников. «Король прилюдно обнимает его, щиплет за щеки, поправляет на нем одежду» {19}. Он ночует в спальне короля {20}. Однако, помимо физического влечения, было и кое-что другое: Яков хотел сделать Карра своим учеником, духовным сыном, конфидентом, «той гаванью, в которой смогут бросить якорь его самые потаенные мысли» {21}. Артур Уилсон саркастически живописует ежеутренние попытки государя обучить своего юного фаворита латыни: «Ему бы стоило заодно поучить его английскому, потому что этот шотландский юнец изъяснялся на нем отвратительно».
К сожалению, трудно было найти человека менее подходящего для подобной роли, чем Роберт Карр. Он был легкомысленным юношей и совершенно не стремился сделать политическую карьеру, к которой готовил его король. Он любил удовольствия, женщин, деньги. Поначалу он внимательно относился к урокам и заботам коронованного педанта, понимая, что это может принести ему богатство и почести; но прошли годы, он устал, помрачнел, потом стал дерзким.
Политическим наставником Карра был его друг Томас Овербери, который подсказывал ему, какую позицию занимать в Тайном совете, как вести себя с королем. Овербери был талантливым и честолюбивым человеком, он умел извлекать выгоду из благоволения короля к юному шотландцу.
Когда Карр влюбился в Фрэнсис Говард (та была в этот момент замужем за графом Эссексом) и возможность ее развода взбудоражила общественное мнение, Овербери выступил против ее нового брака, чем вызвал ненависть графини и ее семьи. Король, который терпеть не мог советника своего молодого друга, решил удалить его и предложил ему посольство в Париже или Гааге по его выбору, но Овербери отказался – он не желал покидать двор. Этого уже ни Яков, ни Говард, ни Сомерсет стерпеть не могли: в апреле 1613 года Овербери был под каким-то предлогом заключен в Тауэр. Его здоровье, и так слабое, быстро ухудшалось. 14 сентября он умер в тюрьме. Спустя несколько дней было объявлено о разводе прекрасной Фрэнсис, а 26 сентября Роберт Карр, получивший по такому случаю титул графа Сомерсета, женился на ней. Торжество по случаю бракосочетания почтили своим присутствием государь, государыня и принц-наследник [9].
Женившись и в результате породнившись с могущественным кланом Говардов, к тому же избавившись от политического наставничества Овербери, Сомерсет счел возможным постепенно отдалиться от короля. «Он сделался невыносим для всех, кто с ним общался, и грубо отвергал королевскую ласку, желая продемонстрировать окружающим, что пользуется благосклонностью по более основательной и почетной причине, нежели та, что его возвысила на самом деле», – сообщает посол Франции Левенер де Тилльер {22}, из чего, между прочим, становится ясно: в «менее почетной причине» королевской благосклонности никто не сомневался.
Яков обижался, раздражался. Придворные чувствовали, что отношения между государем и фаворитом ухудшаются. Именно в этих условиях составился бейнардский заговор и при дворе появился Джордж Вильерс.
Однако сторонникам Вильерса еще рано было праздновать победу. Сомерсет по-прежнему сохранял очень прочные позиции как в сердце короля, так и в государстве. «Некий молодой человек по имени Вильерс начинает завоевывать привязанность короля, – писал в сентябре 1614 года виконт Фентон, старый друг Якова, – однако все остается в руках одного и того же человека (Сомерсета), чья власть еще более абсолютна, чем раньше, и его не смеют задевать» {23}.
Яков действительно разрывался между давней любовью к Сомерсету и растущим влечением к Вильерсу. Он писал Сомерсету удивительные письма, полные любви и уязвленной гордости: «Я призываю Бога в свидетели, что ни разу не замечал при дворе никаких враждебных тебе группировок, которых ты опасаешься. Если бы я имел малейшее подозрение на этот счет, я растоптал бы их своими ногами. Я никогда не говорил и не делал ничего, что можно было бы расценить как уменьшение моего благоволения к тебе. Я знаю, что никому не могу доверять так, как тебе, и что никто не может сравниться с тобой в достоинствах. Однако даже самые плодоносные земли, если не ухаживать за ними со всем вниманием, могут вперемешку с полезным урожаем взрастить дурные травы и вредоносные растения. Подобные земли я сравниваю с твоими огромными достоинствами, которые, с некоторого времени, стали совмещаться со странным возбуждением, с беспокойством, страстью, гневом, гордыней, дерзостью, а главное, с поразительным упрямством, и оно удушает все те прекрасные качества, что дарованы тебе Богом. Я согласен, что осознание моего доверия и нашей близости [10] позволяет тебе допускать вольности в разговоре со мной, даже противоречить мне и упрекать меня столь сухо, как никто из наставников не осмеливался упрекать меня в детстве; однако теперь ты уже злоупотребляешь возможностями, даруемыми дружбой и свободой, и пользуешься при общении со мной таким языком, по сравнению с которым книга Пичема [11] кажется ласковым увещеванием. Я какое-то время терпел это и ничего не говорил, надеясь, что возраст и опыт охладят твой темперамент, однако тебя ничто не меняет. Ты являешься ко мне в самое неподходящее время, не даешь мне спать, твои публичные выходки дополняют грубости наедине. Тебе угодно сомневаться в моей дружбе, и, что еще хуже, ты пытаешься запугать меня, убедить меня, что я должен бояться обидеть тебя, не исполняя твои требования. Я уже не говорю о твоем упорном нежелании спать в моей комнате, несмотря на то, что я сто раз просил тебя об этом, а это – еще одно вопиющее доказательство твоего пренебрежения. […]
Я долгое время скрывал мою печаль, но если и дольше буду молчать, то уже поставлю под угрозу собственное здоровье и благополучие всего королевства, ответственность за которое лежит на моих плечах. Своими выходками ты можешь довести до смерти того, кто, после Бога, создал тебя, всегда молился за тебя и делал для тебя то, чего никогда не делал ни для одного из своих подданных. Твоя дерзость бросается всем в глаза; теперь ты должен и на публике изменить свое поведение. […]
Любовью и подчинением ты можешь добиться от меня чего угодно, но если ты хоть раз позволишь в отношении меня малейшую грубость и хоть в малейшей степени попытаешься запугать меня, моя любовь сразу же станет ненавистью. Не доводи меня до того, чтобы я всю жизнь раскаивался в том, что так возвысил человека, который терзает меня воплями и грубостями. Я жду от тебя только любви и подчинения, потому что, как я не раз говорил, мне больше по сердцу простой и покорный человек, нежели умник, предпочитающий дерзить. Вспомни, что гордыня губит твою душу…» {24}
Этот документ, несомненно, уникальный среди всего когда-либо написанного королями, очень важен тем, что позволяет понять характер Якова I и его отношения с фаворитами. Отметим, к примеру, упрек Сомерсету за отказ спать в комнате короля: с одной стороны, ему можно дать откровенно сексуальную интерпретацию, с другой стороны, подобные связи в ту эпоху были распространены и никого не шокировали. Более странным кажется то, что Сомерсет «запугивал» короля и пытался управлять им при помощи «страха», а не любви. О чем здесь идет речь? О каких-то государственных тайнах, конфиденциальных компрометирующих бумагах или щекотливых подробностях их близости? Мы не знаем, но понимаем, что Яков I был очень обеспокоен; о том же, как мы скоро увидим, свидетельствуют предосторожности, принятые им во время судебного процесса против фаворита и его жены.
На этом длинном письме (оно занимает полные шесть страниц печатного текста) нет даты. Упоминание о книге Пичема позволяет предположить, что оно было написано самое раннее в декабре 1614 года. Однако в письме ни разу не упоминается (по крайней мере, явно) Джордж Вильерс. Так что можно считать, что оно было написано до назначения последнего в штат джентльменов королевской опочивальни в апреле 1615 года. Именно в это время Сомерсет окончательно утратил исключительное положение при дворе.
Звезда восходящая и звезда нисходящая
Как многие другие люди в подобной ситуации, Яков I хотел, чтобы его новый друг установил добрые отношения со своим предшественником. Он не был склонен резко порывать отношения с кем бы то ни было и не намеревался ссориться с кланом Говардов и испанской партией, в которой Сомерсет играл важную роль. Как в личной жизни, так и в политике Яков был «королем-миротворцем». Время близости с Сомерсетом прошло, однако король, без сомнения, желал сохранить его дружбу. В течение нескольких месяцев оба молодых человека, звезда восходящая и звезда нисходящая, находились при дворе. Различие их характеров становится очевидным из анекдотов, записанных хронистами того времени.
Мы уже рассказывали о том, как Джордж был возведен в рыцарское достоинство в комнате королевы, а Сомерсет топал ногами от гнева и нетерпения в прихожей, в толпе придворных, которые, должно быть, вполголоса обсуждали грозящую фавориту немилость. Спустя некоторое время король велел Вильерсу попытаться помириться с Сомерсетом. «Милорд, я хотел бы быть вашим слугой и вести придворную жизнь под вашим руководством», – сказал молодой камергер лорду-камергеру. На что шотландец ответил громко, так, чтобы слышали все присутствующие: «Мне не требуются ваши услуги. Никакой благосклонности с моей стороны вы не дождетесь и можете быть уверены, что, как только мне представится возможность, я сверну вам шею» {25}. Джордж ничего на это не ответил.
В другой раз Сомерсет прислуживал за королевским столом и опрокинул на своего соперника миску с супом. Тут уж Джордж не выдержал – ударил обидчика кулаком в лицо. Подобный поступок в присутствии короля считался преступлением, которое каралось отсечением руки. Сомерсет, будучи лордом-камергером, отвечал за соблюдение этикета; он хотел отдать Вильерса под суд, но тут вмешался Яков и простил молодого человека. «С этого момента, – констатирует хронист Сэндерсон, – расположение к новому придворному стало очевидно всем и любовь к нему короля перестала быть секретом» {26}.
«Прощение» Сомерсета
Лето 1615 года прошло в атмосфере соперничества, неуверенности и беспокойства обеих сторон. Сомерсет сохранял свою власть при дворе, однако становился все более несносным, клан Говардов продолжал господствовать в сфере политики, король колебался. Джордж Вильерс, наставляемый архиепископом Эбботом и его друзьями, вел себя скромно, выказывал готовность к примирению и этим все больше укреплял любовь к себе короля.
Между тем Сомерсет понимал, что его положение под угрозой. Приведенное выше письмо короля свидетельствовало о том, что терпение его благодетеля на исходе. Однако он продолжал вредить себе новыми назойливыми и неловкими выходками. «Мне надоели твои слезные послания, – писал ему Яков. – Для тебя – это самый действенный способ погубить себя. Никто не поссорит меня с тобой, если ты будешь вести себя как должно, однако, как ты можешь быть моим верным слугой, если отказываешь мне в любви, на которую я имею право. Признай свои ошибки, возвратись к исполнению долга, и ты убедишься в полном моем благорасположении; если же нет, пеняй только на себя» {27}.
На этот раз упрямец Сомерсет почувствовал серьезную опасность. Возможно, по совету тестя, он раскаялся в своем поведении и попросил короля даровать ему «прощение». Речь шла не об обычном прощении в моральном смысле этого слова, а о юридическом акте, равноценном амнистии или тому, что в мусульманских монархиях называли словом «аман». Сомерсет даже настаивал – и это позволяет заподозрить опасные тайные намерения, – чтобы «прощение» распространялось не только на прошлые, но и на будущие проступки. Яков I, всегда проявлявший слабость, когда речь шла о друзьях, был готов удовлетворить просьбу своего любимца, однако лорд-канцлер, без чьего согласия на акте нельзя было поставить печать, воспротивился. Король рассердился, но потом уступил. «Прощение» не было подписано, а оно очень пригодилось бы Сомерсету несколько недель спустя. Не исключено, что именно поэтому он так настаивал на его получении.
Тень давнего преступления
Развязка наступила в сентябре 1615 года. Неизвестно, произошло ли это случайно или было подстроено врагами Сомерсета. Разыгравшиеся события напоминают романтическую драму, а исход ее во многом поспособствовал возвышению Джорджа Вильерса, который ко всему этому делу не имел ни малейшего отношения.
Однажды комендант лондонского Тауэра Джарвис Хел- вис поделился с государственным секретарем Уинвудом своими подозрениями относительно смерти Овербери, друга и советника Сомерсета, скончавшегося в Тауэре двумя годами раньше. Он признался, что еще тогда предположил, что узника отравили. Дело оказалось настолько серьезным, что Уинвуд сообщил о нем королю и лорду-канцлеру. Тогда же некий подручный аптекаря, уехавший в Голландию, сообщил одному из корреспондентов Уинвуда, что принимал участие в приготовлении клистира, после которого Овербери и умер. Все это затрагивало государственные интересы, потому что проведенное дознание указало на леди Сомерсет, чья ненависть к другу мужа ни для кого не являлась тайной.
Яков I колебался и нервничал. С одной стороны, он торжественно объявил в Тайном совете, что «желает свершения правосудия, и ни друг, ни даже сын не могут этому помешать; пусть невиновных признают невиновными. А виновные будут наказаны за свои преступления» {28}. С другой стороны, он опасался, что, копнув слишком глубоко личную жизнь Сомерсета и его жены, судьи могут извлечь на свет божий опасные тайны.
Тем временем расследование началось. 15 октября Сомерсет попрощался с королем, находившимся в своей резиденции в Ройстоне. «Когда я вновь увижу тебя?» – спросил Яков, обняв его. «Я вернусь в понедельник», – ответил молодой человек. «Возвращайся, потому что я не смогу ни спать, ни есть, пока вновь тебя не увижу», – сказал Яков. Однако когда Сомерсет сел в карету, король вернулся к придворным и объявил: «Я больше никогда его не увижу!» {29} Эту историю сообщает нам Артур Уилсон, который сам не был ее очевидцем и любил распространять анекдоты, выставлявшие короля в дурном свете… И если его рассказ соответствует истине, значит, сентиментальный государь был искусным притворщиком. В любом случае, король уже не питал иллюзий относительно участи, ожидающей его бывшего фаворита.
Ключевой фигурой в деле стала некая миссис Тернер, поставлявшая дамам высшего света различные зелья и замешанная во множестве интриг. Вероятно, она была колдуньей или слыла таковой. Вскоре стало известно, что леди Сомерсет, урожденная Фрэнсис Говард, встречалась с этой женщиной, получала от нее порошки, составленные аптекарем по имени Франклин, и посылала Овербери в тюрьму торты и желе, после которых он и захворал. Выяснилось, что комендант Джарвис Хелвис знал о клистире «весьма разрушительного свойства», оборвавшем жизнь несчастного советника.
Надо отдать должное королю Якову: он пришел в ужас и не пытался вмешиваться в ход расследования или мешать судебному процессу. Письма Сомерсета, то слезные, то угрожающие, оставались без ответа. (Возможно, что Сомерсет и не знал о преступных действиях жены, однако он не мог избежать ответственности и осуждения.)
Судебный процесс состоялся в мае 1616 года. Джарвис Хелвис, миссис Тернер, Франклин и другие соучастники были приговорены к смерти. Леди Сомерсет признала себя виновной; выражение ее лица и манера себя вести были такими ангельскими, что многие из присутствующих не могли поверить, что она убийца. Она также была приговорена к смерти, равно как и ее муж, который до самого конца твердил, что невиновен. Король своей властью заменил смертный приговор тюремным заключением. Шесть лет спустя он освободил узников, однако ни разу больше не видел ни Сомерсета, ни его жены. Супруги прожили еще много лет (он до 1639, она до 1645 года), но больше о них ничего не известно {30}.
В течение всех этих месяцев тревог и переживаний Джордж Вильерс, преданный, старающийся утешить, находился подле короля. Ничто больше не препятствовало его возвышению. Оно было молниеносным.
Глава III «Я люблю графа Бекингема больше, чем кого бы то ни было»
Восхождение к вершинам
Еще до осуждения Сомерсета и его жены Джордж Вильерс получил должность и титул, которые недвусмысленно выдвигали его в ряды первых людей королевства. В январе 1616 года он стал шталмейстером (Master of the Horse), а в апреле – кавалером ордена Подвязки.
Master of the Horse (буквально: «господин над лошадьми») – титул при английском дворе, аналогичный тому, что во Франции называли Великим конюшим. Эта должность была одной из тех, что обеспечивали ежедневный доступ к королю, учитывая важную роль конного транспорта в придворной жизни. «Господин над лошадьми» имел привилегию ехать верхом рядом с государем во время официальных церемоний, он не только заправлял дворцовыми конюшнями, но и отвечал за переезды двора и за покупку лучших лошадей для служб Его Величества. При Елизавете I «господином над лошадьми» долгое время был граф Лестер, близкий друг королевы, если не сказать больше; этот факт показывает, сколь значимым был этот титул в дворцовой иерархии.
Кавалер ордена Подвязки – самая высокая степень отличия в королевстве. Присвоение его двадцатичетырехлетнему мальчишке, происходившему из мелкого дворянского рода, было неслыханным событием. Великолепный портрет Джорджа, написанный в этот период [12], являет нам улыбающегося юношу, не успевшего отрастить бороду. У него живой взгляд и симпатичное лицо; его длинные ноги атлета обтянуты белым шелком, который в сочетании с красным бархатным плащом, украшенным золоченым шнуром, составляет орденское одеяние.
В августе 1616 года Джордж Вильерс становится бароном Уоддоном и виконтом Вильерсом. С этих пор он – член палаты лордов. Речь идет не только о близости к королю: молодой человек вступает на политическую арену.
Полученное им образование не подготовило его к подобной деятельности, и, судя по всему, он не проявлял интереса к сложным вопросам политики и управления государством. Однако так пожелал король, и этого требовали нравы эпохи: в ноябре 1616 года сэр Эдвард Кок, впавший в немилость бывший верховный судья [13], обратился к Вильерсу с подобострастным письмом, в котором просил заступиться за него перед государем и вернуть высочайшую благосклонность. В письме Кок называет фаворита «высокочтимым и горячо любимым виконтом Вильерсом» {31}.
Понятно, что теперь вокруг Вильерса толпились добрые советчики, желающие удружить новому фавориту своими знаниями и опытом, а впредь вести его по тернистым тропам политики. Среди тех, кто предложил свои услуги, был и архиепископ Эббот: «Мой дорогой Джордж, поскольку Вы привязаны ко мне и называете меня своим отцом, я усыновляю вас и с этих пор стану называть Вас сыном. Даю Вам мое благословение и прошу Вас как отец прилагать все усилия к тому, чтобы угождать Вашему господину. Главное же: остерегайтесь просить его за людей, которые называют себя Вашими друзьями, но думают только о собственных интересах и собственном честолюбии…» {32} (Письмо от 10 декабря 1615 года.)
Союз философа и фаворита
В то же самое время еще одна высокопоставленная особа, предвидевшая, каких высот может достичь молодой Вильерс, захотела подружиться с ним и действовать к взаимному благу, как теперь принято говорить, «в одной упряжке» с фаворитом. Этим человеком был генеральный прокурор Фрэнсис Бэкон, который в 1616 году, в возрасте пятидесяти пяти лет, чувствовал в себе силы для дальнейшего продвижения по службе.
В отличие от Джорджа, Фрэнсис Бэкон по происхождению принадлежал к правящим кругам королевства. Его отец Николас Бэкон был хранителем печати при Елизавете I и шурином лорда Барли, министра финансов и верного друга королевы. Фрэнсис был избран в парламент в возрасте двадцати трех лет. В тридцать шесть лет он опубликовал свои «Опыты» (Essays), вдохновленный идеями Монтеня; книга принесла Бэкону известность философа. Однако Яков I не любил его. Несмотря на публикацию трактата «О достоинстве и приумножении наук» (1605) и неоднократное и настойчивое предложение королю своих услуг, Бэкон постоянно получал отказ на свои запросы о должностях. Только в 1613 году, в возрасте пятидесяти двух лет, он стал генеральным прокурором и членом Тайного совета. Однако его честолюбие простиралось гораздо дальше.
Клан Говардов всегда относился к нему враждебно. Сенсационное падение Сомерсета в 1616 году и последовавшее за этим ограничение влияния Говарда Бэкон счел возможностью, которую не следовало упускать.
Генеральный прокурор предложил свои услуги восходящей звезде Джорджу Вильерсу, и тот незамедлительно принял протянутую ему руку помощи. Итак, решено: Фрэнсис Бэкон станет его политическим наставником. Король дал согласие. Союз Бэкона и Вильерса просуществовал шесть лет, в течение которых случались и бури и примирения. Молодой Джордж сумел извлечь выгоду из этого союза, ничуть не жертвуя при этом собственной свободой и всегда подчеркивая, что у него есть лишь один учитель, который является одновременно и наставником, и государем: король Яков, источник мудрости.
В том же 1616 году (летом или осенью) генеральный прокурор написал фавориту длинное письмо, которое представляет собой настоящий учебник политической теории и практики. Нам известен целый ряд копий этого письма (но не оригинал), в которые несомненно вносились дополнения и изменения, в особенности после революции Кромвеля и реставрации монархии. Тем не менее во всех копиях основная суть послания остается неизменной.
«Милорд, поскольку Божественное милосердие и благосклонность Его Величества вознесли Вас на вершину славы, каковая состоит в том, что Вам принадлежат взоры, слух и сердце нашего властелина, и поскольку благосклонность сия поместила Вас в средоточие придворных водоворотов, Вы изволили просить моего совета, дабы знать, как именно следует Вам играть роль посредника между просителями и государем. […]
Это правда, что взоры всего королевства устремлены на Вас и каждый знает, что его дела не могут продвинуться, если Вы не станете его ангелом-хранителем или, по меньшей мере, не будете против них возражать. Мнение людей подобно колесу, которое быстро вращается. Вам следует быть начеку, дабы не подвергнуться риску низвержения в пропасть, ибо оно может произойти даже быстрее Вашего возвышения. Однако, если могущество фаворита основывается на его собственных достоинствах, а он заботится лишь о том, чтобы достойно служить государю, он не может не пребывать в благополучии. Именно это, как мне известно, является Вашим единственным стремлением, и оно достойно той чести, которую Вам оказали».
Далее следуют наставления, методически изложенные в разделах, посвященных войне, внешней политике, религии, правосудию, экономике, колониям, придворной жизни. Все вместе занимает тринадцать печатных страниц в издании XIX века и заслуживало бы пространного цитирования как отражение воззрений великого философа, современника Декарта. Однако подробное рассмотрение этих фрагментов представляет больший интерес для биографии Фрэнсиса Бэкона, нежели для жизнеописания Джорджа Вильерса, который, вероятнее всего, весьма бегло просмотрел данное послание {33}.
Приведем лишь как особенно характерную для взглядов Бэкона (и Якова I) точку зрения на войну, мир и значение флота: «В том, что касается войны, наш добрый властелин столь привязан к миру, что избрал в качестве девиза слова Благословения Господня: Beati Pacifici [14]. Пребывание в этом благословенном состоянии – счастье для нашей нации. Да позволит Господь нам и далее пребывать в нем, однако я должен сказать Вам, что лучшим средством сохранить мир является готовность к войне. Море служит нам укреплением, суда – защитниками; они одновременно обеспечивают нам безопасность и процветание. А потому пренебрегать ими было бы грехом и позором. Пусть лица, способные к командованию, не отстраняются от него, пусть оружие и обеспечение флота всегда будут в готовности, как накануне сражения; пусть порты и крепости будут вооружены, как если бы ближние воды грозили опасностями, – такова наилучшая защита» {34}.
Читая эти строки, можно подумать, будто Бэкон предугадал, что его юный ученик однажды станет во главе королевского флота. Однако знать об этом в 1616 году означало бы обладать сверхъестественным предвидением. Не исключено, что этот отрывок был внесен в текст позже, так сказать, задним числом.
В полном согласии с Яковом I, Бэкон отвергает любую идею агрессивной внешней политики: «Я не думаю, что война во имя расширения границ нашей империи была бы справедливой или выгодной. Войну подобает вести лишь ради отражения нашествия или подавления мятежа». Два-три года спустя английское правительство оказалось перед альтернативой: мир или война, однако, как мы видим, сформулированное философом правило в данном случае не могло быть применено; и это доказывает, что в сфере политики абстрактные принципы редко находят практическое применение.
Не менее любопытен – особенно с позиции ретроспективного анализа – совет Фрэнсиса Бэкона Джорджу Вильерсу в отношении религии: «Во всех делах, касающихся церкви, соглашайтесь с точкой зрения людей мудрых, честных и ведущих достойную жизнь. Не прислушивайтесь к тем, кто станет уговаривать Вас сменить вероисповедание, будь то католики или анабаптисты, – все они являются сектантами и врагами нашей церкви. Церковь же наша наиболее близка к евангельской истине и одна лишь совместима с нашей монархией». Эта точка зрения не оригинальна. Она развивает любимый тезис Якова I об отношениях между церковью и государством. Джордж Вильерс всегда придерживался этих взглядов и впоследствии даже восстановил против себя так называемых «сектантов», что в конце концов стоило ему жизни.
Первый политический шаг
Дальновидный Бэкон стал восхвалять юношу перед королем: «Виконт Вильерс – человек мудрый, твердый духом и поступающий обдуманно». Вскоре покровительство принесло плоды: в марте 1617 года философ был назначен хранителем печати – этот пост за полвека до того занимал его отец. После этого честолюбивая мечта Бэкона о должности лорда-канцлера получила возможность стать реальностью.
Что касается Джорджа, то он понял: чем крепче любовь к нему короля, тем надежнее его положение. Со всех сторон к нему поступали петиции, просьбы, его осыпали лестью, ему предлагали услуги. Он не стремился к личному правлению. Судя по всему, Вильерс был человеком жизнелюбивым, а не кабинетным; качества, привлекавшие в нем короля, не относились к сфере интеллекта. Однако существовавшая в XVII веке иерархия придворной жизни требовала, чтобы фаворит был посредником между государем и его подданными. «Он был чем-то вроде личного секретаря короля, в обязанности которого входило давать государю разъяснения по поводу всего происходящего, принимать от имени короля прошения, короче: быть его привилегированным спутником, а не важным вельможей» {35}.
Не трудно представить себе, какие выгоды сулила подобная система. Беззастенчивый фаворит мог пользоваться положением, торгуя собственным заступничеством, создавая круг своих сторонников, а в крайнем случае мог попытаться перехватить власть у короля или сделать его игрушкой в своих руках. Такое случалось в других странах. Однако Джордж Вильерс был человеком иного склада. Не отказываясь полностью от конкретных свидетельств благодарности со стороны тех, в чьих интересах он использовал свое влияние, он не был продажным в истинном смысле этого слова. Впрочем, благосклонность короля и так обеспечивала ему доходы, способные удовлетворить самые большие запросы.
Вместе с тем Вильерс весьма быстро сообразил: следует недвусмысленно дать всем понять, что его влияние на решения короля безгранично. Все должны были уразуметь, что он не просто является каналом достижения чужих честолюбивых целей, но что попытки обойти этот канал обречены на неудачу.
Это стало ясно весной 1617 года, когда главный стряпчий [15] Генри Йелвертон пожелал получить пост генерального прокурора, освободившийся после того, как Бэкон стал хранителем печати. Яков I дал согласие и велел составить королевский указ о назначении (warrant). Не хватало только королевской подписи, однако ее все не было и не было. Йелвертон, который был известен своим неуживчивым характером, удивлялся: ведь король лично объявил ему о своем решении. Он отправился к Бэкону, а тот посоветовал ему заручиться поддержкой виконта Вильерса. Йелвертон отказался: «Не дело фаворита вмешиваться в назначение на административные должности». Однако Джордж, хотя и не испытывал враждебности к Йелвертону, счел это дело вопросом принципа: ни одно назначение при дворе не должно было состояться без его согласия. Он придержал неподписанный указ и решил не передавать его королю до тех пор, пока кандидат на пост генерального прокурора не покорится.
В конце концов Йелвертон был вынужден уступить. Он нанес Джорджу визит и заверил его в том, что у фаворита никогда не появится повода на него жаловаться. Большего Джорджу и не было нужно: он сразу же отнес указ к государю и возвратился с королевской подписью; Йелвертон рассыпался в благодарностях. Вскоре он явился на аудиенцию к королю и в знак признательности преподнес ему сумму в четыре тысячи фунтов наличными. Яков был в восторге, обнял своего нового генерального прокурора и объявил ему, что этих денег как раз не хватало на то, чтобы купить новое столовое серебро. Что до Джорджа, то он отказался от каких бы то ни было подарков, но сказал Йелвертону, что другой кандидат предлагал ему десять тысяч фунтов стерлингов. Король не отличался подобной щепетильностью {36}.
Наделавшее много шума «дело Йелвертона» заставило придворных отбросить сомнения: молодой виконт Вильерс стал отныне единственным источником милости короля. Это признали все.
Бекингем
1617 год в карьере Джорджа Вильерса стал для него решающим не только в плане благосклонности короля, но и в смысле приобретения власти. В январе этого года он получил титул графа Бекингема и отныне будет известен под этим именем. В феврале он стал членом Тайного совета, главного органа правительственной власти. А в марте король объявил, что его дорогой шталмейстер будет сопровождать его в Шотландию, куда он намеревается отправиться сорок лет спустя после того, как покинул древнее королевство своих предков.
Бекингем. Поскольку Джордж Вильерс больше ассоциируется с этим именем, имеет смысл рассказать подробнее о происхождении титула. Бекингем – это город в центральной части Англии, в шестидесяти пяти километрах от Лондона. В эпоху нормандских королей он был центром сеньориальных владений. В XV веке владение было сделано герцогством ради одного из кузенов короля Генриха VI, Хэмфри Стаффорда, и оставалось собственностью его семьи вплоть до 1521 года, когда третий герцог, Эдвард Стаффорд, был казнен за государственную измену. В 1617 году Яков I возродил этот лен, даровав его Джорджу Вильерсу вместе с титулом графа, чтобы впоследствии, как мы увидим, сделать его маркизом и наконец герцогом. После того как в 1687 году, не оставив наследников, умер сын Джорджа, титул опять освободился. В XVIII веке он был передан третьему по счету роду в лице Джона Шеффилда.
Именно Джон Шеффилд, герцог Бекингем, построил в западной части Лондона великолепную резиденцию. В 1761 году это здание было приобретено королевской семьей, а в
XIX веке стало официальной резиденцией королевы Виктории и получило название Букингемский дворец. Так что нынешний дворец английской королевы, строго говоря, не имеет никакого отношения к «нашему» Бекингему. Он жил в Лондоне в так называемом Йорк-Хаузе (York House) на Стрэнде. Об этом доме мы еще упомянем.
Близкая дружба с королевской семьей
Дружба молодого человека с королем крепла день ото дня. Будучи поначалу любовником, Бекингем все больше становился для Якова I чем-то вроде сына. «Я никогда не видел, чтобы муж был столь увлечен своей хорошенькой супругой, как король Яков был увлечен графом Бекингемом; он так сильно любил его, что ни в чем не мог ему отказать», – напишет впоследствии Джон Оглендер {37}. Между ними установился свой любовный язык, фамильярный и игривый. Король называл Джорджа «Стини» (уменьшительное от «Стивен»), возможно, из-за сходства фаворита с изображением святого Стефана. Не исключено также, что он имел в виду строку VI, 15 «Деяний Апостолов» [16]. Оба эти объяснения приводятся в текстах той эпохи {38}. Стини же обращался к государю «дорогой папа и крестный» (Dear Dad and Gossip), Письмо, написанное Джоржем летом 1617 года, дает представление об их отношениях: «Дорогой папа и крестный, хотя я получил от Вас пять или шесть писем и не ответил на них, по сути дела я не опоздал с ответом, учитывая, что мысленно я отвечал Вам уже сто раз, однако ни один из этих ответов меня не удовлетворил; ведь никогда еще слуга не получал подобных писем от своего господина. Никогда еще столь великий король не снисходил до выражения такой привязанности к своему покорному рабу; привязанности большей, нежели у отца к сыну, большей, нежели у мужа к жене, похожей скорее – да! – на привязанность равного к равному. Чем же могу я ответить? Лишь молчанием, ибо если заговорю, то покажусь дерзким и смогу дать много меньше по сравнению с тем, что я должен моему другу, моему врачевателю, моему создателю, моему отцу, тому, кто для меня является всем! Покорнейше благодарю Вас от всего сердца за все, чем я теперь являюсь…» {39}
Для человека, склонного к сентиментальности, как Яков I, подобные письма были и бальзамом для души, и воскурением фимиама. Они свидетельствуют также об интеллигентности молодого человека, сумевшего изобрести смесь фамильярности, нежности и лести. Нет никаких оснований сомневаться в его искренности: Бекингем действительно любил своего «дорогого папу и крестного», которому был обязан всем. Что до того, сколько времени продлилась эта любовь (или привязанность, поскольку маловероятно, чтобы со стороны Джорджа Вильерса в этих отношениях мог присутствовать какой-либо оттенок чувственности), то это – отдельный вопрос. Мы рассмотрим его позже.
Отношения фаворита с королевой также были безупречны. Он называл себя ее «рабом», королеву же – своей «милой госпожой». Ей это нравилось, и она звала его: «мой хороший песик». Он умел развлечь ее, активно и с удовольствием участвовал в празднествах, которые она любила устраивать, он же блистал на них.
Итак, семейная жизнь короля Якова была бы совершенной идиллией, если бы ее не омрачали неприятности с принцем Карлом.
Принц Карл
Какой бы благосклонностью ни пользовался юный Джордж, при дворе был человек, который превосходил его. Это наследный принц Карл Стюарт, принц Уэльский, сын короля и королевы Анны. Если Джордж желал укрепить свои позиции и рассчитывал на блестящее будущее, ему следовало установить с принцем хотя бы корректные, а лучше – сердечные, дружеские отношения.
Задача эта была не из легких. Карл был робким, замкнутым подростком, полной противоположностью очаровательному Джорджу Вильерсу. До двенадцати лет он пребывал в тени старшего брата, принца Генри, которого любил и которым восхищался. Смерть Генри в 1612 году превратила Карла в наследника трона, но он по-прежнему оставался скованным, некомфортно чувствовал себя среди придворных, и те считали его заносчивым и неприступным. Добавим к этому, что Карл придерживался строгих моральных правил, чем весьма отличался от окружения отца. Поэтому к новому, входящему в силу фавориту принц испытывал недоверие, если не ревность и антипатию. А рядом с наследником престола было немало людей, старавшихся поддержать в нем подобное неприятие.
Поначалу действительно произошло несколько событий, которые можно было считать внешним проявлением конфликта. В марте 1616 года один из придворных упомянул в письме о неприятном недоразумении, касавшемся перстня, который принц позаимствовал у Джорджа и потерял. Пришлось организовать поиски драгоценной вещицы: ее, в конце концов, нашли в кармане куртки Карла. Король рассердился на сына. «Будущее покажет, к чему все это приведет», – заключил придворный {40}.
В следующем году случилось нечто еще более неприятное. Принц (ему было шестнадцать, а Джорджу двадцать пять) позволил себе шалость, спровоцировавшую маленькую ссору между молодыми людьми. Во время прогулки в садах Гринвича Карл облил водой великолепный костюм фаворита. Присутствовавший при этом король на глазах у придворных влепил сыну затрещину {41}.
А однажды во время игры в теннис Джордж позволил себе резкое движение. «Кажется, сударь, вы хотели поднять на меня руку?» – ледяным тоном спросил наследник престола. Джордж рассыпался в извинениях. Эта история известна нам от Энтони Уэлдона, который, как известно, был ярым противником фаворита. Епископ Гудмен считает, что анекдот этот следует признать неправдоподобным, «принимая во внимание легкость характера герцога [Бекингема], который никогда ни с кем не говорил оскорбительным тоном» {42}.
Однако король Яков не мог не переживать из-за того, что между его сыном и сердечным другом установилась длительная неприязнь. Не исключено, что и Бэкон разъяснил вспыльчивому фавориту, как глупо ссориться с тем, кто однажды станет его государем. Джордж проявил благоразумие и уже с лета 1617 года ни один хронист не упоминает о каких- либо стычках между принцем и фаворитом. Наступило перемирие, которое завершилось заключением мира и созданием неразрывного союза, удивившего двор спустя всего лишь год.
Поездка в Шотландию
Покидая Шотландию весной 1603 года, Яков со слезами на глазах прерывающимся голосом пообещал своим шотландским подданным, что никогда не забудет их и вскоре приедет их навестить. С тех пор прошло немало времени, воспоминания о древней стране становились все более расплывчатыми – было гораздо удобнее жить в Хемптон-корте или Гринвиче, нежели в Эдинбурге! – однако король не забыл о своем обещании. Весной 1617 года он решил, что наступил подходящий момент для его выполнения, и объявил об этом.
К несчастью, королевская казна переживала не лучшие времена. Яков, как и королева, были неисправимыми мотами. В начале 1617 года дефицит составлял около миллиона фунтов стерлингов. Выше, рассказывая о назначении Генри Иелвертона генеральным прокурором, мы упомянули о том, как король с радостью принял от него в дар четыре тысячи фунтов, «чтобы купить серебряную посуду». При таких условиях поездка в Шотландию оказывалась проблематичной. Государственный казначей лорд Суффолк объяснил королю, что сундуки пусты. Бекингем попытался отговорить своего «дорогого папу» от столь дорогостоящего путешествия, чем в первый и единственный раз чуть было не разозлил его. Но король стоял на своем, и в начале марта двор отправился- таки в путь, благодаря предоставленному (явно против воли) городом Лондоном займу в 100 тысяч фунтов стерлингов.
Королева и принц Карл остались в столице, а молодой фаворит, будучи шталмейстером, сопровождал монарха. Он скакал на коне рядом с ним, вел за уздечку его коня при торжественных въездах в города – ведь путешествие, естественно, прерывалось длительными остановками, во время которых горожане и вельможи устраивали пышные приемы в честь государя. Трудно перечислить все блюда, съеденные во время обеда, который дал сэр Артур Лейк в своем поместье Хофтон: цыплята, каплуны, гуси, утки, индейки, голуби, кролики, цапли, перепела, барашки, поросята, копченые языки, артишоки, бобы, пироги – этот список занимает более печатной страницы в рассказе Джона Николса {43}. А город Ковентри истратил на прием 415 фунтов стерлингов и преподнес в дар королю золотой кубок стоимостью 172 фунта.
В течение всей поездки наблюдатели обращали внимание на доброжелательность и приветливость фаворита, а также на его приятельские отношения с королем. Тем не менее из- за традиционного буйного нрава шотландцев не обошлось без инцидентов. Обмен остротами между маркизом Гамильтоном и лордом Говардом Уолденом, сыном государственного казначея Суффолка, чуть было не привел к драке. Однако Бекингем, вмешавшись, сумел утихомирить их. Позже Уолден грозил «перерезать глотку» фавориту. Поговаривали даже, что на него было совершено покушение (однако обстоятельства этого дела неясны, и ничто не доказывает реальности этого события {44}).
В целом, результат поездки оказался весьма благоприятным, поскольку королю удалось заставить своих шотландских подданных включить в богослужение пресвитерианской церкви некоторые элементы англиканской литургии (что возмутило кальвинистов), а шотландский парламент без особого сопротивления проголосовал за субсидии для королевской казны. Яков пребывал в прекрасном настроении; его услаждали лестью и окуривали фимиамом красноречия, а до подобных удовольствий король всегда был охоч. («Да осмелюсь я, недостойный и невежественный человек, с покорностью возгласить перед лицом Вашего Священного Величества, которого природа и образованность вознесли на вершину совершенства в риторике, изъявления послушания и преданности, каковые мне наказали передать верные подданные Вашего Величества…» {45})
Кроме того, город Эдинбург преподнес королю серебряный сосуд, полный золотых монет, и Яков, не церемонясь, принял подарок. Что до Бекингема, то он оказался исключительно приятным спутником в путешествии.
«У Иисуса был Иоанн»
Расслабившись в этой атмосфере всеобщего ликования, Яков, по возвращении в Лондон, сделал в Тайном совете знаменитое и удивительное заявление, которое часто цитируют биографы Джорджа: «Я не Бог и не ангел, я человек, как все другие. Я признаю, что, подобно обычным людям, я люблю тех, кто мне дорог, больше, чем остальных. Так что, вы можете быть уверены, что я люблю графа Бекингема больше, чем кого бы то ни было, да, даже больше, чем всех вас, собравшихся здесь. И знайте, что в том нет с моей стороны никакой вины, ибо Иисус Христос поступал так же, а потому меня не за что упрекать: у Иисуса был Иоанн, а у меня – мой Джордж» {46}.
После подобного заявления молодой Вильерс мог претендовать на что угодно.
«Мой дорогой сын и супруг…»
Не придавая этому вопросу большого значения, нежели он того заслуживает, мы все же не можем избежать необходимости уточнить истинную суть отношений, связывавших короля Якова I и Джорджа Вильерса с самого начала их близкого общения и до конца жизни короля.
Нет никаких сомнений в том, что в основе своей эти отношения имели сексуальную природу. Современники не питали на этот счет никаких иллюзий, хотя и пользовались менее откровенными выражениями, чем сегодня. Только благочестивые лицемеры XIX века могли скрывать свидетельства этого аспекта отношений между королем и фаворитом, порой доходя до абсурда. Сегодня подобная позиция уже преодолена.
Однако признать сексуальную природу чьих-либо отношений отнюдь не означает автоматически свести их к откровенно сексуальным актам. А в том, что касается Якова I и Стини, на этот вопрос как раз трудно однозначно ответить «да» или «нет».
Когда король Яков встретил Джорджа Вильерса, тому было двадцать три года, а королю – сорок девять. Яков только что пережил глубокий душевный кризис из-за Сомерсета, который, без сомнения, был его любовником в полном смысле этого слова. Более всего король нуждался теперь в друге, которому мог бы доверять полностью, в том, для кого он мог бы стать духовным наставником: эту роль он любил больше всего. Все это он нашел в юном Джордже, который был не только прилежным учеником, но и признательным, почтительным и верным другом.
До какой степени близости дошли эти отношения? Многие современники описывают, как Яков публично ласкал Стини, гладил его по волосам, поправлял на нем одежду. Эти интимные жесты тогда, как и сегодня, казались неуместными, однако сами по себе они не являются свидетельством чего-то большего, хотя сэр Фрэнсис Осборн, несомненно, отражающий мнение многих современников, язвительно комментировал это так: «Видя, как они ведут себя на людях, можно себе представить, что происходит за закрытыми дверями» {47}. Впрочем, это лишь предположение, а не доказательство.
Не больше ясности вносит и тот факт, что Стини часто проводил ночь в опочивальне короля. Это не было чем-то исключительным и не подразумевало ничего скандального. Впоследствии Карл I – благочестивый и всегда корректный в поведении Карл I! – предложил Бекингему провести ночь в его покоях в Сент-Джеймсском дворце в тот день, когда короновался на престол, и никто не возражал против этого, разве что те, кто обеспокоились из-за столь явного проявления к фавориту королевской благосклонности.
Анализ переписки Якова I и Стини, из которой мы уже многое цитировали, также не добавляет ясности. Ласкательные слова, которыми изобилуют эти письма, в наше время несомненно свидетельствовали бы о сексуальных отношениях. Однако в психологическом контексте литературы барокко они вовсе не так однозначны. То была эпоха гипербол и экстравагантных метафор. Когда Яков пишет Бекингему, что тот является его «супругом» (husband), то это не более точное указание, нежели когда он называет себя его «папой» (dad). А в одном письме от декабря 1624 года (или 1623 – датировка не точна), к которому мы еще вернемся, упоминается «новый брак»: здесь мы снова имеем дело с цветистым языком эпохи.
Однако Роджер Локиер, биограф Бекингема (1981), более категоричен в выводах. Он приводит отрывок из письма Якова I Бекингему, в котором король упоминает «времена Фарнхэма, которые я никогда не забуду, ведь тогда подушка не отделяла пса от его хозяина». (Бекингем часто использовал выражение «ваш пес» в письмах к Якову I, он употреблял эти слова наравне с выражением «ваш раб» – и это опять же стиль барокко). Фарнхэм это замок, где двор сделал остановку во время поездки короля по стране в 1615 году. Роджер Локиер делает из этого следующий вывод: «Стало быть, именно в замке Фарнхэм юный Джордж физически уступил Якову» {48}. Позволяет ли отсутствие подушки между псом и его хозяином однозначно сделать вывод о существовании сексуальной связи? Это, разумеется, возможно, но не очевидно.
Очевидны же, в любом случае, три вещи. Во-первых, то, что влечение короля к юному Джорджу Вильерсу в 1615-1616 годах, несомненно, носило чувственную природу. Мы приводили выше замечание сторонника короля Джона Оглендера относительно любви Якова I к Бекингему, напоминающей привязанность «мужа к хорошенькой супруге».
Во-вторых, точно известно, что Джордж не был гомосексуалистом. Слишком много свидетельств о его увлечениях женщинами (и его успехе у них) доказывает обратное. Бисексуальность? Для такого утверждения следовало бы привести хотя бы еще один пример связи Джорджа с мужчиной, кроме Якова I, однако таковых примеров нет. Напротив, во всех письмах к «дорогому папе» чувствуется глубокая и искренняя привязанность, но не сексуальная, а сыновняя.
Наконец, даже если поначалу, возможно, существовала физическая связь между сорокалетним королем и юным фаворитом, то она продлилась недолго. Весьма скоро в тоне их переписки начинает звучать скорее нежность, чем страсть. Именно этим объясняется исключительная длительность их связи, пережившей все испытания. Когда Бекингем женился и стал отцом, король к нему совсем не охладел. Скорее всего чувственное влечение переросло в семейную привязанность. Супруга Джорджа Кэтрин (Кейт) стала «дорогой дочерью» монарха, он начал играть роль любящего дедушки по отношению к первому ребенку молодых супругов, малышки Молли, которую обожал до безумия. Бекингем по- настоящему стал членом королевской семьи, и с этого момента его отношения с королем и с принцем-наследником следует рассматривать именно под данным углом зрения. Последнего он также иногда называл «возлюбленным» (sweet heart).
Теперь встает вопрос, сохранялась ли вплоть до самого конца эта ничем не омрачаемая привязанность и исключительная доверительность между старым королем и блистательным и уверенным в себе мужчиной. Нельзя не отметить один кризисный эпизод, случившийся после поездки Джорджа вместе с принцем Карлом в Испанию в 1623 году. Молодые люди («мои дорогие детки», как пишет Яков I) придерживались в это время в политических вопросах точки зрения, противоположной мнению «папы». У некоторых современников сложилось впечатление (или возникла надежда), что король винит Бекингема в безрезультатности этой поездки. «Король никогда не простит герцогу», – пишет Кларендон. «Король устал от него», – делает вывод венецианский посол {49}. Несколько раз возникали слухи о неминуемой опале фаворита. 22 апреля 1624 года кризис на короткое время обострился до такой степени, что обе стороны впали в отчаяние и проливали слезы, – мы подробнее опишем это позже [17]. Однако, если не считать этого эпизода, спровоцированного испанскими интригами, переписка между королем и Стини свидетельствует о том, что их любовь не угасла вплоть до смерти Якова, хотя их политические взгляды совпадали не всегда: именно в последние годы между больным стариком и молодым адмиралом был заключен тот самый «новый брак», о котором говорится в письме от декабря 1623 или 1624 года. Это письмо подводит итог многолетнему тесному союзу между этими столь разными людьми. Мы процитируем его полностью: «Мое дорогое единственное дитя (ту only sweet and dear child), я написал бы тебе еще вчера, если бы, вернувшись из парка, не почувствовал приступ такой слабости, что был вынужден сесть и полчаса проспать в кресле. Однако я не успокоюсь, пока не пошлю тебе этот подарок [18], моля Бога даровать мне счастливую и утешительную встречу с тобой, чтобы на Рождество мы смогли заключить новый брак, который продлится вечно. Бог свидетель, что я не желаю ничего другого, кроме того, чтобы жить для тебя, и я предпочел бы отправиться в изгнание на край света вместе с тобой, нежели жить без тебя подобно безутешной вдове (like a sorrowful widow). Да благословит тебя Бог, дорогой мой сын и супруг, старайся всегда составлять счастье твоего папы и супруга, Джеймса R» {50} [19].
Итак, папа или супруг? Словарь XVII века очень отличается от нашего, а потому мы не можем дать точный ответ. Но ясно одно – эти два человека, несомненно, любили друг друга. И именно под этим знаком следует рассматривать карьеру Джорджа Вильерса, герцога Бекингема, вплоть до смерти его «создателя», как он сам называл короля, которому был обязан всем.
Глава IV «Нижайше прошу у вас прощения»
Женитьба брата. Тучи над головой Фрэнсиса Бэкона
Подобно всем своим современникам, Джордж Вильерс обладал сильным чувством семейной солидарности. Он любил и почитал свою мать, которой был многим обязан, и хорошо понимал, что благосклонность к нему короля идет на пользу всему семейству. Впрочем, король и сам располагал к такому настроению, ибо в его любви к Джорджу и вправду было нечто супружеское, и она распространялась на всех Вильерсов. Летом 1615 года, когда молодой человек стал камергером, король, путешествуя по центральной Англии, остановился вместе со свитой в Гоудсби, где его «с великолепием» {51} приняла мать Джорджа леди Комптон: то была исключительная милость монарха, сразу показавшая придворным, что молодого Вильерса ожидает необычайная карьера.
В 1616 и 1617 годах почести и материальные выгоды дождем сыпались на братьев и сестру Джорджа. Эдвард Вильерс, приходившийся фавориту всего лишь сводным братом, стал рыцарем и начальником Монетного двора, а в 1618 году получил хорошую должность в опекунском суде. Кристофер, «неумный и не имевший никаких достоинств», был возведен в ранг камергера, получал ежегодное жалование в двести фунтов стерлингов и был назначен хранителем королевского гардероба. Сьюзан вышла замуж за сэра Уильяма Филдинга, а это была выгодная партия с хорошими видами на дальнейшее возвышение. «Клан Вильерсов» все более вторгался в придворную жизнь по мере того, как укреплялась на небосводе звезда Джорджа.
Однако наибольшую выгоду из возвышения того, кто в январе 1617 года стал Бекингемом, извлек его старший брат Джон, тот самый, которого считали неуравновешенным и даже умственно отсталым. В июне 1616 года он получил звание рыцаря, затем стал хранителем гардероба принца Карла. Но главное: матушка вбила ему в голову желание заключить выгодный брак с Фрэнсис Кок, дочерью бывшего верховного судьи Эдварда Кока и его невероятно богатой супруги леди Хаттон. Эта история, подробно изложенная в хрониках 1616-1617 годов, стала серьезным этапом в карьере Бекингема и потому достойна подробного описания.
Итак: действующие лица.
С одной стороны, леди Комптон – именно такой титул носила в то время мать Джорджа и Джона. Ей было сорок два года, она отличалась властностью, которая увеличивалась по мере роста могущества ее любимого сына. Кроме того, она любила деньги и не стеснялась – как мы увидим, с годами она стеснялась все меньше и меньше – брать плату за свои услуги по заступничеству перед королем. Брак между Джоном и Фрэнсис Кок стал для нее делом принципа, и она повела интригу с упорством и удивительным отсутствием какой бы то ни было деликатности.
С другой стороны, супружеская пара Коков. Впрочем, можно ли действительно говорить о супружеской паре? Муж, сэр Эдвард, был юристом, человеком честолюбивым и желчным, обладавшим способностью раздражать короля и ссориться с его окружением. В 1613 году он получил пост верховного судьи и стал членом Тайного совета, однако в ноябре 1616 года угодил в опалу из-за своей недисциплинированности, из-за чего сильно переживал «со слезами и скрежетом зубовным». Что касается его жены, леди Хаттон, то она обладала огромным состоянием, унаследованным от первого мужа, сэра Уильяма Хаттона, чье имя она продолжала носить. Ее стычки с Коком были достоянием гласности и смаковались светскими хронистами. Однажды, устроив у себя прием, она запретила мужу являться перед гостями и объявила, что, стоит ему показаться в дверях, она сразу же выйдет в противоположную дверь. Супруги жили порознь, и было бы излишним подчеркивать, что леди Хаттон зорко следила за тем, чтобы ни один шиллинг из ее состояния не достался мужу, который не имел к ее деньгам ни малейшего доступа.
Упомянем еще одно, четвертое, действующее лицо, стоявшее за кулисами, но всегда присутствовавшее и активно действовавшее. Это – Фрэнсис Бэкон, хранитель печати, друг леди Хаттон, которой он, вроде бы, приходился кузеном, и враг Эдварда Кока.
Что до жениха и невесты, Джона Вильерса и Фрэнсис Кок, то они были в этой игре всего лишь пешками. Их мнения никто не спрашивал, и в конечном счете они стали жертвами чужих интересов.
В брачной интриге, затеянной летом 1616 года, инициатива, судя по всему, исходила от Кока, готового использовать все возможные средства, чтобы вернуть благосклонность короля и снова занять пост верховного судьи. Леди Комптон, подыскивавшая для своего сына Джона супругу с хорошим приданым, остановила взгляд на Фрэнсис Кок, которой в то время было около шестнадцати лет. То была одна из самых блестящих партий во всей Англии. Взаимопонимание между отцом девушки и матерью молодого человека установилось очень быстро, несмотря на то, что финансовые требования леди Комптон (не менее тридцати тысяч фунтов стерлингов приданого) несколько ужасали прижимистого магистрата. Однако в конце концов он уступил, зная, что возвращение должности в правительстве стоит таких денег.
Однако Кок не распоряжался деньгами. Они лежали в сундуках жены. И едва Кок пожелал для дочери этого брака, леди Хаттон твердо решила, что свадьбе не бывать. Вдобавок она терпеть не могла леди Комптон по причинам, которые нетрудно угадать: обе были властолюбивыми и алчными женщинами.
Став графом Бекингемом в январе 1617 года, Джордж Вильерс, должным образом наставляемый матушкой, также счел вопрос о браке Джона и Фрэнсис делом принципа. Ему легко удалось получить согласие короля. Однако сопротивление возникло с той стороны, откуда его никто не ожидал: со стороны Фрэнсиса Бэкона.
Бэкон понял смысл маневра Кока: дочь (и причитающееся ей приданое) в обмен на возвращение в Тайный совет. Хранитель печати решил этому воспрепятствовать. Ему помог скандальный случай, произошедший летом 1617 года: леди Хаттон, желая удалить Фрэнсис от отцовского влияния, спрятала ее у одного из родственников и объявила, что она – невеста графа Оксфорда, который, проживая в Италии, ничего об этом не знал. Кок рассвирепел и приказал увести дочь силой. В доме, где она скрывалась, взломали дверь и учинили «варварское насилие». Леди Хаттон тотчас подала жалобу в Тайный совет. Она сравнивала себя с «коровой, у которой отняли теленка». Бэкон же решил воспользоваться случаем, чтобы помешать браку Вильерса.
В письме от 12 июля, адресованном Джорджу – тот находился вместе с королем в Шотландии, – Бэкон излагает свою позицию: «Мой дражайший господин, я пишу Вам по поводу дела, которое в величайшей степени затрагивает Вашу Милость. Любовь моя к Вам столь сильна, что я ставлю ее выше моих собственных интересов [sic!]. Похоже, что секретарь Уинвуд [20] официально занимается подготовкой бракосочетания Вашего брата с дочерью сэра Эдварда Кока. У меня есть все основания считать, что он делает это из склонности к интригам, а не из чувства привязанности к Вашей Милости. Говорят, что сэр Эдвард Кок согласен на выгодные для Вашего брата условия этого брака, однако Ваш брат может обрести такие же условия в другом месте. Кроме того, мать невесты не дала своего согласия, а без него дело не может быть решено. Уверяю Вас, что подобный брак оказался бы вредоносным как для Вашего брата, так и для Вас самого. Он может повредить Вашей службе у Его Величества, ибо всем известно, какие неудобства возникли в свое время по вине сэра Эдварда Кока…» {52}
Джордж, которому Бэкон впервые посмел перечить, ответил сурово: «Милорд, Вы вредите себе, пытаясь воспрепятствовать браку моего брата. Я узнал от моих друзей в Лондоне, что Вы ведете себя в отношении меня весьма враждебно и оскорбительно. Из этого я заключаю, что я Вам более не нужен и Вы не считаете меня более полезным для себя. Винить в этом я могу только себя самого, верный друг Вашей Милости, Джордж Вильерс» {53}.
Король, по словам очевидца, «окружил себя грозовыми тучами», рассердившись на хранителя печати. Бэкон сразу же понял, что накликал на себя беду, и отправил Джорджу письмо с извинениями: «Милорд, моя любовь к Вам столь сильна, что я готов отдать за Вас жизнь. Клянусь, что я озаботился женитьбой Вашего брата исключительно из почти отеческой заботы о Вас (я пользуюсь здесь словом, которое Вы сами не раз употребляли, говоря со мной). Если я ошибся, то нижайше прошу у Вас прощения…» {54} Отметим, между прочим, приниженный тон, к которому прибегает знаменитый философ, королевский министр, человек пятидесяти шести лет, обращаясь к двадцатипятилетнему фавориту. Этот тон показывает, какое место эти два человека занимали в иерархии власти начала XVII века.
5 сентября Бекингем написал Бэкону весьма сухое письмо: «Милорд, я получил от Вашей Милости столько посланий, что не могу ответить на них в одном письме. Вы опасаетесь, что я настроен против Вас, однако Вы можете быть уверены, что я, как и Вы, не прислушиваюсь к враждебным наговорам против людей столь достойных, как Вы. Вам известно, что Его Величество мудр, всегда спокоен и никого не осуждает без серьезных на то оснований» {55}.
Однако Джордж, который умел изобразить, что сердится, если подозревал, что ему пытаются противодействовать, был по характеру человеком великодушным и разумным. Вернувшись в Лондон, он понял, что Бэкон вовсе не намерен вредить ему, и вскоре они помирились, тем более что брак в конце концов был заключен по приказу короля, и леди Хаттон пришлось дать свое согласие на замужество дочери и на требуемое приданое в тридцать тысяч фунтов стерлингов. Церемония бракосочетания состоялась в королевской часовне в Хемптон-корте 29 сентября 1617 года в присутствии короля, королевы и принца Карла, однако – знаменательная деталь! – в отсутствие леди Хаттон.
Можно было бы вслед за Шекспиром сделать вывод, что «все хорошо, что хорошо кончается», поскольку Эдвард Кок вернул себе должность верховного судьи и место в Тайном совете, Бэкон вскоре получил высокий пост лорда-канцлера королевства, Джон Вильерс стал виконтом Пербеком, а леди Комптон была удостоена незаслуженной чести именоваться графиней Бекингем, получив этот титул в сугубо личное пользование (ее муж остался просто Томасом Ком- птоном).
Однако радоваться такому исходу событий означало бы забыть о несчастной судьбе двух невезучих героев драмы, втянутых в нее вопреки собственной воле: о Джоне Вильерсе и Фрэнсис Кок, которые терпеть не могли друг друга, открыто друг другу изменяли и весьма печально окончили свои дни – он, впав в безумие, а она, как наложница другого человека, мать незаконного ребенка, осуждаемая за адюльтер.
Это дело, занимавшее английское общество в течение всего лета 1617 года, сделало еще раз очевидным влияние Бекингема на настроение короля и явилось строгим напоминанием всем, в том числе и хранителю печати, что отныне ничто не может совершаться без его участия и тем более вопреки его желанию.
Стини и малыш Карл
Первого января при английском дворе традиционно устраивался праздник в честь Нового года (несмотря на то, что изменение номера года вплоть до 1752 года приходилось на 25 марта) [21]. 1 января 1618 года не было исключением. Год назад Джордж Вильерс стал графом Бекингемом; теперь он сделал следующий шаг по иерархической лестнице, получив титул маркиза, что ставило его выше графов и всего на ступень ниже герцогов. Наш герой занял достойное место среди английских пэров.
На следующий день, дабы отблагодарить государя за столь великую милость, Джордж устроил в Уэнстеде, подаренном ему королем эссекском поместье, пышный банкет. Очевидцы с восхищением отмечали, что там «на одном блюде подавали семнадцать дюжин фазанов и двенадцать дюжин куропаток». Пожалуй, этот факт не удивил бы современного читателя, не будь столь невероятным размер самого блюда. Банкет обошелся в 60 тысяч фунтов стерлингов {56}.
На банкете присутствовал принц Карл: все уже заметили, что он помирился с фаворитом отца. Король, будучи в восторге от подобной семейной гармонии, произнес на банкете такой тост: «Милорды, я пью за здравие всех вас. Если бы среди вас был кто-то, кто еще не стал от всего сердца другом моего Джорджа, я послал бы его к дьяволу!» {57} Имеющий уши да услышит…
Спустя несколько дней, во время праздника Крещения Господня, давалось представление, так называемая «маска» «Лицезрение услад», сочиненная поэтом Беном Джонсоном. Во время спектакля все были поражены отношениями между наследным принцем и молодым маркизом. «Маски», любимое придворное развлечение, представляли собой комические полубалеты-полуоперы на аллегорические или мифологические сюжеты с пышными костюмами и декорациями, с использованием машин и искусственного освещения. В этом представлении впервые участвовал принц собственной персоной в сопровождении Бекингема, который никогда не упускал возможности блеснуть своей красивой наружностью и умением танцевать. Венецианский посол приводит даже забавный эпизод, весьма типичный для двора Якова I: утомившись длинными диалогами пьесы Бена Джонсона, король внезапно воскликнул: «Черт возьми! Почему до сих пор не танцуют?» Тогда Бекингем вышел вперед и исполнил «несколько прыжков и пируэтов с таким изяществом, что не только король был очарован, но и все присутствующие пришли в восхищение» {58}.
Настали прекрасные дни, и замок Уэнстед превратился в арену увеселений, скрепивших отныне нерушимую дружбу между Стини и тем, кого король все еще называл «малышом Карлом» (Baby Charles), несмотря на то, что принцу исполнилось уже 18 лет (это позволяет составить вполне определенное представление о том, каково было мнение отца о наследном принце). Незадолго до этого Карл чем-то рассердил короля и обратился к Бекингему: «Я прошу Вас передать мое покорнейшее почтение Его Величеству и сказать ему, что я весьма раскаиваюсь в том, что противился его воле. Никто не знает меня лучше Вас…» {59} Понятно, что Яков сразу же простил сына, и именно в честь этого примирения Бекингем устроил в своем замке праздник, известный под названием «Празднество Принца» или «Празднество дружбы». Во время пиршества король произнес тост во славу семейства Вильерсов: «Пусть все знают, что я имею намерение вознести маркиза Бекингема и его семью на вершину славы в нашем королевстве. Я надеюсь, что мои наследники станут поступать таким же образом» {60}. Даже учитывая возбуждение Якова под конец банкета, нельзя не отметить, что подобные слова редко можно услышать из уст монарха.
А 8 июля мать фаворита, как мы уже упоминали выше, получила почетное, но незаслуженное право именоваться графиней Бекингем.
Одновременно с титулами на головы маркиза и его семейства сыпались материальные блага. Когда Джордж стал фаворитом, он получил в подарок земли стоимостью 24 тысячи фунтов стерлингов, причем у него достало деликатности отказаться от поместья Шерборн, конфискованного у бывшего фаворита Елизаветы I Уолтера Рэли {61}. В 1617 году Джорджу был пожалован ежегодный доход в 15 тысяч фунтов стерлингов. Вскоре он получил право на откуп таможенных налогов в Ирландии, что приносило ему ежегодно две- три тысячи фунтов. Уэнстед был резиденцией, достойной человека его ранга: там можно было принимать придворных и друзей. Позже он приобрел поместье Ньюхолл, также расположенное в Эссексе, – это место стало его любимым домом, куда – весьма редко! – король позволял ему удаляться на несколько дней. В Лондоне Бекингем жил в Уоллингфорд-Хаузе (Wallingford House), купленном у кого-то из родственников Говарда. Там он жил до тех пор, пока не перебрался в роскошный Йорк-Хауз (York House), который ему был вынужден уступить канцлер Бэкон. Джордж превратился в одного из богатейших вельмож королевства, как ему и обещал король Яков.
Падение дома Говардов
Блестящий взлет Джорджа Вильерса к вершинам власти не мог не иметь последствий для английской политики. Мы помним, что его появление при дворе было организовано архиепископом Эбботом и некоторыми вельможами, которые хотели противостоять влиянию Роберта Карра (Сомерсета) и клана Говардов, чьим орудием был последний. Говарды являлись сторонниками союза с Испанией и смягчения законов против католиков. Логично было бы предположить, что новый фаворит Вильерс станет сторонником политики протестантов и антииспанского направления. Эббот и, в меньшей степени, Бэкон действительно подталкивали его к этому. Однако для того, чтобы занять подобную позицию, надо было игнорировать личные предпочтения короля, а молодой Джордж – судя по всему, весьма равнодушный и покладистый во всем, что касалось подобных вопросов, – был слишком умен, чтобы вызвать недовольство своего «дорогого папы и крестного», выступая против линии, которой тот придерживался с момента вступления на престол.
В описываемое нами время Яков I был более чем когда- либо увлечен идеей союза с Испанией. С 1613 года послом испанского короля в Лондоне являлся блестящий молодой дипломат дон Диего Сармьенто де Акунья, получивший в 1617 году титул графа Гондомара. Его влияние при дворе Якова удивительным образом постоянно возрастало. В характере Гондомара сочетались самые разные черты: светскость, образованность, умение льстить, когда это нужно, и навязывать свою волю, когда это возможно, а также мастерство в плетении интриг. Он располагал большими деньгами, которые Испания посылала ему для подкупа нужных людей и вербовки агентов на всех ступенях английской социальной лестницы. Короче говоря, он был типичным образцом дипломата-шпиона. Гондомару очень быстро удалось войти в ближайшее окружение Якова Стюарта, который ценил его как веселого собеседника, любителя пикантных анекдотов, при этом склонного к богословским дискуссиям не меньше, чем к сальным шуточкам. Испанского посла часто видели на королевской охоте, во время прогулок Его Величества, в узком кругу на королевских приватных вечеринках. Это вызвало беспокойство придворной антииспанской партии.
И не зря: скрываясь под личиной светского льва, Гондомар проводил вполне конкретную политику, от успеха которой зависели его честь и карьера. Его целью было женить принца Карла, будущего английского короля, на испанской инфанте и вернуть Англию в лоно католической церкви. Яков I пока не был готов заходить так далеко, однако Гондомар умел подбираться к цели постепенно. «Я – неплохой посредник и даже сводник», – заявил он однажды королю, на что тот, смеясь, ответил: «Испытайте свое искусство на моем сыне; думаю, у вас получится» {62}.
Джордж Вильерс появился при дворе как раз в то время, когда подобные, благоприятствовавшие англо-испанскому союзу настроения явно господствовали. Он быстро понял, что открытое выступление против Гондомара и его сторонников – а именно к этому его побуждал его «отец» архиепископ Эббот – бесполезно. Несмотря на намеки врагов Джорджа, у нас нет оснований полагать, что Бекингем получал деньги от испанского посла; впрочем, мы не можем с такой же уверенностью сказать это о матери фаворита, которая все больше склонялась к католичеству (об этом речь впереди).
Таким образом, несмотря на падение Сомерсета, клан Говардов сумел бы сохранить позиции при дворе и в правительстве, если бы сам Говард не совершал раз за разом неосторожные поступки и если бы его противники не использовали в борьбе против него Бекингема. Судя по всему, последний не принимал во всем этом осознанного участия, хотя в конце концов оказался в большом выигрыше.
В начале 1618 года придворные обратили внимание на то, что в окружении короля появился новый юнец, всеми силами старающийся попасть в поле зрения государя. Вскоре стало известно, что это – Уильям Монсон, сын дворянина из числа сторонников Говарда, к этому времени скомпрометированного делом об отравлении в лондонском Тауэре несчастного Овербери. Идея сделать юного Уильяма конкурентом Бекингема в борьбе за королевскую любовь принадлежала леди Суффолк. Она велела причесать и разодеть молодого человека и заставляла его каждое утро умываться теплым молоком, чтобы лицо стало белее. Однако Якова к этому времени уже не так легко было воспламенить очарованием юнцов: постоянное присутствие юного Монсона не только не возбуждало, а, напротив, начало раздражать короля, и он запретил юноше попадаться ему на глаза. Леди Суффолк потерпела поражение {63}.
Именно тогда и пошли разговоры о странностях в поведении Суффолков. Еще год назад король был крайне недоволен нежеланием лорда-казначея финансировать его поездку в Шотландию, а случай с Монсоном заставил его прислушаться к тем, кто осуждал Суффолка.
Томас Говард, граф Суффолк, был сыном графа Норфолка, казненного в 1572 году за участие, вместе с Марией Стюарт, в заговоре против королевы Елизаветы. Говард принадлежал к тем, кто способствовал в 1603 году воцарению Якова I и был за это осыпан милостями, в частности, назначен лордом-казначеем, то есть министром финансов. Однако он был женат на честолюбивой и алчной женщине, которая, находясь рядом с ним, создала целую систему изощренного взяточничества, усовершенствованную с помощью сэра Джона Бингли, канцлера казначейства. Как язвительно выразился во время процесса канцлер Бэкон, «господин держал лавочку, госпожа стояла за кассой, а подручный приманивал покупателей, покрикивая у дверей: "Чего изволите-с?"» {64}
Антииспанская партия, для которой Говард был одним из объектов ненависти (он втайне исповедовал католичество и получал пенсию от короля Филиппа), старалась разжечь недоверие Якова I к лорду-казначею. Сделанные Бэконом разоблачения и последовавшие за тем обвинения со стороны нового контролера финансов Лайонела Крэнфилда подпитывали это недоверие: в 1617 году дефицит бюджета достиг 150 тысяч фунтов стерлингов, общий долг казны составлял 726 тысяч фунтов, в то время как Суффолк и его супруга жили на широкую ногу. Яков, питавший неприязнь к высокомерной графине, запретил ей появляться при дворе и, поскольку она не подчинилась, пригрозил, что велит «провезти ее по улицам в телеге, как обычную проститутку». Наконец, в июле 1618 года, когда накопилось много обоснованных подозрений, была создана следственная комиссия для рассмотрения деятельности лорда-казначея. Комиссия, включавшая таких людей, как Крэнфилд, Бэкон, Кок, Эббот, и им подобных, не могла не составить обвинительного акта против министра и его окружения. 12 июля он подал в отставку. То была большая победа антиговардовской партии.
В связи с этим интересно посмотреть, какую позицию занимал Бекингем. Казалось бы, все подталкивало его к тому, чтобы радоваться падению человека, бывшего, помимо прочего, тестем Сомерсета и главой партии, ради борьбы с которой сам он появился при дворе. Между тем мы видим, что Бекингем, напротив, заступался за Говарда и пытался уговорить короля смягчить принимаемые против него меры. «Дружба, которую я питаю к Вашей Светлости, – пишет он смещенному лорду-казначею, – заставляет меня сообщить Вам, что члены комиссии в чьи обязанности входило рассмотрение деятельности казначейства, подали Его Величеству доклад, в котором они излагают все, что сумели обнаружить против Вашей Светлости, Вашей супруги и сэра Джона Бингли. […] Они побуждают Его Величество проявить суровость, дабы явить миру пример, способный предотвратить повторение подобных дел. Его Величество выразил намерение выслушать Вас наедине, однако члены комиссии воспротивились, объявив о незаконности подобной процедуры и о том, что она может дать повод для возникновения определенных подозрений. […] Я желал бы сообщить Вам более благоприятные сведения и всегда готов передать Его Величеству любое сообщение, какое Вам будет угодно мне поручить. Прошу Вас иметь в виду, что мое письмо к Вам носит сугубо личный характер; клянусь честью, никто о нем не знает» {65}.
Это письмо свидетельствует, что Бекингем был человеком великодушным и даже милосердным. Оно полностью подтверждает слова его биографа Уоттона, утверждавшего, что фавориту не были свойственны ни зловредность, ни злопамятность. Бекингему не удалось воспрепятствовать процессу над Суффолком; он состоялся на следующий год и завершился тем, что бывшего лорда-казначея приговорили к штрафу в 30 тысяч фунтов стерлингов и тюремному заключению, «если того пожелает Его Величество». Спустя несколько недель король выпустил его на свободу и сократил штраф до 7 тысяч фунтов. Однако Суффолк на всю жизнь сохранил признательность Бекингему и продал ему свое поместье Ньюхолл, перешедшее впоследствии во владение внука фаворита. Что до Бингли, то он отделался штрафом в 2 тысячи фунтов стерлингов.
Следующим после Суффолка членом клана Говардов, которому предстояла опала, был его зять виконт Уоллингфорд, глава опекунского суда. На этот раз Бекингем сам сыграл роль зачинщика преследований. Леди Уоллингфорд, злобная мегера, публично распространяла клеветнические слухи о том, что фаворит короля был любовником ее сестры, которую она ненавидела. Рассерженный король потребовал опровержения и публичного извинения. Леди Уоллингфорд не подчинилась, и ее супругу пришлось подать в отставку {66}. Освобожденное им место было одним из самых лакомых кусочков в королевстве. В конце концов его занял сводный брат Бекингема Эдвард Вильерс. Сам же Бекингем купил у Уоллингфорда его лондонский дом, который сделал своей резиденцией.
Теперь у власти оставался только один из Говардов, причем занимаемый им пост делал его положение уязвимым. Речь идет о дяде Суффолка Чарльзе, графе Ноттингеме, который был главным адмиралом Англии, то есть военным министром. В 1618 году Ноттингем был уже почти восьмидесятилетним стариком. Когда-то он прославился как герой морских сражений с Непобедимой армадой; тогда его звали лордом Говардом Эффингемом. Он пользовался всеобщим уважением, был «обходителен, приятен характером и всегда любезен». Яков I был благодарен ему за то, что в свое время тот поддержал его восшествие на престол Англии, а также ценил манеры старого джентльмена. Однако, войдя в преклонный возраст, Ноттингем запустил дела морского ведомства. Доказать его собственную коррумпированность не было возможности, однако его окружение, лишенное твердого руководства, кишело некомпетентными чиновниками и бесчестными поставщиками, а флот, по всеобщему мнению, окончательно пришел в упадок. Лайонел Крэнфилд, утвердившийся в роли «выискивателя злоупотреблений» благодаря союзу с Бэконом и Бекингемом, был назначен генеральным контролером и привел в своем докладе свидетельства о таких хищениях, что старому адмиралу не оставалось ничего другого, как подать в отставку. Для Бекингема это дело обернулось неожиданным обретением реальной власти, о чем мы расскажем в следующей главе.
Итак, в конце 1618 года испанская партия оказалась обезглавленной, а клан Говардов практически потерял власть: его последнему представителю в Тайном совете, государственному секретарю Томасу Лейку, было суждено уйти с поста на следующий год. Не оставалось более никаких видимых препятствий для того, чтобы политическое влияние
Бекингема утвердилось окончательно, в соответствии с желаниями тех, кто представил его ко двору. Другой вопрос, соответствовало ли это его собственным желаниям. К тому же не дремал и Гондомар.
Трагедия Уолтера Рэли
Заканчивая рассказ о 1618 годе, столь богатом событиями, оказавшими влияние на судьбу Джорджа Вильерса, нельзя обойти молчанием трагедию великого героя елизаветинского времени Уолтера Рэли. Бекингем не сыграл никакой роли в этом печальном деле, однако именно его неучастие подверглось суровому осуждению его противников, равно как и многих современных историков. Кроме того, эта история дополняет общую картину той эпохи.
Во времена королевы Елизаветы Рэли считали небескорыстным фаворитом и не любили. После восшествия на престол Якова I он был арестован и заключен в лондонский Тауэр. В 1603 году его даже приговорили к смертной казни за участие в заговоре против Якова, но король не подписал смертный приговор, и Рэли остался в Тауэре, где писал философские и научные сочинения и принимал посетителей. При дворе составилась целая партия, ратовавшая за его освобождение. Его окружал ореол запоздалой популярности, подпитывавшейся ностальгией по морским подвигам времен Елизаветы.
В начале 1614 года друзья Рэли, среди которых были архиепископ Эббот и государственный секретарь Уинвуд (оба известные своей враждебностью к Испании), представили королю разработанный узником проект экспедиции в долину реки Ориноко [22] для поисков там золотой жилы, которую Рэли, по его утверждению, лично открыл во время экспедиции, состоявшейся за двадцать лет до того. По его словам, эта территория не принадлежала ни одному из европейских государств, а следовательно, и Испании. Казалось, что ее завоевание для английской короны будет делом несложным и позволит Англии разрабатывать описанную Рэли золотую жилу, а также все прочие месторождения, какие могут находиться поблизости.
Разумеется, для короля, вечно нуждавшегося в деньгах, это звучало заманчиво. Однако существовало и много препятствий: в первую очередь наличие золотой жилы оставалось под вопросом; кроме того – и это было еще важнее – Испания могла заявить, что данная территория входит в состав ее южноамериканской империи, тем более что предупрежденный о проекте Гондомар сразу же выразил протест от имени короля Филиппа. Все еще сомневавшийся Яков I пообещал испанскому послу, что Рэли в любом случае будет строго-настрого запрещено нападать на испанцев, если он встретит их на пути, и что в случае нарушения запрета его выдадут королю Испании как зачинщика военных действий. Гондомар запомнил эти слова.
При обсуждении в Тайном совете Бекингем был настроен против проекта. Он знал, что Яков I сомневается в успехе, и не доверял фантастическим обещаниям фаворита Елизаветы. Как показали дальнейшие события, он был абсолютно прав. Однако сторонники Рэли добились своего: в марте 1616 года узник был освобожден, а в мае 1617 года экспедиция, получившая финансовую поддержку из частных фондов, отправилась в путь.
Год спустя – в июне 1618 года – в Лондон пришло плохое известие. Дело в том, что еще в начале века испанцы построили на Ориноко крепость, носившую имя святого Фомы. Солдаты из гарнизона этой крепости напали на лейтенанта Кемисса из экспедиции Рэли, тот отразил нападение, захватил крепость, а впоследствии был выбит оттуда. В сражении погиб сын самого Рэли. Ему не оставалось ничего другого, как с позором возвратиться в Англию. Когда Рэли ступил на сушу в Плимуте, он был уже фактически приговорен. Яков считал его обманщиком: Рэли подвел его, нарушив обещание не нападать на испанцев, и унизил этим достоинство Англии. Он проявил себя как обыкновенный авантюрист без совести и без чести. Он заслуживал смерти.
Следственная комиссия (в составе которой, по иронии судьбы, оказались Эббот, Бэкон, Кок и новый государственный секретарь Нонтон, все – враги Испании) пришла к выводу о виновности Рэли. Смертный приговор 1603 года не был аннулирован, следовательно, он имел силу: достаточно было, чтобы король подписал указ о казни.
Тогда возмутилось общественное мнение. Со всех сторон Якову I направляли просьбы о помиловании. Сама королева просила Бекингема о заступничестве: «Мой добрый песик! Если я имею на Вас хоть малейшее влияние, прошу дать мне доказательство этого и попросить короля не обрывать жизнь сэра Уолтера Рэли. Если Вам это удастся, можете быть уверены в моей чрезвычайной благодарности» {67}. Однако Бекингем не стал ничего предпринимать, и 29 октября 1618 года Рэли был казнен к великому удовлетворению Гондомара и к великому возмущению англичан.
Разумеется, нельзя возлагать ответственность за трагедию Рэли на Бекингема. С самого начала он пытался обратить внимание короля на связанные с экспедицией опасности и на иллюзорность успеха. Однако Яков, как позже выразился Кларендон, всегда оказывался «слишком близорук, если надо было предвидеть грядущие трудности, и слишком неловок, когда приходилось выходить из затруднения» {68}. Короля соблазнила возможность добыть на Ориноко золото, и, сознательно или нет, он недооценивал опасность неудачи. Бекингем, не заинтересованный ни в успехе, ни в поражении предприятия, по сути не имел оснований ставить под угрозу собственное положение при короле, заступаясь за Рэли в момент, когда гнев Якова был велик. Возможно, он не повел себя геройски, но он ничем себя и не опозорил. Как бы то ни было, в Европе назревали другие проблемы и то был явно неподходящий момент для разрыва с Испанией, а будь Рэли помилован, разрыв последовал бы немедленно. Ведь Яков I дал обещание испанскому королю и не имел права не сдержать его. В этих обстоятельствах жизнь Рэли казалась мелочью, которой можно пренебречь.
Глава V «Молодой человек, отличающийся порядочностью и цельностью натуры»
Милорд главный адмирал
Отставка старого графа Ноттингема с поста главного адмирала Англии в ноябре 1614 года освободила одну из самых престижных должностей в королевстве.
По традиции главным адмиралом назначался человек из представителей высшей знати. Он не обязательно должен был быть профессиональным моряком (каковым был Ноттингем), однако в любом случае должен был обладать опытом и пользоваться авторитетом. Вопреки всему этому, Яков I быстро сделал выбор в пользу молодого Бекингема. Судя по всему, тот не испытал восторга от новой должности. «Милорд Бекингем отказался от адмиралтейства, настаивая на том, что не имеет знаний, необходимых для выполнения подобных обязанностей», – пишет Чемберлен, всегда бывший в курсе придворных слухов и новостей {69}. Но король уже принял решение, и 28 января 1619 года королевский конюший маркиз Бекингем получил королевский патент на должность лорда главного адмирала (Lord High Admiral).
Не исключено, что король назначил его главным адмиралом по совету Крэнфилда и Бэкона. Возможно, они превозносили достоинства Джорджа и пообещали помогать ему в исполнении новых обязанностей. Не исключено также – и это даже более вероятно, – что Яков I в первую очередь заботился о том, чтобы поставить во главе флота человека, всецело ему преданного, человека, деятельность которого он мог бы полностью контролировать. Спустя два года он так объяснил парламенту смысл этого назначения: «Я избрал на пост адмирала не старого солдата, а молодого человека, в порядочности и цельности натуры которого я был уверен, а он позаботился о том, чтобы окружить себя знающими людьми и снять тяжесть этой заботы с моих плеч…» {70}
Бекингем повел себя исключительно деликатно в отношении Ноттингема, который был весьма популярен как герой сражений с Непобедимой армадой. Бекингем выплатил ему возмещение в три тысячи фунтов стерлингов и назначил пенсию в размере тысячи фунтов в год. Как и в случае с бывшим лордом казначеем Суффолком, фаворит проявил щедрость, и Ноттингем остался ему благодарен.
По свидетельству современников, молодой адмирал очень серьезно отнесся к новым обязанностям. При поддержке Лайонела Крэнфилда и его друга Джона Кока, изощренного в административных вопросах, Бекингем быстро провел ряд реформ, прогнал нечестных поставщиков, приказал провести работы в арсеналах. В ноябре 1619 года в Дептфорде, в присутствии короля и принца Карла, были спущены на воду два высокобортных судна, получивших названия «Вечная Реформация» (Constant Reformation) и «Счастливое пришествие Бекингема» (Happy Entrance of Buckingham) {71}. Яков I сочинил по этому поводу стихотворение на латыни:
Восславим Бекингема! Владыкою морей Стал нынче тот, кто правил скакунами. Таков Нептун: царит он над волнами И правит упряжью лихих морских коней.
Эта мифологическая аллегория заставляет вспомнить о том, что, став главным адмиралом, Бекингем сохранил за собой также должность главного шталмейстера, или «господина над лошадьми», а подобное сосредоточение должностей в одних руках было, по правде говоря, против правил. Однако для Якова было важно, чтобы Джордж постоянно находился при нем, а то была привилегия главного конюшего.
Разумеется, Бекингем не был специалистом по морскому делу, однако со временем он стал часто и с удовольствием посещать порты и гавани, интересовался жизнью экипажей. В период бюджетного дефицита он даже финансировал из собственных средств необходимые работы на флоте. Он получал компетентные советы от Джона Кока, вице-адмирала Мэнселла и Крэнфилда. Сохранилось письмо к нему Крэнфилда, написанное незадолго до его официального назначения, 3 октября 1618 года: «Высокочтимый и достойный почитания милорд! Я не хотел бы досадить Вашей Милости, описывая все злоупотребления, которые мы каждодневно раскрываем, исследуя состояние флота Его Величества; они таковы, что Вы, возможно, даже не поверите мне…» {72} После этого красноречивого вступления контролер финансов перечисляет злоупотребления, случаи небрежности и скандальные истории, выявленные следственной комиссией. «Покорнейше прошу Вашу Милость сообщить обо всем этом Его Величеству. Мы стремимся заложить основы того, чтобы королевский флот вернул себе славу и силу, коими некогда обладал. Я счастлив, что сей великий труд может быть доведен до конца в царствование Его Величества и что Его Величество избрал Вашу Милость орудием достижения славы» {73}.
Бекингем и сам понимал, какая честь ему оказана, а также какую ответственность придется теперь нести. «Будучи удостоен, благодаря несравненной милости Его Величества, высокого поста во флоте, я считаю, что наиболее важной работой, каковую я смогу сделать, будет забота о том, чтобы флот и порты королевства управлялись согласно добрым правилам, а должностные лица скрупулезно исполняли свои обязанности» {74}.
Бекингем очень долго был популярен среди моряков, которые почувствовали изменения к лучшему после его назначения и гордились тем, что ему удалось обуздать пиратов, свирепствовавших в Ла-Манше и Северном море. Общественное мнение даже не стало упрекать молодого адмирала за неудачу экспедиции против алжирских корсаров, предпринятой в октябре 1620 года под руководством вице-адмирала Мэнселла: ведь испанцы и французы тоже обломали зубы, пытаясь разбить пиратов в Средиземном море, а Бекингему были благодарны за то, что он взялся за дело «со смелостью и решительностью», хотя результат и оказался плачевным {75}.
Лишь много позже, уже после смерти Якова I, Бекингема стали критиковать за то, как он управляет флотом, а затем эти высказывания переросли в общее обвинение, касавшееся, как мы увидим в свое время, не только деятельности морского ведомства.
Политический контекст
Еще до назначения главным адмиралом, а уж тем более после этого, Бекингем («наш маркиз», как его обычно называли в то время) начал играть одну из главных ролей в английской политике. Однако ни на мгновение, пока был жив Яков I, он не становился абсолютным правителем, как, например, Ришелье во Франции или Оливарес в Испании.
Правителем был король. Яков I вовсе не походил на слабого монарха или марионетку, которую можно дергать за ниточки. Проникшись идеей о выдающейся роли государя как «помазанника Божия», поставленного во главе государства, он всегда считал себя последней инстанцией в любом деле. Он умел, когда требуется, идти на мелкие уступки, если дело принимало опасный оборот, однако в конечном счете настаивал на своем, – во всяком случае так было до 1622-1623 годов, когда здоровье и воля короля стали ослабевать. Его политическая линия была ясна: он желал поддерживать мир с другими державами и порядок в своем отечестве. Краеугольным камнем его политики стал союз с Испанией, который он надеялся закрепить браком своего сына с дочерью Филиппа II инфантой Марией.
Однако в то же время Яков I оставался приверженцем протестантизма и даже не скрывал своего враждебного отношения к арминианству, разновидности протестантства, склонявшейся к некоторому сближению с католичеством. Союз с Испанией не простирался столь далеко, чтобы прекратить преследования английских католиков и вернуть им в полной мере гражданские права. Как ни странно, король Яков не осознавал этого противоречия; странная, почти шизофреническая, двойственность его политического мышления в конечном счете привела его к неудаче и на протяжении всего царствования доставляла немало хлопот, вызывая недоразумения.
Конкретным отражением неоднозначной политики Якова I был состав его Тайного совета, относительного аналога того, что мы называем правительством. Хотя падение Говарда и его клана ослабило происпанскую партию, стоявшую за сближение с католиками, полностью она не была уничтожена. Посол Гондомар по-прежнему пользовался благосклонностью короля. У антииспанской партии остались в совете свои представители, такие как лорд-камергер граф Пемброк и архиепископ Эббот, однако большая часть членов совета, таких как Бэкон или Лайонел Крэнфилд, не была столь категорична в вопросах религиозной политики.
Кроме того, многие приближенные к королю вельможи были сторонниками мира, а следовательно, и хороших отношений с Испанией. Таковыми были Джеймс Хей, виконт Донкастер, Генри Рич, барон Кенсингтон, граф Гамильтон и кузен короля герцог Леннокс.
В такой сложной ситуации («двор напоминал джунгли, кишащие гордыней, ревностью, притворством и предательством, где каждый стремился играть значительную роль, клевеща на остальных» {76}) молодой Бекингем оказался на заметном и потому опасном месте. Заметном, потому что он пользовался благосклонностью и доверием короля. Опасном, потому что у него было немало врагов – зачастую просто из-за его положения фаворита – и малейшая ошибка могла стоить ему очень дорого.
Из переписки Бекингема и свидетельств современников можно заключить, что в политической сфере у него не было твердых убеждений и что он не примыкал ни к каким партиям. Он несомненно был патриотом, в том смысле, как это понимали в начале XVII века: он гордился тем, что родился англичанином, презирал иностранцев – испанцев не менее, чем французов, – был предан государю. Его наставник Яков внушил ему веру в абсолютное превосходство короля над другими людьми, и у него не было оснований сомневаться в этом. Кроме того, Эббот и Бэкон, оба отрицательно относившиеся к испанскому влиянию, мудро советовали ему быть скромным. При всем том у молодого конюшего-адмирала хватало здравого смысла защищать перед королем политику, противную его желаниям.
С согласия Якова I Бекингем в 1618 году стал часто навещать Гондомара. Этого оказалось достаточно, чтобы в протестантской антииспанской партии начали шушукаться о том, что фаворит склоняется к союзу с Мадридом. Будущее покажет, что это обвинение не имело оснований, однако оно было опасным.
Бекингем и религия
По сути Бекингем никогда не был религиозным человеком, в отличие от короля-богослова Якова I и от благочестивого англиканца, каковым стал впоследствии Карл I. Ничто в его жизни не свидетельствует о серьезной озабоченности спасением души, смыслом святых таинств или чем-либо еще, касающимся религии.
Бекингем получил англиканское воспитание в соответствии с учением официальной церкви – той церкви, главой и убежденным защитником которой был король Яков. Однако фаворит не проявлял враждебности к католичеству, к которому со временем стала склоняться его мать. Что до его личных убеждений, то он испытывал симпатию к арминианству, предшественнику того, что теперь называется «Высокой церковью» [23]. Ритуал, церемониал и учение этого направления далеки от пуританской строгости. Бекингем подружился с двумя священниками, которым впоследствии было суждено возглавить арминианское направление в английской церкви: с Джоном Уильямсом, будущим архиепископом Йоркским, и Уильямом Лодом, будущим архиепископом Кентерберийским. (Мы еще будем говорить об этих людях.)
В 1622 году, дабы публично опровергнуть слухи о его обращении в католичество, Бекингем получил конфирмацию (англиканский ритуал, презираемый пуританами) из рук архиепископа Лондонского. Однако симпатизировавший ему и хорошо его знавший епископ Гудмен пишет в своих мемуарах следующее: «Милорд Бекингем имел склонность к католичеству, хотя и не осмеливался показать этого открыто, боясь оскорбить короля и принца» {77}. Это заявление вступает в противоречие с тем явно антикатолическим настроением, которое появилось у Бекингема после поездки в Испанию в 1623 году, и это может, по крайней мере, служить доказательством того, что молодой человек не отличался твердостью убеждений и уж тем более не был фанатиком в религиозных вопросах.
Как бы то ни было, пуритане всегда плохо отзывались о Бекингеме. Этим расплывчатым термином называли протестантов кальвинистского толка. Они одинаково ненавидели «папистов» (католиков и тех, кто им симпатизировал) и «арминиан» (это слово на их жаргоне обозначало всех, кто в большей или меньшей степени желал строгой церковной дисциплины, поддерживаемой епископами, и отправления торжественных богослужений). Бекингем, ни из личных побуждений, ни из политических соображений, не мог иметь ничего общего с этими брюзгливыми фанатиками, которые к тому же по большей части враждебно относились к королевской власти. Излюбленным девизом Якова I была знаменитая формула: «Нет епископов – нет короля». Пуританство же превращалось в политическое движение, оппозиционное к королевской власти, и заседания парламента в конце правления короля Якова служат тому доказательством. Однако, поскольку король был неприкосновенен, объектом пуританских нападок стал Бекингем.
Оборотная сторона «королевских прерогатив»
В политической системе Англии первой половины XVII века происходили серьезные изменения, хотя современники полностью не осознавали этого.
Еще со времен Средневековья, с самых первых веков феодальной истории Англии, продолжался подспудный конфликт между королевской властью и независимой властью лордов. Позже к этому конфликту присоединились «общины», то есть землевладельцы и горожане. В разные периоды весы склонялись то в одну, то в другую сторону, однако всегда удавалось сохранить равновесие: с одной стороны – королевская «прерогатива», с другой – «привилегии» парламента, разделенного на две палаты: лордов и общин.
При предшественнице Якова I, Елизавете I, в значительной степени возобладала королевская прерогатива. Елизавета была суровой правительницей, она пользовалась огромным личным авторитетом, умела великолепно «управлять парламентом» (to manage the Parliament, как говорили в то время): идти на уступки, если это требовалось, для того чтобы в главных вопросах настоять на своем. В конце концов все пусть молчаливо, но признали, что существует некая «особая область», в которой решающей является власть короля. К этой области относились вопросы внешней политики, заключение союзов, участие в войне, выбор членов Тайного совета и назначение на высшие придворные и административные должности, а также право созывать и распускать парламент. Установление же налогов относилось к ведению парламента. Лорды и депутаты общин пользовались признанными монархом привилегиями, в особенности же привилегией свободно высказываться в присутствии обеих палат. В конце своего царствования Елизавете пришлось столкнуться с достаточно резкой критикой парламента, но ценой различных уступок ей удалось весьма ловко разрядить обстановку, сохранив в неприкосновенности королевскую прерогативу, на которую пока никто не осмеливался покушаться открыто.
После восшествия на престол Якова I равновесие оказалось нарушено. Яков плохо знал английскую конституционную практику. Впоследствии он скажет испанцу Гондомару, что, по его мнению, парламент – это «тело без головы, место, где кричат и создают путаницу» {78}. Яков носился с идеей «свободной монархии», в которой естественная, почти божественная власть могла принадлежать только королю. Кроме того, Яков был раздражителен и не допускал возражений, что поставило его отношения с парламентом на грань конфликта.
В свою очередь, общины, среди которых становилось все больше пуритан, с трудом переносили то, что называли посягательством на свои привилегии. То с одной, то с другой стороны возникали поводы для дебатов по вопросу о «прерогативе». Заседания парламента 1614 года свелись к взаимным обвинениям, и теперь Яков I воздерживался от нового созыва парламента, рассчитывая на то, что административные реформы – а они относились к его прерогативе – восстановят финансовое равновесие и не придется ставить на голосование депутатов указы о введении дополнительных налогов.
Поначалу Бекингема все это никоим образом не задевало. В июне 1614 года, когда был распущен парламент, вошедший в историю под названием «бестолкового», Джордж Вильерс еще даже не был знаком с королем и не интересовался политикой. Позже, оказавшись при дворе и в покоях государя, он выслушивал речи «дорогого папы», говорившего с шотландским акцентом, о том, что парламент – это сборище «мерзавцев» и «негодяев» (именно этими словами король выразил свое мнение во время конфликта с парламентом 1610 года) {79}. У молодого человека не было причин не соглашаться с этим.
В 1618-1619 годах, когда Джордж начал по-настоящему включаться в политику, в Англии не было кризиса в отношениях между королем и его подданными. Необходимость созыва парламента на горизонте не маячила. Поэтому и у Бекингема не было оснований вставать на чью-либо сторону в конституционных дебатах. Только в 1621 году ему придется получить боевое крещение в парламенте, и мы увидим, что он сумеет с честью выйти из этого испытания самым неожиданным образом, проявив смекалку, о которой никто и не подозревал.
Глава VI «Да благословит господь твое брачное ложе!»
Весной 1618 года – то есть еще до того, как Бекингем появился на политической арене, – в далекой Чехии, в Праге, разразился конфликт, который постепенно охватил всю Европу и продолжался тридцать лет. Англия волей-неволей оказалась втянута в него осенью того же года, и к концу года война в Германии стала играть все более значительную роль в судьбе Бекингема.
Мы расскажем об этом в последующих главах. Теперь же, несколько отклонившись от хронологической последовательности повествования, прежде чем перенестись в королевский дворец в Праге и увидеть, что там происходило в мае 1618 года, обратим внимание читателей на три события, произошедших в самой Англии в 1619 и 1620 годах. Они непосредственно касались Джорджа. Это смерть королевы Анны, болезнь короля и женитьба самого фаворита.
Смерть королевы Анны и болезнь короля
В начале марта 1619 года, когда события в Германии стали принимать неблагоприятный оборот, скончалась королева Анна. Ее здоровье уже давно было расстроено, она страдала водянкой и ревматизмом. Королева не играла серьезной роли в придворной жизни, больше времени проводила в своем лондонском дворце, который называли Датским домом (Denmark House), – по рождению она была принцессой Датской, – и почти не вмешивалась в интриги вельмож. С супругом у нее были хорошие отношения, но виделись они нечасто. «Король Яков отличался воздержанием, а королева не была настолько привлекательна, чтобы заставить его изменить свои привычки. Вместе с тем они любили друг друга в той мере, в какой могут любить друг друга мужчина и женщина, не связанные совместной жизнью» {80}.
Несмотря на скрытность Анны, было известно, что она склоняется к католичеству; некоторые даже утверждали, что королева сделалась «паписткой», и это тем более снижало ее политическое влияние.
Ее отношения с Бекингемом отличались сердечностью и, судя по всему, даже нежностью. Она называла его своим «добрым песиком», он называл себя ее «покорным псом и рабом». Она обращалась к нему, когда хотела добиться какой- либо небольшой милости от короля или получить поддержку в споре с супругом: пессимистические опасения, которые она высказала в самом начале карьеры фаворита, не оправдались.
Состояние здоровья королевы Анны быстро ухудшалось. К несчастью, король тоже заболел и оставался в замке в Ньюмаркете, не имея возможности приехать в Лондон, чтобы находиться у постели супруги, родившей ему троих детей[24]. Она призвала к себе сына Карла, передала ему свои драгоценности и умерла 2 марта 1619 года. Ей воздали погребальные почести, приличествующие ее рангу, несмотря на то, что достать для этого денег оказалось непросто. Бекингем участвовал в похоронах королевы.
Почти сразу же после этого события недомогание Якова усилилось, что вызвало серьезные опасения окружающих. Король никогда не отличался умеренностью, объедался олениной и фруктами, пил много вина, мало заботился о своем здоровье. Он страдал артритом, подагрой и задержками мочеиспускания из-за камней в мочевом пузыре. В середине марта, когда король находился в Ньюмаркете, у него началась рвота желчью, случались приступы неукротимой икоты, при этом повышалась температура, которая сопровождалась острыми болями в животе. Окружающие считали, что король умирает.
Чувствуя приближение смерти, он стал готовиться к ней так, как было принято в то время: набожно и с соблюдением всех обрядов. Он призвал к себе сына, своего шотландского кузена Леннокса, своего друга и родственника маркиза Гамильтона, главных членов Тайного совета и архиепископа Эббота. Он произнес перед собравшимися «боговдохновенную» речь, в которой подтвердил свою незыблемую приверженность англиканской церкви, и посоветовал Карлу сохранить дружбу с Бекингемом {81}. Во всех лондонских церквах служили молебны за здравие короля.
Однако его час еще не пробил. После того как из мочеточника, со страшными болями – иногда у короля даже не прощупывался пульс, – вышло три камня, король начал быстро поправляться. Едва встав на ноги, он вернулся к своему любимому развлечению, охоте, велел перевезти его в Рой- стон, где, убив оленя, приказал выпотрошить его и погрузил ноги в еще горячие внутренности: таково было королевское средство от подагры. В начале лета он вернулся в Лондон.
На протяжении всех этих недель, полных страданий и ужасов, Бекингем не отходил от постели «дорогого папы». Яков всю жизнь был благодарен ему за это: теперь молодой адмирал действительно стал для него вторым сыном и товарищем во всех делах. Окружающие поняли, что испытание укрепило их дружбу. Король сразу же подтвердил это, когда решил не оставлять у принца Карла все отданные ему покойной королевой Анной драгоценности и многие из них передал Бекингему вместе с земельным наделом стоимостью 1200 фунтов стерлингов. Любопытно, что подобная дележка ни в коей мере не навредила отношениям между принцем и фаворитом. В королевской семье окончательно установилась гармония.
После выздоровления Якова I жизнь при дворе вернулась в привычное русло. В начале лета король отправился в традиционную ежегодную поездку (progress), во время которой праздники чередовались с приемами и разного рода увеселениями, почти не омрачаемыми трауром в связи со смертью королевы. 15 сентября королю представил свои верительные грамоты новый посол Франции граф Левенер де Тилльер. Поскольку он стал свидетелем многих политических событий в Англии и особенно развития карьеры Бекингема, нам придется неоднократно цитировать его сообщения.
Осенью, как мы уже упоминали выше, король и придворные присутствовали в Дептфорде близ устья Темзы при спуске на воду двух первых кораблей, построенных по приказу нового адмирала. По словам Крэнфилда, это ознаменовало начало нового золотого века английского флота. По рекомендации Бекингема, Крэнфилд получил пост казначея морского ведомства и в январе 1620 года стал членом Тайного совета, что вызвало в придворных кругах недовольство из-за его скромного происхождения: он родился в семье лондонского купца и не имел никаких родственных связей с вельможами и даже простыми дворянами.
Бекингем и женщины
Мы уже говорили, что король Яков, какого бы свойства ни были его близкие отношения с фаворитами, никогда не ревновал их к женщинам. Он дал согласие на свадьбу Сомерсета с Фрэнсис Говард и даже способствовал ей. Что до Бекингема, то король не мог не слышать о его многочисленных похождениях, что вовсе не удивительно, если учесть всеми признанное обаяние фаворита и ту притягательность, которую ему добавляли богатство и политическая власть.
Имена любовниц Бекингема неизвестны; однако за ним прочно укрепилась слава сердцееда. Даже епископ Гудмен, в мемуарах которого мы находим в целом благоприятное мнение о Бекингеме, признает, что «добрый герцог весьма грешил сладострастием» {82}, а Кларендон, также симпатизировавший фавориту, описывает его как человека, «естественно поддающегося страсти, когда ему встречается предмет вожделения, наделенный изяществом и красотой» {83}.
Враги Бекингема пошли дальше, открыто обвинив его в разврате, читай: в насилии. «Он влюблялся в красавиц повсюду, где их встречал, но считал женщин существами низшими, и если фантазия влекла его к доступной красотке, то его "загонщики" ловили ее в сети и привозили в дом какой-нибудь любезной дамы, куда и он приезжал якобы случайно и предавался развлечениям с ней в то время, как карета и слуги ждали у дверей, как если бы речь шла о приличном визите» {84}. Пуританин Саймондс Дьюз возмущается тем, что разврат сопровождался святотатством: «Его вера была столь слаба, что даже во время обряда крещения, на котором он был крестным отцом, видели, как он улыбается и подмигивает хорошенькой женщине в тот момент, когда священник говорил об отказе от плотских наслаждений» {85}. Враги Бекингема – особенно в конце его жизни и после смерти – приписывали ему все грехи и дошли даже до обвинений короля в причастности к преступлениям против невинности: «Он [Бекингем] лишил невинности не одну юную девицу с согласия короля». Однако это всего лишь сплетни, записанные памфлетистом-республиканцем после свержения Карла I, что сводит на нет ценность данного свидетельства как исторического источника {86}.
Остается отметить, что во время поездки в Испанию в 1623 году, о чем мы еще расскажем, возникло множество слухов о любовных победах герцога при мадридском дворе. Кроме того, всем известна знаменитая история любви Бекингема к Анне Австрийской; его страсть вспыхнула во время посольской поездки в Париж в 1625 году. Мы еще обсудим вопрос о том, сумел ли он в последнем случае одержать победу.
Лучшая партия в королевстве
Все это было бы не интереснее обычного анекдота, если бы репутация Бекингема как соблазнителя не послужила фоном одной интриге, которая весной 1620 года закончилась женитьбой фаворита.
О его женитьбе уже давно задумывались все, и в первую очередь король Яков и мать Джорджа, леди Бекингем. Маркиз Бекингем, красивый, богатый, могущественный, увенчанный славой и любимый королем, несомненно, являлся самой прекрасной партией в королевстве (разумеется, после принца Карла). В 1620 году Джорджу исполнилось двадцать восемь лет, а в его время это был уже солидный возраст, подразумевавший создание семьи (средняя продолжительность жизни мужчин из привилегированных сословий не превышала в первой половине XVII века 50-55 лет). Леди Бекингем, вечно занятая возвышением клана Вильерсов, не могла не желать продолжения своего рода, а кроме того, рассчитывала на материальные и политические преимущества, которые мог бы принести союз с какой-нибудь знатной семьей. Что до короля, то, как мы знаем, он уже однажды публично высказал намерение поставить семейство фаворита «выше всех остальных». Вдобавок, как сейчас принято говорить, у него были сильно развиты отцовские чувства, и он страстно желал испытать себя, так сказать, в роли дедушки детей своего дорогого Стини.
В числе возможных невест Бекингема называли леди Диану Сесил, внучку знаменитого министра Елизаветы I лорда Барли и богатую наследницу. Леди Хаттон, неугомонная супруга Эдварда Кока, была родственницей Сесилов и очень желала этого брака. Она устроила встречу Дианы и Джорджа. Король, несомненно, благосклонно отнесся бы к брачному союзу, позволявшему фавориту войти в узкий круг высшей протестантской аристократии. Однако Джорджа этот брак не привлек. Не исключено, что ему не нравилась сама мысль косвенно породниться со своим былым соперником Сомерсетом (мать Дианы происходила из рода Говардов). А кроме того, Джордж, похоже, уже сделал выбор. Летом 1619 года он влюбился в юную Кэтрин Мэннерс, дочь графа Рутленда, и она отвечала ему взаимностью. Хронисты стали говорить об этом союзе уже в конце того же года.
Породниться с семейством Мэннерс означало получить все возможные преимущества, даваемые аристократическим браком. Граф Рутленд был весьма богат (по слухам, обладал самым крупным состоянием в Лестершире). Его замок Бельвуар считался одним из красивейших в Англии. Граф был связан родственными узами с самыми высокородными семействами. Существовало только одно препятствие, и, на первый взгляд, оно казалось непреодолимым: Рутленд был католиком, убежденным католиком; он не хотел выдавать дочь за протестанта, тем более что два его сына незадолго до того умерли и Кэтрин стала единственной наследницей. Король же, как бы он ни мечтал женить Джорджа, ни в коем случае не дал бы согласия на его брак с «паписткой»: это могло вызвать политические потрясения и дать пуританам серьезное оружие в борьбе против фаворита и его господина. Дело казалось безнадежным.
Но существовала одна весьма сильная личность, которая желала этого брака. Это леди Бекингем. Она и сама склонялась к католичеству, но главное – ее необоримо влекло к себе золото Мэннерсов. Мы знаем, сколько энергии она вкладывала в заключение выгодных браков членов ее семьи. Теперь же речь шла о ее любимом сыне, и она была готова превзойти самое себя Леди Бекингем встретилась с графом Рутлендом, расписала ему все преимущества союза с другом короля и выставила свои условия: Кэтрин должна была получить в приданое 10 тысяч фунтов стерлингов наличными плюс земли, приносящие ежегодно 4 тысячи фунтов. Граф сразу же отказался: он не обладал политическим честолюбием; к тому же различие вероисповеданий в любом случае оставалось непреодолимым препятствием. Если бы его дочь осмелилась уступить оказываемому давлению и принять протестантскую веру, он лишил бы ее наследства. Леди Бекингем удалилась несолоно хлебавши. Однако она не привыкла признавать себя побежденной.
Шанс для преподобного Уильямса
Кэтрин Мэннерс не устояла перед обаянием Бекингема. Ей исполнилось всего семнадцать лет (возраст, который в ее время считался вполне обычным для замужества), но она очень хорошо знала, чего хочет, и не собиралась подчиниться отцовскому запрету. Обретя союзницу в лице леди Бекингем, она начала действовать.
Девушка понимала, что главным препятствием к браку является различие в вероисповеданиях. Она была католичкой, но те, кто хорошо знал ее, не были уверены, что ее приверженность Риму продлится долго, коль скоро обращение в протестантство оказалось единственным путем для выхода из тупиковой ситуации. Для решения вопроса требовалось только вмешательство достаточно ловкого богослова, который сумел бы тактично подойти к делу, избегая любых проявлений агрессивности или фанатизма.
В окружении Бекингема имелся такой священник: честолюбивый, умный, воспитанный, давно искавший возможности проявить себя перед королем, от которого в конечном счете более всего зависело назначение на должности в англиканской церкви. Этого человека звали Джон Уильямc, ему было 38 лет, он являлся деканом в Солсбери, и эта должность давно наскучила ему. Все знали о его враждебном отношении к пуританам, что не могло не нравиться королю. Уильямс решил воспользоваться возможностью обратить Кэтрин Мэннерс в англиканство. Король доверил ему заботы по духовному наставлению девушки. «Преподобный Уильямc принял на себя эту миссию с большой радостью, – пишет его друг и биограф Джон Хэккет, – ибо он знал, что леди Кэтрин будет восприимчива к его наставлениям, понимая, что супружеские узы крепче и сладостнее в тех случаях, когда муж и жена служат Богу, оставаясь едиными в вере. Он изложил ей истину нашего катехизиса [то есть катехизиса англиканского] и описал свадебную литургию нашей церкви. Последняя так понравилась ей, что она признала наших пастырей истинными провозвестниками божественной благодати, способными давать благословение от имени Иисуса Христа» {87}.
После обращения Кэтрин путь для «колесницы Амура», как выразился преподобный Хэккет, был открыт. Оставалось лишь убедить отца девушки, который по-прежнему не хотел уступать требованиям леди Бекингем. Ловкий Уильямс занялся и этим, пользуясь поддержкой короля, объявившего графу о своей личной заинтересованности в благополучном исходе данного дела.
Нетерпение Бекингема: оплошность или шантаж?
Дело было на мази, когда неожиданное событие чуть не провалило его.
Свидетельства современников слишком туманны, и трудно восстановить детали произошедшего. Представляется, впрочем, достоверным, что юная Кэтрин, по собственной воле и, возможно, из-за недомогания, согласилась остаться на ночь в доме матери своего будущего мужа, графини Бекингем, и что лорд Рутленд не впустил ее в отчий дом, когда она явилась туда на следующий день. Он заявил, что его дочь обесчещена присутствием Джорджа. Смущенная девушка вернулась к леди Бекингем.
Вскоре весь Лондон был в курсе событий. По мнению любителя сплетен Артура Уилсона, нетерпеливый жених попытался ускорить брак, поставив под угрозу честь наследницы. Это кажется маловероятным, даже несмотря на то, что оскорбленный Рутленд тоже намекал на это. Однако не стоит полностью исключать возможность шантажа со стороны леди Бекингем.
Как бы то ни было, не отличавшийся сдержанностью Рутленд счел необходимым выставить разногласия на всеобщее обозрение. Он послал Бекингему исключительно дерзкое письмо: «Милорд, признаюсь, что, получив от Вас предложение [о браке с моей дочерью], я мог бы быть тронут словами Вашей Милости, если бы видел со стороны дочери хоть малейшие признаки уважения и любви ко мне. Однако, хотя она и не заслуживает такой отеческой заботы, каковую не ценит, я должен все же защитить ее честь, пусть даже ценой собственной жизни. И поскольку в данном случае речь идет именно о чести, Вы простите мне, милорд, если я объявлю, что мне не в чем упрекнуть себя, а вся ответственность за произошедшее лежит на Вас, каково и всеобщее мнение. Будьте уверены, что, если моя дочь принадлежит Вам, я готов забыть об отсутствии у нее уважения ко мне, несмотря на нанесенную мне обиду. […] Короче говоря, милорд, мой вывод таков: хотя моя совесть и не полностью удовлетворена тем, что моя дочь стала принадлежать Вам, я оставляю Вас следовать Вашим путем, как я буду следовать моим, преисполнившись терпения. Желаю Вам всяческого счастья с моей дочерью, какого Вы сами изволите пожелать, и остаюсь Вашим покорным слугой, лорд Рутленд».
Во Франции того времени подобное дело было бы без промедления решено поединком. Бекингему, боявшемуся рассердить своего покровителя-короля, такой способ не подходил. Теперь, когда Кэтрин обратилась к истинной религии, Яков рассчитывал на брак и советовал фавориту сохранять спокойствие. Бекингем ответил на письмо разозленного отца со всем возможным изяществом: «Милорд, тот тон, с которым Вы обращаетесь к порядочному человеку, равно как и Ваша грубость по отношению к дочери заставили меня сразу же помчаться в Хемптон-корт и броситься к ногам Его Величества, дабы сообщить ему все касательно произошедшего между Вашей Милостью и мной в отношении брака с Вашей дочерью, ибо я боялся, что из-за Вашего неблагоприятного отношения до слуха Его Величества дойдут неверные толки. […] Теперь я могу сообщить Вам, что меня весьма задело Ваше поведение, и, поскольку Вам безразличны моя дружба и моя честь, я должен отныне, вопреки моему изначальному намерению, оставить надежду на брак с Вашей дочерью. Однако всегда и перед всеми я буду настаивать на том, что ее честь ни на мгновение не подвергалась оскорблению, за исключением лишь тех оскорблений, которые были произнесены Вами. Я даже не мог представить, что меня когда-нибудь заподозрят в желании похитить для себя супругу без согласия ее родителей, учитывая те милости, которых Его Величеству было угодно меня удостоить, несмотря на то, что я так мало их заслуживаю. Посему я могу лишь предоставить Вашей совести судить о Ваших действиях и уверяю, что остаюсь слугой Вашей Милости, Дж. Бекингем» {88}.
Рутленд понял, что своим упрямством не только обесчестит собственную дочь, но и вызовет гнев короля. Пришлось еще раз вмешаться преподобному Уильямсу. Вмешался даже принц Карл. И в конце концов брачный контракт был подписан, как того и желала леди Бекингем.
Свадьбу отпраздновали в Лондоне 16 мая 1620 года в узком кругу и без всякой пышности. Бракосочетание освятил Уильямс. Вознаграждение не заставило себя ждать: Уильямсу было предложено деканство в Вестминстере – должность, послужившая первым шагом к Линкольнскому епископству, а затем к посту архиепископа Йоркского. В результате Уильямс вошел в историю как «архиепископ Уильямс», и нам еще доведется проследить за развитием его карьеры.
Счастливый брак
Как мы уже говорили, Кэтрин Мэннерс была сильно влюблена в Бекингема. Впоследствии никакие тучи не омрачали их союз. Неверность прекрасного супруга – ибо он, разумеется, не отказывался от дальнейших побед над женщинами, – похоже, не тревожила ее. Во всяком случае, если она и переживала, то никому этого не показывала. Все ее письма, сохранившиеся до наших дней, дышат счастьем и любовью к мужу: «Никогда не было на свете женщины, более счастливой, чем я, как и мужчины, более нежного, чем Вы, и я благодарю за это Бога». «Я неспособна выразить всю бесконечную любовь к Вам и перед Богом клянусь, что ни одна женщина не любила мужчину так, как я люблю Вас…» {89} А вот, кстати, каково было впечатление современников: «Герцог [Бекингем] всю жизнь нежно любил герцогиню, как она того и заслуживала благодаря несравненному совершенству тела и души; и, умирая, он оставил ей пожизненное право пользования всем, что имел…» {90}
Брак, как того и желал король, оказался плодовитым. Родилось пятеро детей: в 1622 году -Мэри, в 1625 году – Якобина, в 1626 году -Карл, в 1628-м – Джордж и, наконец, в 1629 году, уже после смерти отца, – Фрэнсис. Якобина и Карл умерли в детстве. Джордж унаследовал отцовский титул герцога Бекингема, Фрэнсис погиб в 1648 году, сражаясь во время гражданской войны в рядах сторонников короля. Однако самым любимым и драгоценным чадом всегда оставалась Мэри, которая получила прозвище Молли. Король Яков обожал ее как собственную дочь или внучку.
Еще одна королевская семья
Чем старше король становился, тем больше его любовь к Джорджу напоминала отеческую. Тон его писем не позволяет усомниться в этом.
На следующий день после свадьбы Бекингема король написал ему: «Мое милое, дорогое и единственное дитя (My only sweet and dear child), твой дорогой папа шлет в это утро тебе и своей дочери благословение. Да подарит тебе Господь счастливое пробуждение, и да благословит Он твое супружеское ложе, дабы у меня появились милые маленькие пажи, с которыми я стану играть в игры: такова моя молитва, сердечный мой друг. Когда ты поднимешься с постели, как можно скорее избавь себя от назойливости людей, способных испортить тебе настроение, чтобы, встретив тебя, я увидел твою белоснежную улыбку…» {91}
Когда Кэтрин была беременна, Яков беспокоился о ее здоровье, хлопоча, как наседка. «Мое милое, дорогое и единственное дитя, – писал он Бекингему, – да благословит Господь тебя и мою дорогую дочь, твою супругу, а также драгоценного малыша в ее чреве. Умоляю тебя: не разрешай ей ездить в карете по улицам, а также ездить быстро. Не позволяй твоей матушке беспокоить ее дурными новостями. Следи, чтобы она не ела слишком много фруктов, и увези ее из Лондона, как только мы уедем. Да одарит меня Бог нынче вечером счастливой встречей с моим дорогим Стини…» {92} Едва родившись, маленькая Молли стала любимицей двора. Ее представляли послам, восхищавшимся ее врожденной грацией, а еще больше – ее умом и очарованием.
Семья Бекингема стала частью королевского семейства, которое, впрочем, в 1620 году состояло из одного принца Карла, если не считать двух шотландских кузенов Леннокса и Гамильтона. Последние никогда не играли роли «принцев крови» в том смысле, в каком это понималось во Франции [25], несмотря на то, что были в прекрасных отношениях с королем. Современники пишут, что во дворце Уайтхолл дети Вильерса «носились вверх и вниз по лестницам, как крольчата возле норы», или, согласно другому свидетельству, «как маленькие феи (like little fairies)» {93}.
Кэтрин стала «дорогой дочерью» короля. Он настоял, чтобы она находилась при нем. «Мое дитя, мой ученик и друг (My sweet dear child, scholar and friend), – писал он Бекингему, – не забудь, о чем я просил тебя: привези ко мне свою дорогую супругу, ибо я желал бы насладиться ее присутствием. Не забудь приехать ко мне сюда [в Теобальде] перед ужином. Твой старый поставщик посылает тебе козленка, а когда ты приедешь сюда, то получишь еще одного. P. S. Я посылаю тебе также трех фазанов, трех кроликов и большого зайца; всех их я убил собственной рукой» {94}. Король, принц Карл и супруг называли Кэтрин сокращенным именем «Кейт». «Дорогой папа» Джорджа относился к ней, как свекор к невестке. Она поверяла ему мельчайшие подробности своей жизни. «Я получила от Вашего Величества две банки сушеных слив и изюма, а также пирожки с фиалками и пулярок, за что покорнейше Вас благодарю. Должна сообщить вам, что намереваюсь в ближайшее время отнять от груди малышку Молли, поскольку думаю, что она достаточно подросла, и боюсь, что молоко у нее плохо переваривается. Я никогда не видела ребенка, который так мало любил бы молоко. Надеюсь, что она легко отвыкнет от груди…» {95} Часто супруги вдвоем подписывали свои письма королю: «Ваши дорогие дети и слуги Стини и Кейт».
Неугомонная матушка
Милость и любовь короля распространялась также на сестру Джорджа Сьюзан, ставшую леди Денби. Ее часто приглашали сопровождать брата и невестку, когда те ехали в Теобальде или другие любимые охотничьи замки короля.
И все-таки в семье Вильерсов был один человек, которого Яков недолюбливал: этим человеком была леди Бекингем, мать Джорджа, все более становившаяся корыстолюбивой интриганкой. Она писала сыну письма, полные недвусмысленных намеков: «Мой дорогой и любимый сын, когда я думаю о величии милости, оказанной Господом вдове и сироте, я искренне изумляюсь. Именно на тебя, любимый мой сын, в изобилии изливаются все эти милости […], в результате чего ты стал учеником и другом того, кто является пророком, нет: больше, чем пророком, – королем…» {96} К сожалению, нам неизвестны ответы Джорджа на послания такого рода.
Вскоре распространился слух, что графиня-мать принимает подарки за ее заступничество перед сыном. «Я думаю, – сострил на эту тему Гондомар, – что Англия весьма скоро обратится в католичество, ибо мать почитают здесь больше, чем сына» {97}. Эта решительная дама не брезговала и настоящим мошенничеством. Рассказывали о ее наглой попытке завладеть золотой цепью из наследства королевы Анны, которую король даровал леди Леннокс. Эта попытка жалким образом провалилась и так сильно возмутила принца Карла, что он потребовал – правда, безрезультатно, – чтобы жадной графине было запрещено появляться при дворе {98}.
Леди Бекингем усугубила неприязнь двора тем, что в 1622 году приняла католичество. Обстоятельства этого обращения столь колоритны, что стоит о них рассказать.
Графиня уже давно питала склонность к наиболее «католицизированной» форме англиканства. Она поддерживала тесную связь с деканом Уильямсом, чье честолюбие нам известно. Злые языки даже поговаривали, будто она стала его любовницей, однако, по словам Артура Уилсона, Уильямс был евнухом. Как знать?
Правда, еще в большей степени, нежели богословие Уильямса, леди Бекингем привлекало богословие римское. Получив согласие короля, она решила облегчить свое сердце. Состоялся диспут, на котором англиканство представлял молодой священник епископ Сент-Дэвидский Уильям Лод, а католичество – иезуит отец Фишер. Отчет об этом диспуте был впоследствии опубликован самим Лодом, из этой публикации мы о нем и узнали {99}. Леди Бекингем желала выяснить, какая из двух церквей является «истинной, непорочной и открытой», способной гарантировать своим последователям вечное блаженство. «Дама спросила епископа [Лода], получит ли католик спасение. Он ответил, что да… […], а иезуит добавил, что не существует никакой другой веры, способной даровать спасение, кроме веры римской». Этот аргумент оказался решающим – леди Бекингем перешла в ряды «папистов». Король был в ярости.
Несмотря ни на что, Бекингем никогда не позволял, чтобы его мать беспокоили или критиковали. Возможно, он и сам считал ее назойливой, однако никогда не показывал этого. И ни Яков, ни принц Карл не осмеливались лишать своего расположения слишком активную госпожу матушку.
Бекингем – глава семьи и вельможа
В отличие от своего предшественника Сомерсета, Джордж был искренне благодарен королю за его благодеяния. Ничто не дает оснований сомневаться в подлинности чувств, выражаемых им в письмах (независимо от того, что стиль той эпохи может показаться современному читателю преувеличенно цветистым): «Дорогой папа и крестный, я не знаю, следует ли мне сначала выразить Вам мою благодарность за бесчисленные благодеяния или мою печаль по поводу того, что, как мне известно, Вы прикованы к постели. Лишь знание того, что у Вас нет иной болезни, кроме болезни ноги [26], может послужить мне утешением, и теперь я надеюсь, что следующее Ваше письмо сообщит мне, что Вы уже ходите…» {100} Или другой фрагмент: «Все, что я могу сказать, это то, что я люблю Вас столь естественно и столь глубоко уважаю Вашу мудрость и Ваш опыт, превышающие мудрость и опыт других людей, что если бы весь мир оказался на одной стороне, а Вы – на другой, я во всем подчинялся бы Вам и, если нужно, пошел бы против всего мира» {101}. Подобные изъявления любви, признательности и восхищения, равно как и проявления любви «дорогого папы», продолжались вплоть до самой смерти старого короля. Мы приведем тому еще немало примеров.
Уверенный в дружбе и благосклонности государя – каковые, по сути, никогда не иссякали, за исключением нескольких случаев, когда они были ненадолго омрачены (об этом мы еще расскажем), – Бекингем окончательно утвердился в роли важного вельможи и высокопоставленного чиновника, признанного не только в Англии, но и за границей.
Его состояние было весьма значительным и постоянно росло за счет королевских даров и, надо признать, также за счет подарков от тех, кому фаворит оказывал поддержку. Таковы были нравы эпохи, но в данном случае нет оснований говорить о продажности, поскольку все (или почти все) современники признавали, что Бекингем был готов замолвить словечко перед королем только за тех претендентов на должности, чьи порядочность и компетентность не вызывали сомнений. Даже когда в 1626 году парламент начал против него судебное расследование, обвинители не смогли представить ни одного доказательства, подтверждающего обвинение в коррупции.
В Лондоне главный адмирал жил в роскошном особняке, называвшемся Уоллингфорд-Хауз (Wallingford House), приобретенном им в 1618 году у впавшего в немилость зятя лорда-казначея Суффолка. Что касается загородной резиденции, то в 1619 году он сменил замок Уэнстед на прекрасное поместье Барли-на-холме (Burley-on-the Hilt) неподалеку от родительской вотчины Бруксби и от замка Бельвуар, где жил граф Рутленд. В том же году он купил в Эссексе замок Ньюхолл (New Hall), который также носил название Болье. Отныне это поместье стало его любимым местом жительства, поскольку замок находился неподалеку от основных охотничьих резиденций короля.
Позже, в 1622 году, Бекингем задался целью купить у канцлера Бэкона (после того, как тот подвергся судебному преследованию) роскошную резиденцию Йорк-Хауз, находившуюся рядом с дворцом Уайтхолл. Ему это удалось после довольно серьезной и, прямо скажем, неблаговидной ссоры.
Находясь в Ньюхолле, «дорогой Стини» всегда был в распоряжении короля Якова. В бесчисленных письмах последнего, писавшихся по утрам и доставлявшихся курьером, содержатся просьбы к фавориту приехать к государю после обеда или вечером. Иногда приглашения были адресованы одному Бекингему, иногда его приглашали вместе с Кейт и «малышкой Молли». Порой король сам наведывался в Ньюхолл. Джордж захлебывается от восторга: «Мои олени ликуют, мои телята тучнеют, мои испанские пулярки прыгают от нетерпения, малышка Молли, старшая Молли [графиня-мать?], Кейт, Сью [Сьюзан, сестра Бекингема] и Ваш Стини ожидают в субботу Вашего приезда и целуют руки своего дорогого папы и Бэби Чарлза [принца Карла]. P. S. Клянусь, что последние слова, которые я Вам сказал, настолько соответствуют истине, что я мог бы присягнуть на святом Евангелии и засвидетельствовать это при святом причастии» {102}. Последняя фраза кажется нам загадочной; возможно, она намекает на какую-то размолвку между Яковом и Стини. Здесь мы касаемся самой интимной стороны их взаимоотношений.
Праздники и увеселения
В своих обширных владениях Бекингем вел обычную жизнь вельможи его времени: охотился, устраивал балы, приемы, пиры.
У него была врожденная любовь к роскоши и красоте. Он жил в эпоху искусства барокко, в которую в Англии были широко распространены итальянские произведения искусства, – одни лишь пуритане считали их отвратительными и называли «скандальными картинами папистов» и «дьявольскими идолами». Джорджа Вильерса это не волновало. Его друг Генри Уоттон, посол в Венеции, приобретал для фаворита полотна Тициана, Бассано, Веронезе. Художник Балтазар Жербье, чьи произведения были популярны в Европе, состоял с ним в переписке. В их письмах дипломатические переговоры соседствуют с сообщениями о выставленных на продажу и доступных для приобретения произведениях.
Современники считали, что именно благодаря страсти Бекингема к искусству принц Карл, будущий король Карл I, стал одним из знаменитых меценатов своего века. В последней главе этой книги мы дадим обзор коллекций Бекингема и расскажем об их судьбе после его смерти.
Что касается роскоши, то молодой адмирал умел затмить многих своих современников. Он любил дорогую одежду, драгоценности. Примерно в 1619 году, то есть в возрасте 26-27 лет, он решил носить бородку клинышком и подкрученные усы. Таким образом, его лицо, свидетельствовавшее о затянувшейся юности, пусть очаровательной и соблазнительной, приобрело оттенок мужественной красоты зрелого возраста, и в таком виде его обессмертил Рубенс. Именно таким его узнала в 1623 году испанская инфанта, а спустя два года – Анна Австрийская.
Не стоит, подражая хронистам того времени, описывать здесь подробно праздники, что устраивались в Барли-на-холме и в Ньюхолле. И все-таки нельзя не вспомнить об одном из них: о нем очень много говорили благодаря присутствию короля и принца-наследника.
Праздник состоялся 3 августа 1621 года в Барли. Главный церемониймейстер придворных увеселений Бен Джонсон написал по этому случаю «маску» под названием «Переодетые цыгане» (The Metamorphosed Gipsies)\ текст ее сохранился.
При входе Бекингем встречал государя прочувствованным изъявлением благодарности за оказанные благодеяния:
Государь, Вы всегда озаряли меня своим светом, Нынче ж Ваши лучи ослепляют меня. Вы – солнце Англии – скромный мой дом посетив, Блеск ему придали, так что теперь он сверкает, Словно ларец, в коем собраны все самоцветы Европы.
Вожак цыган (которого играл сам Джордж) предсказывал королю будущее:
За выбор истинных путей, которыми Вы следуете, чтобы истребить Любые ссоры в христианском мире; За мудрые законы, что даете Вы нам как судия войны и мира; За Ваши несомненные заслуги Дадут Вам имя «Яков Справедливый», И Ваши вечные благодеянья Прославят Вас во всем подлунном мире.
Другой цыган пытался предсказать судьбу принца, но, не желая посягать на привилегию Бога, который является единственным властителем судеб, ограничивался благочестивыми банальностями – тем лучше для нас, ведь мы-то знаем историю несчастного Карла!
Все эти действа, сопровождавшиеся пением и танцами, очаровали короля, и он, воодушевившись, тоже сочинил стихотворение:
Рыдавшие доселе небеса С приездом нашим стали улыбаться. Нам улыбается богатый этот дом, С улыбкой нас встречают на пороге. И благородные олени в чудном парке Как будто улыбаются. Так пусть одарит Бог И нас счастливою улыбкою ребенка, А всем друзьям дарует добрый плод Их редкостных достоинств драгоценных! {103}
Таков был стиль эпохи, и это стихотворение вовсе не самое худшее. Во всяком случае, оно свидетельствует о том, что Яков расцвел от лести окружающих (этим отличались все монархи его времени), и то, что он чувствовал себя счастливым среди членов семьи Вильерса, ставшей и его собственной семьей.
Глава VII «Сама природа требует, чтобы ваше величество вступили в войну!»
Разве Англия не остров?
Последние двадцать лет правления королевы Елизаветы были отмечены войной с Испанией: нападениями не только на испанские владения в Америке, но и на Кадис, победой английского флота над Непобедимой армадой в 1588 году, оказанием финансовой и военной помощи врагам Испании в Европе (голландским повстанцам, французскому королю Генриху IV)[27] борьбой с получавшими испанскую поддержку ирландскими мятежниками.
Король Яков I, «король-миротворец», после восшествия на английский трон положил всему этому конец. 19 августа 1604 года был подписан мир с Испанией, а лорд Маунтджой усмирил Ирландию. Что до Генриха IV, то он принял свои меры, заключив в 1598 году Вервенский договор27, Голландия же в 1609 году подписала перемирие с Испанией на 12 лет. Таким образом, к 1618 году, когда Бекингем стал маркизом и одной из ключевых фигур английской политики, в Западной Европе, можно сказать, царил мир, что радовало сердце короля Якова.
Впрочем, под покровом мира таились многочисленные бочки с порохом и было ясно, что малейшей искры окажется достаточно, чтобы вызвать ужасный взрыв.
Самая опасная пороховая бочка находилась в Германии, где католические и протестантские князья, принужденные к неудобному для них миру Аугсбургским договором 1555 года, только и ждали повода, чтобы броситься друг на друга. В 1610 году наследство герцогов Киевского и Юлихского чуть было не стало причиной общеевропейской войны, в которую готов был ввязаться Генрих IV Французский, однако кинжал Равальяка [28] положил конец его воинственным намерениям. Тем не менее кризис разразился в 1618 году.
Чешское королевство входило в состав Священной Римской империи. С 1526 года оно принадлежало Габсбургам, или, как иначе говорят, «австрийскому дому». Однако протестантское меньшинство в этой стране не могло смириться с владычеством Габсбургов-католиков. Император Рудольф II в 1609 году пошел на уступки этому меньшинству, но в 1617 году на трон Чехии взошел его кузен Фердинанд, ревностный католик и в прошлом ученик иезуитов. Он энергично взялся за восстановление католических порядков. Обозленные и обеспокоенные за свое будущее дворяне-протестанты прибегли к насилию, выбросив из окна королевского дворца на Градчанах[29] двух католических советников Фердинанда и их секретаря: то была печально известная в европейской истории дефенестрация. Это событие, произошедшее в Праге 23 мая 1618 года, положило начало жестоким войнам в континентальной Европе.
Само по себе восстание чешского протестантского меньшинства против монарха-католика, кузена испанского короля, не могло иметь особого значения для Англии. Знаменитая формула: «Англия – это остров», отражающая изоляционистские настроения, в то время еще не существовала. Однако она вполне соответствовала настроению Якова I. Англию столь же мало обеспокоила случившаяся в Праге в мае 1618 года дефенестрация троих высоких должностных лиц, как Францию не тронуло в июле 1914 года убийство австрийского эрцгерцога в Сараево.
Однако начавшееся в Праге антигабсбургское движение стало быстро распространяться в Австрии и Венгрии, наследственных землях династии. В Германии стали явными ранее скрытые амбиции, начались стычки. Даже живший в Турине герцог Савойский почувствовал желание примерить императорскую корону. Испания, тесно связанная с императором узами родства (испанский король и австрийский император были представителями двух ветвей Габсбургского дома, кузенами), решила воспрепятствовать какой бы то ни было иностранной помощи чешским повстанцам. Европейская дипломатия зашевелилась.
Среди наиболее враждебных Фердинанду немецких монархов был пфальцский курфюрст Фридрих, зять Якова I [30].
Оливковая ветвь короля-миротворца
Тем не менее Яков I, прозванный «королем-миротворцем», не имел ни малейшего желания принимать участие в конфликте, разгорающемся в Центральной Европе. Он предостерегал зятя от любых военных инициатив и воспринял как дар небес предложение испанского короля Филиппа III стать посредником в германских вопросах. Любопытно отметить – и это показывает полуофициальную роль, которую играл Бекингем при английском дворе еще до назначения на пост главного адмирала (речь идет о 1618 годе),- что именно фаворита, являвшегося всего лишь главным конюшим, Яков I послал к английскому послу в Мадриде сэру Фрэнсису Коттингтону с известием, что он принимает предложение короля Филиппа. Именно Бекингему Коттингтон сообщил о своей встрече с испанским монархом, который выразил благодарность «за изъявление доброй воли» {104}.
Яков I радовался бы своей официальной роли миротворца куда меньше, прочти он тайную депешу, отправленную Гондомаром Филиппу III. В ней говорилось, что «тщеславие английского короля столь велико, что он желает сделать заключение мира результатом собственного вмешательства и верит, будто авторитет его от этого возрастет. Впрочем, его посредничество не принесет вреда, и я рекомендую Его Величеству Филиппу III согласиться на это» {105}.
Итак, король Яков весьма серьезно отнесся к своей роли организатора переговоров (читай: арбитра) по поводу ситуации в Германии. На должность чрезвычайного посла при императоре в Чешских землях и при различных имперских государях он назначил своего давнего шотландского фаворита Джеймса Хея, ставшего виконтом Донкастером. То был настоящий джентльмен, известный своей элегантностью, куртуазностью и любовными похождениями и не обладавший ни малейшим дипломатическим талантом. «В этом назначении несомненно сыграла роль рекомендация Бекингема, который, после ссоры с Говардом предыдущей весной, стал постепенно склоняться к антииспанской партии». Таково, по крайней мере, мнение историка С. Р. Гардинера, и у нас нет оснований с ним спорить {106}.
К сожалению, любезнейший Донкастер прибыл в Германию с оливковой ветвью в руке в самый неподходящий момент, то есть в то время, когда все уже решили начать войну. Из Гааги, Дрездена, Праги, Вены он посылал письма своему другу Бекингему, в которых сообщал, что испанский король исподтишка поддерживает императора, а тот потихоньку вновь завоевывает отторгнутые в прошлом году земли. К сожалению, нам неизвестно, что отвечал на это Бекингем. Он несомненно советовал «своему дорогому папе» открыто поддержать оказавшихся в беде немецких и чешских протестантов. Однако Яков считал своего зятя неосторожным и не собирался поддерживать его в замышляемых авантюрах.
В конце лета 1619 года сложилось впечатление, что события вскоре вынудят короля Англии принять иное решение. Боясь оказаться захваченной императорской армией, Чехия решилась на опасный ход: 19 августа она объявила о свержении Фердинанда с чешского престола и предложила корону Фридриху. Пфальцский курфюрст не раздумывал и, несмотря на предостережения тестя, принял предложение чехов. 22 октября он вместе с женой въехал Прагу и 4 ноября был коронован в соборе Святого Вита.
Узнав об этом, Яков I рассвирепел. Его зять совершил непростительное преступление: согласился на узурпацию трона. Посол Гондомар нашептывал королю, что дружба с испанским королем отныне под угрозой, ведь Филипп не может остаться равнодушным к вызову, брошенному его кузену и союзнику Фердинанду.
Вместе с тем в окружении Якова немало было тех, кто радовался, что Фридрих и Елизавета получили королевское достоинство, а протестантизм укрепился назло католичеству Габсбургов. Бекингем принадлежал к числу радовавшихся: по совету Донкастера, он поддерживал идею вмешательства в войну на стороне Фридриха. Из Праги ему написала Елизавета (никогда его не видевшая, но знавшая, как далеко простирается влияние фаворита на ее отца). Она просила заступиться за нее перед королем: «Я прошу Вас убедить Его Величество стать заботливым отцом и помочь зятю и дочери». Однако, по крайней мере поначалу, Яков I оставался непоколебим: он не желал ссориться с Испанией, выступив против императора в Германии {107}. Бекингем понимал его и не очень настаивал: он помнил, что является другом и «добрым песиком» короля, а не дипломатическим советником. Те, кто думал тогда, будто молодой адмирал является хозяином английской политики, ошибались: каково бы ни было собственное мнение Бекингема – а он его часто менял, – он не настаивал на нем и не отстаивал свою точку зрения перед королем.
Так что Англия бездействовала, а император объединял все свои войска, чтобы захватить Прагу. Европа затаила дыхание.
Испанская загадка
Всем было ясно, что император Фердинанд стремится вновь завоевать Чехию, которой он управлял с 1617 года.
В ноябре 1619 года герцог Баварский Максимилиан, католик и сосед чехов, предложил Фердинанду свою помощь в войне за возвращение пражского престола. Фердинанд с радостью принял это предложение. Весной и летом 1620 года была приведена в боевую готовность огромная баварская армия под командованием выходца из испанских Нидерландов Тилли.
Однако в двух вопросах еще не было ясности: как поведет себя тесть пфальцского курфюрста, король Англии? И главное: как отреагирует самый могущественный государь Европы, кузен Фердинанда, имеющий общую границу с Пфальцем в своих нидерландских владениях, – король Испании? В течение всего 1620 года европейская дипломатия ломала голову над этими загадками.
Фридрих, находившийся в Праге, осознавал грозящую ему опасность. В январе 1620 года он направил к своему тестю посла барона Дону (Dohna) с просьбой о помощи. Дона был высокомерным, раздражительным и не понравился Якову. Венецианский посол Джироламо Ландо так описывает в письмах к дожу непростые отношения между королем и посланцем его зятя: «Я – старый король, – говорил Яков, – и у меня нет намерения позволять молодому человеку давать мне указания». Однако Бекингем, чувствительный к давлению английского общественного мнения, желавшего вмешательства в конфликт на стороне Фридриха, упрашивал «дорогого папу»: «По многим признакам становится ясно, – пишет тот же венецианец, – что король постепенно склоняется к тому, чтобы удовлетворить просьбу [Бекингема], однако опасается, что в таком случае порвется нить переговоров с Испанией, за которую он цепляется» {108}.
На деле, Гондомар пустил в ход все свои дипломатические таланты, чтобы помешать Англии взяться за оружие. Все же ему не удалось помешать формированию в марте небольшого экспедиционного корпуса волонтеров, командование которым было поручено ветерану голландских войн сэру Хорасу Веру. Не удалось также воспрепятствовать подписке в пользу Фридриха, по которой Бекингем обязался предоставить тысячу, а принц Карл – 5 тысяч фунтов стерлингов. Вместе с тем Яков был убежден, что, пока он сам сохраняет нейтралитет, Испания не решится на военное вторжение в Германию. То была великая иллюзия: в марте Филипп III и Фердинанд заключили тайное соглашение, а в конце августа мощная испанская армия, сформированная в Бельгии под командованием знаменитого генерала Спинолы, перешла германскую границу и вторглась в Нижний Пфальц.
Пфальц (или Палатинат), наследственное владение Фридриха, состоял из двух отдельных частей, обе из которых были весьма уязвимы: Нижний Пфальц располагался на Рейне, его столицей был Гейдельберг; Верхний Пфальц представлял собой небольшую территорию в 200 километрах к востоку, на границе с Баварией и Чехией.
Яков I возмутился. Он-то верил и повторял это Доне, «что Испания не нападет на Пфальц и что сам он [Яков] выступит посредником, дабы уладить конфликт мирным путем» {109}. Вторжение в Нижний Пфальц выставило короля в неблаговидной роли глупца и предателя. Он объявил, что «никогда более не сможет доверять испанцам и что, если потребуется, лично отправится воевать, чтобы защитить свою дочь и зятя. А стоит ему взяться за меч, его уже нелегко будет заставить вложить оружие в ножны» {110}.
Бекингем ликовал. Он с самого начала стоял за участие в конфликте. Он говорил всем, что Гондомар обманул короля, поручившись за нейтралитет Испании. Гондомар как кастильский дворянин выразил протест. Он потребовал, чтобы Бекингем доказал свое обвинение. И был прав: разговаривая с Яковом, он всегда избегал столь категоричных заявлений. Бекингему пришлось отступить, и 2 октября он публично признал, что «Его Светлость [испанский посол] никогда не утверждал, что Испания не вторгнется [в Пфальц], а, напротив, всегда предупреждал Его Величество [Якова I] о такой опасности». Яков подтвердил это заявление и сказал, что Гондомар вел себя «как честный и преданный слуга своего государя» {111}. В результате за Бекингемом укрепилась репутация двурушника, что было несправедливо, или легкомысленного человека, что, по правде говоря, недалеко от истины.
И опять же именно Бекингему король поручил изложить Гондомару позицию Англии в конфликте. «Его Величество не может признать, что подданные имеют право распоряжаться короной своей страны и, забрав ее у законного государя, передать другому лицу. Только иезуиты способны притязать на подобное право. Однако [в том, что касается Пфальца] Его Величество настаивает, что его внуки являются наследными владельцами этих земель и лишение их прав несправедливо и неразумно, ибо они не отвечают за действия отца. Теперь, когда произошло вторжение в Пфальц, сама природа требует, чтобы Его Величество использовал все законные средства, дабы им помочь» {112}.
В то же время Яков I направил к зятю двоих посланников – сэра Эдварда Конвея и сэра Ричарда Уэстона, – чтобы начать переговоры с императором. Это был абсолютно нереалистический политический ход, поскольку никто не сомневался, что Фердинанд согласится только на полную капитуляцию, к которой ни Фридрих, ни его жена, ни чешские протестанты не были готовы.
К тому же уже заговорили пушки. В то время как Спинола на западе шаг за шагом завоевывал Нижний Пфальц, а Хорас Вер и его маленькое английское войско оказывало героическое, но бесполезное сопротивление, баварская армия Тилли вторглась в Чехию и уже подошла к стенам Праги.
Вечером 8 ноября 1620 года, когда Конвей и Уэстон ужинали у короля Фридриха в градчанской крепости, их трапезу прервал гонец, который, с трудом переведя дыхание, сообщил, что чешская армия только что разбита в двух милях отсюда, подле Белой горы (Bila Нога). Фридрих, Елизавета и английские послы едва успели бежать. Царствование «короля на одну зиму» завершилось.
Катастрофа у Белой горы полностью изменила соотношение сил. Фридрих и его жена проехали через всю Германию, и никто не пожелал предоставить им убежище. В конце концов они оказались в Голландии, где были приняты штатгальтером Морицем Нассауским, но потеряли какую-либо возможность влиять на политику. Елизавета писала Бекингему тревожные письма: «Прошу Вас, используйте все Ваше влияние на короля, чтобы добиться от него помощи нам; ведь он всегда утверждал, что не потерпит, чтобы у нас отняли Пфальц. Я возлагаю все надежды на Вашу любовь ко мне» {113}.
Дело в том, что в то время Бекингем был полностью на стороне Фридриха и Елизаветы. Однако прижатый к стене король Яков еще более, чем когда-либо, мучился сомнениями.
Бекингем – за войну, король – за мир
Многие современники отмечали в конце 1620 года, что Яков I выглядит подавленным, усталым и безразличным. «Мне кажется, что ум короля сдает. Он не придерживается собственных решений даже неделю и всего боится», – писал французский посол {114}. Посол Венеции выразился следующим образом: «Король отошел от дел. Он жалуется на то, что целыми днями приходится выслушивать чужие мнения и советы, а люди настаивают то на одном, то на другом. Он говорит, что он-де не Бог всемогущий и не может все решать сам» {115}.
Несомненно, подобное поведение Якова I явилось результатом перенесенной за год до того болезни. Королю было всего пятьдесят пять лет, а он заметно постарел и мечтал только о покое, замкнувшись в семейном кругу.
К несчастью дня короля – и для Бекингема, – политическая ситуация в момент, когда Пфальц переходил руки испанцев, а английское общество кипело ненавистью к Испании, требовала от государя активных действий.
На деле же ничего подобного не было, и сторонники Испании, равно как и сторонники войны, окончательно отбились от рук. В начале 1621 года Бекингем вместе со своим другом принцем Карлом превратились в лидеров партии, желавшей войны. Велись тайные переговоры с германским кондотьером графом Мансфельдом о наборе армии наемников, которые согласились бы воевать на стороне Фридриха Пфальцского и начали бы наступление в Германии. Однако Яков I был весьма далек от подобных намерений. Гондомар не дремал. «[Гондомар] теперь уже не посол, он – первый государственный советник Англии; он день и ночь проводит у короля в Уайтхолле; он в курсе всех тайн; его советам следуют почти буквально», – с досадой и не без преувеличения пишет француз Левенер де Тилльер {116}.
Получив такое предупреждение от своего посла, Франция попыталась противодействовать. Хотя король Яков мечтал о браке своего сына с инфантой Марией – он мечтал теперь о нем еще более, чем раньше, надеясь, что этот брак позволит решить германские проблемы, обеспечив англоиспанский союз, – Людовик XIII (или, скорее, бывший в то время его фаворитом де Люинь) стал настойчиво предлагать в жены принцу свою сестру Генриетту, которой в это время исполнилось 11 лет. В декабре 1620 года он направил в Лондон чрезвычайного посла маршала де Каденэ, родного брата де Люиня, но ему оказали весьма холодный прием. Бекингем, обычно щепетильный в вопросах протокола, настоял на том, чтобы идти по правую руку от Каденэ, на что не мог согласиться Тилльер, который «скорее умер бы, нежели допустил разговоры, будто он как посол уронил честь своего государя», уступив положенное ему по праву место. Бекингем, проявив «порядочность и мудрость», уступил и согласился удовлетвориться левой стороной {117}. Каденэ не удалось ничего добиться: «французский брак» не показался ни Якову, ни его сыну. О нем вновь заговорили лишь значительно позже, после множества злоключений.
Как бы то ни было, французское вмешательство в брачные интриги не смогло бы повлиять на расстановку сил в германском вопросе, ибо Франция в тот момент не желала совать нос в германское осиное гнездо. Людовик XIII вообще больше симпатизировал католику Фердинанду, нежели протестанту Фридриху. Все это никак не походило на будущую политику Ришелье.
Несмотря на успехи Спинолы в Пфальце, испанское правительство проявляло беспокойство. После двенадцатилетнего перемирия в Нидерландах вот-вот должна была возобновиться война, а богатые Соединенные Провинции [31] представляли собой куда более значительную силу, чем Пфальц. Гондомар получил из Мадрида инструкции во что бы то ни стало помешать вступлению Англии в войну на стороне Фридриха. Для этого у него всегда был в руках надежный инструмент: вожделенный для Якова I брак инфанты с Карлом. Для решения германской проблемы он предложил комбинацию, на которую Яков сразу же согласился: Фридрих должен отречься от престола, ему унаследует его трехлетний старший сын Карл Людвиг, который принесет присягу верности императору Фердинанду и получит образование при императорском дворе в Вене. В Брюсселе, то есть на испанской территории, будет созвана конференция, которая уладит все проблемы по этому вопросу.
Это было изящное решение, притом оно оставляло победу в Германии за Габсбургами. Фридрих наотрез отказался. Он все еще рассчитывал на победу Мансфельда и союзни- ков-протестантов, которые заявили о себе в Брауншвейге и Бадене, а также на Соединенные Провинции, которых подталкивал к действиям штатгальтер Мориц.
Яков I буквально разрывался между этими враждебными группировками. Бекингем и принц Карл открыто стояли за набор армии для того, чтобы воевать на стороне Фридриха и голландцев. Английское общественное мнение оказывало давление в том же направлении. Гондомара считали злым гением короля, его освистывали и оскорбляли на улицах Лондона. 3 декабря 1620 года пришлось приставить 400 вооруженных человек для охраны испанского посольства, иначе оно было бы разграблено и, возможно, разрушено.
Между тем состояние финансов королевства не давало возможности набрать армию, без которой любое вмешательство в Германии становилось бесполезным и попросту невозможным. Так что хочешь не хочешь, надо было созывать парламент, который единственный имел право решать финансовые вопросы.
Глава VIII «Купайтесь в чувстве настоящего»
Парламент 1621 года
Якова I раздражала необходимость созыва парламента. В 1614 году это закончилось ничем и доставило ему горечь. У короля не было ни малейшего желания повторять попытку. Однако Бекингем не видел никакой опасности. Ему казалось, что и лорды, и общины с радостью проголосуют за субсидии, необходимые для оказания помощи пфальцскому курфюрсту, которого все продолжали называть «королем Фридрихом», и его супруге, чье имя скандировали толпы лондонцев. Вскоре эти иллюзии развеялись.
Несомненно, антипапистские и антикатолические страсти кипели по-прежнему. В феврале некий старик-католик по имени Флойд осмелился публично сострить по поводу несчастной «тетушки Елизаветы» (goodwife Elizabeth), после чего палата общин впала в истерику и потребовала сурово наказать «проклятого паписта»: колесовать, отрезать язык, нос и уши, пожизненно заключить в тюрьму, конфисковать имущество. Король Яков не согласился, тем не менее Флойда выставили у позорного столба и приговорили к штрафу в 5 тысяч фунтов. Это событие возбудило общественность. Но ведь голосовать за налоги – это совсем другое дело…
Парламент собрался 30 января 1621 года. Яков был измотан, страдал от подагры, его пришлось нести к трону на руках. Впервые он повелел принцу Карлу сесть рядом с ним, и тот оставался в Палате лордов на протяжении всего заседания – знаменательное новшество.
Вступительная речь короля была весьма яркой. Он подробно описал несчастья дочери и зятя (а эта тема занимала всех), доказал, что государству не хватает финансов и потому для оказания помощи Фридриху нужны новые ресурсы. «До сих пор я старался сохранять мир. Если это была ошибка, то я прошу у вас прощения. […] Я не привык к тому, чтобы коронами играли, как теннисным мячом; но пфальцский курфюрст связан со мной узами родства, и не существует в мире человека, которому родственники были бы безразличны. […] Я знаю, что от нынешнего парламента можно ожидать многого, и полностью полагаюсь на вашу мудрость во имя блага государства…» {118} В завершение речи король запросил субсидию в 500 тысяч фунтов стерлингов, притом что уже истратил на помощь Фридриху более 200 тысяч фунтов. Даже недоброжелательно настроенный посол Франции заявил, что это было «прекрасное и красноречивое выступление» {119}.
Однако депутаты общин и даже лорды ожидали другого. В последующие дни общины проголосовали за субсидию размером 160 тысяч фунтов «в качестве добровольного дара и свидетельства любви подданных к государю». Это было меньше, чем треть запрошенной суммы. Яков, отличавшийся специфическим чувством юмора, поблагодарил депутатов «в большей степени за добрые чувства, нежели за сам дар». Сессия началась не особенно удачно.
Бекингем в опасном положении
В окружении короля никто – кроме разве что канцлера Бэкона – не мог даже предположить того, что произошло дальше. В то время никто не проводил опросов и анализа общественного мнения, и зачастую правительство плохо представляло себе это мнение, пока оно не начинало проявлять себя в насилии.
Вместе с тем всеобщее недовольство «патентами» и «монополиями» не было ни тайной, ни новостью. Еще во времена королевы Елизаветы парламент устраивал дебаты на эту тему. Речь шла о привилегиях, предоставляемых отдельным лицам или группам на производство или продажу каких-либо продуктов, либо о наделении отдельных лиц правом предоставлять подобные привилегии от имени короля. Легко понять, к каким злоупотреблениям могла привести подобная система: монополии оказывались видимой причиной повышения цен и обнищания народа. Было известно, что монополисты получают привилегии за взятки и что привилегии эти зачастую даются тому, кто предложил самую большую сумму. В 1621 году самыми непопулярными монополиями, против которых намеревался сражаться парламент, были монополии на торговлю золотой и серебряной пряжей, необходимой для роскошных тканей и вышивок, а также на эксплуатацию харчевен и кабаков. Последняя монополия помогала поддерживать порядок в королевстве, ибо кабаки и харчевни часто становились местом встреч воров и прочих преступников.
Дебаты по этой теме начались в палате общин в первых числах февраля. Приводилась масса свидетельств извращенности системы монополий. Похоже, эта тема куда больше волновала депутатов, чем набор армии для войны в Германии.
Весьма скоро выяснилось, что скандал с монополиями серьезно задевает семейство Бекингема. Эдвард Вильерс имел отношение к монополии на золотую и серебряную пряжу, Кристофер Вильерс – к монополии на управление кабаками. Основным же монополистом считался сэр Жиль Момпессон, шурин Эдварда Вильерса. Имя самого Бекингема не упоминалось («Никто не смог доказать, чтобы хоть один пенни от монополий попал ему в карман», – пишет историк Гардинер, мало симпатизирующий нашему герою {120}), однако его окружение обвиняли напрямую.
Фаворит попросил вмешаться короля. Тот сделал это на свой лад, в своей неподражаемой манере: «Раньше, когда мои подданные хотели испросить милости или подать жалобу, они обращались ко мне или к Бекингему; нынче же, как будто я и не существую, они обращаются в парламент. Позвольте рассказать вам одну басню. В те времена, когда животные еще умели говорить, некая корова жаловалась, что ее хвост слишком тяжел и неудобен. В конце концов ей его отрезали. Однако пришло лето, налетели мошки и слепни, и корова пожалела, что больше не может отгонять их хвостом. Так вот: хвост той коровы – это я и Бекингем. Когда окончится парламентская сессия, вы будете рады, что мы у вас есть и по-прежнему защищаем вас от злоупотреблений» {121}. Тем не менее дискуссия продолжалась.
Тогда вмешался умный и ловкий Уильямс, который уже стал деканом Вестминстера и всегда был готов дать добрый совет. «Не ссорьтесь с парламентом, – сказал он Бекингему. – В конце концов, его роль и состоит в том, чтобы преследовать преступников. Лучше возглавьте это движение. Купайтесь в чувстве настоящего, тогда не утонете. Если Вы станете нападать на парламент, защищая каких-то пташек, то этим откроете шлюзы и рано или поздно утонете в этом потоке. Пусть лучше этот Момпессон и этот Майкл [32] падут жертвой собственных злоупотреблений, вместе с ними пошлите к черту и все монополии. Я насчитал их по списку около сорока, отзовите их все» {122}.
Бекингем мог быть легкомысленным, мог впадать в гнев, но он не был ни глупцом, ни упрямцем. Он понял смысл совета Уильямса. Что до Якова, то он принял его как «небесное откровение». 12 марта король объявил палате общин о своем намерении положить конец скандалу с монополиями. Бекингем же в палате лордов объявил: «Если у моего отца оказалось два сына, способных нанести ущерб государству, то у него есть еще и третий сын, который поможет вам их наказать. Вплоть до настоящего момента я ничего не знал о злоупотреблениях, но теперь я готов всеми силами помогать вам в том, чтобы положить им конец в интересах короля и нации» {123}.
Несколько недель спустя король отменил большую часть монополий. Момпессон бежал во Францию, Майкла приговорили к огромному штрафу, и волнения улеглись. Бекингем с честью прошел свое первое парламентское испытание.
Лорд Бэкон под обстрелом
Однако едва прошла гроза на дебатах о монополиях, как поднялась новая буря, и Бекингем вновь оказался если не в эпицентре ее, то, по крайней мере, в пределах досягаемости.
Канцлер Бэкон, который теперь именовался виконтом Сент-Олбанским, заседал в палате лордов. Он не пользовался симпатией своих коллег, равно как и депутатов общин. В Европе Бэкон уже прославился как философ (он опубликовал в 1620 году «Новый органон»), но это вовсе не мешало ему исполнять обязанности главы английского правосудия и вести себя при этом высокомерно, принимая безапелляционные, неоправданно суровые решения. Бэкон жил на широкую ногу. Было известно, что он связан с Бекингемом и умеет влиять на короля. Его имя прозвучало во время дебатов о монополиях. 15 марта на Бэкона поступила жалоба от некоего Обрея, бывшего чиновника, потерявшего свое место. Эта произвело эффект разорвавшейся бомбы: Бэкона обвинили в получении взятки в 100 тысяч фунтов в обмен на положительное решение в пользу жалобщика и отказе вернуть деньги, несмотря на неудачу.
Казначей флота Крэнфилд и давний противник Бэкона Эдвард Кок воспользовались случаем нанести удар. Со всех сторон стали поступать свидетельства о нечестности живущего в роскоши канцлера. Заинтересовались даже его личной жизнью: «Поистине он проиллюстрировал обманчивость человеческой судьбы, ибо теперь его самого обвиняли в тех проступках, за которые он так часто осуждал других. […] Он держал при себе молодых расточительных и роскошествующих подчиненных, которые пользовались его деньгами, как своими собственными, и были связаны с ним какими-то непонятными близкими узами. Так что его фамильярность и терпимость по отношению к ним давала пищу для самых недостойных слухов, ибо если уж подобные пиявки благоденствуют, то несомненно, есть некая гнильца в крови того, кто поит их своей кровью…» Автор этих строк пуританин Уилсон делает такой вывод: «Горько видеть, что человек, способный, благодаря гениальности, так высоко вознестись разумом над прочими людьми, способен пасть ниже всех в том, что касается морали» {124}.
Как бы там ни было, обвинения в коррупции приняли такой размах, что король не мог не отреагировать. «Его Величество узнал о преступлениях, в которых обвиняют лорда- канцлера, и пришел в отчаяние, что столь великого человека подозревают в подобных пороках». Это заявление было не в пользу Бэкона.
В полном смятении канцлер обратился к своему покровителю Бекингему. «Я чувствую себя теперь как в чистилище, – написал он фавориту 14 марта. – Я знаю, что у меня чистые руки и чистое сердце. Однако даже самого Иова сочли бы виновным, если бы на него нападали так, как на меня. По правде говоря, если это все и является сутью поста канцлера, то никто не пожелал бы подобрать государственную печать, даже если бы она валялась на пустоши Хенслоу-Хиз. Однако я уверен, что король и Ваша Светлость положите конец этим испытаниям» {125}.
Бекингем сразу же откликнулся на этот призыв. Он навестил Бэкона, который из-за всех этих треволнений слег: философ не отличался стойкостью духа, свойственной Сократу и Сенеке. Вернувшись в палату лордов, главный адмирал вступился за «слабого и больного» канцлера и попросил отложить рассмотрение его дела, но это не помогло.
Тогда потерявший надежду Бэкон отказался от защиты по всем предъявленным пунктам обвинения и, уличенный собранными доказательствами его вины, передал председателю палаты лордов послание, в котором признавал свою вину и просил судей о снисхождении. Бекингем поддержал эту жалкую просьбу, ссылаясь на то, что несчастному канцлеру недолго осталось жить. Но и тут не удалось уладить дело миром. Лорды решили, что расследование должно быть доведено до конца.
Столкнувшись с непреодолимым препятствием, Бекингем предложил королю распустить парламент. Это был опасный шаг, ибо общественное мнение не могло не усмотреть в нем попытку помешать правосудию наказать коррумпированного высокопоставленного чиновника. Яков понимал это и отказал Бекингему. «Общественное благо мне дороже благополучия кого бы то ни было, пусть даже человека, ко мне приближенного», – заявил он {126}.
Прошел даже слух, будто Бекингем утратил расположение короля: «Маркиз Бекингем изо всех сил поддерживает канцлера, но ничего не может добиться, как не смог он добиться и роспуска парламента, которого весьма желал, а это заставляет некоторых лиц полагать, что король хочет избавиться от него с помощью парламента, как прежде он избавился от графа Сомерсета […] то ли потому, что длительная близость с ним ему надоела, то ли потому, что, видя нерасположение к нему всех, он собирается отдать его на растерзание ненавистников, дабы примирить с собой настроения подданных», – так писал 3 апреля Левенер де Тилльер {127}.
Французский посол принял желаемое за действительное, ибо Яков I ни в коей мере не собирался расставаться со своим дорогим Стини. Впрочем, никто ведь не мог ознакомиться с личными письмами, которыми они обменивались. Эту возможность имеют лишь современные исследователи.
Итак, следствие по делу Бэкона продолжалось, и канцлеру пришлось до дна испить горькую чашу. «Подобно Адаму, не прикрытому фиговым листком, я признаю, что, имея в руках собранные против меня обвинения, Ваши Сиятельства видят достаточно оснований для того, чтобы осудить меня, – написал он в палату лордов 22 апреля. – Поэтому я поручаю себя милосердной воле Его Величества в отношении всего, что случилось в прошлом, и умоляю вас не присуждать меня к большему, нежели утрата Государственной печати, ибо сам я ныне – всего лишь сломанная тростинка». Бекингем заступался за канцлера, приводя аргументы в том же духе: «Его [Бэкона] проступки следует объяснить испорченностью нашего века, не забывая о его высоких личных качествах».
Как бы не так! 1 мая Бэкон был лишен Государственной печати («Я получил ее благодаря милости Его Величества, а теперь теряю по собственной вине»), а 3 мая был приговорен к штрафу в 40 тысяч фунтов стерлингов, к отстранению навечно от всех должностей, к тюремному заключению, «если того пожелает Его Величество», и к высылке не менее чем на двенадцать миль от места расположения двора. Против этого проголосовал один Бекингем {128}.
Теперь под обстрелом Бекингем
Мужество, которое Бекингем проявил, защищая Бэкона, делает ему честь. Впрочем, король Яков весьма милостиво обошелся со смещенным канцлером: он сразу же освободил его из тюрьмы, избавил от уплаты большей части штрафа и сохранил за ним дворянский титул. Бэкон был несказанно благодарен главному адмиралу, уберегшему его от худшей участи: «Доверяя благородству натуры и дружбе Вашей Светлости, я знал, что опираюсь на скалу, которую не могут поколебать ни превратности судьбы, ни бури», – написал он Бекингему 20 мая {129}.
Однако, выражаясь языком Бэкона, бури еще не утихли над головой самого Бекингема. Бывший генеральный прокурор Йелвертон, чьи интересы молодой фаворит задел в самом начале своей карьеры, не простил его. 10 марта, после того как его самого обвинили в неправильном ведении процесса, касавшегося лондонского Сити, Йелвертон обвинил Бекингема в том, что тот-де подтолкнул короля к созданию незаконных монополий. Палата лордов заявила протест и хотела лишить его слова. Бекингем же вскочил с места и закричал: «Пусть говорит! Те, кто хотят заставить его замолчать, – это скорее мои враги, чем его!» Задетый за живое Йелвертон произнес тогда опасные слова: «Если бы милорд Бекингем прочел обвинения, предъявленные в свое время Хью Деспенсеру, и если бы он понимал, сколь опасно назначать и смещать королевских чиновников, он не преследовал бы меня так ожесточенно». Дело в том, что Хью Деспенсер был в XIII веке фаворитом короля Эдуарда II. Он был приговорен к смерти, а Эдуард смещен с престола и убит в тюрьме. Намек на этот исторический прецедент мог быть легко расценен как оскорбление монарха. «Если Бекингем – это Деспенсер, то я, значит, – Эдуард II»,- возмутился Яков. Лорды незамедлительно присудили Йелвертона к уплате 5 тысяч марок (3333 фунтов стерлингов) в возмещение морального ущерба Бекингему и столько же – королю.
Бекингем заявил, что отказывается от этих денег. Он вышел из разразившейся бури с высоко поднятой головой, но его ожидало еще одно испытание, совсем другого рода.
Многие лорды относились к фавориту враждебно. Взойдя на престол, Яков I значительно увеличил число пэров: за 18 лет его царствования число английских лордов почти удвоилось. Этих «новых» лордов «старые» считали выскочками. Бекингем был ярким примером подобного возвышения: из своего плебейского положения в 1616 году он за два года возвысился до маркиза.
Воспользовавшись созывом парламента, группа «старых» лордов решила в апреле 1621 года подать королю следующее прошение: «С милостивого разрешения Вашего Величества, мы хотели бы выступить в защиту наших прав, полученных благодаря рождению. Не претендуя на то, чтобы вмешиваться в осуществление Вашего права присваивать дворянские титулы, мы не можем считать своей ровней людей темного происхождения, которые ныне заседают вместе с нами, к великому нашему сожалению и бесчестию, облеченные теми же титулами, что и мы сами» {130}. Бекингема не упомянули, но те, кто подписал прошение, явно имели в виду его стремительное возвышение. Короля это расстроило. Он произнес перед лордами речь, восхвалявшую достоинства его главного адмирала: «Бекингем всегда готов оказать вам любые услуги, добиваясь моего расположения к вам. Он – самый красноречивый защитник привилегий дворянства так же, как и мой сын, принц, который счастлив заседать вместе с вами…» {131} Тем не менее впоследствии король значительно ограничил назначение новых лордов.
Конфликт с парламентом
Парламентские войны в Англии против монополистов, против несчастного Флойда, против лорда-канцлера и, наконец, против Бекингема шли параллельно с другой войной, войной с оружием в руках, разразившейся в Германии. Верхний Пфальц оказался в руках баварцев, испанцы двигались к Рейну и Гейдельбергу. Все более терявший чувство реальности, упрямый Фридрих не желал отказываться от борьбы и королевского титула, что ему все время советовал сделать Яков I. Его армия под командованием Мансфельда опустошала католические земли на юге вплоть до Эльзаса, но не могла добиться значительного успеха.
Гондомар, как всегда, не дремал. На протяжении всей сессии парламента он регулярно наносил визиты королю и Бекингему, напоминал о предложениях своего государя, короля Филиппа, относительно союза, предостерегал от каких бы то ни было неосторожных вмешательств в германские дела. Якова опять охватила апатия. В мае он решил распустить парламент на каникулы и в сопровождении Бекингема уехал в свой охотничий замок. Гондомар ликовал.
Однако осенью события, происходившие в Германии, потребовали созыва новой сессии парламента. Заседания открылись 20 ноября 1621 года.
«Похоже, что король, – писал дожу венецианский посол, – верит, будто парламент с легкостью согласится предоставить ему средства для ведения войны, так что ему не придется слишком заботиться об этом» {132}. Если это и вправду было так, то король явно пребывал в заблуждении. То ли по причине плохого самочувствия, то ли просто из-за усталости он оставался в Ньюмаркете и удерживал при себе Бекингема. В Лондоне на заседаниях палаты лордов присутствовал только Карл. Поэтому убедить палату общин оказалось сложно. Она не имела ничего против обсуждения финансовых вопросов, однако для начала следовало точно определить политическую линию. Выступавшие один за другим критиковали сторонников союза с Испанией и осуждали короля за терпимое отношение к католикам. «Если сделать хоть малейшую уступку папистам, – заявил пуританин Джон Пим, – то они сразу потребуют равных прав, а потом уже начнутся поражения и преследования протестантов». К великому возмущению Гондомара, в парламенте зазвучали нападки на короля Испании, и посол Филиппа написал Якову: «Если после этого Вы не накажете тех, кто позволил себе подобную наглость, значит, Вы больше не король» {133}.
Несомненно, Бекингем сгорал от нетерпения вернуться в Вестминстер и занять свое место среди лордов. Он все время переписывался с принцем, который сообщал ему о дерзости депутатов палаты общин: «Стини, члены нижней палаты были сегодня чрезвычайно возбуждены, но я надеюсь, что они успокоятся. […] Я верю, что король накажет самых рьяных бунтовщиков, но следует еще немного подождать. […] Остаюсь твоим верным другом, Карл R[ex]» {134} Это письмо вдвойне интересно: и как свидетельство близкой дружбы между Карлом и Бекингемом, и как предвестие того, каким станет отношение будущего короля к парламентам. Результат же этого отношения нам известен…
Когда депутаты общин дошли в своей дерзости до того, что составили петицию, критикующую отношения короля с Испанией, предполагавшийся брак принца с инфантой и терпимость по отношению к католикам, Яков взорвался.
Он направил председателю палаты общин грозное послание: «Ваши дебаты затрагивают мои королевские привилегии. Я – старый, опытный король и не нуждаюсь в ваших советах. Вам не подобает вмешиваться ни в государственные тайны, ни в вопросы брачного союза моего сына. Не забывайте, что я имею право наказать тех, кто осмеливается задевать мою королевскую честь…» {135} Принимая в Ньюмаркете шестерых депутатов, привезших ему значительно смягченный текст петиции, Яков с сарказмом приказал слугам: «Сейчас же принесите стулья для господ послов!»
Теперь уже и Бекингем, и Карл, и Гондомар советовали королю распустить парламент. Большая часть членов Тайного совета была того же мнения. Пожалуй, один лишь новый хранитель печати Уильямс, сменивший в июне на этом посту несчастного Бэкона, предлагал повременить, пойти на уступки. Однако Яков был измотан, он устал, потерял ко всему интерес. Наконец он вернулся в Лондон, потребовал журнал протоколов заседаний, вырвал из него страницу, на которой была записана петиция, и 30 декабря 1621 года объявил о роспуске третьего за его правление парламента.
Разумеется, Бекингем сыграл свою роль в этой развязке, но он был не единственным, кто нес за нее ответственность. Тем не менее гнев общества обрушился именно на него. С этого момента фаворит стал объектом злобных нападок со стороны противников Испании. Посол Тилльер обвинил его в том, что он «ведет себя не как англичанин». Не правда ли, забавно слышать это из уст француза? Так или иначе, с этого времени Бекингема стали считать сторонником Испании, изменившим делу протестантов. Его политическая карьера сделала новый, опасный, поворот, хотя, возможно, сам он этого и не осознавал.
П. П. Рубенс. Герцог Бекингем.
Д. де Критц. Яков I Стюарт.
Дворец Уайтхолл. Вид на так называемые Гольбейновские врата и банкетный зал.
Уайтхолл. Вид со стороны Темзы.
М. Гирертс-младший. Супруга Якова I Анна Датская.
Д. Майтенс. Принц Карл, будущий король Карл I Стюарт.
Гравюра В. Я. Дельффа с картины М. Я. Миревельда. Курфюрст Фридрих V Пфальцский, так называемый Зимний король.
Гейдельберг – столица Фридриха Пфальцского до начала Тридцатилетней войны.
Гравюра В. Я. Делъффа с картины М Я. Миревельда. Курфюрстина Елизавета (Стюарт) Пфальцская, Зимняя королева Богемии.
Политическая аллегория брака принцессы Елизаветы Стюарт и Фридриха Пфальцского.
Декорации И. Джонса к театральным спектаклям при дворе Якова I.
Декорации И. Джонса к театральным спектаклям при дворе Якова I.
Джордж Вильерс по время придворного маскарада, посвященного теме воинской доблести.
Д. Майтенс. Портрет Якова I в парадном облачении кавалера ордена Подвязки
Памфлет, посвященный политическому скандалу с отравлением Р. Овербери.
Эдуард Кок, генеральный прокурор и один из лидеров парламентской оппозиции.
Яков I в палате лордов.
Г. Маунтин. Семья Якова I.
Семейство Джорджа Вильерса. В центре стоят, взявшись за руки, герцог и герцогиня Бекингем.
Гравюра В. Я. Дельффа с картины М. Я. Миревельда. Джордж Вильерс, герцог Бекингем.
Памятная медаль. Яков I в образе императора Британии.
Д. Веласкес. Филипп IV Испанский.
Д. Веласкес. Дон Гаспар де Гусман, граф Оливарес.
Несостоявшаяся невеста принца Карла – инфанта Мария (в зрелые годы с сыном).
Мадрид. Главная площадь испанской столицы.
Глава IX «Терпению короля можно только удивляться…»
Маневры посла Гондомара
После конфликта с парламентом 1621 года возможность военного вмешательства Англии в германскую войну сошла на нет – хотя не исключено, что Яков никогда всерьез и не предполагал подобного вмешательства. Из-за отсутствия денег для набора и содержания армии английской дипломатии пришлось довольствоваться ответными выпадами, не имевшими, впрочем, последствий.
Европейские правительства понимали это. Депеши французского и венецианского послов не оставляют на сей счет никаких сомнений. И все же Испания беспокоилась. Ей теперь приходилось нести тяготы не только войны в Пфальце, но и военных операций в Голландии, после того как там закончилось двенадцатилетнее перемирие. А английское общество становилось все более враждебным Испании и католикам.
Учитывая противоречивость этой ситуации, нельзя дать однозначную оценку поступкам Бекингема. Мы уже убедились в том, что он не был искушенным политическим деятелем. Впечатлительный, чувствительный к лести, он болезненно воспринимал враждебность. Искренний патриотизм, а также постоянные просьбы о помощи со стороны «королевы в изгнании» Елизаветы заставляли его вмешиваться в политику и поддерживать Фридриха. Однако нерешительность короля сковывала его. С другой стороны, он, похоже, проникся симпатией к Гондомару до такой степени, что дал повод своим многочисленным врагам для обвинения, будто Испания его подкупила, а это уж точно не было правдой. Однажды, когда Бекингем вез в своей карете испанского посла, возмущенная толпа стала кричать, что надо их обоих убить {136}. Поэтому неудивительно, что Бекингем попеременно становился то сторонником войны, то сторонником мира.
Ситуация была сложной. Яков I в большей мере, чем его подданные, осознавал, что Англия слаба. С самого начала своего правления он добивался взаимопонимания с Испанией, и это стало краеугольным камнем его внешней политики. При этом он, мягко говоря, не испытывал никакой симпатии к голландцам, главным противникам Испании, а упорство немецкой родни приводило его в отчаяние. Гондомар оказался достаточно хитер, чтобы убедить короля, что только союз с Мадридом позволит ему добиться от молодого короля Филиппа IV, наследовавшего в марте 1621 года отцу, Филиппу III, освобождения Пфальца. Подобный союз не мог получить более конкретного подтверждения, как в форме брака принца Карла с инфантой Марией, а брак этот, в свою очередь, мог быть заключен только после значительных уступок английским католикам в их праве на отправление своего культа. Так король Яков Стюарт, сам того не желая, оказался в заколдованном круге: без доброй воли испанцев нельзя освободить Пфальц, без эффективных мер в пользу английских католиков нельзя добиться доброй воли испанцев; а в случае, если такие меры будут приняты, Англии грозят серьезные общественные потрясения…
Бекингем, будучи протестантом, не относился к католикам враждебно. Его частые встречи с Гондомаром свидетельствуют о том, что он был довольно веротерпимым. Однако в условиях резко обострившейся обстановки это стало опасным; распространялись слухи о том, что фаворит скрытый католик и оказывает на короля прокатолическое влияние.
Между роспуском парламента в 1621 году и посольством Бекингема в Испанию, которое продлилось весь 1623 год, был год 1622-й, в течение которого в жизни фаворита не случилось ни одного значительного события. Между тем внешняя политика в том году весьма занимала его; кроме того, все более возрастало его влияние на внутренние дела. Что до его, можно сказать, семейных отношений с королем Яковом, то они достигли вершины счастья.
Политический хаос 1622 года
Происходившие в это время в Европе события вполне можно назвать хаосом. В Германии продолжались военные действия, причем успех явно был на стороне имперской, баварской и испанской католических армий, которые громили Пфальц и его протестантских союзников. Верхний Пфальц был полностью оккупирован Тилли и практически присоединен к Баварии. В Нижнем Пфальце английский экспедиционный корпус под командованием Хораса Вера мужественно сопротивлялся войскам Спинолы и его заместителя дона Гонсало Кордовы. Столица Нижнего Пфальца, Гейдельберг, пала в сентябре 1622 года. Мангейм, крепость, создававшая заслон на Рейне, продержалась до октября. В конце 1622 года у Фридриха остался лишь один укрепленный пункт, Франкенталь, который удерживался Вером под осадой испанцев.
Фридрих, из-за неосторожного решения которого принять корону Чехии заварилась вся эта каша, терпел поражение на всех фронтах. У него не было ни малейшего военного таланта, и даже его действия на своей собственной земле, в Пфальце, были бездарны и абсолютно непродуктивны. В конце концов он бежал в Седан к герцогу Буйонскому, который оставил следующее описание фридриховой армии: «Войско без оружия, без командования, без дисциплины, не имеющее военного опыта; лучше уж принимать у себя армию противника» {137}. Пфальц был окончательно потерян.
Можно задать вопрос: «А почему, в таком случае, война по-прежнему продолжалась?» Дело в том, что частный случай Фридриха (единственного, кто в силу династической солидарности более или менее непосредственно интересовал Англию) оказался теперь опутан клубком других проблем. Успех католических армий повлек за собой нарушение равновесия сил в Германии в ущерб протестантским королям. Везде, где только было можно (и особенно в Чехии), император Фердинанд насаждал католическую контрреформацию, внедрял иезуитов, преследовал протестантов. Курфюрсты-лютеране в Саксонии и Бранденбурге забеспокоились. Услышав призыв о помощи, собирался вмешаться король Дании. Неисправимый Фридрих подумал, что у него вновь появится шанс вернуть утраченные владения: «Еще немного, и он потребует, чтобы император извинился за то, что посмел изгнать его из имперских земель», – раздраженно писал один английский дипломат {138}.
В какой-то момент Яков I подумал, что удастся урегулировать все вопросы, созвав в Брюсселе международную конференцию под председательством инфанты Изабеллы, правительницы Испанских Нидерландов [33]. Он послал туда сэра Ричарда Уэстона, одного из лучших английских экспертов по европейской политике. Однако упрямый Фридрих отказался пойти на какие бы то ни было уступки, и конференция завершилась безрезультатно в сентябре 1622 года, в то самое время, когда пал Гейдельберг.
На этот раз император решил покончить с бунтовщиком. Для этого он созвал в ноябре 1622 года в Регенсбурге конференцию имперских правителей. Несмотря на колебания Испании, которая не хотела доводить до крайности короля Англии, регенсбургская конференция объявила о лишении Фридриха всех титулов и наследственных прав на Пфальц, являющийся имперским леном. У него было также отобрано звание курфюрста. Этот титул был впоследствии передан герцогу Баварскому: после этого в империи стало пять католических курфюрстов и только два курфюрста-протестанта. Такое неосторожное решение привело к возобновлению войны, но поначалу Англия лишь рассылала дипломатические письма и расточала угрозы вступить в нее. Эти заявления никто не принимал всерьез.
Во всех описанных событиях Бекингем напрямую не участвовал. Как и прежде, он получал письма, адресованные королю. Иногда писал ответы, но в то время он еще не был ни посредником, ни официальным представителем.
Бекингем и Испания
В действительности, в 1622 году короля Якова, а следовательно, и Бекингема больше всего занимали отношения с Испанией. В августе Филипп IV вызвал Гондомара в Мадрид. Тот переписывался с Бекингемом, и Яков I надеялся воспользоваться этим для решения своих проблем.
Со времени восшествия на престол двадцатисемилетнего Филиппа IV управление Испанией контролировал опытный дипломат дон Балтасар де Суньига. В октябре 1622 года он умер, и его место занял племянник, человек честолюбивый, решительный и энергичный – граф (впоследствии герцог) Оливарес.
Из докладов Гондомара Оливарес знал, что король Англии уповает на союз с Испанией и рассчитывает в первую очередь на брак своего сына с инфантой Марией. Кроме того, он – вполне справедливо – считал, что истинным врагом Испании являются Соединенные провинции, у которых есть немало серьезных оснований не ладить с Англией, в основном из-за колониальной экспансии на Дальнем Востоке.
Потому Оливарес считал идею англо-испанского союза не столь нереальной, какой она могла показаться на первый взгляд. Если бы удалось решить проблемы, создавшиеся из-за плачевного положения Фридриха Пфальцского, для сердечных отношений между Лондоном и Мадридом не осталось бы больше серьезных препятствий. По этой причине, едва придя к власти, Оливарес стал резко возражать против решения императора Фердинанда лишить Фридриха наследственных прав и передать титул курфюрста герцогу Баварскому. Он хотел, чтобы Фридрих отрекся от власти в пользу своего сына и тот мирно правил бы в Гейдельберге под защитой совместных гарантий со стороны Англии и Испании. Однако Фридрих не желал ничего слышать {139}.
После возвращения в Мадрид Гондомара, прожившего в Англии одиннадцать лет, Филипп IV прислал в Лондон ему на смену кастильского сеньора дона Карлоса де Колому. Англию же с января 1622 года представлял в Мадриде один из лучших английских дипломатов сэр Джордж Дигби, занимавший этот пост несколькими годами раньше и хорошо знавший испанский двор и испанцев вообще. Казалось, сложились все условия для установления прекрасных отношений между двумя странами и для возобновления переговоров о женитьбе принца Карла на инфанте. Единственным препятствием оставалось решение пфальцской проблемы.
Бекингем, уверенный в поддержке своего друга Гондомара, принял активное участие в брачных переговорах. Его пыл, несомненно, угас бы, знай он, что годом раньше Филипп III на смертном одре сказал своему наследнику: «Сын мой, не отдавайте сестру [инфанту Марию] никому, кроме эрцгерцога Фердинанда [34]» {140}. Однако на официальном уровне в Мадриде, как и в Лондоне, обсуждался англо-испанский брачный союз.
Письмо Бекингема Гондомару от 9 сентября 1622 года свидетельствует о том, какую роль играл Стини на этой стадии переговоров {141}.
Гондомар возвратился в Мадрид всего месяц назад. Только что приступила к работе Брюссельская конференция. Бекингем начинает письмо с того, что перечисляет меры, принятые Англией ради удовлетворения требований Испании в отношении английских католиков. «У нас все готово для заключения брака. Священники и рекузанты [35] освобождены, их требования удовлетворены. Все, кто открыто выступал против этого брака, арестованы и наказаны. Запрещены проповеди против папы и Римской церкви». Тем не менее, несмотря на все эти свидетельства доброй воли короля Якова, возникали новые препятствия: «Мы получили [из Рима] перечень таких условий, что, если король согласится на них, его подданные взбунтуются».
Однако основным предметом спора оставался Пфальц. По этому вопросу Бекингем изъясняется совершенно ясно: «Я, Ваш преданный друг, умоляю Вас серьезно отнестись к трудной задаче, которую нам следует решить. Если император завершит завоевание Пфальца, являющегося наследственной вотчиной внуков Его Величества, результатом может стать лишь кровопролитная война между императором и моим государем. […] Вы знаете, что король [Яков] всегда желал лишь справедливости, мира и нерушимой дружбы с Вашим государем. Но как может принц Карл жениться на инфанте, если Ваши друзья разоряют его сестру и племянников?» Это было написано из дипломатических соображений: мол, мы думаем, что испанская армия действует в Пфальце по приказу императора. Разумеется, Бекингем, как и Гондомар, знал, что игру ведет сам мадридский двор. Письмо было написано спустя несколько дней после падения Гейдельберга.
Далее Бекингем переходит к следующему больному вопросу: к Брюссельской конференции. «Вы сами рекомендовали для участия в этом деле дипломата сэра Ричарда Уэстона. Однако он пишет Его Величеству, что [в Брюсселе] к нему отнеслись весьма холодно и несправедливо. Поистине, терпению короля можно только удивляться: ведь мы получаем из Мадрида приятные и утешительные известия, а в Брюсселе, напротив, наши надежды уже почти угасли».
В последней части письма, написанного в нарочито дружеском тоне, чувствуется отчаяние – несомненно, эхо подлинных чувств принца Карла: «Смотрите, как бы в результате Ваших проволочек и колебаний принц не отказался от охоты [sic!] и не пустился на поиски другой дичи [sic!]. Так что я, друг мой, говорю Вам то, что обычно говорят гонцам: "Поспешайте! Быстрее, быстрее, быстрее!"»
Это важное послание – один из самых длинных сохранившихся текстов, написанных рукой Бекингема (мы цитируем его в сокращении). Оно правдиво отражает сложившееся положение, показывает проблемы в их взаимосвязи: военная и дипломатическая ситуация в Германии, лейтмотивом которой становится освобождение Пфальца; улучшение положения католиков в Англии; наконец, трудности, провоцируемые неуступчивостью Ватикана.
В последнем вопросе Яков I поистине попал в ловушку. Брак мог быть заключен лишь в том случае, если папа даст разрешение на союз католички и протестанта. Однако Рим выдвинул слишком жесткие требования: не только полную свободу вероисповедания для будущей принцессы Уэльской и ее окружения (на что Яков готов был согласиться), но воспитание ее детей в католической вере и отмену в Англии всех законов, запрещавших отправление католического культа. Такого король не мог обещать, потому что это потребовало бы голосования в парламенте, а Яков знал, что парламент ни в коем случае не даст согласия. Тем более что освобождение из-под стражи католиков и их священников летом 1622 года, о чем упомянуто в письме Бекингема, вызвало в Англии глухое возмущение: дошло до того, что Якова I (этого убежденного протестанта!) стали обвинять в уступках «папистским сиренам» и начали обсуждать вопрос, имеют ли в таком случае подданные право не подчиниться {142}.
Бекингем готовится к войне?
Провал Брюссельской конференции, падение Гейдельберга и Мангейма вызвали у англичан осенью 1622 года всплеск воинственности. И Бекингем был не в последнем ряду тех, кто испытывал подобный энтузиазм. В его цитировавшемся выше письме Гондомару явно отразилось нетерпение в связи с проволочками и недомолвками испанских политиков.
Он продолжал переписываться с Елизаветой, находившейся в Гааге. В октябре он постарался добиться для нее займа в 5 тысяч фунтов стерлингов, а затем обещания выплачивать ежемесячный пенсион в тысячу фунтов. Он оказывал ей различные услуги: в ноябре она пишет ему благодарственное письмо «за присылку лошадей» {143}.
И главное: Бекингем активно участвует в военных приготовлениях, к которым в течение нескольких недель король Яков, похоже, проявлял интерес. Не имея возможности ввести новые налоги, поскольку о созыве парламента не могло быть и речи, Тайный совет решил прибегнуть к «доброй воле» или «безвозмездным дарам», то есть к добровольным взносам подданных. Таким образом удалось собрать 88 тысяч фунтов стерлингов – а надеялись, без всяких на то оснований, – на двести тысяч! Но результат оказался противоположным ожидаемому: появилось множество враждебных памфлетов, большинство из которых напрямую задевали Бекингема, в особенности весьма агрессивное сочинение под названием «Том, который говорит правду» (Tom Tell-Truth) {144}.
Более чем посредственный результат «доброй воли» не помешал Бекингему и принцу Карлу, который на этом этапе превратился в вождя сторонников войны (странная позиция для претендента на руку испанской инфанты!), заняться набором армии в 30-40 тысяч человек, командующим которой должен был стать сам принц.
Бекингем, несомненно, верил в возможность войны. «Не от меня зависит, получит ли Ваша госпожа удовлетворение в ближайшее время», – писал он 28 сентября посланнику Елизаветы. Даже король, преодолев свой обычный скептицизм, настолько увлекся этой идеей, что направил Филиппу IV письмо, написанное в непривычном, почти ультимативном тоне. Гонцом, которому предстояло отвезти это письмо, король избрал камергера принца Карла по имени Эндимион Портер, который был двоюродным братом жены Бекингема и его другом. Портер получил воспитание в Испании, его бабка была испанкой, он лично знал Оливареса. Так что нельзя было найти человека, который лучше его сумел бы добиться понимания в Мадриде.
Однако выдвинутые в письме условия не могли не оскорбить гордость кастильцев: Пфальц должен быть освобожден в течение 70 дней; более того, Испании следует дать согласие на проход английских войск, призванный осуществить это освобождение. Это поистине означало требовать невозможного! Ознакомившись с посланием, Оливарес чуть не задохнулся от возмущения. «Если бы я посоветовал подобное моему государю, – объявил он Портеру, – меня казнили бы как предателя» {145}. Даже странно, что Яков I и Бекингем могли надеяться на другой ответ.
Как бы то ни было, в Германии ничто не изменилось. Продолжалась осада Франкенталя, последнего оплота сторонников Фридриха в Пфальце. Его обороной руководил Вер. Срок, указанный в английском ультиматуме, истек, а испанская и императорская армии ни на шаг не отступили.
Что до принца Карла и Бекингема, то их воинственное настроение сошло на нет так же быстро, как и всплеск энергии короля Якова.
Игры мадридской дипломатии
Со временем стало ясно, что Испания ни на йоту не уступит в военном отношении, если у нее не возникнет серьезного интереса в дипломатической сфере. Если английская внешняя политика была противоречивой и нереалистичной, (Яков I требовал отступления католиков в Германии, не предлагая взамен ничего такого, что могло бы подкрепить подобное требование), то политика Мадрида была последовательной и мудрой.
Поняв, что можно не опасаться английского вторжения в Пфальц, Оливарес возобновил в октябре 1622 года переговоры о браке – не исключено, что это стало следствием письма Бекингема, которое Гондомар, несомненно, передал министру. Однако возникло непредвиденное осложнение: инфанта выказала отвращение к союзу с еретиком и заявила, что лучше уйти в монастырь, чем выйти замуж за английского принца. Посол Дигби (ставший в сентябре 1622 года графом Бристолем, так мы и будем его теперь называть) написал королю Якову, что, по его мнению, свадьба состоится только в том случае, если принц примет католичество. Итак, на горизонте замаячил призрак вражды, которая год спустя разнесет в щепы все тщательно выстраиваемое дипломатами здание.
Бристоль гораздо лучше, чем Яков, и уж, конечно, лучше, чем Бекингем, видел двойную игру Оливареса и мадридского двора. «Это самые лживые люди на всем свете», – написал он в ноябре принцу Карлу {146}. Хорошо осведомленный посланник Венеции в Лондоне в отчете дожу тоже весьма реалистично оценил положение дел: «Испанцы дают королю наркотик, чтобы усыпить его на всю зиму» {147}.
Именно в это время стала мало-помалу оформляться идея поездки Карла в Испанию с тем, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки и заключить желаемый брак.
Современники, а вслед за ними и историки пространно обсуждали вопрос о том, кому принадлежала эта инициатива. Гондомар 6 мая 1622 года писал из Англии: «Принц доверительно сообщил мне, что, если я посоветую ему поехать в Испанию, он поедет туда инкогнито вместе с двумя слугами» {148}. Сообщение слишком странное, чтобы не вызвать сомнений. Стал ли бы Карл «доверительно» намекать испанскому послу, чтобы тот «посоветовал» ему пуститься в столь необычное путешествие, да еще в условиях полной секретности? Это не так уж невозможно: дальнейшая жизнь Карла свидетельствует, что он считал вполне приемлемыми тайные маневры и обходные пути, когда хотел добиться своих целей. Однако в данном случае поверить версии Гондомара довольно трудно, потому что не было никаких оснований для столь серьезного нарушения дипломатических правил и Карл в это время не проявлял особого интереса к браку с испанской инфантой.
Вполне вероятно – и многие современники-очевидцы этих событий допускали это, – что такая идея зародилась в мозгу самого Гондомара: завлечь принца в Мадрид и поставить в какой-то мере в положение заложника, что позволило бы оказать на него давление в плане перехода в католичество или, по крайней мере, заставить согласиться на условия, выдвинутые королем Филиппом и папой.
Осенью встал вопрос не о путешествии принца Карла инкогнито, а о направлении флота под личным командованием главного адмирала для того, чтобы привезти инфанту. Этот проект был не менее иллюзорным, поскольку в то время до заключения брака было еще далеко {149}.
А потом наступила зима, и дело, по-видимому, застопорилось. Однако испанский «наркотик» возымел действие.
«Бекингемцы» у власти
Европа погрязла в войне, английская дипломатия блуждала в лабиринтах испанской политики, зато политический климат в Лондоне начал смягчаться.
Дело в том, что после конфликта с парламентом в 1621- 1622 годах начался процесс, который сейчас иногда называют «сменой состава оркестра». Состав политических деятелей обновлялся и почти все время в интересах друзей, родственников или протеже главного адмирала. Вряд ли можно говорить о «клане» или «партии» в прямом смысле этого слова. Однако верно то, что в органах власти оказалось достаточно преданных Бекингему людей, чтобы влиять, и существенно, на решение многих государственных вопросов. Вспомним священника Джона Уильямса, заменившего лорда-канцлера Бэкона после его трагического унижения. В 1620 году он втерся в доверие к королю и Бекингему, проявив изощренность в деле обращения в протестантскую веру Кэтрин Мэннерс, которая в результате смогла выйти замуж за фаворита. В 1621 году он был советчиком Бекингема в вопросе о монополиях, бурно обсуждавшемся в парламенте. Его назначение хранителем печати изумило общественность. По традиции на этот пост назначали светских лиц и магистратов. Уильямс не был ни тем ни другим. Все высмеивали его как невежду, однако они ошибались: вплоть до своей опалы в 1625 году, когда он пал жертвой своего извечного врага-завистника Уильяма Лода, он был надежным хранителем печати и очень компетентным советником короля и фаворита. Дабы обеспечить Уильямсу образ жизни, достойный его положения, Яков I назначил его епископом Линкольнским, сохранив за ним также деканство в Вестминстере, на которое претендовал Лод. Этого оказалось достаточно, чтобы последний превратился в непримиримого врага Уильямса. Ненависть священников не менее сильна, чем ненависть обычных людей.
Лод тоже являлся одним из «бекингемских» выдвиженцев 1622-1623 годов. Он был англиканским проповедником, славившимся красноречием. В 1616 году был деканом в Глостере, но надеялся приблизиться ко двору. Он мечтал получить место декана в Вестминстере, но Якова I настораживала его религиозная непримиримость. Сопровождая короля в Шотландию в 1617 году, Лод буквально замучил всех своими требованиями следовать ритуалам. Однако Бекингем ценил его. Хотя Лоду и не удалось удержать мать фаворита в лоне англиканской церкви*, он был в 1621-1622 годах духовным наставником («исповедником», как говорил он сам) молодого главного адмирала. Чтобы утешить Лода, не получившего деканства в Вестминстере, которое осталось за Уильямсом, Бекингем добился его назначения епископом Сент-Дэвидским в Уэльсе. «Раз ты этого хочешь, я даю тебе это назначение, – сказал король, – но помяни мое слово: ты еще об этом пожалеешь» {150}. Этот анекдот часто вспоминали враги Лода, но, поскольку он записан человеком, которого можно назвать alter ego Уильямса, вряд ли его стоит воспринимать всерьез.
Возвышение Лайонела Крэнфилда достойно не меньшего внимания, чем выдвижение Уильямса на пост хранителя печати. Как известно, Крэнфилд был богатым лондонским купцом. Он привлек к себе внимание Бекингема тем, что, будучи комиссаром морского казначейства, сумел сэкономить значительные средства. К тому же он был женат на кузине матери Бекингема. Войдя в январе 1621 года в состав Тайного совета, он активно участвовал в процессе против Бэкона. Поговаривали, что Крэнфилд станет хранителем печати, но король предпочел Уильямса. Зато в 1622 году Бекингем выхлопотал для Крэнфилда титул барона, затем пост лорда-казначея, на котором он сменил лорда Мэндвила, ушедшего в отставку в обмен на вознаграждение в 20 тысяч фунтов. Ходили слухи, что за два года до этого Мэндвил «предоставил» такую же сумму Бекингему, чтобы получить эту должность.
Став лордом-казначеем и в скором времени получив титул графа Мидлсекса, Крэнфилд пришел в ужас, поняв, в каком состоянии находятся финансы государства. «Чем дольше я обдумываю состояние дел Его Величества, – писал он Бекингему, – тем большее беспокойство испытываю. Речь идет не о том, чтобы провести реформу какого-либо ведомства, флота, королевского двора или гардероба, а о том, чтобы изменить все в целом. Всем: и расходами, и доходами, – распоряжались столь небрежно и бесчестно, что в это даже трудно поверить» {151}.
Крэнфилд еще проявит себя как один из лучших министров финансов Англии XVII века и в течение двух лет сумеет насколько возможно восстановить равновесие в казне.
В дипломатическом корпусе – хотя такой термин является в данном случае анахронизмом – также произошли изменения под влиянием Бекингема. Наиболее известными из его ставленников были: Ричард Уэстон, который стал в январе 1622 года министром финансов; Джордж Дигби, дипломат, бывший посол в Мадриде, которого Бекингем посоветовал вновь назначить на этот пост в январе 1622 года и вскоре после этого даровать ему титул графа Бристоля; Фрэнсис Коттингтон, тоже бывший посол в Испании, ставший впоследствии секретарем принца Карла и советником короля; наконец, Эндимион Портер, камергер принца Карла и двоюродный брат жены Бекингема, по рождению и воспитанию наполовину испанец, – он направился с тайной миссией к Оливаресу и Филиппу IV.
Завершим эту картину, изображающую английских политических деятелей 1621-1623 годов, портретом Джорджа Колверта, ставшего в 1619 году государственным секретарем. Он был особенно близок к Бекингему, а позднее стал лордом Балтимором и основал в Америке город с таким названием, – но это случилось уже после смерти фаворита. Упомянем еще Эдварда Конвея, также ставшего в 1623 году государственным секретарем. Что до Роберта Нонтона, который занимал этот пост с 1618 года, то ему пришлось уйти в отставку в январе 1623 года, несмотря на связи с Бекингемом, из-за того, что он открыто выступал против брака принца Карла с инфантой и высказывался в пользу французской невесты. В качестве компенсации он получил пост главы опекунского суда и пенсион в 2 тысячи фунтов стерлингов.
Таким образом, в последние годы правления Якова I Бекингем стал если не хозяином положения в английской политике, то уж во всяком случае самым влиятельным членом Тайного совета.
Следует отметить, что, за редкими исключениями, люди, выдвижению и назначению которых на важнейшие государственные посты способствовал Бекингем, были компетентными и порядочными. Уильямс, Крэнфилд, Конвей, Уэстон и Дигби (Бристоль) занимают достойное место в истории Англии.
Однако исследователя поражает еще одно обстоятельство, которое поражало и современников: многие из этих «бекингемцев», причем не последние из них (Колверт, Коттингтон, Эндимион Портер, Уэстон), были католиками или тайными католиками, что в Англии 20-х годов XVII века давало повод для подозрений в участии в «папистском заговоре» и в том, что Испания подкупила правительство Стюартов. Опала Нонтона, протестанта и, несмотря на дружбу с Бекингемом, противника испанцев, только подкрепила эти подозрения. Добавим к сему воинствующий антипуританизм хранителя печати, и станет понятно, почему протестанты кальвинистского направления были настроены против фаворита. Из-за всего этого Стини нажил немало врагов, не говоря уж о тех, кого просто обошли при раздаче должностей.
Глава X «Любовь меня влекла под небеса испании…»
Февральским вечером в покоях короля Якова
В своей «Истории Великого мятежа» (написанной около 1646 года) лорд Кларендон рассказывает, как однажды февральским вечером 1623 года в покоях короля Якова было принято решение о самом экстравагантном и авантюрном предприятии периода его правления.
Поскольку Кларендон описал это событие более чем двадцать лет спустя и сам при нем не присутствовал, историки не очень-то доверяют его рассказу. Известно, что он получил эти сведения от своего друга Фрэнсиса Коттингтона, одного из главных действующих лиц этой сцены, и в документах того времени мы не находим ничего противоречащего этой истории. Поэтому у нас нет серьезных оснований сомневаться в правдивости Кларендона, хотя бы в ее общих чертах. Рассказанное им в любом случае представляет собой интересный пролог к событиям лета 1623 года, ставшим поворотным пунктом в судьбе Бекингема.
Итак, если верить рассказу Кларендона {152}, Яков I был один в своих покоях, когда к нему пришли «его два мальчика», как король называл принца Карла, или «бэби Чарльза», и Бекингема, или Стини. Карл опустился перед отцом на колени и объявил о своем желании поехать в Испанию и привезти оттуда инфанту. Бекингем молчал. Яков спросил его, что он об этом думает. «Принц настолько увлечен этой идеей, что Ваш отказ может серьезно повредить его душевному состоянию», – ответил Стини. Карл стал убеждать отца, что, «явившись в Испанию, он положит конец столь долго тянущимся переговорам, и его присутствие наверняка окажется определяющим в деле возвращения Пфальца его сестре и зятю, ведь этого Его Величество желает более всего на свете».
Король, находившийся в тот вечер «в хорошем расположении духа», позволил себя убедить и, «вопреки своей привычке долго колебаться», дал согласие, нисколько не усомнившись в последствиях столь непродуманного предприятия. Однако он не мог предвидеть того, что произошло после: молодые люди объявили, что их отъезд до поры до времени должен храниться в тайне. Ведь за то время, пока для принца снарядят флот и запросят паспорт у французского короля, цель его поездки станет достоянием гласности. Поэтому они решили ехать инкогнито в сопровождении всего двух слуг. Они пересекут всю Францию, прежде чем в Англии заметят их отсутствие.
Захваченный врасплох Яков удалился в опочивальню и стал размышлять об «опасности и трудности предприятия, которое только что одобрил, о пропастях, которые могут подстерегать его сына, а также о том, какое скверное впечатление это путешествие произведет на его народ, и о том, что будут думать о нем, короле, в других странах». «Дух его впал в полнейшее беспокойство», и, когда на следующее утро принц и Бекингем вновь к нему явились, дабы получить бумаги, нужные для поездки, он разразился рыданиями, говоря, что умирает, что они разбили его сердце. «Когда бэби Чарльз явится в Мадрид, испанцы воспользуются этим, чтобы поставить под сомнение все пункты договора, и выдвинут новые требования, на которые будет невозможно согласиться, а это погубит Стини, ведь в нашей стране его и так не любят». Со слезами на глазах король умолял «мальчиков» отказаться от своего намерения, которое разбивает ему сердце.
Его доводы были продиктованы здравым смыслом, и последующие события показали, что король был прав. Однако Карл напомнил отцу, что тот уже дал согласие, а Бекингем «грубо сказал ему, что если он так быстро отказывается от своих слов, то ему больше никто не будет верить, а все эти доводы ему наверняка нашептал какой-нибудь советчик, которому он доверился, несмотря на обещание хранить тайну; они же с принцем узнают имя этого негодяя и никогда не забудут и не простят этого». Описывая эту сцену, Кларендон добавляет, что Бекингем «лучше, чем кто-либо, знал, как следует говорить с королем, чтобы убедить его».
Яков отступил перед таким напором и поклялся, что никому не расскажет о их отъезде. Карл предложил послать с ними в качестве сопровождающего в этом путешествии Фрэнсиса Коттингтона, бывшего посла в Испании, бывшего теперь его секретарем. Король велел позвать Коттингтона, которого хорошо знал и ценил. Коттингтон и рассказал об этом эпизоде Кларендону, а тот записал его слова: «Когда Его Величество изложил мне замысел принца, меня охватило такое волнение, что я почти потерял дар речи. Я объяснил, как мог, что из-за подобного путешествия можно потерять все, чего уже добились в отношении этого брака, что испанцы воспользуются им как предлогом, чтобы начать все с начала. Король с рыданиями упал на постель, говоря, что предвидел это, что поездка погубит бэби Чарльза и его самого». На что Бекингем заявил, что Коттингтон противится замыслу потому, что с ним заранее не посоветовались, что он слишком много себе позволяет, осмеливаясь критиковать решение своего господина, и всю жизнь будет сожалеть об этом.
«Нет, бога ради, Стини, ты неправ, – сказал король. – Я просил Коттингтона честно высказать свое мнение, и он откровенно ответил».
«Те, кто будет описывать историю этой поездки, – комментирует Кларендон, – смогут оценить, насколько возражения Коттингтона и предчувствия короля подтвердились последующими событиями». Лучшего вывода не сделаешь.
Впоследствии многие приписывали инициативу этой авантюры Бекингему. Кларендон относился к числу этих людей. Но это не так, ведь еще в мае 1622 года, то есть за девять месяцев до описанного эпизода, Гондомар упоминал о подобном замысле и приписывал его принцу Карлу. Епископ Гудмен, хорошо знавший закулисную сторону дел, считал, что это похоже на правду: «Принц был деятельным молодым человеком, прекрасным наездником. Он помнил, как его отец ездил за своей супругой в Данию, как его прадед [Яков V Шотландский] несколько раз приезжал во Францию, чтобы там жениться [на Мадлен Валуа, а впоследствии на Марии де Гиз]. Он был сильным, способным переносить усталость, он был благовоспитан и сдержан, он был достаточно умен, чтобы вести переговоры [о браке]… Что до милорда Бекингема, то, я думаю, он не склонял принца ехать в Испанию» {153}.
Скорее всего эту мысль подсказал Карлу сам Гондомар, для которого появление в Мадриде английского наследного принца могло стать ярким завершением дипломатической карьеры.
Джек и Том Смиты на дорогах Франции и Наварры
Получив согласие короля, молодые люди стали готовиться к отъезду, храня в тайне свои планы. Однако не следует верить их письму, в котором они сообщали своему «дорогому папочке», что действительно инкогнито проехали через всю Францию и Наварру. На самом деле французские власти, как и посол Англии в Париже сэр Эдвард Герберт, обо всем знали. Принца и его спутника сопровождали на всем пути следования, однако дипломатическая условность была соблюдена, и это создавало у путешественников иллюзию полной свободы.
Коттингтон выехал раньше в сопровождении еще одного человека, выбранного Карлом и Бекингемом. Этим человеком был не кто иной, как Эндимион Портер, камергер Карла. Коттингтон и Портер пересекли на корабле Ла-Манш и приготовили во Франции лошадей и комнаты в гостинице для двух английских торговцев Джека и Тома Смитов. Самих же путешественников сопровождал лишь один оруженосец, шотландец по имени Ричард Грэм, хотя они везли с собой много золота. Никогда еще Карл не получал такого удовольствия. Должно быть, и Бекингем рад был вырваться из душной атмосферы королевского дворца.
Яков же должен был играть. 17 февраля он простился с молодыми людьми в Теобальдсе и пожелал им приятно провести время в Ньюхолле у Бекингема, где они якобы намеревались пробыть несколько дней. При этом добавил: «Не забудьте вернуться в пятницу». На что Джордж шутливо ответил: «Государь, ведь вы не обидитесь, если мы на день-два задержимся!» Король ничего больше не сказал и «не явил на своем лице никаких чувств, когда они ушли» {154}. Вернувшись в свои покои, он дал волю слезам. У него было плохое предчувствие.
Выехав из Ньюхолла в сопровождении Ричарда Грэма 18 февраля, путешественники направились на юг. На переправе через Темзу у Грейвсэнда их чуть было не опознал лодочник, которому они дали чересчур щедрые чаевые: золотую монету. Потом столкнулись с возвращавшимся домой эскортом испанского посла и пустили лошадей в галоп через поля, чтобы избежать встречи со знакомыми придворными. В Кентербери мэр, услышав о странном поведении двух проезжающих, приказал их арестовать, но узнал Бекингема. Тому пришлось соврать, что он как главный адмирал проводит тайную инспекцию флота. В тот же вечер они прибыли в Дувр.
Прибыв в Монтре-сюр-Мер после девятичасового плавания, они сразу же отправились в Париж, куда и прибыли в четверг 2 марта (в Лондоне это было 20 февраля: григорианский календарь, принятый во Франции и Испании, на десять дней опережал юлианский, по которому по-прежнему жила Англия [36]).
По счастливой случайности, на следующий день в Лувре должен был состояться праздник, в котором должны были участвовать королева Анна, брат короля Гастон и его младшая сестра Генриетта Мария. Карл и Бекингем без труда получили приглашения, что лишний раз доказывает, что их истинные имена были хорошо известны властям.
22 февраля (4 марта по григорианскому календарю) молодые люди послали своему «дорогому папе» письмо: «Государь, мы были при дворе и уверяем Вас, что нас там никто не узнал [sic!]. Мы видели молодую королеву, юных Месье и Мадам. Это была репетиция балета, который королева хочет преподнести королю, и она танцует в нем, как и Мадам, и еще девятнадцать прекрасных придворных дам. Королева была самой красивой из всех, что усилило наше желание познакомиться с ее сестрой.
Мы спешим закончить письмо и прощаемся с Вашим Величеством, Ваш покорный и послушный сын Карл, Ваш покорный слуга и пес Стини» {155}.
Поясним: «молодой королевой» была Анна Австрийская, которой в ту пору исполнилось двадцать два года, «юным Месье» – Гастон Орлеанский, пятнадцатилетний брат короля. «Мадам» была четырнадцатилетняя Генриетта Мария, а сестрой королевы инфанта Мария, на которой Карл предполагал жениться в Испании.
Может быть, именно в тот день сердце Бекингема впервые дрогнуло при виде ослепительной и недоступной королевы Франции? А Карл? Неужели он равнодушно смотрел на принцессу Генриетту Марию, не подозревая, что именно с ней ему суждено связать свою судьбу? Ни тот ни другой не угадали будущего, но для нас, знающих, что случилось впоследствии, этот вечер в Лувре 3 марта 1623 года является знаковым.
Через день после праздника путешественники отправились на юг, на этот раз в компании Коттингтона и Эндимиона Портера. За ними постоянно следили французские агенты, но они этого не замечали, считали, что их никто не знает, и находили это забавным. Правда, в Бордо произошел случай, заставивший их задуматься. Местный губернатор герцог д'Эпернон пожелал пригласить их к себе на обед и дать в их честь прием. Официально это устраивалось «ради двух достойных англичан», однако понятно, что имелись в виду вовсе не Джек и Том Смиты!
Переправившись через Бидассоа, они оказались в Испании. Как раз в этот момент им повстречался курьер английского посла Уолсингем Гризли, который вез в Лондон донесение Бристоля. Карл счел возможным остановить его и, сломав печать, вскрыл мешок с дипломатической почтой. За это любого другого обвинили бы в оскорблении величества. Однако документы были написаны шифром, и ни принц, ни Бекингем не смогли их прочитать. В спешке они черкнули короткую записку королю, датированную 2 марта: «Мы прибыли в Испанию живыми и здоровыми, в полном благополучии, и ни один месье нас не узнал» {156}.
Прибыв в Лондон, Гризли сообщил Якову, что молодые люди вполне здоровы, принц «очень весел», а милорд Бекингем «слегка утомлен».
На закате дня 7 марта путешественники въехали в Мадрид и в восемь часов вечера, прикрыв лица плащами, постучались в дверь английского посольства {157}.
Беспокойство в Англии: во всем виноват Бекингем
Отъезд принца и главного адмирала не мог долго оставаться тайной. Король сообщил о нем Тайному совету 20 февраля, в день, когда путешественники прибыли в Париж. Все члены совета выразили удивление и беспокойство. Большинство из них (за исключением сторонников союза с Испанией) возмутились тем, что решение о таком авантюрном предприятии приняли, не спросив их мнения.
Хранитель печати Уильямс, обычно столь осторожный и сдержанный, позволил себе написать Карлу укоризненное письмо: «Вашу поездку все считают крайне опасной. Поскольку Вы не получили приглашения от испанского короля и переговоры о Вашем браке едва начаты, Вам придется столкнуться с множеством ловушек со стороны Испании и Рима, а присутствие Вашего Высочества может побудить их к ужесточению условий договора» {158}. Он почти слово в слово повторил доводы, которые в свое время приводил король, пытаясь отговорить «двух мальчиков» от этой авантюры.
Общественное мнение неистовствовало. Говорили, что принц поехал за море, чтобы броситься в объятия папистов и предать дело протестантизма. Ответственность за экспедицию почти единодушно возлагали на Бекингема. Из письма Уильямса фавориту: «Вы должны знать, милорд, что если, не дай Бог, с Его Высочеством случится какое-нибудь несчастье, вина падет на Вас. Я обязан сказать Вам правду, и, если это Вас обидит, я уверен, что Вы меня простите, учитывая чистоту моих намерений» {159}.
Кое-кто заговорил об измене и стал требовать официального расследования. Брак принца с инфантой мало кто одобрял. Все понимали, что присутствие королевы-католички – это лишь первый шаг к узаконению католичества в Англии.
25 февраля король Яков послал в Мадрид графа Карлайла, бывшего виконта Донкастера, чтобы тот давал там молодым людям советы, как следует себя держать. Карлайл был знатоком придворного этикета.
Вскоре в Испанию отправились лорд Маунтджой, лорд Эндовер, лорд Воган, виконт Кенсингтон, множество врачей, священников, пажей, слуг – всего более двухсот человек, присутствие которых в Мадриде создало массу проблем для испанцев. Многие из этих людей впоследствии вернулись в Англию недовольные и разозленные и внесли свой вклад в разжигание ненависти к Испании.
Что до Якова I, то, как только его «два мальчика» уехали, он начал считать дни в ожидании их возвращения и даже написал стихи в честь «Джека и Тома»:
Ах, отчего омрачены сегодня Все души и сердца в Аркадии счастливой? Травою не прельщаются стада, Ягнята не резвятся, их не кормят овцы. Лишь алтари дымят и слышатся мольбы О скором возвращеньи Джека с Томом.Откуда эта грусть? Какой недуг Сразил аркадских пастухов счастливых? Увы, надежда наша и опора Властитель дум принц Джек уехал нынче,
А вместе с ним и Том, слуга надежный, Владыки Пана верный друг и раб.
О, пастухи! Вы, любящие их, Не предавайтесь горю, не ропщите. Возрадуйтесь: их небеса вернут Под отчий кров. Доверьте все заботы Владыке Пану: Джеку он отец, а Тому – друг {160}.
Уже на следующий день после отъезда Джека и Тома король написал им: «Да благословит Вас Бог, мои дорогие дети (my sweet babies), и пусть он дарует Вам скорое и счастливое возвращение» {161}.
Неделю спустя король в письме предостерегает «своих дорогих мальчиков, смелых рыцарей, достойных того, чтобы быть описанными в романе», от безрассудств, ибо посол Франции проинформирован о их поездке. Мы, впрочем, не знаем, каким образом эти письма доходили до адресатов.
Король надеялся, что отсутствие его «дорогих детей» продлится недолго. В письме от 27 февраля он просил Стини поторопиться с возвращением в Англию, как только будет назначен день свадьбы бэби Чарльза, потому что надо многое приготовить к приему молодых супругов. Король носил портрет Стини, «подвешенный на голубом шнуре под камзолом возле сердца». Спустя пятнадцать дней были уже готовы корабли, которым предстояло привезти Карла и инфанту, а также достойный эскорт для защиты от пиратов.
Карл Стюарт под небом Испании
Вечером 7 марта 1623 года (17 марта по испанскому календарю), когда уже сгущались сумерки, перед послом Бристолем предстал и Том Смит, то есть маркиз Бекингем, и Джек Смит, наследный принц Англии. Впрочем, Бристоль постарался изобразить крайнее удивление. Впоследствии он сетовал на то, что его поставили перед свершившимся фактом и его доводы не были услышаны.
Присутствие в Мадриде принца и главного адмирала нельзя было скрыть от испанских властей, не рискуя вызвать серьезные осложнения в международных отношениях. На следующее утро Бристоль честно предупредил Гондомара, с которым у него давно установились дружеские отношения. Гондомар поспешил поприветствовать Бекингема и выразил ему свою радость. Присутствие принца было весьма некстати, оно создавало трудности для соблюдения неписаного протокола, нарушить который могли только король Филипп и граф Оливарес. Гондомар отправился к Оливаресу, который, если верить легенде того времени, воскликнул: «Что это с Вами? Уж не прибыл ли в Мадрид английский король?» На что Гондомар якобы ответил: «Не король, но принц». Анекдот слишком красивый, чтобы быть правдой, но яркий, хотя и отдает театральностью {162}.
Встреча Бекингема и Оливареса была назначена на вторую половину дня и должна была состояться в присутствии Бристоля и Гондомара. С этого момента инкогнито отменялось, присутствие двух англичан становилось частью европейской политики.
В 1623 году Филиппу IV было 28 лет. Он еще не стал тем помпезным рыцарем, портрет которого спустя несколько лет написал Веласкес, и ему еще было далеко до образа печального старца, с которым встретился Людовик XIV на Фазаньем острове при подписании Пиренейского договора в 1659 году [37]. В интересующее нас время он был серьезным и молчаливым молодым человеком, любителем охоты и приверженцем этикета. Тридцатишестилетний граф Оливарес управлял государством, нося официальный титул «valido» (фаворит) [38]. На первый взгляд может показаться, что его положение было аналогично положению Бекингема в Англии, но между ними существовало огромное различие! Как между днем и ночью. Оливарес олицетворял тип человека, целиком посвятившего себя политике, решившего вернуть Испании мощь и богатство времен Карла V и Филиппа II. Он очень быстро понял поверхностность Бекингема; их взаимная неприязнь довлела над ходом переговоров.
Кроме короля и его министра, к испанскому двору принадлежали королева Изабелла де Бурбон, сестра Людовика XIII, которой исполнился двадцать один год, два младших брата короля и, разумеется, инфанта Мария, чей предстоящий брак стал основой всей завязавшейся авантюры. Нравы того времени не позволяли принцессе, тем более испанской, принимать политические решения. Однако по мере развития дела оказалось, что Мария решительно противится тому, чтобы ее насильно выдали замуж, и дипломатам и государственным деятелям приходилось считаться с ее личным мнением, хотя она и выражала его сдержанно и мягко.
Принцу Карлу, который сам отличался высокомерием и чопорностью, было нетрудно привыкнуть к церемонности мадридского двора. Другое дело Бекингем, привыкший к беспорядочному поведению при дворе Якова I и мало склонный к сдержанности. Даже если не принимать на веру обвинения, высказывавшиеся его врагами, которые впоследствии хотели вменить ему в вину неудачное завершение переговоров, несомненно, что его неприязнь (взаимная) к испанским порядкам сыграла не последнюю роль в печальном исходе дела.
Как только королю Филиппу сообщили о приезде двух путешественников, он выразил «великую радость и удовлетворение». Он дал Бекингему личную тайную аудиенцию, организовал нечто вроде официальной встречи с соблюдением инкогнито во время прогулки в Прадо, велел отвести принцу и его другу покои в королевском дворце. И переговоры начались.
Письмо Карла и Бекингема от 10 марта о приеме, оказанном им в Мадриде, прекрасно передает царившее там возбуждение. «Дорогой папа и крестный, мы приехали сюда в пятницу в пять часов вечера, оба пребывая в полном здравии… На следующий день Ваш дорогой Стини виделся с графом Оливаресом, который добился для него аудиенции у короля. Через день мы отправились на прогулку, чтобы встретиться с королем, королевой, инфантой, принцем Карлосом, кардиналом [39], папским нунцием, послами императора и французского короля, и все улицы были полны народа и охранников. Мы оставались как бы невидимы, сидя в карете, которую было запрещено замечать, хотя она и находилась на виду у всех. Наконец, после того как кортеж трижды проследовал мимо, граф Оливарес сел в нашу карету и проводил нас в наши апартаменты. Чуть позже он отвел Вашего сына на встречу с королем, и тот сохранял инкогнито, прикрыв лицо плащом. Мы пробыли наедине час, выражая друг другу комплименты и дружеские чувства. Можете судить по всему этому, сколь радуется король приезду Вашего сына и насколько мы были правы, говоря Вам, что наши послы проявляют слишком мало рвения… Покорнейший сын и слуга Вашего Величества Карл и смиренный раб и пес Стини» {163}.
15 марта и без того прозрачное инкогнито было снято. Карлу устроили официальный прием в королевском дворце, и на следующий день состоялось его торжественное представление королю. «Дорогой папа и крестный, – писали Карл и Бекингем в послании Якову. – Вчера, в воскресенье, Ваш бэби приехал в монастырь Святого Иеронима, что близ Мадрида, чтобы принять участие в обеде. С ним вместе обедали король и двор, и Вашего бэби посадили по правую руку от короля, соблюдая церемонный этикет, как это принято при приезде государей… Перед визитом к королеве произошел небольшой спор, касавшийся обмена приветствиями, с некой придворной дамой, однако, по мнению Вашего песика [несомненно, Бекингема], спор этот был надуманный, специально изобретенный для того, чтобы прийти затем к самому почетному примирению» {164}.
Узнав о прибытии в Мадрид английского принца, горожане пришли в восторг. На улицах слышались радостные возгласы. Лопе де Вега отметил это событие, написав четверостишие, которое вскоре стали распевать под аккомпанемент гитар:
Я – Стюарт Карл. Любовь меня влекла Под небеса Испании святые, Туда, где в блеске над землей взошла Моя звезда – прекрасная Мария [40].
Комедия ошибок
На протяжении всего визита двоих англичан в Мадриде устраивались празднества и выказывались свидетельства взаимного дружелюбия, что, как мы увидим, создавало Карлу и Бекингему, а точнее, королю Якову и британской короне, определенные финансовые трудности. Не рассказывая обо всех подобных событиях (это было бы утомительно), мы упомянем лишь некоторые, о которых нам известно благодаря брошюрам, публиковавшимся в то время и носившим пышные наименования, вроде следующих: «Правдивый рассказ и дневник приезда гостя и великолепного увеселения в честь высокого и могущественного принца Карла Британского, устроенного королем Испании при его мадридском дворе» или «Королевский увеселительный прием, данный в честь знаменитого принца Карла Его Величеством, великим и могущественным королем Филиппом, государем Испании, по случаю праздников Пасхи и Троицына дня 1623 года» {165}.
Однако главным было не это, а переговоры о браке Карла. А здесь с самого начала возникло взаимное непонимание.
Что касается английской стороны, то мы знаем, какое значение придавал Яков I союзу с Испанией. Раньше он уже планировал брак с инфантой своего старшего сына принца Генри, который, впрочем, не желал об этом слышать. Брак Карла и Марии был предметом неторопливого обсуждения дипломатов уже не менее семи лет. Война в Германии, точнее, изгнание Фридриха Пфальцского из его наследственных земель императорской и испанской армиями, в принципе, могло бы положить конец идее англо-испанского союза. Однако Яков, напротив, видел в подобном союзе средство мирным путем вернуть Пфальц своему родственнику. Таким образом, Пфальц рассматривался как нечто вроде приданого инфанты. Но на это мадридский двор не соглашался, разве что взамен были бы сделаны серьезные предложения, тем более что Пфальц, и Верхний, и Нижний, находился под властью императора, а тот, хотя и был союзником Испании, оставался полон решимости не допустить восстановления взбунтовавшегося Фридриха в правах курфюрста.
У испанской стороны было не меньше иллюзий. Во многом тут был повинен Гондомар: он уверял, что англичане в большинстве своем якобы мечтают вернуться к католической вере и король Яков не желает ничего другого, а потому будет достаточно отменить принятые при королеве Елизавете I законы против католиков, чтобы Англия вернулась в лоно Римской церкви. Надо сказать, что Яков, любивший изображать из себя доктора богословия и мудрствовать в теологических спорах, действительно, сам того не желая, мог дать основания для подобного заблуждения. Оливарес не совсем разделял уверенность Гондомара насчет добровольного обращения англичан, но внезапный приезд принца позволял, по крайней мере наивным людям, поверить, что он во всяком случае не станет противиться серьезным, даже очень серьезным уступкам в пользу английских католиков. Все в Мадриде были убеждены, что Карл вот-вот объявит о собственном переходе в католичество. Даже посол Бристоль задавал себе этот вопрос. Ведь будь это так, ему укоротили бы крылья и его карьера потерпела бы крах.
Что касается Бекингема, то он не обладал политическим чутьем и не был способен на хитроумные маневры, – двигая пешку в обход, выводить при этом другую в дамки, делать видимые уступки, готовя ловушку, громко заявлять об отказе, чтобы принудить к торговле. Он совершенно искренне поверил в перспективы, которые в письмах рисовал Гондомар. Он, как и Карл, терял терпение из-за проволочек дипломатии (проволочек, которыми король Яков, напротив, умело пользовался). Бекингем, блестящий кавалер, не умел «не торопить время», как выразился три с половиной века спустя один государственный деятель, не любивший спешить.
Переговоры увязали в спорах, разрешение из Рима запаздывало, а только что преодоленные препятствия возникали вновь. Бекингем начал раздражаться и наконец стал настаивать на разрыве.
Но вообще, реален ли был «испанский брак», как его называли в Англии? На этот счет существуют разные точки зрения. Но ясно одно – из всех участников переговоров Джордж Вильерс, маркиз Бекингем, менее всего годился для роли посредника. «Было бы невозможно выбрать для столь неопытного молодого человека, как принц Карл, более неподходящего советника, нежели Бекингем». Таков вывод знатока эпохи С. Р. Гардинера, и с ним трудно не согласиться {166}.
Глава XI «Испанцы хуже демонов»
Всемогущий Бекингем
Историки сходятся во мнении, что из всех ошибок, совершенных во время визита в Испанию, самой серьезной было то, что английская сторона поручила вести переговоры Бекингему. Он был очарователен, обаятелен, соблазнителен, но совершенно не владел искусством дипломатии. Во время мадридских переговоров он становился то слишком доверчивым, импульсивным, то раздражительным, нетерпеливым, готовым все бросить, столкнувшись с препятствием. Ему противостоял Оливарес, опытный государственный деятель, умеющий владеть собой, изощренный в тонкостях и переплетениях европейской политики, и, главное: крупный испанский вельможа, презиравший такого выскочку, каким, несмотря на все свои достоинства, был Джордж Вильерс. Оливарес был опасным противником, игроком более высокого класса.
Несомненно, лучшим кандидатом на роль переговорщика был бы Бристоль, которого знали и ценили в Мадриде. Он говорил с Оливаресом и Гондомаром на привычном им условном языке, владел, подобно им, искусством пользоваться уловками и недомолвками. Король Яков ценил его и доверял ему. Однако характер Бристоля не позволял ему прятаться в тени Бекингема. Он был сильно уязвлен тем, что с ним не посоветовались по поводу поездки принца и даже не предупредили о ней. Впоследствии он заявил, что, спроси король его мнение, он отсоветовал бы ему пускаться в подобную авантюру. С самого начала, при всем уважении к наследнику престола, Бристоль дал понять Карлу, что не допустит, чтобы на него свалили вину за ошибки Бекингема и двусмысленности переговоров, о которых он ничего не знает: «Государь, Ваши слуги могут хорошо служить Вашему Высочеству, только если они знают волю их господина. Потому я прошу Вас дать мне разъяснения. Здесь все говорят, будто Ваше Высочество намерены переменить вероисповедание и заявить об этом публично. Я не подталкиваю Ваше Высочество к подобному решению и не обещаю следовать Вашему примеру, если таково Ваше желание. Но, будучи верным слугой, я буду помогать Вам, насколько это в моих силах». Карл, в гневе, ответил так: «Не знаю, что могло дать Вам повод подумать, будто я способен на столь низкий поступок, как измена вере ради женитьбы» {167}.
Трудно представить себе худший случай взаимонепонимания, столь опасного для дальнейшего хода переговоров. Ответственность за это лежит на Карле в не меньшей степени, чем на Бекингеме: отстранение Бристоля от переговоров на все время пребывания принца и его друга в Мадриде (что было быстро и с огорчением замечено испанцами) не могло не сказаться скверным образом на их исходе. Оливарес и сам Филипп IV прекрасно это сознавали, ведь они – вполне обоснованно – куда больше доверяли профессиональному дипломату, нежели экстравагантному фавориту и неопытному принцу.
Богословы и дипломаты
Нам, живущим в начале XXI века, трудно понять тот факт, что пунктом, на котором испанское правительство настаивало более всего, главным узлом переговоров стал не Пфальц и не приданое инфанты, а судьба английских католиков, а точнее: отмена законов, со времен Елизаветы I запрещавших официальное отправление католического культа в Англии и предполагавших суровые наказания для рекузантов.
Вопрос об английских католиках был поднят в самом начале переговоров о браке английского принца-наследника и испанской инфанты.
Впоследствии ему придавалось все более серьезное значение. Филипп IV, хотя и не отличался такой набожностью, как его дед Филипп II, был убежденным католиком. Инфанта, испытывавшая отвращение к браку с еретиком, была готова согласиться при условии, что принц спасет братьев по вере по ту сторону Ла-Манша. И папа, чье разрешение на брак также было непременным условием, решил воспользоваться удобным случаем. В Риме, и даже в Мадриде, были убеждены, что Карл готов сделать решительный шаг и обратиться в католичество, а затем вернуть Англию в лоно Римской церкви. Понятно, что это была иллюзия, но так уж были настроены умы в те времена непримиримой и воинствующей веры. В самой же Англии возможность папистского наступления на англиканскую церковь вызывала ужас и ярость.
С испанской стороны король и церковь создали «хунту» (мы бы сказали: комиссию) богословов, которым предстояло рассмотреть все трудности, связанные с браком инфанты и протестанта. Папский нунций Массими представлял точку зрения наместника святого Петра, каковым был в то время Григорий XV. Между отъездом гонца в Рим и его возвращением прошли недели. Оливарес говорил Бекингему, что старается ускорить переговоры, что даже угрожал нунцию обойтись без него, если папа будет слишком медлить с ответом. Однако Бекингем был убежден, что на самом деле Оливарес тормозит ход дела. «Причиной всех проволочек являются интриги графа Оливареса. Он пользуется нашим нетерпением, нашим желанием поскорее добиться результата и постоянно выдвигает новые условия. Он говорит, что старается убедить богословов, и утверждает, будто до сих пор не имеет возможности назвать нам точные даты», – написали Карл и его друг королю Якову 26 июня {168}.
Как мы видели, поначалу испанцы были убеждены, что Карл приехал, дабы обратиться в католичество. Он страстно отрицал это, однако согласился присутствовать (читай: участвовать) на богословских диспутах в монастыре Святого Иеронима. Во время диспутов монахи, подкрепляя свои речи цитатами из Священного Писания и трудов Отцов Церкви, изо всех сил старались доказать принцу справедливость владычества папы над церковью. В этой доктрине как раз и заключался тот подводный камень, на который натолкнулось сближение религий: ведь главенство короля Англии над церковью его страны составляло основу религиозного права по ту сторону Ла-Манша.
Бекингем присутствовал на этих диспутах, но они нагоняли на него такую тоску, что однажды он в ярости вскочил и стал топтать ногами собственную шляпу {169}. Что до Карла, то он лучше умел сдерживать чувства, но возражал против приводимых монахами доказательств – не зря он был сыном своего отца! Наконец испанцы устали и отказались от мысли обратить в свою веру английского принца и его друга. Король Яков выразил по этому поводу удовлетворение и радость. Однако вопрос о судьбе английских католиков оставался открытым, и в этом деле ни Бекингем, ни Карл уже не проявляли такой стойкости.
Карл влюбился
В марте, в тонкой сети брачных переговоров завязался новый узелок: Карл влюбился в инфанту.
По словам очевидца Джеймса Хоуэлла, инфанта была «очень красивой девушкой, больше похожей на фламандку, нежели на испанку, блондинкой, со свежим розовым и белым цветом лица, с довольно полными губами, как это часто бывает у членов ее семьи» {170}. Она действительно совсем не походила на испанских дам, «чернявых и обожженных солнцем», как насмешливо выражались англичане из свиты принца {171}. Естественно, что парик, веер и мантилья, прикрывавшие лицо принцессы, оберегали ее от жары, которую в то время в Европе считали губительной для красавиц.
«Бэби Чарльз ранен в сердце, – писал Бекингем королю Якову 17 марта. – Он говорит, что все дамы, которых он встречал прежде, не могут сравниться с его невестой, и он готов бороться с каждым, кто вздумает противиться этому браку» {172}. На прогулке, в театре, на придворных праздниках принц не сводил глаз с инфанты, и она от этого краснела. Оливарес язвительно говорил, что Карл похож на «кота, стерегущего мышь» {173}. Жених дошел до того, что публично, в присутствии двора отпустил инфанте столь смелый комплимент, что даже королева – француженка и дочь Генриха IV – была шокирована {174}. В другой раз он перепрыгнул через ограду сада, где инфанта отдыхала со своими дуэньями. Потребовалась вся настойчивость последних, чтобы убедить его уйти, дабы избежать скандала, которого король Филипп никогда бы ему не простил {175}.
Оливарес охотно поощрял романтическую страсть двадцатитрехлетнего Карла к испанской принцессе: он пользовался ею, чтобы добиваться все новых уступок, и Карл – иногда вопреки мнению Бекингема – все чаще шел у него на поводу.
Принц Карл готов на уступки
Нет необходимости подробно, день за днем, прослеживать здесь историю переговоров, в которых, в течение шести месяцев, участвовали не только главные заинтересованные лица, но и богословы хунты, папа и его нунций, король Англии и все его советники, разные официальные лица обоего пола, каковых было множество у обеих сторон. Расхождение между юлианским и григорианским календарями, необходимость учитывать время, затраченное на доставку писем из Мадрида в Рим и Лондон и обратно, создают дополнительные трудности при попытке детально восстановить ход переговоров. Например, иногда документы, составленные в Мадриде, оказываются датированы более поздними числами, чем поступившие из Лондона и Рима, но относятся к более ранней стадии переговоров и отражают неведение их авторов относительно того, что к тому времени уже произошло за морем или за горами.
Обычаи дипломатии того времени, ее изощренные методы тем более затрудняют анализ. Порой кажется, что какой- либо пункт договора окончательно урегулирован, а на деле речь идет всего лишь о полуобещании или полуобязательстве. Испанцы были мастерами подобной игры, однако английский принц в этом им не уступал: обе стороны обвиняли друг друга в двуличии.
Поэтому, опираясь на информацию, полученную из официальной и частной переписки, мы ограничимся описанием основных тенденций, проявившихся во время переговоров, и в первую очередь роли, которую играл в них Бекингем.
Мы уже убедились, что Бекингем, нетерпеливый и резкий в высказываниях, был совсем не готов к той миссии, которую доверили ему его «дорогой папа и крестный» и его друг Карл. Взбешенный Оливарес однажды бросит ему в лицо: «Это дело продвигалось бы куда лучше, если бы Вы не встревали, а поручили его графу Бристолю» {176}. Однако и сам Карл, с его уловками и двусмысленностями, нес большую ответственность за взаимонепонимание, в результате которого переговоры затягивались до бесконечности и в конце концов завершились провалом.
Двумя основными проблемами, как мы видели, являлись судьба английских католиков (в первую очередь доступ для них в часовню инфанты после того, как она выйдет замуж за наследника престола) и возвращение Пфальца Фридриху. Оба эти вопроса практически не имели решения, а значит, переговоры были тщетны, что предвидели наиболее дальновидные политики той эпохи и, в частности, Бристоль. Бекингем, после того как угасли иллюзии первых дней пребывания в Испании, также достаточно быстро осознал это. Только Карл упорствовал вопреки доводам разума. Король Яков прекрасно понимал, до какого предела он может позволить себе уступки, но он больше не имел возможности противостоять неосторожным поступкам своего «бэби», поскольку горел желанием поскорее увидеть его и Бекингема.
Нельзя забывать, что переговоры осложнялись военными действиями в Германии. Война продолжалась и тогда, когда Карл и Бекингем были в Мадриде. Последняя крепость Пфальца Франкенталь, все еще сопротивлявшаяся католикам, пала 21 апреля. 27 июля главный союзник Фридриха Христиан Брауншвейгский потерпел поражение при столкновении с войсками Тилли под Стадтлоо. В военном отношении дело родственников Якова I было проиграно. У англичан не было ни одного козыря в игре за возвращение Пфальца.
Об условиях жизни инфанты в браке удалось довольно легко договориться. У нее должна была быть своя католическая часовня со своими священниками. Однако король Яков возражал против того, чтобы эта часовня была открыта для английских католиков, а испанцы как раз этого требовали. Что касается детей, которым предстояло родиться от этого союза, то богословы настаивали, чтобы до двенадцати лет они оставались под опекой матери, а это фактически означало воспитание в католической вере. Принятие подобных условий обещало суровые разногласия с протестантами, и все же в конце концов король Яков дал принципиальное согласие, хотя и снизил возрастные рамки до десяти лет {177}.
Куда более яростным было обсуждение английских законов против католиков. Яков I понимал, что этот вопрос будет самым сложным. Он предостерегал сына и Бекингема от обещаний, которые потом невозможно будет выполнить. Но он находился в Лондоне, или в Теобальдсе, или в Ройстоне, а молодые люди в Мадриде и, противостоя Оливаресу, испанским богословам и папскому нунцию, испытывали (особенно Карл) огромное искушение вывернуться при помощи уловок и хитростей, которые впоследствии могли вовлечь их в обязательства, значительно превосходившие намерения их «дорогого папы».
Типичный пример такого взаимонепонимания содержится в письме Карла и Бекингема Якову I от 1 марта: «Граф Оливарес столь высоко ценит наше пребывание здесь, он столь любезен с нами, что мы не можем не просить Ваше Величество написать ему письмо, выражающее самую большую признательность, какую возможно. Сегодня утром он сказал нам, что если папа не даст разрешения на брак, то он отдаст инфанту Вашему сыну в любовницы. Он написал сегодня племяннику папы кардиналу Людовези письмо с просьбой ускорить получение разрешения. Папский нунций втайне, но весьма деятельно, плетет против нас интриги, однако получает [от Оливареса] столь суровый отпор, что, мы думаем, скоро уступит. Мы просим Вас сообщить, до какой степени, в случае, если Рим откажет в разрешении, мы могли бы признать от Вашего имени духовное главенство папы, ибо мы полагаем, что имей мы возможность от Вашего лица признать папу главой Церкви, унаследовавшим Христу, то брак был бы заключен» {178}.
Это письмо было адресовано «лучшему из отцов и государей», но оно сильно встревожило адресата. «Я не понимаю, что Вы имеете в виду под духовным главенством папы. Я надеюсь, что Вы не предполагаете заставить меня отречься от моей веры, ибо я не сделаю этого ни за что на свете. Единственное, на что я мог бы согласиться, это на то, чтобы, в случае если папа откажется от узурпированной им высшей власти, признать его первым из епископов, к которому другие епископы могут прибегать как к последней инстанции. Такова крайняя уступка, какую я могу сделать, потому что я не какой-нибудь "месье" [41], который меняет религию, как рубашку после игры в теннис» {179}.
Нет никаких сомнений, что, будь это письмо обнародовано в Англии, оно вызвало бы бурю возмущения. Однако подобная уступка, огромная с точки зрения англичан, казалась недостаточной испанцам и Риму.
24 апреля 1623 года в Мадриде стало известно, что разрешение папы наконец получено. Карл и Бекингем подумали, что теперь переговоры завершатся, но они ошиблись: переговоры только начинались. Ведь разрешение было дано с условием: оно вступало в силу, только если король Англии официально согласился бы вернуть английским католикам полную свободу отправления культа и полностью отменить направленные против них законы. Кроме того, часовня инфанты должна была оставаться открытой для всех без исключения, а ее английские служители должны были получить освобождение от присяги главе церкви, то есть от признания главенства короля над церковью в Англии, каковое было формальным требованием для всех чиновников.
Эти сформулированные в Риме условия означали отмену всех ранее достигнутых договоренностей. По сути они были равноценны отказу, ведь папа не мог не понимать, что требует невозможного. 3 мая состоялась встреча в присутствии Оливареса и с участием Гондомара. Она вылилась в бурную дискуссию. В конце концов Карл согласился предложить отцу «приостановить» действие антикатолических законов, с отсрочкой выполнения этого обязательства не более чем на год. То была первая уступка, которая потянула за собой следующие. Тайная встреча папского нунция Массими с Бекингемом закончилась упреками, «граничившими с угрозами» {180}.
В течение какого-то времени складывалось впечатление, что дело идет к разрыву. Испанские власти были раздражены слишком большим числом англичан, явившихся в Мадрид, чтобы составить свиту принца. Им создавались по возможности неудобные условия проживания, их размещали подальше от двора, стараясь создавать массу неприятностей. Прожив около десяти дней в Мадриде, Джеймс Эллиот заявил, что «до сих пор он не верил в чистилище, но теперь знает, что оно находится в Испании» {181}. Даже самому принцу было отказано в праве принимать в своих покоях в мадридском королевском дворце англиканских священников, которых послал к нему отец: не могло-де идти и речи о том, чтобы допустить этих еретиков в священное место. Карл возмутился и заметил, что не лучший способ добиваться для инфанты свободы католического культа в Англии, отказывая в такой свободе ему, ее будущему супругу. Это не помогло: единственным местом, где в Испании допускали протестантские обряды, оставалось английское посольство. Карл уступил, как, впрочем, и всегда.
Король Яков плачет… и платит
Правда, с самого начала визита Карла и Бекингема в Испанию им старались услужить и заваливали их подарками. Королева преподнесла принцу золотой кувшин для воды и надушенное домашнее платье. У обоих англичан были кареты, конюшня, полная лошадей, сотня слуг, им подавали изысканные блюда, посылаемые королем Филиппом. Чтобы сохранить достоинство, следовало платить тем же.
17 марта Яков I послал своим «двоим мальчикам» драгоценности («часть из них принадлежат мне, часть – Ваши, я хочу сказать, они – для Вас обоих, и все достойны того, чтобы Вы их носили, или того, чтобы мой бэби подарил их своей возлюбленной»). Среди этих вещей были: лотарингский крест, «скорее древний, нежели дорогой, но не лишенный ценности», зеркало, «с моим портретом», две красивые бриллиантовые подвески в форме якоря для инфанты, красивая нить жемчуга, колье из тринадцати больших бледных рубинов, тринадцать бантов с жемчугами, головной убор, украшенный крупными грушевидными жемчужинами, три бриллиантовые подвески грушевидной формы, которые инфанта могла носить на лбу и в ушах. Бэби Чарльзу предназначались круглая бриллиантовая брошь и треугольник из бриллиантов с крупной круглой жемчужиной в центре, а также «Три Брата в новой оправе» [42] и «Зеркало Франции» (аналог бриллианта португальского), которое «Стини может носить на шляпе, увенчанной небольшим черным пером, и еще две алмазные пуговицы для его куртки»… И так далее и тому подобное, – настоящая опись ювелирной лавки {182}!
Еще Яков прислал молодым людям плащи и знаки отличия ордена Подвязки, чтобы они надели их в День святого Георгия. Но и это еще не все. Карл и Бекингем решили, что присланные драгоценности «не достойны такой принцессы, как инфанта». Кроме того, следовало сделать подарки разным вельможам. Получив их письмо, несчастный король потерял самообладание: «Умоляю Вас: будьте по возможности экономны, ибо, Бог свидетель, мои сундуки пусты». И все-таки ему пришлось повиноваться. «После того приема, какой Вам оказали в Мадриде, боюсь, Вы станете презирать своего старого папу», – вздыхает король. И вправду, английский двор, в отличие от испанского, не располагал сокровищами Америки… Тем не менее Яков прислал еще драгоценностей, а также верблюдов и слона для короля Филиппа, собак, соколов и коней для Оливареса.
Празднества следовали одно за другим. 22 апреля, в День святого Георгия, Карл пригласил своего будущего шурина и самых знатных испанских вельмож на большой пир, который едва не кончился плохо из-за протокольных неурядиц.
Затем был задуман турнир, для которого из Англии следовало прислать оружие и рыцарские доспехи. Добрый король Яков сходил с ума от беспокойства за своих дорогих мальчиков и советовал им соблюдать осторожность. В конце концов турнир не состоялся, однако устраивались охоты, балы, корриды, описанные в хрониках не хуже, чем подобные события описываются в наши дни в иллюстрированных журналах.
Все эти мероприятия были разорительны. К ним добавлялись расходы на содержание английских кораблей, стоявших в Портсмуте и готовых плыть за инфантой и принцем, а также траты на подготовку в Сент-Джеймсском дворце покоев для будущей принцессы Уэльской и ее часовни («храма для дьявола», – ворчала лондонская толпа).
Поскольку увеличить налоги было невозможно (ведь парламент не созывался), король умолял Бекингема настоять на получении части наследства инфанты в валюте {183}. Это было все равно что делить шкуру неубитого медведя. Излишне говорить, что эта затея не удалась.
Его Сиятельство герцог Бекингем
Английские любители позлословить, утверждавшие, будто король устал от Бекингема и возлагает на него ответственность за возникшие в Испании трудности, получили веское доказательство своей неправоты, когда Яков I внезапно решил возвести своего фаворита в самый высокий аристократический сан. Патентом от 18 мая 1623 года он даровал ему титул герцога.
Со времени смерти герцога Норфолка в 1572 году в Англии больше не было герцогов (за исключением членов королевской семьи). Таким образом, присвоение этого титула Джорджу Вильерсу означало высочайшую милость и было всеми расценено именно так. Об этом свидетельствует благодарственное письмо, посланное новоиспеченным герцогом своему благодетелю: «Дорогой папа и крестный, прочитав Ваше письмо, я помимо воли покраснел, осознавая, сколь недостоин оказанной чести. Я смею сказать, что не во власти Вашей руки и Вашего сердца, сколь бы любящим оно ни было, заставить меня еще больше, пусть даже ненамного, любить Вас или возгордиться, получив титул, которым Вы соизволили поставить меня выше прочих… Единственное, что важно для меня, это то, чтобы Вы всегда любили Вашего Стини больше других Ваших слуг. Мне нечего добавить, и я ставлю свою подпись, от всего сердца Ваш бедный Стини, герцог Бекингем» {184}.
За все время испанской поездки отеческая любовь короля к «дорогому мальчику» (в одном письме он назвал его: «мой побочный сынок (my bastard brat)») не ослабевала. Он часто сообщал ему в письмах новости о Кейт и маленькой Молли, которые навещали его в охотничьих замках, доставляя этим огромную радость. «В Теобальдсе Его Величество гулял с Марией Английской, заботился о ней. Изображая ее отца, шутил: как у такого некрасивого мужчины, как он, могла родиться столь прелестная дочь? Это же чудо!» {185}
Кейт писала мужу, расточая похвалы королю, который стал для нее отцом. «Сердце мое, когда сюда прибыл Киллигрю [43], я понадеялась было, что он возвестит о Вашем скором возвращении. Вы спрашиваете о том, как дела у нашей очаровательной Молли. Слава Богу, у нее все очень хорошо. Если поставить ее на пол и держать за руку, она начинает столь быстро перебирать ножками, что, мне думается, она научится танцевать быстрее, чем ходить. Когда играют сарабанду, она постукивает большим и указательным пальцами, как будто отбивая размер, а когда поют "Tom Duff', она подбирает фартучек и пританцовывает, никогда не сбиваясь с ритма. Если бы Вы ее увидели, то остались бы очень довольны. Скоро я пошлю Вам ее портрет» {186}.
Обещания принца Карла
В конце апреля мадридские переговоры вроде бы сдвинулись с мертвой точки. Несомненно, здесь проявилась воля Оливареса, который уже не знал, как выбраться из тупика. Сообщения современников о его отношениях с богословами и папским нунцием неоднозначны: некоторые полагали, что он действительно возмущен непримиримостью папы и кардиналов, другие – в особенности англичане – подозревали, что это сплошное притворство, а по сути он делает все, чтобы помешать браку. Понятно, что точки зрения и стратегии менялись в зависимости от международной обстановки, и потому легко найти подтверждение как первому предположению, так и второму.
29 апреля Карлу показалось, что дела идут так хорошо, что скоро все благополучно завершится. «Государь, – пишет он отцу, – я вынужден констатировать, что если у меня не будет подписанного Вашим Величеством документа, который подтверждал бы обязательство ратифицировать даваемые мною от Вашего имени обещания, то все дело значительно затянется. Потому я покорнейше прошу Ваше Величество прислать мне бумагу, составленную следующим образом: "Словом короля я обязуюсь в точности ратифицировать все, что мой сын пообещает от моего имени". Я знаю, государь, что прошу слишком многого, и я никогда не осмелился бы попросить об этом, если бы это не было абсолютно необходимо. Надеюсь, что Вам никогда не придется сожалеть об оказанном мне доверии. Нижайший и покорнейший сын и слуга Вашего Величества, Карл» {187}.
Можно понять, как боялся король Яков предоставить ему такие огромные полномочия. Однако король настолько сильно желал скорейшего возвращения Карла в Англию вместе с супругой, что уступил. «Мои дорогие мальчики, – написал он 11 мая из Гринвича, – посылаю вам приложенное к сему разрешение, о котором вы меня просили. Было бы странно с моей стороны отказать в этом знаке доверия моему единственному сыну и лучшему из моих советников. [Заметим, что письмо адресовано «двум мальчикам», хотя просьба от 29 апреля исходила от одного Карла.] Я знаю, что вы не пообещаете от моего имени ничего такого, что могло бы вступить в противоречие с моей совестью, моей честью, моей безопасностью. Потому я передаю в ваши руки всю полноту власти и благословляю вас обоих, моля Бога, чтобы, достигнув успеха, вы как можно скорее вернулись и я мог заключить вас в объятия. Ваш дорогой отец, Яков R[ex]» {188}.
Текст разрешения был составлен почти слово в слово так, как просил Карл: «Настоящим я обещаю, заверяя обещание королевским словом, что в точности и досконально выполню все то, что мой дорогой сын обязуется сделать от моего имени. Дано в Гринвиче 11 мая. Яков R[ex]». Опасное обязательство! Вскоре Якову I пришлось пожалеть об этом.
Дело в том, что, невзирая на советы Бекингема, который теперь уже понимал, что каждая уступка испанцам влечет за собой бесконечную цепь новых условий, Карл упорно стоял на своем. Он согласился на католическое воспитание своих будущих детей до достижения ими двенадцатилетнего возраста, на изменение текста присяги королю, делавшее ее приемлемой для католиков, на то, чтобы часовня инфанты была открыта для всех, и – что опаснее всего – на то, что король немедленно приостановит действие законов против католиков и потребует от парламента их отмены не позже, чем через три года. В то же время он написал папе письмо на латинском языке с уверением, что сделает все возможное для того, чтобы английские христиане могли «вместе исповедовать единство Церкви» {189}. Но, несмотря даже на это, испанские богословы считали уступки недостаточными: они потребовали, чтобы инфанта оставалась в Испании до тех пор, пока обещания принца не будут выполнены.
Бекингем разозлился. Он уговаривал Карла прервать эти «лживые и нечестные» переговоры и вернуться в Англию. Карл начал сомневаться. 31 мая он послал к отцу Фрэнсиса Коттингтона с сообщением о последних условиях испанцев. Одновременно, на том же корабле, Оливарес послал в Англию нового чрезвычайного посла, дона Андреса де Инхосу, который получил задание убедить короля Якова. Король спустился с небес на землю. Его письмо Карлу и Бекингему от 14 июня выдержано в патетических выражениях: «Мои дорогие мальчики, ваше письмо, привезенное Коттингтоном, чуть не убило меня. Боюсь, оно сократит мои дни, ибо теперь я уже не знаю, как удовлетворить ожидания народа и как объяснить происходящее Совету. Флот готов, и я решительно не могу найти предлога, чтобы и дальше задерживать его. Мое мнение таково: если испанцы не пожелают изменить своих условий, вы должны сразу же вернуться в Англию, даже не подписав договора. Если вы не вернетесь до зимы, боюсь, вы больше не увидите своего старого папу живым. Увы, как я сожалею, что позволил вам уехать! Мне наплевать на этот брак и на все остальное. Единственное, чего я хочу, это заключить вас в свои объятия. Да поможет мне Бог! Да поможет мне Бог! Аминь! Аминь! Аминь! Обещаю вам, что вас примут здесь с такой же радостью, как если бы вы добились всего того, ради чего уезжали. Да благословит Бог вас обоих, мой дорогой и единственный сын и мой единственный и лучший слуга (my sweet only son and my only best, sweet servant)» {190}.
Казалось, переговоры окончены. Но не тут-то было: Оливаресу снова удалось удержать Карла, пообещав, что он заставит папу римского и нунция прислушаться к доводам разума. 30 июля Бекингем сообщил своему «дорогому папе», что графиня Оливарес заступилась за них перед своим мужем (к этому мы еще вернемся), а инфанта, со своей стороны, решительно настроена помешать тому, чтобы принц уехал без нее, ибо теперь она «решилась выйти за него замуж». Можно было подумать, что все внезапно устроилось и остается лишь дождаться, когда король Англии назначит день бракосочетания {191}.
Яков опять уступил. И на этот раз он сделал решительный шаг. 13 июля он созвал Тайный совет и сообщил ему о ходе переговоров. Дипломатичный хранитель печати Уильямс заметил, что король Франции не стремится истребить протестантов в своем королевстве, а Генеральные штаты Соединенных провинций не запрещают католичества, и потому английский король может позволить католикам отправлять свой культ до тех пор, пока они подчиняются законам и не пытаются подорвать устои главенствующей церкви {192}. В конце концов Совет согласился с испанскими условиями, и 20 июля Яков I подтвердил свои обещания в присутствии двух испанских послов, Коломы и Инхосы {193}.
Вскоре последовали конкретные меры. Яков сообщил сыну и Бекингему: «Я сделал все, что мог [для католиков]. Я приказал отменить все штрафы, налагавшиеся на рекузантов, но не забывайте, что это стоило мне 36 тысяч фунтов дохода из Англии и Ирландии, а это составляет по меньшей мере треть приданого инфанты» {194}. (Подобное упоминание размеров штрафов, взимавшихся с католиков, показательно.) Затем, несколько превысив свои права, король согласился скрепить большой государственной печатью приостановление «всех законов, согласно которым рекузанты могут быть подвержены наказанию за следование римской католической религии в частных домах или по какому-либо другому поводу, касающемуся их совести, за исключением случаев скандалов или публичных демонстраций» {195}.
Яков писал, что если и после этого испанцы останутся недовольны, то они «хуже демонов» {196}. Но – увы – так и получилось: они и впрямь повели себя хуже демонов. Они пожелали не только отмены штрафов и приостановления действия законов, а начала парламентской процедуры для их полной отмены. Пока эта мера не принята, об отъезде инфанты не могло быть и речи. Принц мог уехать домой вместе с Бекингемом, но его невеста должна была остаться по меньшей мере до следующей весны. Что до приданого, которого столь жаждал английский король, то оно не будет отправлено раньше инфанты.
Все это принесло Карлу горечь и разочарование (Бекингем-то уже давно не питал никаких иллюзий), к тому же папа Григорий XV скончался в начале июля и его разрешение потеряло силу. Следовало возобновить переговоры с новым папой, Урбаном VIII Барберини, а тот оказался еще ретивее своего предшественника. Короче, все надо было начинать сначала. Бекингем считал, что нужно бросить это дело и немедленно вернуться в Англию. Однако упрямый по характеру Карл не желал уступать. В конце концов он согласился на то, чтобы инфанта осталась в Испании до весны, но хотел, чтобы брак был заключен до этого. В течение всего августа переговоры кружились вокруг этого пункта. Наконец, внезапно, вопреки всем ожиданиям, показалось, что узел распутан.
Донья Мария, принцесса Английская
Зная психологические особенности Карла Стюарта, довольно легко понять, почему он отказывался признать невозможность своего брака с инфантой: гордыня, неумение реально оценивать обстановку, чувство долга и неправильное понимание политических процессов – все это было характерно для него и впоследствии, до конца жизни.
Позицию испанцев, напротив, понять довольно трудно. Несмотря на постоянные заверения Оливареса, нелегко поверить, будто он действительно считал этот брак возможным. Религиозные препятствия казались непреодолимыми, и решение зависело как от притязаний папы и богословов, так и от судорожных реакций английского общественного мнения. («Приостановление законов против католиков может быть осуществлено только после решения парламента. Я умоляю Ваше Величество задуматься над тем, какие ужасные следствия может повлечь за собой подобное беззаконие», – писал королю Якову архиепископ Эббот {197}.) Что до Пфальца, то теперь, менее чем когда-либо, можно было надеяться, что Испания поддержит идею его возвращения Фридриху: на этот счет Оливарес высказался совершенно ясно.
Учитывая все вышесказанное, трудно понять, какой интерес мог представлять для Испании этот брак. Скорее всего переговоры служили испанцам просто обманным ходом (как, впрочем, и для Англии). Вместе с тем, начиная с середины июля, Оливарес и король Филипп постоянно делали шаги к примирению. 19 июля Карл и Бекингем написали своему «дорогому папе», что они надеются привезти инфанту в Англию ко Дню святого Михаила {198}. И действительно, 26 июля было подписано предварительное соглашение о браке. Инфанта Мария получила титул принцессы Английской и засела за изучение английского языка. Казалось, все решено.
Что же произошло? Обещание, данное королем Яковом в присутствии Тайного совета, несомненно, сыграло свою роль. Карл, со своей стороны, дал обязательство, вернувшись в Англию, делать все, что в его силах, для английских католиков. Он развивал в присутствии инфанты мысль о том, что она обретет величайшую заслугу перед Богом, вступив в брак, благодаря которому ее братьям по вере будет возвращена свобода {199}. В то же время Бекингем пытался убедить Оливареса, что отказ Испании от брака инфанты с принцем Карлом отрицательно скажется на судьбе английских католиков. Будущее покажет, что в этом он оказался прав {200}.
Радуясь хорошим новостям, Яков уже писал инфанте как своей невестке: «Сударыня, слава Ваших добродетелей не только побудила моего дорогого сына отправиться столь далеко, чтобы увидеть Вас, но пробуждает также во мне горячее желание познакомиться с Вами и обнять столь замечательную принцессу как свою дочь. То будет несравненной радостью для Вашего любящего отца, короля Якова» {201}. В Англии ускорили подготовку к встрече принца Карла и его супруги.
Контракт подписан
Однако возникли новые препятствия. Летом в Мадриде стоит палящая жара. Нервы у всех на пределе. В это время Бекингем заболел лихорадкой. Ему несколько раз делали кровопускание. Он поправился, но сильно ослаб. Теперь у него оставалось лишь одно желание: как можно скорее вернуться в Англию. Карлу тоже становилось все труднее переносить климат Кастилии. Он попросил отца потребовать его немедленного возвращения, чтобы тем самым ускорить решение короля Филиппа. Ответ, датированный 10 августа, пришел быстро: «Мой дражайший сын, я требую и благословляю Вас на то, чтобы Вы как можно скорее вернулись в Англию вместе с Вашей возлюбленной либо без нее. Я знаю, что любовь к ней заставляет Вас продлевать свой визит в ожидании заключения брака. Я весьма счастлив, что Вы этого желаете, однако необходимость, проистекающая из дел моего королевства, понуждает меня сказать Вам, что Вы должны предпочесть повиновение отцу любви к невесте. Да благословит Вас Бог. Яков R[ех]» {202}.
Тут уж Оливарес оказался прижатым к стене. Он опять сослался на решение королевских богословов: брак может быть заключен после того, как прибудет разрешение нового папы, но принцесса останется в Испании до весны. Для Карла (но не для Бекингема, которого подобное решение не удивило) это стало крушением иллюзий. Его одурачили, унизили! Он объявил о своем отъезде: он покинет Мадрид 29 августа.
Неисправимый Оливарес вновь попытался (по привычке?) продлить переговоры. Но Бекингем внезапно поднял вопрос о Пфальце: да или нет, собирается ли испанский король требовать восстановления государства и наследственных титулов Фридриха, которого в Англии, вопреки здравому смыслу, по-прежнему называли «королем Богемии»? Оливарес встал на дыбы: ответ может быть только отрицательным! В ярости он даже проговорился: да будет Бекингему известно, что ни король Филипп III, ни его сын Филипп IV никогда и не намеревались всерьез выдать инфанту за английского принца {203}! Эта откровенность – впоследствии Оливарес станет все отрицать – явилась для Бекингема доказательством вероломства испанцев.
Обстановка в Мадриде накалилась. Оливарес и Бекингем чуть не подрались. Произошел также неприятный инцидент, который мог привести к тяжелым последствиям. Один из слуг Карла заболел и, будучи при смерти, пожелал перейти в католичество. Он попросил позвать священника, но на того накинулись протестанты-приближенные принца. Карлу пришлось вмешаться лично, дабы защитить виновных от суда инквизиции и наказания за святотатство {204}. Все уже понимали, что пора заканчивать эту историю.
И тогда было разыграно самое необычное, самое барочное действие этой пьесы. После стольких месяцев дипломатических ходов и уверток, притворных уступок, дискуссий для отвода глаз все вдруг стало выглядеть решенным делом. Карл, поскольку он не может оставаться в Испании долее чем до начала сентября, вступит в брак по доверенности, как только прибудет новое папское разрешение. Его супруга приедет к нему в Англию весной и привезет с собой приданое. Процедура отмены законов против католиков будет к этому времени начата королем Яковом. Что до Пфальца, то следует договориться с императором о возможном компромиссном решении этого вопроса, например, о передаче курфюршества королю Англии до тех пор, пока сын Фридриха не достигнет возраста, когда сможет вступить в права владения.
Все это было вилами на воде писано, но Карл согласился. Он дал Бристолю доверенность на проведение церемонии бракосочетания и 28 августа подписал контракт. Оставалось только организовать ритуал отъезда принца и Бекингема.
Следует заметить, что на этом этапе испанцы упорно изображали согласие на брак. Верили ли они в него на самом деле? Трудно сказать, учитывая, что до сих пор они лишь умножали требования и не добились полного удовлетворения ни одного из них. Было ли это последним спектаклем, последним дипломатическим маневром? Возможно, хотя им было бы нелегко выпутаться после получения папского разрешения. Ходили слухи, что инфанта в глубине души решила в последний момент сказать свое решающее «нет» и удалиться в монастырь. Но то были лишь слухи, и впоследствии им было дано формальное опровержение. В любом случае, современники, и в первую очередь Бристоль, считали взятые обязательства решающими. Такова одна из тайн – и не единственная, – связанная с этими необычными переговорами.
Что касается Карла, то мы вряд ли когда-нибудь узнаем, считал ли он себя в эти последние дни августа 1623 года действительно супругом инфанты. Во всяком случае, он вел себя как таковой. 29 августа он простился с королевой Испании и своей невестой, которой подарил «ожерелье из двухсот пятидесяти жемчужин, бриллиант неописуемой ценности и две пары удивительно крупных серег» {205}. Стороны обменялись роскошными подарками. Карл получил восемнадцать испанских жеребцов, шесть арабских скакунов, шесть кобыл, двадцать жеребят. Все они были покрыты бархатными красными попонами, обшитыми золотом. Сбруя была украшена жемчугами. Невеста подарила принцу меха, рубашки из тонкого батиста и диковинные духи. Бекингем же получил в подарок, помимо прочего, двадцать лошадей с попонами из дамасской ткани с золотыми кружевами и шапочками, украшенными бриллиантами {206}.
30 августа Карл и Бекингем вместе с королем Филиппом и Оливаресом выехали из Мадрида в Эскориал. Два дня они охотились в близлежащих лесах в то время, как английская свита принца продвигалась по дороге на север, к Сантандеру, где стоял в ожидании английский флот.
Отношения Бекингема с Оливаресом в эти дни окончательно разладились. Почувствовав свободу, англичанин бросил своему собеседнику такую вызывающую фразу, что, при других условиях, ему пришлось бы защищаться с оружием в руках: «Я навсегда остаюсь слугой испанского короля, но уж будьте уверены, что вам я никогда не буду ни слугой, ни другом». На что испанец ответил с почти британской флегмой: «Будьте уверены, сударь, что мне ни к чему ваша дружба, потому что я всегда был человеком чести и верным подданным моего государя». Присутствовавший при этом король вмешался, чтобы охладить участников разговора. Тогда Бекингем, не в силах больше сдерживаться, вскочил на коня и пустил его в галоп, в то время как более церемонный Карл сел в приготовленную для него карету» {207}.
Так, в нескольких лигах от Эскориала, среди камней сьерры Гуадаррамы, завершилось пребывание английского наследного принца при испанском дворе. В память об этом событии была воздвигнута колонна. Оставалось лишь подождать, пока из Рима прибудет разрешение, а затем сыграть свадьбу.
Глава XII «Неблагоприятное соединение светил»
«Одураченный глупец»?
Покидая Испанию, Карл Стюарт еще раз торжественно пообещал жениться на инфанте Марии по доверенности, данной послу Бристолю, как только в Мадрид прибудет папское разрешение. Итак, на этот раз договоренность была достигнута.
Однако перед самым отъездом из Мадрида принц и Бекингем написали «дорогому папе» письмо, дабы уберечь его от разочарования впоследствии: «Сегодня [30 августа] мы прощаемся здесь со всеми и завтра отправимся в путь. Поскольку папа римский болен, он все еще не подписал разрешение, о котором есть договоренность, а богословы считают, что без него брак не может состояться, хотя некоторые утверждают обратное. Я, Ваш бэби, оставил доверенность Бристолю, и он воспользуется ею, когда из Рима придет разрешение. Что до Пфальца, то испанцы говорят, что это дело может быть решено лишь в том случае, если ваш внук [44] женится на дочери императора и будет воспитан при императорском дворе. В этом случае император согласится передать [пфальцские] земли и титулы Вашему внуку, но он не собирается восстанавливать в правах его отца» {208}.
Это звучало не особенно обнадеживающе относительно будущего Фридриха и Елизаветы, но, судя по письму, ни Карл, ни Бекингем не считали, что нерешенный вопрос о Пфальце может помешать браку с инфантой.
Тем не менее на пути между Эскориалом (2 сентября) и Сеговией (3 сентября) явно что-то произошло, поскольку Карл послал оставшемуся в Мадриде Бристолю странное письмо, в котором исход дела ставился под вопрос.
То, что произошло, мы можем с уверенностью приписать Бекингему. Стини уже давно с трудом переносил Испанию и испанцев. Пока принц упорствовал в своем желании жениться на Марии и продолжал афишировать свою любовь к белокурой дочери Габсбурга (к которой он несомненно питал искреннее чувство), Бекингем понял – и намного раньше своего друга, – что этот брак невозможен. У него все время звучали в ушах слова Оливареса о том, что ни Филипп, ни его отец не намеревались всерьез выдать инфанту замуж за протестанта (а между тем, на глазах у всех, в Мадриде продолжалась подготовка к свадьбе…).
Известно, что Карл был впечатлительным. Теперь, когда он с каждой милей все больше удалялся от Оливареса, от богословов святого Иеронима и от прекрасных глаз инфанты, антииспанские доводы Стини все сильнее поражали и убеждали его. Его гордость была оскорблена. Он припоминал мелочи протокольного этикета, в которых, как ему теперь казалось, с ним обошлись не в соответствии с его рангом, например, когда не позволили англиканским священникам пройти в его покои. Задержка с разрешением из Рима, отказ испанцев отправить инфанту и ее приданое раньше весны – все стало казаться ему предлогом, уловкой, хитростью (возможно, так оно и было, несмотря на показную искренность испанской стороны). Наконец Бекингем обратил его внимание на слухи, будто инфанта собирается стать монахиней, лишь бы избежать этого брака. Эта мысль поразила принца, он испугался беспрецедентного унижения, которое постигло бы его, случись это на самом деле.
Итак, 3 сентября Карл тайно послал из Сеговии своего секретаря Эдварда Кларка с секретным письмом к Бристолю: «Бристоль, Вы помните то, что я Вам сказал. Боюсь, что когда я уеду и придет разрешение из Рима, инфанта уйдет в монастырь, чтобы не допустить нашего брака. Король, мой отец, и все остальные сочтут меня тогда одураченным глупцом (a rash-headed foot). Поэтому я велю Вам не пользоваться моей доверенностью до тех пор, пока Вы не получите от меня соответствующего приказа, ибо я не хочу, чтобы какой-то монастырь похитил у меня жену. Рассчитываю на то, что вы в точности все исполните. Карл R[ex]» {209}.
Каковы бы ни были причины, побудившие принца так резко изменить свою позицию, его поступок был совершенно неожиданным. Кроме всего прочего, – какие бы аргументы ни приводили впоследствии историки, благожелательные к тому, кто стал Карлом I, – подобное решение свидетельствовало о непростительном двуличии. Впрочем,
Карл и сам сознавал это, потому что велел Кларку отдать записку Бристолю только после того, как сам он уже покинет Испанию. Однако случайное недомогание и боязнь опоздать заставили Кларка поспешить, и Бристоль получил приказ принца, когда тот еще находился на испанской земле.
Ни минуты не сомневаясь, посол возложил ответственность за отступление принца на Бекингема. Он сразу же написал Карлу: «Милорд, мистер Кларк только что передал мне письмо Вашего Высочества, на котором не указана дата. С Божьей помощью, я сделаю все так, как велит мне Ваше Высочество, дабы избавить Вашу душу от любых сомнений…» {210} Однако чуть позже, когда Карл взошел на корабль в Сантандере, Бристоль уже позволил себе упрек: «После отъезда Вашего Высочества здесь [в Мадриде] распространился слух, будто Ваша любовь к инфанте остыла, и Ваше намерение отпраздновать свадьбу все чаще ставится под сомнение, хотя я могу уверить Вас, что сама инфанта не проявляет никаких признаков сомнения или недоверия к Вашему Высочеству. Она всегда говорит о Вас с большим уважением и с такой любовью, что ее окружение изумляется. […] Графиня Оливарес говорила с ней о возможности того, чтобы она посвятила себя религии, однако инфанта рассмеялась и ответила, что никогда этого не желала. Она уверяет, что, выйдя замуж за Вас, станет хозяйкой своих поступков, и ни король, ее брат, ни богословы не смогут принудить ее к действиям, противоречащим ее воле. Я каждый день вижу ее у королевы, и каждый раз она передает мне для Вас пространные приветствия, исполненные любви. Я молю Бога дать Вам счастье с такой супругой, ибо воистину не существует в мире принцессы более добродетельной и достойной восхищения. Поэтому я прошу Ваше Высочество как можно скорее прислать мне инструкции…» {211}
Бристоль оказался в очень двусмысленном положении. Он прекрасно понимал, что для Карла опасение, будто инфанта уйдет в монастырь, – лишь предлог. Он также знал, что, стоит принцу вернуться в Англию, отсрочка, вызванная необходимостью сообщить в Лондон о прибытии папского разрешения, и ожидание в Мадриде позволения воспользоваться доверенностью окажутся столь значительны, что свадьба станет невозможной, поскольку разрешение, согласно традиции, действительно лишь в течение десяти дней. Двусмысленность позиции Карла было тем более трудно оправдать, что испанские власти, со своей стороны, не давали ни малейшего повода к осуждению: к проведению брачной церемонии все было готово. Между королевским дворцом и церковью даже была построена крытая галерея, по которой предстояло проследовать кортежу инфанты в тот момент, когда она будет провозглашена принцессой Уэльской.
Когда рассматриваешь уловку Карла – или, точнее сказать, его отступление от данного слова – сквозь призму времени, то она кажется столь же необдуманной и не поддающейся пониманию, как и принятое им за семь месяцев до того решение ехать на поиски невесты на манер странствующего рыцаря. Король Испании получал в случае разрыва тем больше оснований возложить ответственность на Англию, что, одновременно с известной нам запиской Бристолю, Карл отправил своему будущему шурину письмо, недвусмысленно подтверждающее взятые им обязательства: «Государь, я имею решимость выполнить все, что пообещали мой отец и я, а Ваше Величество одобрили. Я сделаю все, что в моих возможностях, дабы укрепить узы братства и искренней дружбы с Вашим Величеством. Даже если весь мир сговорится разрушить наше взаимопонимание, это не изменит ни позицию моего отца, ни мою собственную» {212}. Всем известно, что дипломатия состоит из лживых обещаний и мысленных оговорок, однако же…
«Ангельский образ»
Пока несчастный Бристоль метался между противоречивыми указаниями английского принца и любезностями испанского двора, пока в Мадриде шли приготовления к свадьбе, жених инфанты и Бекингем двигались по пути в Англию.
Испанцы, безупречно игравшие свою роль, устроили принцу триумфальные проводы. Карла сопровождал эскорт, состоявший из знатных вельмож и слуг. В каждом городе, который он проезжал, алькальды давали торжественные обеды; на пути следования устраивались развлечения. Карл, хотя и горел нетерпением, строил хорошую мину. Тем не менее в Вальядолиде, сославшись на усталость, он отказался присутствовать на организованной в его честь корриде. Вполне можно предположить, что подобное зрелище, которым он пресытился в Мадриде, ему как истинному англичанину было неприятно.
Иногда его раздражение давало себя знать в свойственном ему специфическом юморе. Когда однажды, в особенно знойный день, некий испанский дворянин предложил заменить занавески его кареты на более свежие, принц ответил: «Я не посмею принять такое решение без согласия богословов хунты». Вряд ли присутствующие смогли по достоинству оценить подобную остроту.
Нетрудно представить себе, какие словечки отпускал в адрес Испании, испанцев, Оливареса и богословов святого Иеронима Бекингем в те изнурительные дни, когда они с другом ехали под палящим солнцем, покрытые дорожной пылью Кастилии. Чем больше увеличивалось расстояние до Мадрида, тем быстрее заволакивался дымкой образ инфанты и брак с ней начинал казаться фантазией, если не безумием.
Английский флот из десяти кораблей под командованием графа Рутленда, тестя Бекингема, стоял в Сантандере уже несколько дней. Наконец 12 сентября, после десятидневного путешествия, Карл и Бекингем увидели, что навстречу им движется посланный Рутлендом небольшой английский отряд. Им командовал молодой красавец Джон Финнет, придворный, которого принц хорошо знал. «"Клянусь честью, – воскликнул Карл, – мне кажется, я узрел ангельский образ!" – и на радостях подарил Финнету кольцо с бриллиантом, сняв его со своей руки» {213}.
В Сантандере внезапно ухудшилась погода. Приближалось осеннее равноденствие, а всем известно, какие бури случаются в Бискайском заливе. Городские власти встречали Карла и Бекингема под дождем, с трудом сопротивляясь порывам ветра, но колокола звонили и пушки палили. Море было слишком неспокойно, чтобы сразу подняться на флагманский корабль «Принц» («The Prince»), стоявший на якоре в нескольких кабельтовых от берега. Путешественники провели ночь на корабле меньшего водоизмещения – на «Бросающем вызов» («The Defiance»), – а на следующий день перебрались на «Принца» в лодке, которую сильно раскачивали опасные волны. По иронии судьбы, принца разместили в пышно украшенной каюте, предназначавшейся для инфанты.
«Принцу» пришлось простоять в порту еще пять дней, пока 18 сентября небо не посветлело и не позволило наконец поднять паруса.
Виноват ли Бекингем?
Едва стало известно о том, что мадридские переговоры потерпели фиаско, многие заговорили о том, что в этом виноват Бекингем.
Мы уже видели, как на него – безосновательно – сваливали вину за поездку Карла в Испанию. На этот же раз действительно имелись свидетельства о промахах, которые он допустил, пребывая в Кастилии, и о их досадных последствиях. Следует, однако, отметить, что если с испанской стороны эти промахи ставились в вину главному адмиралу, то в Англии они скорее принесли ему популярность, о чем мы еще будем говорить.
Действительно, известно много свидетельств того, что почти с самого начала между Бекингемом и Оливаресом установились скверные отношения, а также о том, что испанцы были дурного мнения о фаворите. Подобные сведения оставили нам как сами испанцы, так и англичане из свиты принца. В целом, в правдивости этих сведений трудно усомниться. Вместе с тем следует подвергнуть их анализу и отделить серьезные доводы от обычных сплетен.
Мы уже приводили достаточно примеров того, что Бекингем искренне не переносил испанский темперамент. Кастильская строгость, горделивая сдержанность двора Филиппа IV, черные одежды, чопорные ритуалы с участием командоров, грандов и дуэний – все это было ему глубоко чуждо. С другой стороны, его раскованное поведение, доходившая до крайности любовь к роскоши шокировали испанцев в не меньшей степени, чем его пренебрежение их обычаями. Подобный контраст становился все более явным по мере того, как шло время и нервы участников переговоров начали сдавать.
Кроме того, проблема усугублялась несовместимостью характеров Бекингема и Бристоля. Бристоль, не будучи католиком и не испытывая склонности к католицизму (в которой его впоследствии обвинил Бекингем), хорошо знал испанский двор, ценил Гондомара и Оливареса, признавая изощренность их дипломатических ходов, и искренне верил в то, что брак инфанты с принцем будет способствовать более быстрому установлению мира в Европе. Во всяком случае, Бристоль был более верным проводником политики короля Якова, нежели Карл и Бекингем. Вдобавок, он превосходил их мудростью. На протяжении переговоров он постоянно сглаживал углы, избегал трений, старался сблизить позиции участников. Позже, когда произошел разрыв, он яростно обвинял Бекингема в неправильном поведении в Испании, за что чуть было не поплатился головой.
Историки по большей части придерживаются мнения, высказанного Кларендоном, который, как мы помним, писал двадцать лет спустя: «Все проистекало из-за личной вражды между Бекингемом и Оливаресом, единственным фаворитом испанского двора, и от несходства между суровостью испанского темперамента и игривостью, царившей при дворе принца. Оливареса шокировала фамильярность отношений герцога с принцем, каковая в его стране считалась преступлением. Однажды он сказал, что, если инфанта, выйдя замуж за принца, сразу же не положит этому конец, она в результате пострадает сама, – герцог же из-за этих слов испугался, что ему грозит опала, и стал противиться намечавшемуся браку» {214}.
Не менее определенно высказывается Генри Уоттон, друг и биограф герцога: «Я не могу не сравнить встречу этих двух Плеяд [Бекингема и Оливареса] с тем, что астрологи именуют неблагоприятным соединением светил. Они противостояли друг другу так упорно, как могут противостоять двое вельмож, одинаково могущественных благодаря поддержке своих суверенов. Самым опасным было то, что графу [Оливаресу] сначала показалось, будто маркиз [Бекингем] намекает на готовность принца перейти в католичество, однако маркиз пылко отрицал это, и Оливарес возмущенно воскликнул, что тот повел себя как обманщик… В другой раз, когда граф сказал маркизу, что ходят слухи, будто принц собирается тайно покинуть Испанию, Бекингем ответил, что раз любовь заставила его господина совершить это путешествие, то ни страх и никакое другое чувство не заставят его закончить дело бесчестным образом» {215}.
В данном случае причина понятна – несовместимость характеров Оливареса и Бекингема, несомненно, сыграла роль в провале переговоров. Бристоль, более дипломатичный, более уравновешенный, умевший лучше сдерживать чувства, смог бы, конечно, избежать тех скандалов, в которых, похоже, находил удовольствие Бекингем. Что до того, сумел ли бы он добиться заключения брака, то тут возникают серьезные сомнения, поскольку с обеих сторон к тому имелось огромное количество политических и религиозных препятствий.
Мадридцев шокировало все в поведении Бекингема, даже его одежда: «Его одеяние на французский манер [сразу представляешь себе кружева, ленты, вышивки, не говоря уж о бриллиантовых пуговицах, присланных королем Яковом], его насмешливый ум, его невероятная фамильярность с принцем были настолько чужды этому суровому и здравомыслящему народу, что некоторые [испанские] министры говорили, что предпочли бы бросить инфанту в колодец, нежели отдать ее в подобные руки» {216}.
Со временем заговорили также о личной жизни Бекингема в Мадриде, и впоследствии именно эти слухи, должным образом расцвеченные и снабженные живописными деталями, поспособствовали созданию «мрачной легенды» о фаворите Якова I. Такой блистательный летописец, как епископ
Гудмен, высказывается об этом сдержанно: «Испанские дамы, тела которых из-за жгучего солнца становятся сухощавыми и смуглыми, не столь увлечены роскошью, как женщины других стран [sic!|, а потому Бекингем не имел у них того успеха, на какой рассчитывал. К тому же их религия побуждает их к целомудрию…» {217} Другие же современники не отличались подобной сдержанностью в суждениях. «Говорят, что Вы неуважительно вели себя по отношению к принцу, – писал Бекингему после его возвращения в Англию некто Джеймс Уодворт. – Сообщают, что Вы сидели в его комнате в неглиже, на Вас не было ничего, кроме халата; что во время одного из праздников Вы повернулись спиной к инфанте; что Вы вели себя вызывающе, не были постоянны, изменяли своему мнению и слову до такой степени, что Вам уже никто не доверял…» {218}Критика достигала своего апогея в одном из писем, отправленных посольством Испании в Лондоне весной 1624 года. Впрочем, стоит ли придавать этому письму слишком серьезное значение? Итак: «Как можно было потерпеть, чтобы столь важным, столь значительным для христианского мира делом руководил легкомысленный, неуравновешенный и неопытный человек, не знакомый с обычаями и правилами учтивости? Ведь герцог Бекингем совершил множество поступков, оскорбительных для такого великого государя, как король Испании. Он позволял себе сидеть, когда принц стоял, и при этом бесстыдно клал ноги на соседний стул! Он не снимал шляпу, когда принц был с открытой головой! Он обращался к принцу, используя смехотворные прозвища! Он обесчестил дворец испанского короля тем, что приводил туда женщин дурного поведения, тем, что в присутствии принца устраивал недостойные пантомимы комедиантов! В театре он осмелился сидеть в присутствии короля Испании, чего еще никто никогда не делал!» {219}
Сам тон этого документа, дышащего возмущением, снижает его ценность как свидетельства. Чувствуется, что автор (возможно, сам испанский посол) собрал все слухи, верные или лживые, которые могли бы очернить Бекингема в глазах короля Якова, ибо данная диатриба была адресована именно ему. Впрочем, высказав обвинения в неподобающем поведении, он переходит к очень серьезным претензиям, намекая не более и не менее, как на государственную измену: главный адмирал якобы сознательно, по собственной воле, помешал заключению брака, как и впоследствии будет мешать любому другому браку, дабы наследник английского трона остался не женат, а корона в конце концов перешла бы к сыну пфальцского курфюрста, который женится на столь любимой Яковом дочери Бекингема, очаровательной Молли, в результате чего потомки Бекингема будут править Великобританией {220}.
Дабы не задерживаться слишком долго на этих сплетнях, ограничимся рассмотрением того, что кажется более достойным доверия, а именно: распутства главного адмирала с женщинами во время пребывания в Испании. Он был красив, умел соблазнять, пригоршнями раздавал золото и драгоценности… Люди с подобными привычками во всех странах находят радушный прием. Нет никаких сомнений, что в Мадриде не одно женское ушко внимательно прислушивалось к его комплиментам («Нет ничего удивительного в том, что такой человек вызывал к себе любовь [sic!\ как у себя дома, так и в Мадриде, который был двором принцев», – написал епископ Хэккет, обычно благосклонный к фавориту {221}).
Кейт Бекингем была в курсе этих слухов, но не верила им. «Все вокруг говорят мне, что мне повезло быть замужем за таким человеком, как Вы, – писала она герцогу в августе, – и что Вы не обращаете внимания на испанских дам, несмотря на то, что они строят Вам глазки. Сэр Фрэнсис Коттингтон сказал мне вчера, что Вы поклялись не прикасаться к женщинам до своего возвращения. Вы можете представить, какую радость это вызвало в моей душе, хотя я и раньше в Вас не сомневалась… Умоляю Вас прислать мне Ваш портрет, дабы, не имея вблизи оригинала, я могла хотя бы утешаться лицезрением образа. Надеюсь, что Вы скоро уедете из этого проклятого Мадрида (that wicked Madrid) и увезете с собой инфанту» {222}.
Как бы то ни было, летописцы не оставили нам имен тех «испанских дам», которые «строили глазки» красавцу Бекингему. За исключением – и тут мы вторгаемся в сферу самых невероятных дворцовых сплетен – за исключением… графини Оливарес!
Эта женщина, урожденная Инес де Суньига-и-Веласко, принадлежала к высшей кастильской знати. Ей было сорок лет. Даже не доверяя Кларендону, который ни разу ее не видел, но описал как «столь старую, столь малопривлекательную и даже уродливую, что она явно не могла возбудить аппетита герцога, который, разумеется, отдавал должное плотской страсти, если объект ее обладал изяществом и красотой» {223}, – трудно не признать абсурдной мысль о возможности связи между английским герцогом и суровой испанской дамой. Повод для сплетен дала, впрочем, симпатия, проявленная к Бекингему этой графиней, которая была фрейлиной инфанты и, как таковая, виделась с ней ежедневно. Она с готовностью (несомненно, с согласия мужа) стала доверенным лицом и посредницей между принцем Карлом и его невестой и весьма благосклонно относилась к предстоящему браку. Однако от этого до подозрения в любовной интрижке с Бекингемом слишком далеко! Впрочем, многие обратили внимание на то, что, уезжая из Испании, герцог не попрощался с графиней, что вполне справедливо было расценено как новое доказательство его неучтивости {224}.
Итак, в заключение мы можем отметить, что многие особенности поведения Бекингема в Испании, мягко говоря, не соответствовали обстоятельствам, даже если сочиненные его врагами скандальные истории и стоит воспринимать с изрядной долей скепсиса.
При этом все же было бы преувеличением считать его промахи причиной неудачи переговоров. Будь он даже образцом тактичности и сдержанности – каковым он, разумеется, не был, – трудно себе представить, каким образом это обстоятельство помогло бы смягчить испанских богословов, помочь разобраться в запутанной проблеме Пфальца или убедить папского нунция. Напротив, следует отдать должное Бекингему: задолго до Карла и короля Якова он понял, что переговоры с самого начала были опутаны неустранимой сетью лжи, умолчаний и уловок. Именно из-за того, что он загнал Оливареса в угол – используя малопривычные при дворе выражения, – тот стал впоследствии обвинять его в саботаже. Не Бекингем разрушил здание дипломатической договоренности. На деле само это здание было всего лишь карточным домиком.
Якорь поднят
Флоту главного адмирала потребовалось семь дней, чтобы добраться до Англии: выйдя из Сантандера 18 сентября, он прибыл в Портсмут 5 октября [45].
Во время плавания Карл вновь и вновь переживал свое унижение. Теперь он был убежден, что испанцы сознательно запутывали и дурачили его, что они держали его у себя как заложника, что у них никогда не было намерения отдать ему инфанту и тем более заступиться перед императором за Пфальц и восстановить в правах Фридриха Пфальцского.
Бекингем, который во время плавания был нездоров (затянулась подхваченная в Испании лихорадка), утешал принца как мог. Постепенно у них созревала мысль не только отказаться от брака с инфантой (это было уже в прошлом), но и порвать с Испанией, что означало войну. Подобные размышления готовили глубокое разочарование королю Якову.
Между тем путешественники не были уверены, что им окажут в Англии теплый прием, – не король, который будет счастлив вновь увидеть своих «дорогих детей», а народ. В Мадриде они получали много писем из Лондона, в которых говорилось, что англичане осуждают их за эту поездку. Подобное путешествие, дорогостоящее и непопулярное, к тому же завершившееся унижением и неудачей, могло стать причиной новых столкновений с врагами Бекингема. Опять стали распространяться слухи о том, что король к Стини стал менее благосклонен {225}. Кто знает, как сильно может качнуться маятник!
Тем временем в Мадриде со дня на день ожидали курьера из Рима с папским разрешением на брак, и Бристоль нервничал при мысли о том, что английский принц «заморозил» доверенность, выданную послу, а значит, ipso facto отказался от брака с инфантой.
Глава XIII «Кумир толпы»
Звон колоколов и праздничные костры
Английский народ с самого начала не желал принимать идею брака Карла с инфантой. Подобный брак означал усиление «папистов», а со временем гибель протестантизма и национальной церкви, проникновение огромного числа высокомерных испанцев в окружение короля, отказ от защиты пфальцграфа в Германии. Разумеется, эти опасения кажутся фантастическими, однако общественное мнение чаще поддается страстям, чем доводам разума. Отъезд принца и Бекингема в Мадрид только подогрел подобные страхи. Несмотря на все опровержения, стойко держался слух, будто наследник престола – этот скрытный и необщительный молодой человек – собирается встать на сторону Римской церкви и, прибыв в Испанию, обратится в католичество.
Все это помогает понять, почему столь бесславное возвращение Карла и Бекингема без инфанты и ее испанцев вызвало взрыв восторга, столь сильный, что даже современникам он показался почти истерикой.
Едва путешественники сошли на берег в Портсмуте, радостно зазвонили колокола. Карл и Бекингем сразу же отправились в Лондон, и по дороге их громкими криками приветствовали жители окрестных деревень. В столице их приезд превратился в триумф: «Да здравствует принц! Да здравствует Бекингем!» Встретив повозку, которая везла на виселицу в Тайберн шестерых осужденных на смерть, Карл своей властью велел освободить их (на что по закону не имел права). Люду по собственному побуждению накрывали на улицах столы, откупоривали бочки с вином и пивом. Священники собора Святого Павла пели 113-й псалом: «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного…» Принц вызвался заплатить все долги тех, кто из-за безденежья сидел в тюрьме в Сити. Вечером были собраны все находившиеся под рукой дрова, чтобы разжечь праздничные костры и танцевать на улицах. Можно было подумать, что народ отмечает национальный праздник или славную победу. Испанские послы тщетно испрашивали аудиенцию у того, кто пока еще официально считался женихом инфанты. Бекингем произносил враждебные речи об Испании и испанцах {226}.
Все это происходило 6 октября 1624 года. Король Яков находился в Ройстоне; можно себе представить его нетерпение. Придворные и, несомненно, также Карл и Бекингем спрашивали себя, какой прием он окажет своим «мальчикам». обрадуется их возвращению или выкажет недовольство в связи с неудачей переговоров?
7 октября, переночевав в Йорк-Хаузе (о состоявшейся там встрече Бекингема с Кейт нам, к сожалению, не поведал ни один летописец), молодые люди прибыли в Ройстон. Их «дорогой папа» почти не мог ходить из-за обострения артрита и подагры. Однако, едва ему доложили о их прибытии, он поспешно начал спускаться по лестнице, на середине которой они, рыдая, упали перед ним на колени. Он поднял их, обнял и, поддерживаемый ими, вернулся наверх в свои покои, после чего «за ними сразу затворили двери, и никто не слышал того, что после этого было между ними сказано» {227}.
«Оскорбление инфанты»
После более чем полугодовой разлуки в жизни королевской семьи установился новый стиль отношений. Это сразу же стало всем заметно.
Начнем с Бекингема. Он посуровел и больше не терпел возражений, даже от короля. Его популярность росла по мере того, как становились известны его антииспанские настроения, и это слегка вскружило ему голову. В личной жизни он оставался очаровательным и нежным, но как общественный деятель стал авторитарен, а в его речах появился новый политический оттенок. Он был уверен в поддержке принца Карла, которому продолжал давать советы в Лондоне, как раньше делал это в Мадриде. Отныне он мог позволить себе действовать независимо, о чем год или два назад не смел даже мечтать.
Карл, со своей стороны, приобрел авторитет и популярность, до сих пор ему недоступные. При поддержке – или под руководством Бекингема – он стал проводить свою политику, не всегда согласующуюся с мнением короля. Как мы еще увидим, он вскоре принял активное участие в работе парламента и даже ошеломил иностранных послов, которые узрели, как, в прошлом боязливый и едва заметный, принц превращается чуть ли не в самодержца.
Однако наиболее глубокие и наиболее заметные изменения произошли с королем Яковом. Он еще не был стар (в конце 1623 года ему было 57 лет), но его здоровье ухудшалось на глазах. Помимо обострений артрита и подагры, у него случались несварения желудка и приступы сонливости. Его режим питания был ужасен: он ел и пил слишком много. Вдобавок его характер становился все более мрачным. Порой он еще оказывался способен на гнев, однако почти сразу успокаивался, уступал Стини и Карлу даже в тех случаях, когда в глубине души не был с ними согласен. Он сохранял ясность мысли – ни намека на болезнь Альцгеймера или что-нибудь похожее, – но у него больше не было ни духовных, ни физических сил, чтобы навязывать другим свою волю. В общении с Бекингемом они, казалось, поменялись ролями: теперь Бекингем решал, а Яков соглашался. Такое положение ничего не изменило в их взаимной привязанности, но придворные поняли, что власть по сути перешла в другие руки.
Вопрос о том, как теперь вести себя с Испанией, вскоре перерос в конфликт. Яков I не считал, что брак Карла с инфантой отменяется. С самого начала своего правления он строил политику на союзе с Испанией и еще сильнее стал настаивать на нем, когда разразилась война в Германии. Потому он вовсе не был настроен на отказ от брака, тем более что после отъезда принца и Бекингема Филипп IV засыпал его душевными письмами, в которых подтверждал свои дружеские чувства и намерение отпраздновать свадьбу, соблюдая достигнутые договоренности. Что до Пфальца, то испанский король доверительно сообщал, что надеется получить от своего кузена-императора список условий, которые позволят Фридриху или, по меньшей мере, его сыну вернуть земли и титул курфюрста. Яков был счастлив верить этому {228}.
Но Бекингем не дремал. День за днем он рассказывал королю, каким унижениям он и Карл подвергались в Мадриде. 1 ноября Яков созвал Тайный совет, и главный адмирал дал официальный отчет (подтвержденный присутствовавшим на заседании Карлом) о переговорах в Испании и их неудаче. Он уверял, что посол Бристоль играл в этом деле двусмысленную роль, и требовал разрыва отношений с Испанией.
Тем не менее короля было нелегко убедить. Он получил от Бристоля письмо от 24 сентября, в котором дипломат объяснял, к каким опасным последствиям может привести разрыв и в особенности отсутствие объективных оснований для столь резкого изменения политики. В ответ на это письмо Яков немедленно написал, что намеревается сдержать слово относительно брака при условии решения вопроса о Пфальце. Он повторял, что «не хочет женить сына ценой слез дочери» {229}.
Одновременно Бристоль направил послание принцу. В этом письме прекрасно отразился его характер: «Да позволит мне Ваше Высочество как верному слуге обратиться к Вам. Я полагаю, что если брак будет отложен под каким бы то ни было предлогом, это приведет к серьезным неудобствам. Во-первых, это станет тяжким оскорблением госпожи инфанты, которая в настоящий момент находится на попечении хунты, весьма ее утомляющей. Если она решит, что отсрочка исходит от Вашего Высочества, то будет очень обижена. С другой стороны, король [Филипп] и его министры будут оскорблены невыполнением принятых условий. Это придаст всему делу такой оттенок подозрительности и недоверия, что дружба между двумя странами окажется подорвана… Я не смею спрашивать Ваше Высочество о намерениях в отношении брака, но, будучи Вашим покорным и преданным слугой, чувствую себя обязанным напомнить Вашему Высочеству, что в течение многих лет Ваш отец король и Вы сами считали этот союз величайшей ценностью и именно по этой причине Вы предприняли столь опасное путешествие в Мадрид. Теперь, когда условия договора приняты обеими сторонами, как я надеюсь, к удовлетворению Его Величества и Вашему, да не позволит Бог, чтобы личные настроения министров или неправильное поведение поставили под вопрос мир, необходимый всем христианским странам» {230}.
Похоже, что на этом этапе Карл еще колебался или, по крайней мере, побаивался официального разрыва. Он написал Бристолю сдержанный ответ: «Моим намерением является не отказ от брака, а стремление положить конец страданиям сестры и ее детей. Убедите же [испанцев], что моя единственная забота состоит в том, чтобы остаться их добрым другом и союзником, но я не могу жениться, не получив удовлетворения в вопросе о Пфальце, даже если потеря инфанты станет для меня причиной бесконечной печали» {231}. На что Бристоль, в следующем письме от 24 октября, заметил, что до сих пор условие о возвращении Пфальца не рассматривалось как sine qua non [46] в переговорах о браке и что в договоре, подписанном обеими сторонами, этот пункт не фигурирует {232}. Впрочем, ясно, что теперь этот вопрос стал предлогом, за который Карл – явно не без совета Бекингема – цеплялся, чтобы найти основание для отказа от своего обещания.
Наконец 22 ноября (12 ноября по английскому календарю) в Мадрид было доставлено разрешение папы на брак. Королю Якову сообщили об этом через десять дней. Разрешение было действительно до Рождества; подготовка к церемонии бракосочетания ускорилась. Официально ничто больше не препятствовало браку – ничто, кроме секретного приказа Бристолю подождать с использованием доверенности, пока не прибудут указания из Лондона.
Едва получив депешу Бристоля, Яков I послал ему подтверждение запрета на использование доверенности до тех пор, пока от испанцев не будет получено формальное обещание вывести войска из Пфальца и полностью передать англичанам приданое инфанты. Если по этим двум пунктам не будет достигнуто договоренности, Бристоль, по истечении двадцати дней, должен был вернуться в Англию. Таким образом, Яков уже решился на разрыв. Он даже принимал для этого энергичные меры. К письму короля была приложена записка Карла послу, исполненная чрезвычайной суровости: «Бристоль, неверное истолкование Вами приказов Его Величества и моих в отношении доверенности заставляет меня написать Вам это письмо с подтверждением запрета на применение доверенности впредь до получения от моего отца и от меня однозначного приказа. Пользуйтесь любыми отговорками, какие сможете придумать, но, если Вы дорожите собственной головой, не используйте доверенность, пока не получите приказа. Карл R[ех]» {233}. Можно не сомневаться, что вдохновителем этого послания был Бекингем.
В Мадриде Филипп IV назначил день свадьбы на 29 ноября (19 ноября по английскому календарю). Поскольку Бристоль, по понятным причинам, бездействовал, Оливарес спросил его, нет ли какой-нибудь «не известной ему новой и серьезной причины» для отсрочки церемонии. Бристоль прикрылся заявлением, что ждет-де приказа из Лондона. Однако приказа все не было, и назначенный день миновал. Тогда испанский король посчитал, что брак не состоится. Галерею между дворцом и церковью разобрали, инфанта перестала носить титул принцессы Английской, а весьма сухое письмо Филиппа IV Якову I от 9 декабря недвусмысленно подтвердило, что вопрос о Пфальце не может быть разрешен до тех пор, пока Фридрих не покорится императору {234}.
Разрыв отношений с Испанией
И Бекингем и его друг Карл окончательно решили разорвать союз с Испанией, пора было начинать новую политику.
Однако король придерживался другой точки зрения. Конечно, умом он понимал, что оси Лондон – Мадрид, которой он оставался верен в течение двадцати лет, больше не существует. Вместе с тем он не мог решиться на разрыв и, благодаря своей извечной способности принимать желаемое за действительное, цеплялся за иллюзию, будто добрые взаимоотношения с Филиппом IV еще можно сохранить, даже если придется оставить мечты о браке Карла с инфантой.
Месяцы между отказом от брака (ноябрь 1623 года) и официальным разрывом союза с Испанией (март 1624 года) прошли в борьбе двух партий за влияние на Якова I: с одной стороны, это были Бекингем и Карл, настроенные против Испании, с другой – испанские послы, старавшиеся помешать возвышению Бекингема и поссорить его с королем.
Хотя Стини повсюду публично высказывался против Испании, Яков велел ему принять в собственном доме чрезвычайного посла Бернардино де Мендосу, присланного испанским королем, чтобы попытаться спасти союз с Англией. Король велел Бекингему отнестись к послу с величайшей учтивостью (это было за несколько дней до окончательного отказа от брака). Поэтому Бекингем устроил в Йорк-Хаузе роскошный пир, на котором подали «дюжину фазанов, сорок дюжин куропаток и столько же перепелов», а перед этим состоялось представление «маски», – так что все вместе стоило 300 фунтов стерлингов {235}. Однако несколько дней спустя, в знак презрения, он отдал присланную ему Оливаресом расшитую одежду слугам, в то время как Карл поступил столь же нелюбезно, отдав прислуге фруктовые конфитюры, приготовленные для него инфантой {236}.
Яков I еще не мог покинуть Ройстон из-за подагры. Бекингем курсировал между Ройстоном и Лондоном, где в Сент-Джеймсском дворце жил Карл. Такая жизнь его утомляла. Он еще не полностью оправился от подхваченной в Испании лихорадки. В самый тяжелый для него момент, в апреле-мае 1624 года, он впал в депрессию и стал склоняться к тому, чтобы отказаться от борьбы. Подобное состояние продлилось недолго, однако нельзя не учитывать того, что плохое самочувствие в то время влияло на его действия, от которых зависела не только его собственная судьба, но и будущее Англии.
В каком-то смысле затворничество короля в Ройстоне укрепляло влияние Бекингема. Оно позволяло ему не допускать до государя лиц, настроенных в пользу Испании, и тем более испанских послов. Но сама по себе подобная ситуация могла в конечном счете обернуться против фаворита, поскольку его враги говорили, что он держит Якова в положении пленника, что никто не может явиться к королю, а Бекингем ведет себя как «диктатор». Как мы увидим, то были преувеличения, однако они были небезопасны, и в нужный момент ими могли воспользоваться испанцы.
На деле король Яков вовсе не был игрушкой в руках Бекингема, как утверждали его враги. Он по-прежнему желал сохранить добрые отношения с Испанией и сопротивлялся любому намеку на разрыв дипломатических отношений. «Не хочешь же ты, чтобы я на старости лет стал воевать с Испанией?» – стонал он {237}. 13 января 1624 года он принял испанских послов, которые не преминули заверить его в дружеских чувствах своего суверена и свалить на Бекингема вину за сложности, возникшие в отношениях между двумя странами. Но Бекингем был начеку.
Так постепенно складывалось то, что можно отныне называть политической позицией Бекингема. Конечно, он не стал гением политики, каковым в ту же эпоху был во Франции Ришелье. Однако он теперь уже не был и неопытным юношей, как в первые годы придворной жизни. Несмотря на короткий период влияния Гондомара, он никогда не чувствовал особой привязанности к Испании. Мы уже неоднократно убеждались в его симпатии к протестантской партии, настроенной против Испании. Поездка в Мадрид, оставившая самые скверные воспоминания, по сути утвердила его в изначальной позиции, которой способствовали его наставники Бэкон и Эббот.
Пользуясь поддержкой принца Карла, чья популярность также возросла, Бекингем задумал произвести полный переворот в английской политике – то есть в конечном счете вернуться к политике Елизаветы I, к союзу с протестантскими государствами Европы, в первую очередь с Нидерландами, к восстановлению в Англии законов против католиков, к сближению с Францией и войне против Испании. Будущее покажет, сколь много было в этой позиции иллюзий и неумения мыслить реалистически. Однако нет никаких сомнений в том, что подобные взгляды вполне соответствовали английскому общественному мнению и имели бы поддержку парламента, будь он опять созван.
Но именно по этой причине король не желал созывать парламент. Он с самого начала своего правления не ладил с палатой общин и старался обходиться без нее как можно дольше. Бекингем и Карл, напротив, понимали, что только при поддержке парламента им удастся восторжествовать, поскольку война с Испанией – главная цель их амбиций – не могла начаться без значительных кредитов, которые могли быть предоставлены только с согласия обеих палат.
Итак, политические дискуссии в окружении Якова I зимой 1623/24 года сконцентрировались на вопросе о созыве парламента. Мнения Тайного совета разделились: Бекингем, нервничавший все больше и больше, оскорблял советников, стоявших за мир, и в первую очередь Миддлсекса, который впоследствии припомнит ему это. Король все еще колебался.
Как и за три-четыре года до того, фаворит обратился тогда к своему старому другу Бэкону, удалившемуся в свое имение Горэмбери, и попросил его совета. «Католическая партия ненавидит Вас, – ответил философ. – Протестанты [читай: пуритане] тоже недолюбливают. Не доверяйте тем, кто подталкивает Вас к войне, потому что многие из них завидуют Вам и, если буря разразится, бросят Вас одного…
Поэтому действуйте осторожно, с осмотрительностью, подобно пчеле, у которой есть и мед, и жало» {238}. Нельзя назвать подобный совет ни особенно ясным, ни тем более указывающим выход.
Бекингем неустанно говорил королю: «Союз с Испанией – чистая иллюзия, потому что испанцы всегда стремились лишь погубить Англию» {239}. Военные действия в Нидерландах и в Германии подтверждали эту точку зрения: в Нидерландах испанцы наступали, и независимость протестантских Соединенных провинций оказалась под угрозой.
Наконец Яков I пошел на уступку. 28 декабря 1623 года он подписал распоряжение о созыве парламента, назначенного на 23 января. Впоследствии начало заседания было отложено до 19 февраля.
Позиция Испании
30 декабря Яков I решил отозвать Бристоля из Испании. Теперь, когда идея брака была предана забвению, в его присутствии в Мадриде не было необходимости.
Уже месяц назад, а то и раньше, Бристоль перестал питать какие бы то ни было иллюзии. Он знал, что Бекингем, вернувшись в Англию, при каждом удобном случае чернил его в глазах короля, сваливая на него ответственность за неудачный исход их с Карлом поездки в Испанию. Бристоль счел необходимым сделать упреждающий шаг и написал фавориту письмо с предложением своих услуг: «Милорд, нынешнее состояние дел Его Величества требует сотрудничества всех его слуг и министров. Посему я хочу предложить Вашей Светлости мои услуги. Если в прошлом между нами случались моменты взаимонепонимания, я прошу Вашу Светлость забыть о них. Что касается лично меня, я буду изо всех сил стараться соответствовать тем высоким требованиям, которые предъявляет человеку Ваше дружеское отношение. Ежели оно не установится, я вооружусь терпением, что бы ни случилось со мной в дальнейшем. Потому, надеюсь, что мое покорнейшее предложение скромных услуг будет принято в том же расположении духа, в каком оно было высказано. Остаюсь покорным слугой Вашей Светлости, Бристоль» {240}. Это удивительное письмо показывает нам Бристоля в непривычном свете: достаточно вспомнить, как он говорил о Бекингеме, пока тот находился в Мадриде. Однако обстоятельства изменились, главный адмирал все более походил на будущего правителя Англии. Оливковая ветвь, протянутая ему послом, возможно, означала попытку вернуть себе милость государя, но, кроме того, она могла послужить своего рода упреждающим защитным ходом в случае обвинения в измене, что, собственно, и произойдет спустя два года.
Как бы то ни было, отзыв Бристоля огорчил испанский двор. Посол успел подружиться со многими испанцами, и все его высоко ценили. Оливарес предложил ему остаться в Мадриде, сулил деньги и даже титул испанского гранда, если он примет католичество. Бристоль ответил, что предложение делает ему честь, но он всегда оставался верен королю Англии и предпочтет оказаться в опале в собственной стране, нежели стать богатым и знатным, служа другому государю. По тем же причинам он с гордостью отверг предложение Оливареса оплатить его долги в Испании и вернулся в Англию без гроша в кармане. На прощальной аудиенции Филипп IV выразил сожаление по поводу его отъезда и, сняв со своего пальца кольцо, подарил его послу. Все это стало известно в Англии и обсуждалось врагами Бекингема {241}.
И все же Оливарес продолжал играть свою роль. Брак инфанты, в который он сам никогда не верил, был одним делом; перспектива разрыва отношений с Англией и возможность войны – совсем другим, куда более серьезным. Твердая позиция, занятая Францией в вопросе о Вальтелине [47] (конфликте в Швейцарии, угрожавшем сообщению между Испанией, Италией и Нидерландами), представляла для испанцев большую опасность. Выступление английских войск на стороне Соединенных провинций и немецких князей-протестантов могло оказаться катастрофическим для мадридских властей.
Послы Испании в Лондоне, маркиз де Инхоса, дон Карлос де Колома и дон Бернардино де Мендоса, получили приказ как можно скорее восстановить с королем Яковом дружеские (или хотя бы дружелюбные) отношения и сосредоточить усилия на подрыве авторитета Бекингема. Задача не из простых, учитывая, что и фаворит не дремал. 14 января 1624 года Инхосе и Коломе удалось встретиться с Яковом в Ройстоне. Они пообещали королю, что испанские войска будут выведены из Пфальца до конца августа (это означало выиграть время…) и что тогда можно будет созвать мирную конференцию, о которой мечтал английский король. Казалось, Яков поддался на искушение. Он проконсультировался с Советом по испанским делам (Советом двенадцати), в котором большинство высказалось за то, чтобы принять предложение послов. Однако принц Карл сохранял враждебное молчание, а Бекингем, в ярости, вышел из зала заседаний, «вопя, как курица, у которой отобрали яйца» {242}. Потребовалось некоторое время, чтобы убедить короля отказаться от надежды на мир. Граф Пемброк, один из членов комитета и недруг Бекингема, по секрету сообщил Инхосе, что могущество фаворита вот-вот пойдет на убыль {243}. Однако вскоре, с помощью Бекингема и Карла, был созван парламент, втянувший Якова I в такие дела, о которых он даже не думал.
Парламент 1624 года
Парламент 1624 года являл собой нечто парадоксальное в истории Англии. Во время его заседаний, можно сказать, сражались две партии. Бекингем, который при предыдущем парламенте (как и при последующем) был обвиняемым, превратился в 1624 году в кумира общественного мнения, «любимчика большинства» {244} и вел депутатов за собой. Напротив, вечно больной король Яков, пользуясь нездоровьем как поводом, отсутствовал на заседаниях и оставил поле битвы сыну и фавориту, которые, образно говоря, захватили власть. Современники назвали этот парламент «Парламентом принца». Что до Бекингема, то мы еще увидим, какие дерзости он позволял себе теперь в общении с государем. По аналогии с «Парламентом принца» можно было бы говорить и о «Парламенте Бекингема». Это очень хорошо почувствовали иностранные послы.
Яков I присутствовал лишь на открытии парламента 20 февраля. Его тронная речь составлена в тоне, характерном для старого шотландского короля. В ней чувствуются его доброжелательность, его склонность к живописным сравнениям, но вместе с тем и разочарование {245}. Вопреки обыкновению, он не разыгрывает из себя ни моралиста, ни теоретика абсолютизма. Он говорит о своем желании сохранить мир среди христиан, возлагает ответственность за отказ от брака с инфантой на испанцев. Походя, но с благодарностью, он упоминает Бекингема: «По настоятельной просьбе сына я согласился послать его в Испанию, где он хотел добиться решения своего дела (хотя предприятие это носило чрезвычайный характер), и ради его безопасности послал вместе с ним Бекингема, человека, которому полностью доверяю. Я велел ему всегда находиться подле принца и не оставлять его ни на минуту вплоть до его благополучного возвращения домой».
Король пояснил, что теперь, после провала брачного проекта, он созвал своих лордов и депутатов общин, дабы услышать «их разумное мнение во имя славы Божьей, мира для королевства и счастья моих детей». Он поручил им голосование по вопросам субсидий, необходимых для достижения политических целей, которые также предстояло наметить. В том, что касается законов против католиков, говорил он, «я как добрый рыцарь всегда считал наилучшим пользоваться то кнутом, то пряником». На все время дебатов король доверил Бекингему играть роль выразителя своих желаний перед лордами и депутатами и посредника между ним и ими.
Мы не можем удержаться от того, чтобы не привести здесь неподражаемый теологически-сентиментальный отрывок из речи Якова I, являющийся ярким примером изысканности его стиля: «Я созвал вас, дабы поговорить с вами откровенно, ибо я помню, что иногда в прошлом между нами возникало непонимание, подобное ссорам между мужем и женой. Все мы знаем, что Христос, даровавший мне трон нашего королевства, является супругом Церкви, а Церковь является Его супругой. Потому я желаю быть вашим супругом и чтобы вы были моею супругой». Так и представляешь себе суровых депутатов-пуритан в образе супруги, скрытой вуалью девственности… «А следовательно, как добрый муж, желающий пребывать в гармонии со своею женой, я хочу доказать вам свою любовь, полностью доверяясь вам как представителям моего народа…»
Все это ни в коей мере не проливало свет на предстоящие дебаты. Однако вскоре Бекингем раскрыл карты короля.
24 февраля обе палаты собрались в специально убранном большом зале Вестминстерского дворца, чтобы выслушать отчет главного адмирала о поездке в Испанию. Этого доклада ожидали с нетерпением. Королевский трон пустовал (Яков возвратился в Ройстон), но у его подножия восседал наследный принц. Бекингем был рядом с ним. Присутствующих поразила почти королевская честь, оказанная оратору: он официально стал почти вице-королем.
Достаточно пространный доклад Бекингема представляет для нас один из основных источников информации о шести месяцах пребывания принца и его друга в Испании, о ходе переговоров по поводу заключения брака с инфантой и о том, как они в конце концов потерпели неудачу. Сравнивая его с другими источниками, особенно с письмами Бристоля и документами из испанских архивов, мы убеждаемся в том, что он совершенно правдив, несмотря на явную антииспанскую направленность {246}.
Речь делится на шесть частей: мотивы поездки принца, брачный договор, отказ от возвращения Пфальца, решение принца вернуться в Англию, прием, оказанный ему королем, и, наконец, нынешнее состояние дел. Бекингем весьма ловко избегает подробного описания своей роли в том, что происходило. Речь все время идет о «принце» или «Его Высочестве»: именно он действует, говорит, решает. Что до испанской стороны, то король Филипп либо вовсе не упоминается, либо о нем говорится нейтральными словами. Оливарес же, напротив, предстает злым, раздражительным, склонным к обману. Многие документы приводятся in extenso. Доклад прекрасно построен и убедителен для аудитории, которая мечтала, чтобы ее убедили.
Карл несколько раз перебивал фаворита, чтобы подтвердить правдивость предоставляемых сведений. Можно сказать, это был доклад не только главного адмирала, но и самого принца. Учитывая общий тон рассказа, вывод, хотя он и не был однозначно сформулирован, напрашивался сам собой: испанцы обманули принца, унизили его и с самого начала не собирались заступаться за интересы Фридриха Пфальцского. Из этого следовала необходимость разрыва отношений с Испанией, что Бекингем и предложил в завершение своего выступления. Ответом ему были восторженные аплодисменты.
Бекингем – «спаситель Англии»
Реакция парламента на речь Бекингема оказалась неожиданной. Два дня спустя испанские послы явились в Ройстон, чтобы торжественно заявить Якову I протест против нанесения оскорбления их государю. «Если бы в Испании некий подданный посмел выдвинуть в адрес короля Англии обвинения, подобные тем, какие высказал герцог Бекингем в адрес короля Испании, он был бы немедленно приговорен к смерти», – добавили они. Яков извинился: он-де не присутствовал в Вестминстере во время речи Бекингема и ничего не может ответить испанским послам. Он направил в палату лордов и палату общин запрос, и теперь парламент должен был решить, виновен ли Бекингем и следует ли его наказать.
Испанский протест оказался лучшим средством повышения популярности Бекингема. 28 февраля обе палаты в полном составе явились на заседание, чтобы рассмотреть жалобу послов. Заседание свелось к бурному изъявлению благодарности герою дня. Сэр Эдвард Кок назвал Бекингема «спасителем страны». Епископ Даремский объявил, что готов обнажить меч, дабы защитить герцога от испанцев. Его превзошел Роберт Фелипс: «Чем рубить голову милорду Бекингему, мы лучше сразим тысячи испанцев!» Даже Артур Уилсон, обычно враждебно настроенный по отношению к фавориту, признал, что Бекингем стал «кумиром толпы» и практически главой государства {247}.
В ответ на протест послов депутаты составили заявление, что «их жалоба является оскорблением парламента, ибо ни лорды, ни общины никогда не потерпели бы в своем присутствии оскорбления чести столь великого государя, как друг Его Величества король Испании. Парламент гарантирует, что его светлость герцог Бекингем не сказал в своем докладе ничего такого, что было бы оскорбительным для этого монарха. Следовательно, герцог ни в чем не виновен и не заслуживает обвинения» {248}.
Как заметил С. Р. Гардинер, «благодаря испанцам, Бекингем стал национальным героем» {249}.
Война
Начались парламентские дебаты. 29 февраля депутат Бенджамин Рудьерд, приближенный помирившегося с Бекингемом графа Пемброка, внес предложение, «чтобы Его Величество заключил союз со своими друзьями на континенте и постарался усилить в Германии сторонников протестантского вероисповедания… чтобы он приказал укрепить оборону нашего королевства и оснастить достаточное число кораблей, которые обеспечат защиту берегов и портов… чтобы он послал помощь Нидерландам против испанцев». При подобных условиях разрыв дипломатических отношений с Испанией подразумевался сам собой.
Еще одно следствие новой политической линии: было необходимо отменить все решения, способствующие терпимости по отношению к католикам и принятые королем ради того, чтобы облегчить переговоры о браке его сына с инфантой. Теперь следовало применять существующие законы во всей их суровости и даже принять новые, еще более строгие.
Инцидент, произошедший 26 октября, то есть незадолго до возвращения принца и главного адмирала, помогает понять, как сильны были в это время в Лондоне антикатолические настроения. В тот день католики собрались в местечке Блэкфрайарз, чтобы провести свою религиозную церемонию. Во время проповеди отца иезуита в зале внезапно провалился пол, и погибло 150 человек. Вместо сочувствия лондонская толпа изъявила полный восторг, считая эту трагедию божественным возмездием. Епископ Лондонский отказал в погребении жертв происшествия на освященной земле {250}.
Итак, 2 марта лорды и общины составили петицию к королю о необходимости разорвать отношения с Испанией и о подготовке к войне. Однако Яков, находившийся в это время в Теобальдсе, еще одной из его загородных резиденций, дал понять Бекингему, что по причине нездоровья не сможет принять посланную к нему с петицией парламентскую делегацию.
Письмо, которое Бекингем отправил в ответ государю, даже сейчас, по прошествии четырех столетий, поражает дерзостью. Оно лучше, чем любые политические комментарии, свидетельствует о том, что после возвращения из Испании между слабеющим королем и превратившимся почти в хозяина положения фаворитом установился новый тип отношений. Достаточно привести несколько отрывков из этого послания от 4 марта 1624 года. «Раз Вы мне так велите, – пишет Стини своему «дорогому папе», – я сообщу парламенту, что после прогулки по полям Вас нынче днем разбил такой ревматизм, что Вы не в состоянии назначить день для приема посланников обеих палат. Однако я воздержусь от того, чтобы сказать им, что в это же самое время Вы принимаете у себя испанских послов, несмотря на ревматизм, не позволяющий Вам принимать собственных подданных» {251}.
Из последней фразы видно, что именно вызвало гнев Бекингема: вопреки всем его усилиям и поучениям король продолжал поддерживать отношения с Испанией. Он не мог решиться на разрыв. Но у него уже не хватало сил сопротивляться своему «дорогому мальчику»: 5 марта он принял в Теобальдсе делегацию парламента и, в общих чертах, согласился с предложениями Рудьерда. Вместе с тем он настаивал на том, что будущая война должна быть направлена на возвращение Пфальца, а непосредственных действий против Испании следует избегать. «Как Моисей узрел землю обетованную с высоты горы, но не вошел в нее, так и для меня величайшим утешением на пороге смерти будет узреть полное освобождение Пфальца, и я уверен, что освобождение это состоится» {252}. Однако парламенту следовало понять, что для подобного отвоевания необходима армия, а ее подготовка дорого стоит. Поэтому предстояло голосование по вопросу о значительных субсидий, и король надеялся, что при этом не будут забыты и его собственные интересы, ибо он опять оказался на мели. Он пошел на огромную уступку: согласился с предложением парламента поставить военные расходы под контроль специальных комиссаров, назначенных палатами.
Бекингем и Карл были удовлетворены лишь наполовину. Они – как и большинство депутатов – мечтали о полном и окончательном разрыве отношений с Испанией. 14 марта главный адмирал явился в Ройстон, чтобы объяснить королю предлагаемую им новую политическую позицию: союз с голландцами, союз с Францией, брак принца с француженкой Генриеттой Марией. Яков снова уступил. На следующий день Бекингем изложил этот проект в присутствии обеих палат как предложение, исходящее от самого короля. Его встретили аплодисментами, хотя идея о французском браке принца (опять союз с католиками!) не вызвала особого энтузиазма. Депутаты хотели открытой войны с Испанией, при минимальном расходе средств. Судьба Пфальца, судя по всему, была для парламента второстепенным вопросом, несмотря на то, что привычные фразы о несчастьях Фридриха Пфальцского и его супруги постоянно произносились. По сути, пфальцский вопрос был династической проблемой, которая непосредственно затрагивала принца Карла и его отца, но значительно меньше касалась лондонских буржуа и английских землевладельцев.
Депутат Джон Элиот, давний друг Бекингема и вице-адмирал Девона, очень ясно отразил состояние умов его собратьев по парламенту: «Пока мы бедны, Испания богатеет.
Вот где надо искать нашу Индию!» (Иными словами: давайте искать деньги там, где они есть: в испанских портах и на американских галионах {253}.)
Наконец палаты одобрили три субсидии и три пятнадцатипроцентных налога, то есть в общей сложности 300 тысяч фунтов стерлингов, – подчеркнув, что эти деньги должны пойти исключительно на оборону страны, на укрепление безопасности Ирландии, на помощь Соединенным провинциям и «другим союзникам Его Величества» и на вооружение флота (то были так называемые «четыре пункта»). Парламенту предстояло назначить комиссаров, которые будут контролировать использование этих субсидий. По просьбе короля из резолюции была вычеркнута фраза о «защите истинной религии», потому что она могла бы шокировать католические страны, в первую очередь – Францию, которую рассчитывали втянуть в борьбу против Испании.
На этот раз Якова I загнали в угол. Он уже не мог откладывать разрыв отношений с Испанией: 23 марта (все еще в Теобальдсе) он принял делегацию парламента и объявил об аннулировании всех прежних договоренностей с Филиппом IV и его предшественником. Его речь была печальна: «Я стар, но мой сын молод. Я смею утверждать, что, как бы стар я ни был, я лично отправился бы бороться [за Пфальц] и был бы счастлив погибнуть за это, будь такой поступок на пользу успеху нашего дела… Что до того, каким именно образом вести войну, то подобный вопрос не может быть решен голосованием большинства. Я сформирую из числа специалистов Военный совет. Предоставьте же вашему королю заботу о том, набирать ли десять или двадцать тысяч войска, на суше или на море, на востоке или на западе, наступать ли на баварские владения или на земли императора…» {254}
Итак, все было сказано. Политика мира, которой Яков I посвятил свое царствование, пришла к концу. Однако уже теперь стал явным конфликт, который спустя несколько месяцев столкнет королевскую власть с парламентом, а Карла с общественным мнением: Яков (а вместе с ним, несомненно, Карл и Бекингем) считал, что ведение войны, выбор территории военных действий и командиров должен оставаться исключительно его прерогативой. Парламент, напротив, стремился поставить все под свой контроль. Эти две концепции были несовместимы. Притом скоро окажется, что выделенные средства совершенно недостаточны.
Разумеется, лондонская толпа не заглядывала столь далеко. Она разжигала праздничные костры и швыряла камни в окна испанского посольства.
Глава XIV «И Соломон почил в мире»
«Стини, неужели ты хочешь моей смерти?»
Весной 1624 года, когда политика Бекингема, по внешней видимости, переживала триумф, постепенно стал назревать кризис, который, впервые с начала его придворной карьеры, угрожал (по крайней мере, по мнению наблюдателей) подорвать доверие к нему короля.
Об этом эпизоде много писали очевидцы и биографы главного адмирала. Однако для нас, в какой-то мере знающих подоплеку всего дела, благодаря переписке короля с фаворитом, неизвестной современникам и извлеченной из архивов XVIII и XIX веков, – для нас ясно, что распространявшиеся в то время слухи об опале были весьма преувеличены и по большей части являлись плодом фантазии.
Все началось в апреле, когда из Мадрида приехал агент отец Лафуэнте, задачей которого было спасение англо-испанского союза («Дать ему последнее причастие», как шутили жители Лондона). Он был уполномочен огласить новые обещания относительно Пфальца. Одновременно с ним, по другой дороге, был отправлен еще один официальный посланник, отец иезуит Маэстро, который вез секретные документы и имел целью скомпрометировать Бекингема в глазах короля.
Маневр был ясен всем, но, учитывая состояние духа Якова, он не был заведомо обречен на неуспех и тем более на полный провал. Бекингем быстро осознал это. Для него более чем когда-либо стало важно добиться того, чтобы Яков I, находящийся в своих резиденциях в окрестностях Лондона, оказался огражден от испанских интриг. Нельзя было допустить, чтобы король принял мадридских послов наедине, и Бекингем настоял на своем присутствии при разговорах государя с любым из них.
Еще до прибытия в Англию с Лафуэнте случилась неприятность, истоки которой общественное мнение приписывало Бекингему или его другу маркизу Гамильтону: в окрестностях Амьена испанца остановили грабители в масках и забрали у него все документы, включая верительные грамоты, которые он должен был вручить Якову I. Поскольку нападавшие не тронули денег, казалось очевидным, что это грабители совершенно особого рода. (Некоторые считали – и, возможно, не без оснований, – что организаторов нападения скорее следует искать во Франции. Кто знает? В любом случае, расследование не дало никаких результатов.) Итак, Лафуэнте прибыл в Лондон без багажа, и ему потребовалось несколько недель, чтобы добиться приема у короля в присутствии послов Инхосы и Коломы, а также Бекингема. Встреча состоялась 29 марта и ни к чему конкретному не привела: напомним, что она произошла спустя несколько дней после голосования парламента по «четырем пунктам» Рудьерда и обещания Якова I порвать отношения с Испанией.
Тем не менее, воспользовавшись моментом, когда Колома отвлек внимание главного адмирала, Инхоса сунул в руку короля сложенный листок бумаги и попросил прочитать записку без свидетелей. То было прошение о секретной аудиенции для дона Франциско Каронделе, посольского капеллана и архидьякона Камбрэ (в то время Камбрэ входил в состав Испанских Нидерландов). Этот человек был хорошо известен в дипломатических кругах и, судя по всему, прекрасно ориентировался в светской жизни Лондона.
На этот раз Яков, чье любопытство было возбуждено столь необычным поступком, пожелал узнать, что за таинственные сведения собирается ему сообщить Каронделе, и дал согласие на встречу. Она была назначена на 11 часов вечера 1 апреля в Уайтхолле, и Бекингем ничего об этом не знал. Это походило на настоящий шпионский роман…
То, что Яков I узнал 1 апреля, а во время последующих тайных встреч с Лафуэнте и Маэстро 20 и 21 апреля, повергло его в ужас. Лафуэнте привез пространный «мемуар» (анонимно составленный либо им самим, либо Каронделе, Инхосой или Коломой), в котором содержались суровые и точно сформулированные обвинения против Бекингема.
Мы уже частично цитировали этот документ [48], приводя отрывки, касающиеся неподобающего поведения главного адмирала в Испании. Однако там были обвинения и похуже: «Сейчас герцог опирается на парламент, действуя во вред Вашему Величеству. Пуритане одобряют все его поступки. Он проводит политику, противоречащую желаниям Вашего Величества, делает заявления, в которых перед Вами не отчитывается. Он изолировал Вас от Ваших подданных и друзей и настраивает принца против Вашей власти…» {255} К такому аргументу Яков, всегда ревниво относившийся к собственным правам, не мог остаться равнодушным. Возможно, он и сам понимал, что Бекингем ведет себя чересчур независимо. «Это правда! – воскликнул он. – После возвращения из Испании в герцога просто бес вселился, и он тянет за собой моего сына» {256}.
В восторге от подобного признания, Лафуэнте продолжал читать обвинительный «мемуар»: «Многие считают, что милорд Бекингем сознательно способствовал провалу переговоров об испанском браке принца. Именно он подтолкнул принца к тому, чтобы отозвать доверенность, выданную графу Бристолю. Он надеется выдать свою дочь за старшего сына пфальцского курфюрста, а тот станет наследником Вашего Величества, если у принца не будет детей… Да позаботится Ваше Величество о безопасности, Вашей собственной и принца: если встанет вопрос о престолонаследии, пуритане предпочтут в качестве законного преемника сына пфальцского курфюрста…»
На этот раз острие политического орудия было основательно заточено. Бекингема откровенно обвиняли в заговоре, направленном на свержение и убийство короля, в союзе с пуританами. Абсурдность подобного заявления бросалась в глаза, но Яков I с самого детства опасался покушения на собственную персону. Он был потрясен. Он ответил испанцу, что не верит ни слову из того, что было сказано, напомнил ему о лживых обещаниях и уловках Оливареса, повторил умалчивавшиеся испанцами требования относительно освобождения Пфальца. Однако в его душе поселился червячок сомнения, укоренилось семя подозрительности. В течение нескольких часов Яков позволил себе сомневаться в Бекингеме.
Утром 22 апреля король велел подать карету, чтобы ехать в Виндзор, где на следующий день должен был председательствовать на церемонии в честь Дня святого Георгия. По дороге он приказал остановиться у Сент-Джеймсского дворца, где его ждали Бекингем и Карл. Молодые люди собирались сесть в карету и сопровождать государя в Виндзор, но король воскликнул со слезами на глазах: «Ах, Стини, Стини, неужели ты хочешь моей смерти?» Потрясенный Бекингем «стал умолять своего господина, чтобы тот объяснил ему, за что он его упрекает, и клялся Спасителем, что докажет лживость выдвинутых против него обвинений, каковы бы они ни были; однако король не пожелал ответить, ибо он поклялся [Каронделе и Лафуэнте] хранить тайну, и ограничился тем, что стал повторять, что он самый несчастный человек, раз его предал тот, кого он больше всех любил» {257}. Потом он попросил Карла сопровождать его в Виндзор и оставил ошеломленного Бекингема на ступенях дворца.
С самого начала своей карьеры Джордж Вильерс ни разу не оказывался в столь критическом положении. Он почувствовал, что почва уходит у него из-под ног: потеряв доверие и любовь «дорогого папы», он превратился бы в ничто. Со времени отъезда Бекингема вместе с принцем в Испанию и особенно после возвращения оттуда постоянно возникали слухи о политических разногласиях между королем и фаворитом. Испанцы (но не только они, а также послы Франции и Венеции) жадно хватались за эти сплетни и доводили их до сведения своих правительств. Происшествие 22 апреля не могло не утвердить их в сомнениях (или надеждах) относительно положения Бекингема.
Тем более что в столь трагических обстоятельствах герцог повел себя на удивление пассивно. Похоже, его в прямом смысле слова парализовал отказ короля взять его с собой в Виндзор. Он впал в подавленное, почти депрессивное состояние. По счастью для него, рядом находились друзья, и среди них – известный ловкостью и мудростью Уильямс. Следующая сцена достойна комедии Мольера.
Бекингем спасен грешницей
Когда король и Карл уехали, Бекингем вернулся в свой дом, Уоллингфорд-Хауз, бросился на постель и отказался кого-либо видеть, погрузившись в самые мрачные раздумья.
Совсем не так повел себя хранитель печати, для которого опала главного адмирала означала также победу его собственных врагов. Он примчался в Уоллингфорд-Хауз и, несмотря на запрет, добился, чтобы его впустили в покои друга {258}. «Вам следует немедленно отправиться в Виндзор и настоять на приеме у Его Величества, – сказал он. – Не отходите от него ни днем ни ночью, ибо злоумышленники хотят поссорить короля с парламентом, а вас засадить в Тауэр. Один Бог знает, к чему все это приведет».
Бекингем поблагодарил Уильямса и сразу же поехал в Виндзор, где Яков принял его со слезами и объяснился с ним, к полному счастью обоих. На следующий день принц Карл вернулся в Лондон, пришел в палату лордов и отозвал в сторону хранителя печати, чтобы поблагодарить его за своевременное вмешательство.
«- Ваше Высочество, – ответил Уильямс, – я обязан был так поступить, поскольку узнал, что кому-то из испанского посольства удалось получить доступ к Его Величеству и составить заговор против милорда герцога.
Но как вам удалось узнать об этом? – поинтересовался принц.
Последовало невероятно живописное объяснение, которое полностью подтвердило как то, что хранитель печати был очень умным человеком, так и то, что его религиозная мораль отличалась чрезвычайной гибкостью (не забудем, что он был епископом). Итак, произошло следующее.
Каронделе, хотя и был католическим священником, не придерживался строгих правил. ("Правда, он – валлонец, а не испанец", – заметил Уильямс. Весомый аргумент!)
Я знал, что у него есть любовница, – продолжал хранитель печати, – и что это весьма умная женщина, у которой много ухажеров, дарящих ей массу подарков. Поэтому я попросил одного из моих друзей почаще наведываться к ней и разузнать, что говорил ей Каронделе по поводу интриги против милорда Бекингема. Так я все и узнал, а эта женщина получила переданные ей мною через друга деньги, ведь невозможно устраивать государственные дела, не платя за это золотом.
Карл рассмеялся.
И как все это согласуется с моралью? – веселился он.
Ваше Высочество, – отвечал министр-епископ, – из курса богословия я запомнил фразу: licet uti alieni peccato [49]. Дьявол сделал эту женщину грешницей, а я извлек пользу из ее греха. Что до меня самого, то я ее даже не видел. Наихудшее, что может со мной случиться, это то, что надо мной станут смеяться».
Все же для того, чтобы окончательно убедить короля, следовало получить доказательство существования заговора. Уильямс снова прибег к маневру, продиктованному скорее учением Макиавелли, нежели Евангелием. Он велел, по фальшивому обвинению, арестовать английского католического священника, друга Каронделе. Последний прибежал с просьбой освободить пленника, однако Уильямс предложил ему сделку: безопасность священника в обмен на копию переданного королю обвинительного документа против Бекингема. Каронделе пришлось сдаться: «Он ушел от хранителя печати только в два часа ночи, выжатый как лимон, до последней капли».
«Я нахожу, что со стороны милорда Уильямса то был ловкий ход, не лишенный остроумия», – делает вывод епископ Хэккет, которому мы обязаны описанием этой истории. В любом случае, министр спас фаворита, и тот никогда об этом не забывал.
Болезнь или яд?
Все эти переживания отразились на здоровье Бекингема. Он еще не полностью оправился после возвращения из Испании. В конце апреля он оказался в постели с высокой температурой и подозрением на желтуху. Ему часто пускали кровь, но народ пребывал в убеждении, что герцог стал жертвой яда, подсыпанного слугами, которых подкупили испанцы. Мы знаем, что в XVII веке подобные слухи возникали всегда, стоило какому-нибудь известному человеку тяжело (или даже не очень тяжело) заболеть. Однако кто знает?
Как бы то ни было, все считали, что жизнь герцога в опасности. Король примчался в Уоллингфорд-Хауз и провел целых три часа у постели своего дорогого Стини. Он послал ему клубнику, вишню, а также тестикулы и язык собственноручно убитого им оленя – это средство считалось в те времена безотказным. Леди Бекингем-мать также не бездействовала. Она предписала своему сыну пластырь и некое зелье, которые изготовил ее знакомый деревенский врач, умевший творить чудеса. Фаворит начал поправляться, и Яков I увез его с собой на корабле в Гринвич, воздух которого славился целебными свойствами. В конце мая Бекингем вернулся в Лондон и возобновил свою политическую деятельность, но все были поражены тем, какой он бледный и исхудавший. В течение нескольких месяцев после этого он продолжал жаловаться на слабость.
Закрытие парламента 1624 года
В то время как происходили тайные встречи короля Якова с испанскими посланниками, подорвавшие состояние духа и здоровье Бекингема, парламент продолжал свои заседания. Одновременно начались переговоры с Францией о браке принца Карла с Генриеттой Марией, и началась подготовка к войне с Испанией. О последних двух вопросах, в решении которых участвовал Бекингем, мы поговорим позже. А сейчас остановимся на описании заключительных прений в парламенте перед его роспуском.
Как только удалось добиться аннулирования договоров с Испанией (что, по тем временам, не означало автоматического разрыва дипломатических отношений; испанские послы уехали из Лондона только в июне), обе палаты вернулись к обсуждению своих обычных дел: финансов, пресечения злоупотреблений и конечно же к излюбленному узлу противоречий – борьбе с католиками. Последние считались «авангардом папы и Испании», предателями, обладающими изрядной силой. Поэтому для начала следовало-де немедленно изгнать всех иезуитов и «семинарских священников», то есть тех священников, которые получили образование в европейских семинариях, в Дуэ или в Риме. Затем надо было запретить и уничтожить папистские книги, «нашествие которых в наше королевство подобно чуме». И наконец полагалось строго выполнять законы, требующие изгнания рекузантов на расстояние пяти миль от Лондона, запрета на их появление при дворе, а также регулярной выплаты значительных штрафов за нарушение закона. Король и Карл медлили: подобные меры могли затруднить переговоры о французском браке. Однако, когда пришлось ответить на прямой вопрос, они подтвердили, что данный брак не повлечет за собой ни малейшего смягчения или отмены законов против католиков. Так зарождались возникшие в будущем спорные вопросы.
Бекингем не участвовал в этих дискуссиях, он был болен. Однако его влияние чувствуется во внезапных нападках депутатов на лорда-казначея Миддлсекса, в прошлом Лайонела Крэнфилда, лондонского торговца, которого Бекингем более чем кто-либо старался в свое время возвысить до важного государственного поста, каковой он нынче и занимал.
К несчастью для Миддлсекса, у него был несносный характер, и из-за этого, равно как и из-за его естественного нежелания расточать казенные деньги, у него было много врагов. По критериям той эпохи, он был честен, но, хорошенько поискав, и у него можно было обнаружить грешки, вроде взяточничества или финансового покровительства избранным лицам.
Он неосторожно выступил против Бекингема и принца, упомянув о их «непомерных» расходах во время путешествия в Испанию. Он поступил еще более неосторожно, осудив при всех на заседании Тайного совета разрыв договоренности о браке с инфантой, который, по его мнению, противоречил чести и служил примером неуважения к данному слову. Карл холодно ответил: «Я полностью доверяю милорду казначею в вопросах коммерции, ибо это его дело, однако сомневаюсь, чтобы он был компетентен в вопросах чести» {259}.
Потому никто не удивился, когда 5 апреля сэр Эдвард Кок выдвинул в парламенте против казначея обвинение в бесчестии. Тот сразу же объявил, что против него существует «заговор», но на деле удар в конечном счете исходил от Карла и Бекингема. После выступления архиепископа Эббота лорды приняли решение провести в начале мая против
Миддлсекса процедуру импичмента – ту самую, что свалила три года назад канцлера Бэкона.
Узнав о происходящем, король впал в уныние. В отличие от своего сына и Бекингема он предвидел последствия подобных действий: подрыв стабильной работы одного из основных ведомств государства. По этому поводу Кларендон приводит характерный анекдот. «Ты – дурак, – сказал Яков главному адмиралу. – Ты собираешься сам сделать палку, которая однажды тебя ударит». И, повернувшись к Карлу, добавил: «А у тебя случится несварение желудка от импичментов, когда ты будешь царствовать» {260}. Впечатление от провидческой справедливости этих слов несколько ослабляется тем, что записаны они были только двадцать лет спустя после интересующих нас событий. Однако они вполне соответствуют характеру короля и стилю его высказываний. Как бы то ни было, слова эти стали весьма популярны и часто цитируются.
Несмотря на несогласие короля, Миддлсекс предстал перед судом палаты лордов и 13 мая был приговорен к лишению всех должностей, штрафу в 50 тысяч фунтов стерлингов, тюремному заключению, «если того пожелает Его Величество», и изгнанию из палаты лордов навечно. Тем не менее он не лишился дворянского титула, а король поспешил освободить его из тюрьмы и возместить большую часть штрафа. Несмотря ни на что, большинство считало опалу Миддлсекса делом рук Бекингема. Дабы придать слухам пикантность, говорили, будто лорд-казначей пытался подорвать влияние главного адмирала, введя в окружение короля очаровательного молодого человека, своего шурина Артура Бретта, и повторив таким образом маневр, с помощью которого в свое время Сомерсета заменили Бекингемом. Если это правда, то нельзя не признать, что Миддлсекс играл с огнем {261}.
Карл и Бекингем были настроены против еще одного лорда, который стал их врагом из необходимости как-то защитить себя: речь идет о бывшем после Бристоле, вернувшемся из Испании в конце января и тщетно добивавшемся аудиенции у короля. В ответ на просьбы он получил приказ удалиться в свое поместье Шерборн, и ему было запрещено появляться при дворе. Поэтому он не мог участвовать в заседаниях парламента и сходил с ума от беспокойства и нетерпения. Впоследствии принцу и главному адмиралу пришлось дорого заплатить за мелочность и предвзятость в отношении человека, который, несмотря на расхождение с ними во взглядах на брак с инфантой, не сделал ничего такого, за что его можно было бы упрекнуть.
В конце мая король решил закрыть заседания парламента. Он не был вполне удовлетворен выделенными субсидиями, однако на этот раз удалось избежать конфликтов, характерных для предыдущих созывов. В речи 28 мая Яков выразил благодарность лордам и депутатам и объявил, что парламент распускается на каникулы до сентября (на деле же отсрочка следовала за отсрочкой, и заседания так больше и не возобновились).
Военные приготовления
У Англии не было армии. Маленький экспедиционный корпус Томаса Вера действовал вместе с войсками Нидерландов и в 1622 году в конце концов вошел в их состав. Поэтому для того, чтобы попытаться действительно освободить Пфальц, следовало набрать настоящую армию, используя субсидии – абсолютно недостаточные, – за которые проголосовал парламент.
Яков I решил призвать немецкого кондотьера Мансфельда, который, по крайней мере, имел опыт ведения военных действий и знал местность, где предстояло воевать, хотя и не обладал другими достоинствами, а главное – не был англичанином. Яков принял Мансфельда со всеми подобающими почестями: его поселили в Сент-Джеймсском дворце, в покоях, за год до того готовившихся для инфанты. Он потребовал 10 тысяч пехотинцев, 3 тысячи лошадей, 6 пушек и жалованье в 20 тысяч фунтов стерлингов в месяц. При подобном раскладе казна опустела бы мгновенно. Поэтому было необходимо всеми средствами добиться финансовой помощи Франции: так вернулись к вопросу о браке Карла с Генриеттой Марией. Эти две проблемы – брак и военный союз – оказались тесно связаны.
Пока в Париже разворачивались переговоры (к ним мы еще вернемся), король подписал 29 октября приказ о наборе 10 тысяч человек в английских графствах. Мансфельд был назначен главнокомандующим, к явному неудовольствию надеявшихся на эту честь английских дворян.
Со своей стороны, Бекингем как главный адмирал начал строительство большого числа кораблей и готовился, в случае необходимости, реквизировать купеческие суда. Из-за отсутствия финансов (парламентские субсидии поступали с трудом, а бюрократия казначейства, дестабилизированная опалой Миддлсекса, дошла до предела недееспособности) Бекингем в значительной мере вкладывал в дело свои собственные средства. Поездка в Испанию уже стоила ему 13 тысяч фунтов стерлингов, возмещение которых он смог получить лишь три года спустя. Согласно подсчетам, он истратил на вооружение флота более 15 тысяч фунтов, хотя сам уже имел долгов на 20 тысяч. При этом он нерегулярно платил жалованье своим слугам – как и король едва мог оплачивать услуги поставщиков двора. При дворах Франции и Испании в те времена жили так же {262}.
Наконец в середине декабря 1624 года армия Мансфельда – а что это за армия, мы еще увидим, – была готова к действиям, как и флот, которому предстояло ее перевозить. Однако куда перевозить? Вот в чем вопрос.
Бекингем и «французский брак»
Теперь все зависело от Франции, то есть от предполагавшегося англо-французского союза, тесно связанного с перспективой брака принца Карла и принцессы Генриетты Марии. Именно этому делу Бекингем отдавал с тех пор все свои силы.
Еще в феврале 1624 года во Францию был послан виконт Кенсингтон, чтобы разведать, какие настроения у Людовика XIII и его матери. Мы уже знаем, каким совершенным изяществом и великим обаянием отличался этот человек[50], друг Бекингема. Он имел успех у женщин и свободно говорил по-французски. Во Франции ему оказали сердечный прием; он не замедлил стать любовником красавицы герцогини де Шеврез, близкой подруги королевы Анны Австрийской, и был принят при дворе, что значительно облегчало его задачу.
Через несколько дней после приезда он написал главному адмиралу письмо, полное ликования: «Я видел королеву и Мадам [Генриетту Марию] у герцога де Шеврез. Мне сказали, что Мадам редко бывает столь весела, как в этот вечер, и что нетрудно угадать причину ее веселья. Клянусь Вам, что эта юная принцесса нежна и мила. Она невысокого роста, но идеально сложена, и все утверждают, что ее сестра [Кристина, принцесса Пьемонтская] была в ее возрасте не выше ее… Я имел честь быть представлен королеве-матери [51], которая, как я думаю, является единственной правительницей этого королевства [52]. Она объявила мне, что прекрасно понимает, что испанский король претендует на создание всемирной монархии, и у нее нет более горячего желания, нежели выдать свою дочь за нашего принца… Что до королевы [Анны Австрийской], то она настолько француженка, что, как мне сказали, желает этого брака еще в большей степени, нежели желала раньше брака собственной сестры [53]. Все здесь мечтают о союзе с нами…» {263}
Любезный Кенсингтон позволил себе несколько увлечься. Он весьма скоро убедился, что за прекрасными словами скрываются серьезные проблемы, исходящие как от короля Людовика, так и от его министров. Однако в Лондоне Карл, который до этого времени сдержанно относился к женитьбе (похоже, он не сохранил особо приятных воспоминаний о четырнадцатилетней девочке, которую видел год назад, инкогнито проезжая через Париж), вдруг воспылал желанием как можно скорее заполучить ее в супруги, каковую его посланец описывал как «самое очаровательное создание во всей Франции». Вдобавок тот же Кенсингтон утверждал, что она «краснеет, тайком любуясь портретом принца».
До этих пор Яков I не проявлял особого интереса к идее «французского брака». Ему все еще было жаль инфанты и несбывшейся мечты о союзе с Испанией. Поговаривали даже, что скоро вернется Гондомар, причем, несомненно, с новыми предложениями Филиппа IV, и кто знает: вдруг он предложит освободить Пфальц? Бекингем забеспокоился: с этого момента «французский брак» стал для него делом чести. Он убедил себя (или сделал вид, что убедил) в том, что неудача в этом вопросе приведет к его опале.
После того как Кенсингтону оказали в Париже радушный прием, встал вопрос о посылке второго посла, не столько светского человека, сколько политического деятеля. Им стал Джеймс Хей, граф Карлайл, тот самый личный друг короля Якова, который в 1620 году под именем виконта Донкастера пытался осуществить английское посредничество в чешской войне. Карлайл приехал в Париж в апреле 1624 года.
Французское правительство, со своей стороны, сделало жест доброй воли, заменив в Лондоне не питавшего к англичанам посла Тилльера. Вместо него приехал Антуан Коэффье-Рузэ, маркиз д'Эффиа, государственный советник, дипломат высокого уровня, славившийся своей ловкостью. Приехав в Англию, д'Эффиа завоевал симпатию Бекингема, осыпая его всяческими любезностями: «Герцог воистину правит в этой стране. Можно сказать, что король по-настоящему любит его, позволяет ему все, что угодно, и смотрит на все его глазами» {264}. Вскоре Бекингем сошелся с д'Эффиа столь же близко, как раньше с Гондомаром: было ли это с его стороны наивностью или хитрым ходом? Можно найти подтверждение каждому из этих предположений: согласно одному свидетельству, он в частной беседе насмехался над французским послом… Не подлежит сомнению лишь то, что, поступая подобным образом, Бекингем давал повод для обвинений в том, что он предает интересы Англии в угоду французским амбициям.
Яков I тоже был очарован д'Эффиа, которого брал с собой на охоту и вел себя с ним как с товарищем, – совсем как с Гондомаром за несколько лет до того. В Париже тем временем продолжались переговоры. Они велись по двум направлениям: во-первых, собственно о браке, во-вторых, о политическом и военном союзе. В понимании короля Якова и особенно Бекингема, который все больше руководил играми английской политики, эти два аспекта были неразрывно связаны и их нельзя было разделять. Французская же сторона не спешила вступать в политический союз.
С самого начала возникло серьезное осложнение: оно опять касалось судьбы английских католиков. Людовик XIII был искренним и глубоко верующим католиком. Он не мог себе представить, что отдаст сестру замуж за принца-протестанта, не потребовав выполнения тех же условий, которые годом раньше выдвигал король Испании. В течение десяти месяцев дискуссия велась вокруг двух противоположных позиций: Франция требовала полной свободы для всех английских католиков, Яков I настаивал на милостивых послаблениях, зависящих от его воли. Поначалу английские участники переговоров, в первую очередь Карлайл, утверждали, что король не имеет юридического права изменять существующие законы без голосования в парламенте, а парламент настроен против каких бы то ни было смягчений законов. Затем постепенно они стали предлагать идею письменного обязательства в виде отдельного документа («частного письма»), в котором Яков I даст обещание прекратить уголовные дела против английских католиков, освободить заключенных и дать указание судьям не заводить новых дел. Французское правительство, которое с 16 августа 1624 года возглавлял кардинал Ришелье, умевший стоять на своем в переговорах, долгое время утверждал, что подобная мера недостаточна, но в конечном счете согласилось уступить при условии, что «частное письмо» будет подписано королем, принцем Карлом и государственным секретарем, что придало бы ему официальный характер и рано или поздно сделало бы достоянием гласности. Что касается будущей английской королевы, то само собой подразумевалось, что она и ее окружение должны обладать полной свободой отправления культа и располагать штатом католических священников под руководством епископа, причем часовня должна оставаться доступной для английских католиков. Кроме того, предполагалось, что ее дети станут воспитываться матерью до двенадцати лет {265}.
Обсуждение этих пунктов заняло все лето и всю осень. Поначалу Яков I не желал ничего слышать о свободе для английских католиков. Впрочем, он допускал возможность «терпимости» или «милости» в их отношении по его собственной воле без изменения существующих законов. Затем, постепенно, под давлением Бекингема и Карла, он пошел на уступки. Один инцидент прекрасно иллюстрирует положение дел. 13 августа, когда Бекингем и д'Эффиа скакали в Дерби, где находился король, им встретился по дороге гонец, везший во Францию письмо государя. Бекингем, не колеблясь, остановил гонца и отобрал письмо. Приехав в Дерби, он привел д'Эффиа к Якову и заставил короля прочитать письмо. Как он и предполагал, речь шла о полном отказе менять законы против католиков. Тогда д'Эффиа объяснил, что подобная позиция может положить конец всем надеждам на брак, а значит, и на союз с Францией, и Якову, вопреки собственной воле, пришлось переписать письмо, составив его в более примирительном тоне. Именно на примере подобных случаев можно видеть, что старый король уже перестал быть хозяином своих политических действий и Бекингему удавалось почти во всех случаях навязывать ему свою волю.
Вдобавок папа римский не желал быть более сговорчивым в случае брака Генриетты Марии, нежели в случае брака инфанты. Ришелье послал в Рим своего друга отца Берюля, главу ораторианцев и будущего кардинала. Берюль, столь же тонкий дипломат, сколь благочестивый священник, сумел добиться результата, и 21 ноября разрешение было наконец подписано папой Урбаном VIII. Яков I ратифицировал брачный договор 12 декабря в Кембридже. Там же, в присутствии только принца Карла, Бекингема и государственного секретаря Конвея, он подписал «частное письмо» о терпимости к католикам, чем вызвал большое недовольство других членов Тайного совета. Кенсингтон, в благодарность за его дипломатическую службу, получил титул графа Холланда.
24 декабря хранитель печати Уильямс отдал распоряжение об освобождении находящихся в тюрьмах католических священников. Архиепископы Кентерберийский и Йоркский прекратили все начатые в церковных судах следствия против рекузантов, а новый лорд-казначей получил приказ возместить штрафы, взимавшиеся по религиозным поводам, начиная с Троицына дня. Король Яков сдержал слово, данное в «частном письме», однако все это делалось потихоньку, без огласки, можно сказать, подпольно. Нужно было опасаться реакции общества, однако рано или поздно тайное становится явным и в результате французский брак принца все больше терял популярность.
Невозможность союза с Францией и военные неудачи
Тем не менее оставалось еще одно препятствие. Яков I, Бекингем и сам Карл не желали играть свадьбу до тех пор, пока с французской стороны не будут получены формальные заверения о готовности заключить дипломатический и военный союз против Испании.
При этом Людовик XIII и Ришелье, расточая любезные слова, не имели ни малейшего намерения связывать себе руки подобным обязательством и тем более открыто ввязываться в войну. Ни с финансовой, ни с тактической точки зрения они не были готовы участвовать в подобном деле, а происпанская партия при французском дворе была в то время слишком сильна, чтобы кардинал-министр посмел ей противостоять.
Грандиозный проект Бекингема подразумевал создание настоящей наступательной лиги: Англия, Франция, Соединенные провинции, Дания, Швеция, Саксония и другие протестантские князья Германии должны были подняться против императора и Баварии, в то время как Франция, Савойя и Венеция повели бы в Италии действия против Испании. К сожалению, герцог не располагал ни малейшими средствами для того, чтобы столь серьезно изменить равновесие сил в Европе. Разумеется, Ришелье заключил соглашения с Савойей и Венецией ради освобождения Вальтелины и замирения женевцев, союзников Испании; однако в том, что касалось северного фронта, он не собирался вступать в союз с силами протестантов: это поссорило бы его с французской католической партией, и король не позволил бы ему принять подобное решение. Напротив, кардинал вел тайные переговоры с герцогом Баварским, пытаясь уговорить его прекратить войну.
Таким образом, непонимание между Парижем и Лондоном было полным, а Бекингем осознавал, что, имея ресурсы одной только Англии, не сможет вернуть Пфальц (что оставалось конечной целью войны), ведь это доказали все предыдущие попытки.
Мансфельд худо-бедно создавал английскую армию, придерживаясь всех пунктов своего соглашения с королем Яковом. Десять тысяч человек были собраны с применением силы. Их привезли в Дувр в декабре. То было жалкое войско из крестьян, не имевших военной подготовки и едва таскавших ноги. Платили им скверно, и они грабили деревни, мимо которых проходили, донимая местных жителей, «не хуже вражеской армии» {266}. Когда новобранцы прибыли в Дувр, оказалось, что в кассе больше нет денег. Мансфельд сделал вид, что обязан принять их на довольствие только с момента погрузки на корабли для перевоза на континент. Бекингем вмешался и добился, чтобы Мансфельд выплатил 6 тысяч фунтов стерлингов до отправки. Однако это означало угодить из огня да в полымя.
На деле никто не знал, как должны развиваться дальнейшие действия. Бекингем рассчитывал на то, что (согласно достигнутой устной договоренности с Ришелье) армия Мансфельда высадится в Кале; оттуда она должна была отправиться в Испанские Нидерланды, на Льеж, чтобы добраться до Пфальца. Но для этого требовалось согласие Испании, владевшей Нидерландами, а его не было. Несанкционированный переход границы означал начало военных действий против Испании, а на это не был согласен король Франции. Ришелье порекомендовал иную стратегию: высадить английскую армию в Нидерландах и послать ее на помощь Бреде, которую с августа осаждали испанцы. На этот раз не согласился Яков I: он отдал приказ Мансфельду отвоевать Пфальц, а не что-то другое. Судьба Бреды была ему, равно как Бекингему и Карлу, совершенно безразлична.
Тем временем военная казна таяла на глазах, и Бекингем снова вложил собственные деньги. Он заставил Ост-Индскую компанию выплатить 10 тысяч фунтов стерлингов в качестве налога на прибыль, полученную от проводившихся в Азии коммерческих операций с португальцами. Карл также внес 20 тысяч фунтов от себя лично. А находящаяся в Дувре армия была настолько недисциплинированна, что стали подумывать о введении военного положения.
Флот, готовый перевозить войска Мансфельда, стоял на якоре в Дуврском порту. Поскольку Франция упорно отказывалась пустить его в Кале или Булонь, Яков I наконец уступил и велел высадиться в Голландии, но по-прежнему запретил идти на помощь Бреде. Как, в этом случае, он собирался добираться до Пфальца, – вопрос, на который нет ответа.
13 января 1625 года корабли отправились в путь и на следующий день бросили якорь против Флиссингена, на острове Вальхерен. Эта операция привела к катастрофе. Погода стояла ужасная, почти все солдаты были больны, голодны, лишены самого необходимого. «Мы сдохнем, как собаки», – записал один из старших офицеров лорд Кромвель {267}. Всего за несколько недель армия Мансфельда практически перестала существовать. Те, кто выжил, были взяты на довольствие голландцами и вступили в их армию. Для Англии то было неслыханным унижением, и ответственность за него во многом возлагали на Бекингема. «Было время, когда английские войска приводили мир в восхищение, а сейчас нас презирают даже последние из последних. Невозможно было хуже организовать и провести эту экспедицию», – возмущался Джон Чемберлен {268}.
Подобный упрек несправедлив. Лично Бекингема не за что было обвинять, разве лишь за то, что он начал кампанию, положившись на устные обещания Ришелье и Людовика XIII. Здесь сыграл роль один из главных недостатков Джорджа Вильерса: его привычка принимать желаемое за действительное, не добившись солидных гарантий. И это притом что послы, в частности Карлайл, постоянно делились с ним сомнениями по поводу решимости французов осуществлять финансовое или военное вмешательство в германские дела. Бекингем проигнорировал эти предупреждения. Однако, что касается его личного участия в подготовке экспедиции, он выложился полностью, несмотря на то, что его здоровье еще окончательно не восстановилось. Он вкладывал собственные средства, чтобы обеспечить переправку войск. Настоящим виновником был Мансфельд, присвоивший большую часть выданных казной денег и не сумевший предложить надежный план кампании.
Наконец-то свадьба!
Тем временем бесконечные переговоры о браке Карла с Генриеттой Марией уже истощили всеобщее терпение. Бекингем в узком кругу обзывал французов «дерьмовыми глотками)» (shitten mouths) {269}. Папа римский опять создавал препятствия для подтверждения собственного разрешения. У испанцев возродилась надежда: раз экспедиция по освобождению Пфальца провалилась, то, возможно, настало время попытаться восстановить англо-испанский союз и – кто знает? – вернуться к проекту брака Карла с инфантой. Гондомар написал Бекингему письмо, в котором назвал себя «вечно преданным другом и слугой Джорджа Вильерса, герцога Бекингема».
На этот раз Ришелье испугался. Он не мог рисковать, – позволить Англии броситься в объятия Испании. 15 февраля 1625 года он дал знать, что Генриетта Мария готова выйти замуж за принца Карла. Наконец-то! Карл хотел было сам пересечь Ла-Манш и привезти супругу, но его отец воспротивился: ему хватило поездки в Мадрид. Было решено, что в Париж отправится Бекингем и заключит брак по доверенности, а затем, в середине марта, привезет принцессу в Англию.
Началась подготовка. Свадебный кортеж отличался восточной пышностью: три кареты, украшенные золотыми кружевами и отделанные внутри красным бархатом и золотом; каждую тянули восемь лошадей; сотня музыкантов в ливреях герцога; для самого героя дня – 27 богатых костюмов, расшитых шелком и серебром, плюс к тому наряд из белого бархата, расшитый бриллиантами, и еще один – из пурпурного атласа, расшитого жемчугом. Оба костюма предназначались для свадебной церемонии. Все это стоило 90 тысяч фунтов стерлингов {270} – для подобных расходов всегда находились деньги: следовало ослепить французов и показать им, какая роскошь ожидает юную принцессу в ее новом королевстве. Красавец Джордж Вильерс, в полном расцвете славы, готовился пережить одно из самых восхитительных мгновений своей жизни.
Однако 5 марта заболел король Яков. И вскоре стало ясно, что теперь уже не до свадьбы.
Смерть «папы»
Яков I, несмотря на артрит, парализовавший его пальцы до такой степени, что он не мог писать, и постоянные приступы подагры, продолжал вести активный образ жизни: путешествовал, охотился, ездил туда-сюда между Лондоном и окрестными резиденциями.
Поэтому, когда в начале марта 1625 года его сразила «трехдневная лихорадка», поначалу никто не обеспокоился. В век, когда антибиотики не были известны, подобные инфекции случались часто. Короля лечили кровопусканиями и слабительными – эти средства считались универсальными. Термином «трехдневная лихорадка» обозначали в то время лихорадку, приступы которой возобновлялись каждые три дня. В современной медицине было бы трудно отыскать точный эквивалент этого диагноза.
Яков I, находившийся в то время в Теобальдсе, желая побороть лихорадку, принялся по своей печальной привычке пить холодное пиво и окунаться в ледяную воду, отказываясь принимать лекарства, предлагаемые врачами. Его состояние быстро ухудшилось. Бекингем, чье здоровье также оставляло желать лучшего, примчался к больному вместе со своей матерью. У короля начались проблемы с кишечником, а приступы лихорадки становились все тяжелее.
Вот тогда-то леди Бекингем и вспомнила о пластыре и настойке эссекского врача Ремингтона, средствах, вылечивших в прошлом году ее сына. Она рассказала о них королю, и тот сразу же пожелал их испробовать. Графиня собственноручно наложила пластырь на запястья больного и дала ему выпить настойки.
Случаю было угодно, чтобы почти сразу после этого лихорадка возобновилась с удвоенной силой. Королевские медики, увидев пластырь и узнав о настойке, подняли крик, снимая с себя всю ответственность за лечение больного, раз в него вмешиваются, применяя неизвестные средства. Врачей можно понять; в наше время любой медик повел бы себя так же. Бекингем поступил неосторожно, приняв все это слишком близко к сердцу и отстранив самых возмущенных – доктора Крейга и доктора Иглишема – от лечения короля. Поступок, мягко говоря, неловкий, тем более что впоследствии пластырь и настойка доктора Ремингтона были признаны совершенно безвредными и излечили многих пациентов. Импульсивная и необдуманная реакция Бекингема, вполне соответствовавшая его характеру, позволяла придать случившемуся неоправданно серьезное значение – что и произошло.
Состояние короля действительно быстро ухудшалось. 24 марта у него начались судороги, и он на мгновение потерял сознание. Из Лондона срочно вызвали архиепископа Эббота и епископа-хранителя печати Уильямса, а также принца Карла. Стини не отходил от постели своего «дорогого папы и крестного». 26 марта Яков I получил последнее причастие из рук Уильямса, «проявив благочестие и благоговение, достойные ангела». После этого он остался наедине с сыном, и никто не знает, о чем они говорили. Можно не сомневаться, что король посоветовал Карлу оставаться верным дружбе с Бекингемом, к чему принц и сам был весьма склонен. Наконец 27 марта, в воскресенье, около полудня, «в окружении лордов и слуг, стоявших по одну сторону постели, и епископов и капелланов – по другую, без страданий и конвульсий, Соломон [54] почил в мире» {271}.
В лице Якова I Бекингем потерял своего «творца» (как он сам его называл), отца, защитника и друга. Нет никаких оснований сомневаться в искренности его горя, проявления которого тем более похожи на правду, что мы знаем его как человека очень эмоционального, способного, как большинство его современников, давать волю слезам.
Однако клевета не замедлила зазвучать. Выгнанные Бекингемом врачи поспешили рассказать коллегам о пластыре и настойке, придав своим рассказам оттенок мрачной таинственности. Граф Бристоль, готовый после конфликта с главным адмиралом в Мадриде поверить в наихудшие против него обвинения, на следующий же год объявил о своем опасении, что герцог «ускорил смерть короля». Взбешенный герцог потребовал, чтобы посол поточнее выразил свою мысль. «Милорд Бристоль объяснил, что имел в виду только печаль, в которую повергало короля поведение герцога». Бекингем был задет за живое. Он подробно рассказал на заседаниях палаты лордов, «что пластырь ему впервые порекомендовала женщина, вылечившая им ребенка от четырехдневной лихорадки. Он вспоминал о покойном короле со слезами на глазах, говоря, что получил от него столько благодеяний для себя и для своей семьи, что даже само подозрение в причастности к смерти государя является для него худшей из казней» {272}.
По мнению епископа Гудмена, описавшего эту сцену, невиновность Бекингема «была очевидна всем, кто знал характер герцога, которого можно отнести к числу лучших людей нашего мира». Однако было невозможно так легко разоружить его врагов. Обвинение в отравлении короля Якова, каким бы абсурдным оно ни было, продолжало витать в воздухе. Оно вновь всплыло в 1626 году во время разбирательства по делу главного адмирала в палате лордов. Спустя несколько лет доктор Иглишем, один из тех, кого Бекингем отстранил от лечения короля, опубликовал в Амстердаме памфлет под заглавием «Провозвестник мщения», в котором открыто обвинил Бекингема в отравлении Якова I – и вдобавок еще маркиза Гамильтона. Впоследствии, как изощренный вымогатель, он безрезультатно предлагал Бекингему выпустить опровержение своей же книги в обмен на четыре сотни флоринов. Кончил же доктор тем, что был приговорен к смертной казни за фальшивомонетничество.
А в довершение всего, в 1649 году, когда, в результате гражданской войны с парламентом, Карл I в свою очередь оказался под судом по обвинению в государственной измене, ему вменили в вину то, что двадцатью пятью годами раньше он был-де сообщником Бекингема в убийстве собственного отца. Вот до какой степени укоренилась в душах врагов бывшего фаворита мысль об отравлении Якова I!
Глава XV «Нежнейшие вещи на свете»
Бекингем и новый король
Как для своих подданных, так и для иностранных наблюдателей принц Карл, ставший Карлом I, был человеком, чей характер не поддавался однозначному определению. Французский государственный секретарь Анри де Лавиль-о-Клер (будущий граф де Бриенн), прибывший в Лондон в декабре 1624 года для продолжения франко-английских переговоров, был озадачен: «Он показался мне весьма сдержанным, а потому я решил, что он должен быть либо необычным человеком, либо человеком посредственных способностей. Если он предпочитал оставаться в тени, чтобы не вызывать ревнивого чувства у своего отца-короля, то это признак истинной осторожности; однако если сдержанность его естественна и лишена тонкости, то следует сделать совсем противоположный вывод» {273}. Впечатления других дипломатов и мемуаристов полностью совпадают с этой неопределенной точкой зрения.
На деле трудно представить себе два более различных, если не сказать противоположных друг другу, характера, нежели характеры Якова I и его наследника. Первый был экстравертом, болтуном, импульсивным человеком, однако обладал здравым умом, и политика его, несмотря на кажущуюся извилистость, отличалась постоянством: на протяжении всего времени царствования он желал мира (читай: дружбы) с Испанией, не делая при этом уступок в религиозных вопросах. Он никогда не доверял Франции и не испытывал к ней никакой душевной привязанности, несмотря на кровь Гизов, которая текла в его жилах. Он в конце концов согласился на брак Карла с Генриеттой Марией, но сделал это неохотно, скорее уступая настойчивости Стини, нежели по убеждению. До самого конца Бекингем боялся, что Яков I вновь вернется к идее союза с Испанией. В последние годы жизни король значительно ослабел; у него уже не хватало сил долго сопротивляться объединенному давлению сына и фаворита; но при этом он не лишился собственной воли и неоднократно (например, во время весенней парламентской сессии 1624 года) ясно выражал несогласие с теми авантюрными проектами, в которые его пытались втянуть воинствующие «мальчики».
Карл I был совершенно другим человеком. Он был робок, молчалив (говорил с трудом из-за дефекта дикции, возникшего еще в детстве), упрям. Глубоко осознавая свое королевское достоинство, он, как в общественной, так и в частной жизни, вел себя сдержанно, что было несвойственно его отцу. У Карла напрочь отсутствовало то, что мы теперь называем общительностью. Боясь обсуждений, он имел обыкновение принимать решения поспешно, не заботясь о том, какова будет реакция общественного мнения и даже ближайшего окружения: очень скоро он стал считать любую критику и любое несогласие, даже самое умеренное, покушением на королевское величие.
Дружба Карла с Бекингемом, тоже крепкая и непоколебимая, как у его отца – хотя и другая по своей природе, – стала одной из существенных черт характера короля. В их союзе не было ничего сексуального. Никто, даже самые непримиримые враги, даже в наихудшие моменты, не делали ни малейшего намека на подобный оттенок в их отношениях. Для Карла Стини (он звал его тем же именем, что и отец) был старшим братом, руководителем, примером для подражания. Властность, все чаще проявляемая главным адмиралом, казалась молодому королю (в момент восшествия на престол ему было двадцать пять лет) признаком политической гениальности, и он старался ей подражать.
Тон их переписки говорит о многом. В письмах к Бекингему король использует попеременно слова «thou» («ты») и «you» («вы»), что можно считать доказательством нежной дружбы. Однако куда более удивительно, что главный адмирал в мае 1625 года, то есть через два месяца после воцарения Карла I, пишет новому королю, обращаясь к нему словами «мой дорогой молодой хозяин» (My dear young master) с легким оттенком снисходительности, весьма удивительной в атмосфере почтения к власти монарха, характерной для XVII века. Правда, он завершает письмо принятой и обязательной формулой выражения верноподданности: «Я покорно прошу Вас продолжать любить меня, как и прежде, что делает меня не только самым счастливым человеком, но самым преданным подданным и рабом Вашего Величества, Джордж Бекингем» {274}.
Как бы то ни было, до марта 1625 года Бекингему приходилось считаться с сопротивлением старого Якова I. После этой даты уже ничто не мешало ему навязывать свои политические решения. Иностранные дипломаты не ошиблись: герцог стал настоящим королем Англии и оставался таковым вплоть до своей смерти. То был поразительный для современников случай, когда могущество фаворита пережило человека, его выдвинувшего, и даже укрепилось после смерти старого короля. Одного этого факта достаточно, чтобы опровергнуть заявления врагов Бекингема, будто Джордж Вильерс был всего лишь «придворным миньоном» {275}.
Восшествие Карла на престол
В момент смерти Якова I Карл и Бекингем находились подле постели короля в Теобальдсе. В тот же вечер, 27 марта, Карл был провозглашен в Лондоне «Божьей милостью королем Англии, Франции [55], Шотландии и Ирландии и защитником истинной веры» и въехал в свою столицу уже как государь, причем главный адмирал сидел в карете рядом с ним. Карл поселился в Сент-Джеймсском дворце, ожидая, пока для него приготовят покои в Уайтхолле, и Бекингем оставался при нем. «Я потерял доброго отца, а Вы – доброго господина, но не бойтесь ничего: у Вас теперь есть новый господин, который любит Вас не меньше», – написал он Стини в официальном письме {276}. На первом же заседании Тайного совета Бекингем был утвержден во всех своих званиях и должностях и, кроме того, получил золотой ключ, дававший ему доступ в покои короля в любое время дня и ночи.
Карл был злопамятным: он не отменил опалы Бристоля и готовил ему нечто еще более неприятное. Он отослал также Фрэнсиса Коттингтона, который двумя годами раньше проявил неуважение к Бекингему, сдержанно отозвавшись об идее поездки в Испанию. Более того, Коттингтон перешел в католичество, а этого новый король простить не мог.
И потому старого слугу лишили должности секретаря Карла и сослали в имение. Он попытался разжалобить главного адмирала, но получил однозначный отпор. «Я отвечу Вам совершенно откровенно, – написал Бекингем. – У меня нет возможности сделать для Вас то, чего Вы желаете. Я не только не могу верить Вам и ладить с Вами, но будьте уверены, что я навсегда останусь Вашим открытым врагом» {277}.
Впрочем, в дальнейшем ходе этого дела проявилась честность Джорджа Вильерса. На службе у Карла и у герцога Коттингтон потратил много собственных денег. «Я рассчитываю на Вашу справедливость, – написал он Бекингему, – и верю, что, лишив меня благосклонности, Вы не пожелаете моего разорения. Я покупал для Вас драгоценности и шпалеры, стоившие мне 500 фунтов стерлингов. Я уверен, что Вы не пожелаете, чтобы я потерпел убыток». На что сразу же последовал ответ: «Вы правы. Зайдите завтра к моему казначею Оливеру, и Вы получите все причитающиеся Вам деньги» {278}. Таков был Бекингем. Справедливости ради следует добавить, что год спустя Коттингтон вернулся из опалы и пользовался благосклонностью короля до самой смерти.
Великие проекты нового монарха
Карл I вынашивал множество честолюбивых планов. Популярность, которой он пользовался со времени возвращения из Испании, заставила его поверить в то, что будет несложно провести ближайшую сессию парламента, созыв которого, едва взойдя на трон, он назначил на 17 мая. Впоследствии открытие заседаний было отложено до 18 июня, чтобы успеть за это время отпраздновать свадьбу короля и торжественно встретить прибывшую в Англию новую королеву. Карл предпочел бы ограничиться созывом на новую сессию прошлогоднего парламента, но хранитель печати Уильямс объяснил ему, что по закону это невозможно: смерть короля ipso facto означала окончание полномочий парламента старого созыва. Следовало назначить новые выборы, они состоялись в апреле. Однако за время до открытия заседаний многие события успели изменить общие настроения, и король оказался совсем не в том положении, на какое надеялся.
На этом этапе невозможно уточнить, какие замыслы принадлежали Карлу, а какие – Бекингему: нет сомнений, что Бекингем порождал идеи, а король делал их своими.
Лишь много позже, после смерти его друга, стало возможно действительно говорить о собственной политике Карла. Пока же игру вел Бекингем.
Мы уже неоднократно убеждались в том, что характер Джорджа Вильерса отличался изрядной импульсивностью. Но было и кое-что похуже: неумение видеть реальное положение вещей, заставлявшее его недооценивать сложности и переоценивать возможность успеха своих предприятий. Вся его последующая карьера отмечена этим недостатком, что было особенно очевидно в начале правления Карла I.
Абсолютно не задумываясь о финансовых проблемах (Карл был уверен, что легко решит их вместе с новым парламентом), забывая о трудностях, которые за год до этого сопутствовали Мансфельду при создании армии, Бекингем строил грандиозные и разнообразные планы. Он собирался создать огромный флот и повести его против испанских портов и американских галионов (воспоминания о Дрейке, Рэли и Эссексе!); в то же время он считал, что союз с Соединенными провинциями, Данией, Швецией и немецкими князьями-протестантами, к которому якобы не замедлит присоединиться Франция, позволит взять в клещи Испанские Нидерланды (Бельгию) и отвоевать Пфальц. Франция, в качестве компенсации, должна была получить Артуа, находившийся в то время под властью испанцев. Что до гугенотов, особенно жителей Ла-Рошели, постоянно тревоживших французского короля, то король Англии как их собрат по вере должен был вмешаться, напомнить им о необходимости соблюдать лояльность и объяснить, что в их же интересах успокоиться и не мешать войне против Испании, главного врага протестантов.
Все эти подвиги должны были принести новому королю Англии и его alter ego, фантазеру герцогу Бекингему, великую славу, которая затмит подвиги всех государей Европы и даже былые достижения королевы Елизаветы и великого Генриха VIII.
Однако, для того чтобы воплотить в жизнь этот грандиозный проект, следовало для начала убедить французское правительство – то есть Людовика XIII и Ришелье, – а также Соединенные провинции в необходимости совместных действий и еще получить от английского парламента необходимые субсидии. Всему свое время: Бекингем рассчитывал поехать в Париж, очаровать короля и кардинала-министра и заодно привезти Карлу его юную супругу. Затем он собирался направиться в Нидерланды и своим красноречием и настойчивостью убедить суровых кальвинистов, заседавших в Генеральных штатах. Затем он должен был вернуться в Англию и принять командование великим флотом, который посрамит Испанию и завладеет золотом галионов. Двухлетней давности разочарование после поездки в Мадрид, провал переговоров с Оливаресом – все это было забыто. Джордж Вильерс ни на секунду не сомневался в своей способности убеждать собеседников, будь то французы или голландцы.
То была прекрасная иллюстрация к не написанной еще в то время сказке о Пьеретте и горшочке…
Милорд «Букинкан» в Париже
Пребывание Бекингема во Франции – с 24 мая по 22 июня 1625 года – можно описывать по-разному: с точки зрения исторического политического исследования или как сюжет романа. Биографы герцога по большей части выбирают один из этих подходов, почти полностью игнорируя второй. И в этом заключается ошибка, ибо оба аспекта неразрывно связаны между собой. Мы попытаемся избежать однобокости, стараясь как можно точнее придерживаться хронологии.
По причине смерти Якова I английский двор пребывал в трауре. Поэтому речь уже не шла о том, чтобы послать Бекингема в Париж с тремя каретами и двадцатью семью расшитыми костюмами для того, чтобы заключить с принцессой брак по договоренности. Карл поспешил заверить французский двор в неизменности своих намерений и согласился, чтобы свадьба была отпразднована в Париже, выдав на этот раз доверенность своему французскому кузену герцогу де Шеврезу, младшему сыну герцога де Гиза – Генриха Меченого, великого защитника католической веры во времена Религиозных войн… Вот такое бывает в истории!… Церемония бракосочетания состоялась 11 мая 1625 года в соборе Парижской Богоматери, точнее перед дверьми собора, на специальном помосте, сооруженном, как это уже было сделано в 1572 году для того, чтобы сочетать браком протестанта Генриха Наваррского и католичку Маргариту Валуа: различие вероисповеданий супругов, несмотря на папское разрешение, не позволяло совершить ритуал под сводами древнего собора.
Предполагалось, что вслед за этим приедет Бекингем, чтобы отвезти новую королеву в Англию. Хотя и лишившись возможности заменить жениха, он тем не менее мог в течение девяти дней, которые пробыл в Париже, блистать там роскошью и очарованием. А также встречаться с Ришелье и пытаться привлечь его к своему великому проекту перекраивания равновесия сил в Европе. У нас имеется огромное число свидетельств полностью согласных между собой современников о том, какое впечатление произвел на французский двор и на население Парижа красавец англичанин. Французы звали его «милорд Букинкан»: тогда было принято переделывать на французский лад все иностранные имена в отличие от нынешней снобистской манеры говорить «Бейджин» вместо «Пекин» и «Мьянма» вместо «Бирма». «У этого светского человека была безупречная фигура и прекрасное лицо, – вспоминал Пьер де Лапорт, «паж» королевы Анны Австрийской. – Он появился при дворе, излучая такую приятность и такое великолепие, что заставил всех восхищаться, а дамам доставлял радость и нечто более того; любовников же, и тем более мужей, заставил мучиться ревностью» {279}. Приемы, праздники, балы следовали один за другим, о них подробно рассказывала полуофициальная газета «Меркюр де Франс». Увеселения устраивались повсюду: в Лувре, в Люксембургском дворце (резиденции королевы-матери), у герцога де Конде, у герцога де Шевреза.
Придворные спешили повидать элегантного милорда. Он жил неподалеку от Лувра, в роскошном дворце герцога де Шевреза, чья молодая жена Мария де Роган являлась близкой подругой королевы Анны – эта деталь окажется весьма значительной в последующем развитии событий. О герцоге рассказывалось множество историй, многие перенимали его манеру одеваться. Бархатный картуз, который он надевал на охоту (он привез эту вещь из Испании), моментально вошел в моду и надолго остался в обиходе под названием «букинкан». Самые невероятные россказни о герцоге вызывали полное доверие. Рассказывали, будто бриллианты и жемчуга на его белом атласном костюме оказались плохо пришиты и что он буквально сыпал ими на каждом шагу – это самая настоящая выдумка, ибо никто из современников не упоминает подобной детали, но у этой выдумки оказалась долгая жизнь [56].
Ссылаясь на плохое самочувствие, Людовик XIII избегал этих празднеств. Он явно не хотел встречаться с блестящим посланником, однако ни его мать, ни жена ни в коей мере не разделяли его неприязни к герцогу. А Ришелье, надев красную кардинальскую сутану, принял Бекингема у себя и выслушал его проект.
Ришелье и Бекингем – диалог невозможен
Кардинал-министр с самого начала не был расположен к Бекингему. Ришелье был в курсе претензий, предъявлявшихся герцогу во время его пребывания в Испании; знал он и о его плохих отношениях с Оливаресом. Кардинал также внимательно следил за перипетиями формирования армии Мансфельда и знал, что британский парламент неохотно предоставил субсидии. Грандиозная картина общеевропейской войны, нарисованная собеседником, сразу показалась ему тем, чем она по сути и была: полетом мысли, не опирающимся ни на какие реальные возможности.
К тому же Франция не была готова к военным действиям. Она и не могла быть к ним готова, пока существовала опасность гражданской войны: приходилось постоянно опасаться вооруженного конфликта с гугенотами Ла-Рошели или Лангедока. Бекингема это не заботило: он был уверен, что в нужный момент удастся поддержать Ришелье и убедить собратьев по протестантской вере.
Министр Людовика XIII быстро понял, что, кроме красивых слов, англичанин не имеет за душой никаких конкретных предложений. В своих «Мемуарах» кардинал весьма сурово отзывался о герцоге: «Герцог Бекингем приехал во Францию под предлогом того, чтобы засвидетельствовать радость своего государя по поводу брака с принцессой. На деле же у него были две другие цели. Во-первых, он желал помешать нашему миру с Испанией; во-вторых, пытался способствовать выполнению плана, который англичане лелеяли со времени потери Пфальца: созданию наступательного союза с нами…» {280}
Соблюдая дипломатический этикет, Ришелье ответил, что король Франции высоко ценит дружбу со своим братом королем Великобритании, но ни в коей мере не заинтересован в завоевании Пфальца. Единственное, что он мог предложить, это взять на себя материальное обеспечение части армии Мансфельда при условии, что та будет предоставлена в распоряжение голландцев для спасения осажденной Бреды. Что до французских гугенотов, то Людовик XIII с радостью принял бы вооруженную помощь английского короля, чтобы призвать их к здравомыслию, однако о возможности допустить его вмешательство в качестве посредника между королем Франции и его подданными не может быть и речи.
Бекингем, покинувший Англию в полной уверенности, что ему легко удастся привлечь французское правительство к реализации своих проектов, натолкнулся на непоколебимую решимость противоположной стороны отказать ему в этом. В результате он затаил в душе ненависть к Франции, которая несколько месяцев спустя привела к удивительному кульбиту английской политики. Вдобавок его собственное поведение в Париже, а затем в Амьене навсегда закрыло для него возможность восстановления разорванных связей.
Королева Анна
Отношения Бекингема с королевой Анной можно назвать самым романтическим эпизодом в карьере блистательного фаворита. Французским читателям этот эпизод прекрасно известен благодаря «Трем мушкетерам» и гению Александра Дюма.
Однако для нас важно рассмотреть эти отношения в общем контексте: не только личном, что само собой разумеется, но и политическом. А для этого придется основательно просеять через сито историко-критического подхода те свидетельства, которыми мы располагаем, и по возможности отделить реальные факты от придворных сплетен и псевдомемуаров, написанных двадцать-тридцать лет спустя.
В 1625 году Анне Австрийской было 24 года. Она вышла замуж за Людовика XIII десять лет назад, однако с того времени, как в марте 1622 года у нее из-за неосторожности (во всяком случае, король верил в такое объяснение) случился выкидыш, отношения между супругами стали чрезвычайно холодными, если не сказать враждебными. Людовик отличался угрюмым характером. Ему куда больше нравилась соколиная охота, чем придворные праздники. Он сурово относился к окружению жены и особенно к ее лучшей подруге герцогине де Шеврез, легкомысленной даме двадцати пяти лет от роду, которую считал виновной в том, что его надежда стать отцом не оправдалась.
Кроме всего прочего, Анна была красива. С этим согласны все современники. Это была цветущая блондинка с голубыми глазами, с цветом лица, «подобным лилиям и розам» (несмотря на то, что она родилась в Испании и приходилась дочерью и внучкой испанским королям, она прежде всего оставалась Габсбург, а это семейство сохранило черты германской внешности, несмотря на более чем вековое пребывание на троне Кастилии). Анне было приятно, когда по ней «воздыхали», следуя моде романов того времени. Ее фрейлина Франсуаза де Моттевиль, впоследствии очень с ней сблизившаяся, рассказывала, что королева признавалась, «вовсе не делая из этого тайны, что, сама будучи молодой, она не понимает, как можно считать предосудительной изящную беседу, каковая обычно называется утонченной галантностью. Ведь она не более предосудительна, нежели разговоры, которые ведут испанские дамы во дворце, где, живя затворницами и не разговаривая с мужчинами в присутствии короля и королевы, они в своем кругу только и делают, что хвастаются своими победами и говорят о них как о вещах, нисколько не оскорбляющих их достоинство, а, напротив, делающих им честь» {281}.
В салонных беседах, которые на языке той эпохи назывались «ruelles», только и говорили что о «страсти», о «вздохах» и о «жестокосердных дамах». Все внимательно исследовали карту «Страны нежности», излучины рек, носящих название «Сердечная склонность», «Равнодушие» и «Постоянство» [57]. Величие королевского достоинства не мешало герцогу Монморанси и герцогу Бельгарду изображать воздыхателей Анны. «Она не чувствовала себя оскорбленной, когда в нее влюблялись», – отмечал хорошо знавший ее Ларошфуко. То были невинные заигрывания, которые, впрочем, вызывали ревность Людовика XIII.
Что до Марии де Шеврез, то она не ограничивалась «утонченной галантностью». До того как выйти замуж за герцога де Шевреза, она была его любовницей, пребывая в браке с Оноре де Люинем, близким другом короля. Затем, в начале 1622 года, легко уступила настояниям элегантного виконта Кенсингтона, будущего графа Холланда, когда он приехал в Париж вести переговоры о браке Генриетты Марии с принцем Карлом.
По мере того как брачный проект приобретал реальную форму и становилось ясно, что Бекингем приедет в Париж, чтобы отвезти в Лондон супругу Карла, госпожа де Шеврез (которую Ришелье позже назвал «Козочкой» [58], и это прозвище прочно к ней прилепилось) вместе с графом Холландом задумала политико-романтическую интригу вполне в духе романов того времени: они решили толкнуть Анну в объятия красавца англичанина, причем отнюдь не в переносном смысле. Так, по крайней мере, пишет Ларошфуко, а поскольку он тоже был любовником «Козочки» (много лет спустя), он, должно быть, получил эту информацию из надежного источника. «Дабы придать честь собственной страсти (sic!), госпожа де Шеврез и граф Холланд задумали пробудить заинтересованность и даже галантные чувства в сердцах королевы и герцога Бекингема, хотя те никогда раньше не видели друг друга. […] Герцог был фаворитом английского короля, он был молод, щедр, решителен и считался одним из самых красивых светских львов. Госпожа де Шеврез и граф Холланд пользовались любой возможностью, чтобы увлечь королеву и герцога» {282}.
Все произошло так, как они задумали, и даже лучше: «Герцог Бекингем появился в Париже во всем блеске, как если бы он был королем. Как бы ни блистал французский двор, его мгновенно затмила сиятельная фигура герцога. Королева показалась ему еще более очаровательной, чем он себе представлял, а он показался королеве человеком, в высшей степени достойным любви. Они воспользовались торжественной аудиенцией, чтобы поговорить о вещах, которые занимали их больше, нежели интересы их королевств, они были заняты лишь собственной страстью» {283}. (Заметим, однако, что Ларошфуко в описываемую им эпоху было всего десять лет и, следовательно, он рассказывает о том, что знает по слухам. Он написал свои «Мемуары» в 1652 году, более чем через 25 лет после приезда Бекингема в Париж.)
Тем не менее версия о том, что связь Бекингема и французской королевы была подготовлена заранее, широко бытовала в информированных кругах того времени. Бывший посол Тилльер, как раз находившийся при дворе, сообщает, что Анна Австрийская приняла английского герцога «с великой радостью», и «с первых же дней свобода отношений между ними была столь велика, как если бы они уже давно знали друг друга. Причиной тому была решительность герцога, со стороны же королевы – то благоприятное впечатление, которое ей заранее внушили (sic!): оно глубоко запало ей в душу… Королева вела себя во время этой встречи так, как ведут себя многие женщины, которые не считают необходимым сохранять достойный вид, раз их намерения добры и непорочны. Я же думаю, что, напротив, она подавала дурной пример и вела себя скандально» {284}.
Все это дало повод для пересудов, и Людовик XIII постарался свести к минимуму встречи своей жены с галантным англичанином. Он ускорил отъезд Генриетты Марии, которую теперь величали королевой Англии. Было решено, что он лично проводит сестру до Компьена, а дальше, до Кале, Генриетта Мария поедет в сопровождении матери, Бекингема и всей свиты. Король хотел, чтобы Анна Австрийская осталась в Компьене, но сам заболел, и Генриетта настояла, чтобы невестка доехала с ней хотя бы до Амьена. Король уступил.
Вечер в амьенском саду и его последствия
В Амьене, куда кортеж прибыл 7 июня, произошла очередная задержка: Мария Медичи была утомлена и слегла. О том, чтобы ехать дальше, не могло быть и речи, пока она не поправится. Было начало лета, стояла великолепная погода. Губернатор Пикардии герцог де Шольн старался предоставить двору все возможные развлечения. У него только что родился сын. Состоявшиеся 14 июня крестины, на которых крестным отцом стал Бекингем, превратились в большой праздник с балом и фейерверком.
Королева Анна со своим двором жила во дворце епископа, находившемся между собором и берегом Соны. При дворце был прекрасный сад, плавно спускавшийся к реке и очень нравившийся королеве. Однажды вечером она вместе со свитой вышла туда на прогулку. Именно там, если воспользоваться выражением Лапорта, «произошло то, что дало любителям злословия повод поупражнять свою злобу».
Поскольку инцидент этот стал весьма известен и, хотя бы частично, объясняет антипатию, которую Людовик XIII питал к Бекингему, имеет смысл остановиться на нем подробно.
Одно можно сказать с уверенностью: Бекингем участвовал в этой прогулке. Мягко говоря, со стороны королевы это была большая неосторожность, особенно если учесть, как упорно король старался препятствовать их встречам. Предоставим слово Лапорту, очевидцу произошедшего: «После длительной прогулки королева некоторое время отдыхала вместе со своими дамами; затем она поднялась, и на повороте аллеи, когда дамы несколько отстали, герцог Бекингем, оставшийся с ней наедине, воспользовался начинавшими изгонять свет сумерками и осмелел настолько, что пожелал обнять королеву. Она сразу же закричала, и тотчас прибежали все остальные» {285}.
К этому основному рассказу госпожа де Моттевиль добавляет воспоминания самой королевы, которые та доверила ей спустя много времени: «Поскольку герцог Бекингем желал поговорить с королевой [в саду], паж королевы Пютанж на несколько мгновений отошел от нее, считая, что уважение не позволяет ему прислушиваться к тому, что хотел ей сказать английский вельможа. Случаю было угодно, чтобы в это время они оказались на повороте аллеи, где палисад скрыл их от остальных гуляющих. В этот миг королева, удивленная тем, что внезапно осталась одна, и, очевидно, возмущенная каким-то слишком страстно выраженным чувством герцога Бекингема, вскрикнула и, позвав пажа, отругала его за то, что он ее оставил, что служит подтверждением ее мудрости и добродетели» {286}.
Вот практически все, о чем мы можем говорить с относительной точностью. Герцог Ларошфуко приукрасил эту историю, поместив встречу наедине королевы с главным адмиралом в некий «кабинет» (мы бы сказали «павильон») в саду, что явно должно свидетельствовать о самом подозрительном соучастии самой Анны Австрийской. Что до Тальмана де Рео, великого собирателя маленьких историй, то он заходит еще дальше: «Там, в саду, вместе [с королевой] была только госпожа де Берне, сестра покойного герцога де Люиня и приближенная дама королевы, но она была умна и оставалась на почтительном расстоянии. Любовник опрокинул королеву так, что у нее обнажились бедра, явив вышитые панталоны; однако то было напрасно, ибо она сразу же позвала свою придворную даму, и та, раньше делавшая вид, будто ничего не замечает, была вынуждена прийти ей на помощь» {287}.
Итак: прогулка в сумерках, мгновение наедине, некий чересчур смелый поступок (но какой?!), крик, поспешное приближение дам… Королева укоряет их за то, что они слишком удалились, но не может избежать того, что «они увидели, в каком смятении и беспорядке она находилась» {288}.
Несмотря на все принятые предосторожности, инцидент получил широкую огласку. О нем говорили еще двадцать или тридцать лет спустя (что явствует из примера Тальмана де Рео). Судя по всему, Людовик XIII отнесся к произошедшему очень серьезно. Присутствовавшая в саду принцесса Конти сказала королю, что она «может поручиться за добродетель королевы, но не так уверена в ее жестокосердии». По другой версии, в которую труднее поверить, она сказала, что «может ручаться королю за ее добродетель от пояса до стоп, но не станет ручаться за это от пояса и выше, ибо слезы влюбленного не могли не смягчить сердце королевы» {289}. Впоследствии долгие годы Анна Австрийская оставалась под подозрением своего мужа, а кардинал Ришелье явно не делал ничего, чтобы уладить это дело.
Можно подумать, что галантные похождения Бекингема этим и ограничились, однако это не так, и, возможно, именно его последующее поведение наиболее непростительно. После случившегося в амьенском саду молодая английская королева отправилась дальше в Булонь в сопровождении свиты и Бекингема, а Мария Медичи и Анна Австрийская собрались к Людовику XIII, который оправлялся от болезни в Фонтенбло. Анна проехала вместе с кортежем невестки несколько лье по дороге на Аббевиль. Именно там Бекингем простился с ней. В результате еще одна компрометирующая сцена. «Он хотел поцеловать край ее платья, а она находилась на переднем сиденье кареты. Он прикрылся занавеской, якобы желая сказать ей несколько слов, но скорее для того, чтобы осушить слезы, выступившие у него на глазах в это мгновение». (Из рассказа госпожи де Моттевиль, основанного на воспоминаниях самой королевы.)
Однако кульминация была еще впереди. Приехав в Булонь, Бекингем объявил, что получил срочное послание от Карла I, – впоследствии ему пришлось признаться, что никакого послания не было, – и поспешно вернулся в Амьен. Королева лежала в постели. Предупрежденная в последнюю минуту о приезде англичанина, она воскликнула: «Я надеялась, что мы уже от него избавились!» – и попросила свою фрейлину, суровую госпожу де Ланнуа, присутствовать при встрече. Бекингем «упал на колени перед ее постелью, целуя покрывало со столь странным изъявлением чувства, что было ясно, сколь сильна его страсть и сколь мало он похож на человека, способного прислушаться к голосу рассудка». Смущенная королева молчала. Госпожа де Ланнуа попросила герцога встать, пояснив, что во Франции не принято преклонять колена подобным образом. Он ответил, что, не будучи французом, не считает себя обязанным следовать обычаям этой страны. Он продолжал говорить Анне «нежнейшие вещи на свете», пока она в конце концов не велела ему выйти, «возможно, не так уж и рассердившись», – предполагает госпожа де Моттевиль.
И только после этой последней встречи в Амьене Бекингем наконец уехал в Булонь, где 22 июня 1625 года взошел на борт корабля вместе с юной супругой короля Карла, графом Холландом, герцогом и герцогиней де Шеврез и огромной свитой Генриетты Марии, состоявшей как из светских лиц, так и из священников.
Любовная страсть или политический расчет?
Поведение Бекингема во Франции обычно рассматривают как яркий пример всепоглощающей любовной страсти. Некоторые даже полагают, что он влюбился в Анну Австрийскую с первого взгляда еще двумя годами раньше, когда вместе с Карлом был в Париже. Однако ничто не подтверждает эту романтическую гипотезу.
Начнем с того, что красавец Джордж Вильерс не кажется человеком, способным впасть в столь лихорадочное состояние на почве любви. Он имел немало любовниц, но никогда не выставлял напоказ отношений с ними. Предполагают, что его воспламенила перспектива завоевать королеву, сестру испанского короля, супругу короля Франции, к тому же красивую и желанную женщину. Сама сложность подобной затеи могла стать дополнительным стимулом для мужчины, подобного Бекингему: сколь сладостна победа там, где опасность велика! (Ларошфуко считал, что Людовик XIII имел основания приказать убить англичанина за оскорбление величества. Общественное мнение согласилось бы с подобным решением.)
Однако только ли в этом дело? Некоторые из современников полагали, что, пытаясь соблазнить Анну Австрийскую, Бекингем также хотел унизить Людовика XIII и Францию, отомстить как мужчина за неудачу, которую потерпел как дипломат и государственный деятель. Если это правда, то можно считать доказанным, что гордыня была основной чертой личности герцога: ведь, поступая подобным образом, он делал короля Бурбона своим непримиримым врагом. После этого ему ни разу не удалось приехать во Францию из-за откровенного и непоколебимого сопротивления Людовика XIII. Такой тонкий и хорошо осведомленный наблюдатель, как Кларендон, считал, что именно отпор Людовика XIII честолюбивым намерениям Бекингема стал истоком замысла экспедиции на остров Ре и ее ужасных последствий.
Это, пожалуй, слишком далеко идущее предположение, однако не подлежит сомнению, что почти сразу после возвращения в Англию в июне 1625 года главный адмирал стал проявлять враждебность к Франции. Можно ли расценивать это как результат неутоленной любви и досады отверженного любовника? На этот вопрос трудно дать однозначный ответ.
В любом случае ясно, что, кроме великой любви к Анне Австрийской, в жизни Бекингема не было подобной страсти. То было единственное в своем роде событие, и, возможно, именно этот факт свидетельствует об искренности его чувств.
Подвески королевы и алтарь Анны Австрийской
Еще два анекдота, чтобы завершить данную тему.
Сначала о «подвесках королевы». Этот известный эпизод из «Трех мушкетеров» кажется многим сугубо романтическим измышлением. На деле же о нем рассказывали по меньшей мере с 50-х годов XVII века, поскольку он описан пером Ларошфуко в его «Мемуарах».
Многие документы свидетельствуют о том, что, покинув Францию, Бекингем сохранил связь с этой страной в первую очередь благодаря своему агенту Балтазару Жербье, который передавал его секретные письма по назначению, несмотря на надзор Ришелье. Некоторые – в том числе враг герцога Роджер Кок {290} – считали, что среди этой корреспонденции находились и письма королевы Анны. Кок пишет, что Жербье привез Бекингему подвязку Анны и «некое дорогое украшение». Ларошфуко же идет дальше, ибо, по его мнению, то были «алмазные подвески» (он не указывает, сколько их было), которые королева подарила английскому герцогу [59]. Заподозривший неладное Ришелье якобы воспользовался услугами графини Карлайл, бывшей любовницы Бекингема, ревновавшей его к Анне Австрийской. Графиня упомянула, что герцог надел на бал подвески, которых она у него никогда не видела; из этого она заключила, что они присланы королевой Франции, и постаралась отрезать их, «имея намерение послать их кардиналу». Дальнейшее нам известно из «Трех мушкетеров». Бекингем заметил пропажу, закрыл все порты Англии, велел срочно изготовить такие же подвески и вернул их королеве с объяснением того, что произошло. «Таким образом королева избежала мести этой взбешенной женщины, а кардинал потерял возможность обличить королеву и открыть глаза королю, тем более что подвески принадлежали государю и именно он подарил их королеве» {291}.
Мы узнаем сюжет Александра Дюма, который в данном случае ничего не выдумал, даже Миледи, поскольку ее роль в тексте Ларошфуко играет красавица Льюси Перси, графиня Карлайл. Не хватает только д'Артаньяна и его друзей… Что касается достоверности данного анекдота, то тут можно серьезно усомниться. История о тайно подаренных драгоценностях, о закрытии портов, о секретной «мобилизации» ювелиров слишком похожа на главу из романа госпожи де Лафайет, чтобы принимать ее всерьез. Впрочем, это неважно: Se non e vero, e bene trovato [60].
Другой, не менее известный, анекдот мы находим у Тальмана де Рео (он не является надежным источником): якобы во время экспедиции на остров Ре в 1627 году Бекингем, взяв в плен некоего дворянина из Сантонжа, привел его на свой адмиральский корабль и там, «рассказав о своей любви, отвел его в самую прекрасную каюту своего корабля. Эта каюта была обита золотом, пол покрывал персидский ковер, и там находилось нечто вроде алтаря с портретом королевы и множеством зажженных свечей» {292}.
Какова бы ни была степень достоверности этих двух эпизодов, они доказывают по меньшей мере одно: что любовь Бекингема к Анне Австрийской – и, соответственно, любовь Анны к нему – двадцать-тридцать лет спустя после событий 1625 года превратилась в легенду. И ни одно историческое описание красавца герцога не может быть полным без упоминания об этой любви со всеми подробностями и блеском, которые с ней связаны.
Глава XVI «Мы доверяли герцогу Бекингему»
Да здравствует королева Генриетта!
Сойдя на берег в Дувре в субботу 12 июня 1625 года после короткого, восьмичасового, морского путешествия, Генриетта Мария увидела эскорт, приехавший, чтобы принять ее и препроводить в возвышающийся над городом замок. Король Карл, хотя и сгорал от нетерпения, все же решил встретиться с юной супругой лишь после того, как она отдохнет от тягот пути. Генриетта, несомненно, почти не спала, а ее французское окружение пришло в негодование из- за слишком скромного приема и плачевного состояния замка, где кое-кому даже пришлось отдыхать на соломенных тюфяках. Дурное предзнаменование дальнейших событий… {293}
Рано утром следующего дня король приехал из Кентербери, где провел ночь. Юная королева, забыв о всяком протоколе, сбежала по лестнице и бросилась к ногам супруга, которого видела впервые в жизни. И сразу начала декламировать приветственный комплимент, который заранее разучила наизусть: «Государь, я приехала в страну Вашего Величества, дабы быть Вам полезной и подчиняться Вашему руководству», – после чего разрыдалась. Карл, тоже весьма взволнованный, поднял ее и принял в объятия. Поскольку он оглядел ее с ног до головы, она приподняла край платья и сказала: «Государь, я стою на собственных ногах и не пользуюсь никакими искусственными средствами. Мой рост действительно таков, не больше и не меньше». (Она была ему по плечо.) И поскольку ей хотелось есть, король велел сразу же принести холодную закуску и подавал ей из своих рук фазана и прочую мелкую дичь. Первая встреча прошла благополучно {294}.
Но на горизонте уже сгущались тучи. Когда садились в карету, чтобы ехать в Кентербери, где епископу предстояло благословить брак согласно англиканскому ритуалу, английский церемониймейстер стал возражать против того, чтобы в карету короля и королевы села госпожа де Сен-Жорж, бывшая гувернантка и доверенная дама Генриетты Марии, несмотря на то, что королевскую чету сопровождали графиня мать Бекингема, его жена и его сестра графиня Денби. Французы возмутились. В конце концов король уступил, и требование госпожи де Сен-Жорж было удовлетворено. Так произошло первое столкновение на почве протокола. За ним последовало множество других: в тот век, более чем когда- либо, тщательно следили за размещением «по старшинству», соблюдали правила, диктующие, кому следует и кому не следует уступать дорогу, ценили право сидеть на табуретах в присутствии короля и тому подобные иерархические почести, которые впоследствии с такой страстью описывал Сен-Симон. В то же время кто-то из сопровождавших королеву послов (герцог де Шеврез, маркиз д'Эффиа, граф де Бриенн или Лавиль-о-Клер) заспорил по тому же поводу с Бекингемом: Бриенн и Тилльер подробно и с возмущением описывают этот эпизод в своих мемуарах {295}.
Подобные протокольные тонкости, которым уделяли много места в дипломатических документах того времени, современному читателю могут показаться бессмысленными. Тем не менее тогда они были весьма важны, потому что по количеству шагов навстречу собеседнику, по более или менее торжественному приветствию судили об уважении к государю, а стало быть, к стране, которую представляли участники церемоний. В данном случае, следует отметить, что как с английской, так и с французской стороны отсутствовали даже малейшие симпатия и понимание по отношению друг к другу. Можно только удивляться тому, сколь враждебно отзывались о соседнем народе даже опытные послы, не говоря уже о простых путешественниках. Разумеется, в какой-то мере здесь играло роль различие в вероисповеданиях. Однако зарождалась враждебность на каком-то глубоком подсознательном уровне. Каждая из двух наций обвиняла другую в вероломстве, коварстве и легкомыслии. О личности короля высказывались сдержанно, но министров осуждали с суровостью, граничащей с ненавистью. Протоколы дебатов в английском парламенте изобилуют выпадами против Франции, равно как и против Испании. Что до мемуаров Тилльера, Бриенна и Ришелье, то они дышат явной антипатией к Англии и англичанам. Об этом не следует забывать, пытаясь понять политику, которую стал вести Бекингем, вернувшись из Франции в июне 1625 года.
Тем не менее, отношения между Карлом I и Генриеттой Марией в эти первые дни, похоже, складывались прекрасно. По сути, ни он, ни она не были зрелыми людьми (ей было шестнадцать, ему – двадцать пять, и они оба еще оставались девственниками). Их первая брачная ночь в Кентербери, должно быть, стала взаимным открытием. Наутро Карл был весел, в то время как его супруга казалась «умирающей», «нездоровой» и «весьма печальной» {296}. Можно с достаточной степенью уверенности предположить, что брак осуществился, мягко говоря, без особой страсти.
Супружеская пара прибыла в Лондон по Темзе на внушительных размеров барже, украшенной зеленым бархатом и золотом (хочется надеяться, что ткани были непромокаемыми, ибо дождь лил как из ведра). Несмотря на непогоду и свирепствовавшую в городе эпидемию чумы, по берегам стояли толпы, люди сидели в лодках, и все кричали: «Да здравствует король Карл! Да здравствует королева Генриетта!» Она улыбалась, махала рукой. Хотелось надеяться, что она будет популярна в народе. Однако разочарование наступило весьма скоро.
Стоявший рядом с молодоженами Бекингем, как всегда, казался старшим братом и добрым или злым гением – пока это было непонятно. Англичане по большей части не осознавали тех политических условий, на которых был заключен брак. Рано или поздно им придется все объяснить…
Чума и парламент
Весна и лето 1625 года стали для Лондона временем очень тяжелой эпидемии чумы. Это заболевание периодически возвращалось, опустошая перенаселенные, чуждые санитарии города, и никто не знал, ни отчего оно возникает, ни как с ним бороться. В июле в столице каждый день умирало более трехсот человек. Верующие и даже священники внезапно заболевали прямо во время службы в церкви, люди падали на улицах; покойников хоронили в братских могилах.
Именно в таких чрезвычайных обстоятельствах 18 июня в Вестминстере открылись заседания парламента, первого при новом государе. Карл I и Бекингем ожидали вполне мирной сессии: предполагалось, что по духу своему этот парламент станет продолжением того, который был распущен в связи со смертью короля Якова, а политика молодого короля соответствовала принятым тогда решениям. Флот, предназначенный для нападения на Испанию (хотя эта задача открыто и не формулировалась), оснащался в портах. Апрельским указом короля предусматривался набор в армию 10 тысяч человек. Были заключены или готовились к заключению союзы с голландцами, шведами, датчанами. Предполагалось, что все это удовлетворит депутатов, а в детали можно было не вдаваться. Рассуждая таким образом, Бекингем и особенно его «дорогой молодой господин» в очередной раз, и еще более явно, чем при жизни старого короля, доказали свое полное и удивительное непонимание настроений собственного народа.
Речь короля в парламенте производит впечатление либо политической тонкости, либо обмана, – называйте, как хотите. Карл не любил публичных выступлений и откровенно сказал об этом: «Я благодарю Бога за то, что дела, о которых здесь пойдет речь, не требуют особого красноречия, ибо не в моем характере говорить много». (Лорды и депутаты наверняка порадовались, что им не придется выслушивать бесконечное выступление вроде тех, какими награждал их в каждую сессию король Яков.) «Вы, милорды и господа, помните, что я советовал отцу разорвать договоры [с Испанией], как вы того желали. Я поступил так по вашему требованию и по вашей просьбе. Поэтому вы должны понять, каким позором для вас и для меня мог бы стать провал начатого таким образом дела из-за нехватки средств. Только вы в состоянии их мне предоставить во имя вящей славы Господа и нашей веры» {297}.
Речь, конечно, была короткой, но она ничего и не объясняла. Хранитель печати Уильямс, взявший слово после короля, выразился ничуть не яснее. Депутаты ждали другого: какие именно договоренности достигнуты с Францией? Как были использованы субсидии, по которым голосовали в прошлом году? Для чего предназначен флот, оснащаемый в портах? Какова будет судьба армии Мансфельда теперь, когда Бреда взята испанцами (знаменитая сдача города, увековеченная Веласкесом на одной из самых известных картин того времени, произошла 26 мая)?
И главное: как собирается король сочетать меры по смягчению участи католиков, принятые еще до его женитьбы, с многократно дававшимися обещаниями строго соблюдать законы против «иезуитов, семинарских проповедников и прочих подстрекателей к бунту»? С самого начала заседаний развернулись дебаты именно по этой, крайне чреватой неприятностями проблеме. На вопросы спикера сэра Томаса Крю, человека, впрочем, близкого к Бекингему и Карлу, хранитель печати отвечал уклончиво: следует-де доверять королю, когда речь идет о защите религии; «государи не обязаны отчитываться перед подданными в каждом своем поступке». Самое-де главное – это побыстрее выделить субсидии, необходимые для войны, которой желает и сам парламент.
Это означало потребовать слишком многого от людей, не желающих, чтобы им навязывали решения без серьезных объяснений. Депутаты Фрэнсис Сеймур и Джон Элиот, которые вскоре стали весьма известны, свели дебаты к тому, что, по их мнению, было самым важным: то есть к уголовному преследованию католиков. «Религия есть та связь, которая объединяет всех подданных короля в рамках уважения к Божественным законам и лицу, воплощающему их на земле. Любые религиозные разногласия противны Богу и власти [короля]. Без единства не может быть ни повиновения, ни порядка…» Этот текст интересен тем, что он ясно выражает мнение, почти повсеместно бытовавшее в Европе в начале XVII века: «одна вера, один король, один закон». Трудно придумать что-либо более далекое от веротерпимости в современном понимании слова, чем настроение английских протестантов во времена Карла I. Их позиция поразительно контрастирует с великодушными взглядами Генриха IV и Ришелье.
Наконец, после двенадцатидневных бурных прений о том, сколь опасна терпимость по отношению к католикам, депутаты перешли к вопросу о предоставлении субсидий. Однако, по странной оплошности или по легкомыслию, ни хранитель печати, ни лорд-казначей Лей, ни сам Бекингем не сочли нужным назвать нужную сумму. Сеймур, всегда возражавший против ведения войны в Германии и все более становившийся лидером оппозиции, предложил предоставить субсидию и проголосовать за пятнадцатипроцентный налог, что составляло около 100 тысяч фунтов стерлингов – сумма ничтожная по сравнению с реальными нуждами. Фелипс поддержал это предложение: ведь король ничего не сказал о своих планах, о состоянии флота и армии. «Что стало с двадцатью тысячами человек и тысячами фунтов стерлингов, которые оказались потрачены без успеха, без чести, без выгоды?» После дискуссии суммы были увеличены до двух субсидий, но без пятнадцатипроцентного налога, то есть около 140 тысяч фунтов стерлингов, обозначенных как «свидетельство любви подданных к Его Величеству». И – что самое странное – хранитель печати поблагодарил депутатов от имени короля. После этого голосование по субсидиям можно было считать законченным. То была катастрофа для королевской власти. Дилетантство, с которым велось это дело, просто поражает. В довершение всего, вместо того чтобы подтвердить право короля на сбор косвенных налогов «с тонн и фунтов» (налоги на импорт и экспорт) на все время его царствования, как это обычно делалось, депутаты предоставили государю это право только на год, дабы продемонстрировать, что они не собираются давать новому монарху полной свободы действий.
Бекингем, напуганный тем, в какой тупик его должны были загнать эти две предоставленные субсидии, посоветовал Карлу I временно прервать заседания парламента по причине чумы, тем более что многие депутаты уже убежали из города и в заседаниях участвовало не более половины состава. Но до этого он хотел попытаться получить дополнительные средства. Это было рискованной игрой, потому что, согласно английской парламентской традиции, подобные голосования считаются окончательными.
Вот тут-то и появляется на сцене сэр Джон Элиот, бывший друг Бекингема (он познакомился с ним в юности в Париже[61], и с тех пор они сохраняли прекрасные отношения, благодаря чему Элиот был назначен вице-адмиралом Девона), который неожиданно начинает вести себя как опасный противник. Английские историки много спорили о причинах, побудивших Элиота сделать столь резкий поворот в своей политике: с этого времени он стал одной из ключевых фигур сопротивления всемогущему фавориту {298}. Личность Элиота неоднозначна. В глазах пуритан он быстро превратился в героя, если не в святого. Кажется очевидным, что он действовал искренне, хотя порой ему не хватало чувства меры и он впадал в многословие, заставляющее усомниться в его психическом равновесии. Как бы то ни было, с этих пор и вплоть до самой смерти Бекингему пришлось иметь дело с серьезным соперником.
Итак, 8 июля 1625 года Элиот приехал утром к Бекингему в Йорк-Хауз, чтобы заявить, что его требование дополнительного голосования по бюджету неприемлемо. Главный адмирал еще лежал в постели вместе с женой. Едва объявили о приходе Элиота, она поднялась и удалилась. Элиот напомнил герцогу, что король принял две субсидии и поблагодарил за них парламент; любой новый запрос мог, таким образом, бросить тень на мудрость и искренность короля. Вдобавок тот факт, что эта просьба высказывается столь поздно, в отсутствие многих депутатов, может быть расценен как «обходной маневр».
Бекингем смутился и ответил, что король принял две субсидии как свидетельство любви подданных, но потребности флота и армии более значительны, речь идет о чести страны, а она должна быть выше прочих аргументов {299}. То были довольно шаткие доводы, ибо они никоим образом не объясняли, почему с самого начала парламентской сессии не были оглашены и обоснованы точные суммы в цифрах.
На следующий день Бекингем попытался восполнить упущение, велев казначею морского ведомства сэру Джону Коку зачитать (запоздалый) доклад о состоянии флота и его потребностях. Сумма в 293 тысячи фунтов стерлингов была вполне в рамках разумного, однако заявление о 240 тысячах фунтов в год на содержание армии Мансфельда заставило некоторых из присутствовавших депутатов вскочить с места как ошпаренных. Чтобы справиться с ситуацией, снова, и еще более настойчиво, пришлось прибегнуть к помощи риторического упоминания о «чести короля» и «христианском мире».
Злосчастье капитана Пеннингтона
5 июля король и королева уехали из Лондона в Вудсток близ Оксфорда, город, пока что пощаженный эпидемией. 11 июля парламент был распущен на каникулы, и следующее заседание было назначено на 1 августа в университетском городе.
Однако беспокойство депутатов переросло в гнев в результате еще одного события. Во время переговоров о браке принца Карла и Генриетты Марии король Яков пообещал Людовику XIII предоставить (или, скорее, одолжить) ему несколько кораблей для участия в планировавшейся тогда экспедиции против Генуи, союзницы Испании. В этой операции должны были также участвовать голландские корабли. Однако – еще один пример дипломатии, довольствующейся приблизительными договоренностями, – условия этого соглашения были неоднозначны: король Франции нанимал корабли, «дабы использовать их против любого противника, кроме самого короля Великобритании». Бекингем предполагал, что таким противником может стать Испания, однако он не потрудился ясно сформулировать это в договоре, и Ришелье вскоре воспользовался его промахом.
Весной 1625 года снова восстали французские протестанты. Правительство особенно беспокоили жители Ла-Рошели. Принц де Субиз, бывший чем-то вроде повстанца-авантюриста («Этот негодяй Субиз», – называл его Ришелье), с помощью флота, составленного из украденных кораблей (шесть из них принадлежали королевскому флоту), овладел островом Ре и оттуда угрожал всему берегу вплоть до Бордо. Ларошельцы объединились с Субизом, и весь Запад оказался под угрозой отпадения от королевства. Тогда кардинал обратился к английскому королю, напомнил ему о договоренности и потребовал прислать обещанные суда, намереваясь – это подразумевалось, хотя и не говорилось вслух, – использовать их для устрашения Ла-Рошели.
Карл I и Бекингем не знали, что делать. Они понимали, до какой степени акции против французских гугенотов, мягко говоря, непопулярны в Англии. Однако договор был подписан, и пути назад больше не было. Тогда снарядили флотилию, состоявшую из принадлежавшего королевскому флоту главного корабля под названием «Авангард» и шести торговых судов. Командование было поручено опытному моряку сэру Джону Пеннингтону, бывшему соратнику Рэли по его бесславной экспедиции 1617 года на Ориноко.
Пеннингтон поднял паруса 9 июня и прибыл в Дьеп 13 июня (23-го по французскому календарю). Это произошло почти в то же самое время, когда Генриетта Мария в сопровождении Бекингема сошла на берег в Дувре. Первой сложностью оказалось то, что французы намеревались погрузить на корабли Пеннингтона 1500 солдат для переправки по морю. Пеннингтон запротестовал, что не получал таких инструкций, и тотчас же пересек Ла-Манш в обратном направлении.
После месячных дискуссий Бекингем как главный адмирал отдал наконец Пеннингтону приказ вернуться в Дьеп и взять на борт французских солдат. Возможно, он предвидел, что на этот раз взбунтуются английские матросы. Они не желали становиться «рабами Франции». Секретарь по морским делам сэр Эдвард Николас считал, что король и герцог довольны подобным настроением моряков. Он даже предложил, чтобы Пеннингтон, в крайнем случае, сам спровоцировал мятеж команды! Что, собственно, и произошло 23 июля.
В тот момент, когда парламент снова собрался в Оксфорде, флот Пеннинггона бунтовал вовсю. Противникам Бекингема было нетрудно обвинить его в намерении послать англичан на борьбу с их братьями-протестантами Ла-Рошели под командованием кардинала римско-католической церкви.
В конце концов, 4 августа, Пеннингтон все же привел к французам свою флотилию, за исключением одного торгового корабля, команда которого потребовала возвращения в Англию. Судьба этих шести кораблей должна была в последующие месяцы стать новым поводом для взаимных упреков между двумя странами {300}.
Оксфорд, король, герцог, парламент и католики
Когда 1 августа парламент возобновил заседания в большом зале колледжа Церкви Христовой в Оксфорде, чума продолжала опустошать Лондон и постепенно приближалась к университетскому городу. Настроение было далеко не радужным. Карл I, разочарованный скудными результатами первой сессии, был хмур; к тому же, едва минул краткий медовый месяц, у него начался разлад с молодой женой, и семейные заботы сказывались на его поведении. Бекингем беспокоился о судьбе большой морской экспедиции, которая занимала его мысли со времени разрыва отношений с Испанией. Что до депутатов, то у них было ощущение, что к ним все меньше и меньше прислушиваются, что им все меньше рассказывают о намерениях правительства. Хотя на Бекингема пока открыто и не нападали, его считали ответственным за непонимание, возникшее между королем и английским народом.
Двадцать лет спустя после этих событий Кларендон тщательно проанализировал развитие тогдашнего общественного мнения: «Любовь к герцогу, которую ранее проявлял народ, сменилась предубеждением и враждебностью по отношению к нему. Все его действия подвергались критике, все его слова толковались превратно; под любым предлогом старались голосовать против его предложений. Из-за этого королю отказали в деньгах, которых он имел право ожидать и которые были совершенно необходимы. В ответ герцог воспылал негодованием против тех, кто раньше льстил ему, а теперь выступал против, поскольку благосклонность народа есть вещь изменчивая и непостоянная» {301}. Заседания в Оксфорде не превратились пока в массовое выступление против фаворита, но опасность такого выступления приближалась.
Как всегда, самые ожесточенные дискуссии возникли в связи с нежеланием правительства проявлять строгость по отношению к католикам. Теперь уже открыто перешедший в оппозицию Элиот негодовал: «Я не могу поверить, что прощение [дарованное некоему иезуиту 12 июля] действительно исходит от короля. Я не могу представить, чтобы он подписал его спустя столь мало времени после данного нам обещания. Должно быть, кто-то злоупотребил его доверием» {302}.
Все депутаты поняли, что «кто-то» относится к Бекингему. На самом деле они ошибались. Главный адмирал не только не побуждал короля к терпимости по отношению к католикам, но был полон решимости отныне предоставить их нелегкой судьбе. Он собирался удовлетворить требования парламента на этот счет, в особенности потому, что это являлось необходимым условием для получения новых субсидий – единственного, что не было ему безразлично.
Карл же, со своей стороны, проявлял все большее раздражение в адрес жены и французов. Он аннулировал данные несколько недель назад инструкции об освобождении католиков из заключения и возмещении им штрафов. Епископ Мандский, исповедник королевы, по неосторожности выразил Бекингему протест против подобного посягательства на условия, внесенные в брачный договор. Это ему не прошло даром: Бекингем выставил его за дверь с криком: «Убирайтесь! Вы можете вести себя, как хотите, только когда читаете свой молитвенник или служите мессу!» {303}
4 августа король явился на заседание, чтобы лично объявить парламенту о своей доброй воле. Но произошла новая оплошность. Государственный секретарь Конвей и сэр Джон Кок, взявшие слово после государя, называли столь противоречивые цифры предполагаемых расходов, что депутаты уже не знали, чему верить: 40 тысяч фунтов стерлингов – смешная сумма! – как того требовал Конвей, или 600 тысяч фунтов, как сказал Кок? Это снова послужило поводом для критики. Ее начал Сеймур, который напомнил о неудачах, постигших армию Мансфельда в Нидерландах и Германии, и потребовал ясного отчета правительства о том, как оно распорядится уже предоставленными средствами, а также дополнительными, которые запрашивает.
На этот раз Бекингем счел, что пришел его черед отвечать. Он попросил, чтобы обе палаты собрались 8 августа на совместное заседание и выслушали то, что мы бы теперь назвали изложением общей политической линии. Речь должна была идти обо всем: о Вальтелине, об Италии, о Германии, о союзе с князьями-протестантами, об уверенности в скорых победах на море… «Поскольку, милорды и господа, положение дел нынче именно таково, я надеюсь, что вы укрепите в своих сердцах то доверие к Его Величеству и ко мне, каковое вы проявляли в прошлом году, ибо с тех пор я не делал и не задумывал ничего такого, что было бы противно высказанным вами тогда пожеланиям». То была чистая риторика, и депутаты прекрасно поняли это, ведь Бекингем не сказал ни слова о «французском браке», об обещании проявлять терпимость к католикам, о кораблях, предоставленных королю Франции, и всячески старался не открывать свои карты, говоря о предстоящей морской экспедиции. «Если бы я прислушивался к слухам и сплетням, – сказал в заключение главный адмирал, – я боялся бы оказаться униженным в вашем мнении по сравнению с тем, что было в прошлом, однако я знаю, что это не так, поскольку моя душа всецело предана королю и государству, ибо я – искренне предан Англии» {304}.
Что до запрашиваемых субсидий, то Бекингем опять не назвал суммы. «Доверьтесь королю, вложите меч в его руки и дайте ему средства для того, чтобы встать во главе армии». Подобное упорное увиливание от ясности просто поражает. Делалось ли это намеренно, чтобы не привести депутатов в полное смятение, открыв им реальную картину бюджетных бедствий? Или фаворит и сам был не в состоянии точно рассчитать нужды флота? В любом случае, результат оказался вполне ожидаемым: при таких условиях, не зная даже размера запрашиваемых средств, депутаты не одобрили их.
И наконец, случился еще один инцидент (если его можно назвать таковым), окончательно омрачивший обстановку. Берберские пираты захватили английское судно прямо в территориальных водах Англии, неподалеку от мыса Лендс-Энд в Корнуолле. Некий Уильям Легг, ставший одной из жертв нападения, прислал письмо, содержание которого возмутило депутатов: там описывались грабеж и жестокость пиратов. На этот раз Сеймур напрямую выступил против главного адмирала, который должен был отвечать за безопасность страны: «Наберемся храбрости, чтобы сказать, кто виноват в этом. Мы доверяли герцогу Бекингему, стало быть, это именно его вина, его самого или его подчиненных. Безопасность королевства не должна находиться в руках людей, не способных отвечать за свои поступки» {305}.
Поскольку было ясно, что нового голосования по субсидиям не будет, а парламент становится все более беспокойным, Карл I решил распустить его. То была грубая ошибка, тем более что речь шла о первом созыве нового правления. В Англии и за границей этот поступок сразу же расценили как признак взаимного недоверия между королем и народом, хотя шесть месяцев назад все заставляло думать иначе.
Хранитель печати Уильямс попытался убедить государя не отменять, а перенести заседания и подождать первых успехов готовящегося к военным действиям флота. Если верить венецианскому послу, то даже сам Бекингем на коленях умолял короля отказаться от своего решения {306}. Но Карл уперся, и 12 августа в дверь зала заседаний постучал глашатай с черным посохом в руке, чтобы объявить о роспуске парламента.
Тучи на горизонте молодой четы
Сложности, которые, начиная с июля 1625 года, возникли в отношениях Карла с его юной супругой, занимали серьезное место в контексте английской и европейской политики. Сам этот брак был по сути политическим: по мысли Людовика XIII и британского короля, речь шла об объединении двух стран в рамках дипломатического, а может быть, и военного союза. Решающую роль в этом деле сыграл Бекингем. Таким образом, доброе согласие (как физическое, так и душевное) между супругами становилось необходимым условием осуществления политических планов.
К сожалению, проблемы появились с самого начала, и не последнюю роль в этом сыграло то, что Генриетте Марии было поручено действовать в пользу возвращения Англии в лоно католической церкви. При отъезде юная королева получила от матери инструкции (составленные отцом де Берюлем): «Помните, что Вы – дочь Церкви. Это первое и основное качество, которое Вам свойственно и будет свойственно впредь. […] Не допускайте, чтобы в Вашем присутствии говорили что-либо, направленное против Вашей веры. Заботьтесь о защите католиков перед лицом короля, Вашего супруга, дабы их вновь не постигли несчастья, от которых их избавляют счастливые обстоятельства Вашего брака. Бог посылает Вас в эту страну для их защиты. […] Ежедневно молитесь Господу и велите молиться о том, чтобы он соблаговолил вернуть Вашего мужа к истинам вероисповедания, за которое отдала жизнь его бабушка [62]» {307}.
Трудно представить что-либо более недопустимое и даже чреватое скандалом, учитывая состояние умов в Англии. Согласно брачному договору, предполагалось, что юная королева будет свободно исповедовать свою веру, имея католическую часовню, находящуюся в ведении епископа (Даниеля де Ламотт-Уданкура, епископа Мандского, родственника Ришелье) и обслуживаемую множеством францисканцев и капуцинов. Появление этих людей в рясах на улицах Лондона в тот момент, когда парламент требовал возвращения к соблюдению всех строгостей против английских католиков, не могло не спровоцировать возмущения.
Вдобавок французские фрейлины Генриетты Марии, последовавшие за ней в Англию, откровенно не желали привыкать к нравам и обычаям этой страны. Да и сама Генриетта – не следует забывать, что ей было всего 16 лет и она не имела никакого житейского и политического опыта, – охотно прислушивалась к советам фрейлин и своего исповедника. Весьма скоро супруг начал жаловаться, что она «к нему холодна», что она с ним нелюбезна. Он велел Бекингему поговорить с ней.
Бекингем и Генриетта Мария. Есть все основания думать, что с самого начала между ними не возникло ни малейшей симпатии. Что касается Генриетты, то более чем вероятно, что ее мать и сам Ришелье предостерегали ее от английского фаворита и влияния, которое он оказывает на короля. Бекингем же имел все основания опасаться, что молодая жена завоюет доверие мужа и его сердце. Как утверждали французы, фаворит с самого отъезда из Франции старался создать трещину в отношениях между супругами (в конце концов, разве не сам он, более чем кто-либо, стремился к заключению этого брака?), мы не можем не признать, что он не стремился сгладить разногласия между ними.
Граф де Тилльер, которого Людовик XIII назначил камергером Генриетты Марии, оставил в своих «Мемуарах» колоритное описание всяческих «неудобств», каковые Бекингем создавал королеве. «Думая, что столь юный дух, как дух королевы, можно подчинить угрозами, он сказал ей, что король не потерпит более подобного поведения по отношению к нему» и что, «если она не изменит своих привычек, для нее наступят горестные времена, ибо с ней будут обращаться не как с королевой, а так, как она заслуживает» {308}.
Генриетта говорила, что «не верит, будто дала королю повод рассердиться». Карл винил в этих размолвках французское окружение свой супруги («этих месье», как он их называл) и более всего ее фрейлину госпожу де Сен-Жорж, которая не могла простить унижения, пережитого в Дувре при первом столкновении с английским церемониальным протоколом.
Один из описанных Тилльером случаев показывает, что в основе всего лежало отсутствие сексуальной гармонии. «Герцог Бекингем и маркиз Гамильтон уверяют, – сказал однажды Карл Генриетте Марии, – что будь вы их женой, они бы чаще пользовались правами мужа, нежели это делаю я… Учитывая, сколь малого я от вас требую, вы ведете себя невыносимо» {309}. Он жаловался, что Генриетта Мария недостаточно услужлива в постели. Она поговорила с госпожой де Сен-Жорж, и та посоветовала ей сделать над собой усилие. И когда на следующее утро король был весел и объяснил Стини причину своей радости, тот сказал, что недопустимо, чтобы королева подчинялась своей фрейлине больше, нежели супругу, и опасно оставлять подле нее подобных советников.
Все это происходило летом 1625 года, пока заседал парламент. После его роспуска Карл пожелал отдохнуть и поохотиться в Болье в Нью-Форесте, а Генриетта Мария расположилась за много миль от него в Тичфилде, в доме графа Саутхемптона, друга Бекингема. Склонные к преувеличениям наблюдатели сделали из этого вывод, будто супруги разошлись. На деле это было совсем не так, но их ссоры стали уже оказывать влияние на дипломатическую сферу.
Брачный договор, подписанный предыдущей весной, предполагал, что английская королева будет полной хозяйкой своего окружения и король никого не будет назначать в ее свиту, не получив ее согласия. Нельзя не признать, что эта уступка со стороны Карла кажется странной, ибо, согласно международному праву, принцесса, вышедшая замуж за иностранного короля, в своей новой стране должна была отказаться от всех слуг, которые были у нее на родине. Анна Австрийская подчинилась этому закону, выходя за Людовика XIII, то же самое сделала ее невестка Елизавета де Бурбон, ставшая королевой Испании. Итак, госпожа де Сен-Жорж, госпожа де Тилльер (жена бывшего посла, ставшего камергером), госпожа де Сипьер превратились в лейб-гвардию Генриетты Марии, а их враждебность к нравам и религии англичан была очевидна. При этом возле королевы находился еще епископ Мандский с целым отрядом францисканских монахов.
Для Карла и Бекингема отъезд этих французов из страны вскоре стал делом принципа. Но сперва следовало назначить королеве английских фрейлин. Ими стали герцогиня Бекингем, графиня Денби, маркиза Гамильтон – как назло, жена, сестра и племянница главного адмирала. Генриетта Мария выразила протест: эти дамы – протестантки, а ей обещали, что протестантов в ее окружении не будет. Епископ Мандский напомнил об условиях договора. Напрасно. Казалось, все только старались подлить масла в огонь и искали повода для конфликта. В Тичфилде леди Денби организовала протестантские богослужения в одном из залов дворца, в котором жила Генриетта. Та же, как истинная сумасбродка, позволяла себе снова и снова проходить через этот зал со своими дамами, громко смеясь, – конечно, это можно считать ребячеством, но англичане расценили подобное поведение как скандальный вызов. Понятно, почему Бекингем, которого Карл то и дело звал на помощь, объявил Генриетте, что она ведет себя «как девчонка, а не как королева».
Карл потерял терпение. Один случай шокировал всех: в Оксфорде, в то время, как супруги обедали вместе в присутствии большого количества людей, католический священник королевы позволил себе перебить англиканского капеллана, произносившего благодарственную молитву, и начать громко читать латинскую молитву. «Король был так возмущен, что встал и ушел, сорвав со стола скатерть со всем, что на ней стояло» {310}. Окружающие начали поговаривать о разводе королевской четы. Генриетта и сама уже мечтала вернуться во Францию. В письмах матери и брату она жаловалась, что ее преследуют, и изображала себя истинной мученицей.
В Лувре только и говорили что о вероломстве англичан.
Неуклюжий посол
Ришелье, которому в момент обострения отношений с протестантами Ла-Рошели война с Англией пришлась бы весьма некстати, попытался достичь примирения.
Он поручил эту нелегкую миссию человеку, известному как преданный своей стране дипломат, но, к сожалению, отличавшемуся обидчивостью и придирчивостью, – то есть человеку, которому ни в коем случае не следовало поручать подобное дело. Его звали Жан де Варинье, граф де Бленвиль. Едва приехав в Англию, он поругался с Тилльером, который тоже был обидчив.
Первая аудиенция, которую Карл I дал Бленвилю 11 октября, прошла в очень холодной атмосфере. На следующий день Бекингем проявил дружелюбие, однако поводов для разногласий оставалось слишком много: поведение свиты королевы, действия, предпринятые против английских католиков ради удовлетворения парламента и вопреки обязательствам, указанным в брачном договоре, использование английских кораблей против протестантов Ла-Рошели, захват англичанами французских судов, подозреваемых в перевозе грузов в Испанию.
Во всех этих вопросах Бленвиль занимал непоколебимую позицию, будучи уверен в правоте своего короля. Он очень не понравился Карлу, и даже Тилльер осудил его.
В Париже английские послы, граф Холланд и Дадли Карлтон, вели себя более изворотливо. Ришелье заверил их, что не намерен преследовать французских протестантов, а его действия в Ла-Рошели имеют целью лишь одно: заставить жителей повиноваться королю.
На этом этапе Бекингем скорее желал примирения, нежели открытого столкновения. Он все еще мечтал сделать Францию участницей великой антииспанской коалиции. Он приказал вернуть хозяевам захваченный несколькими месяцами ранее гаврский торговый корабль «Святой Петр». Однако Ришелье отказывался отпустить приведенные Пеннингтоном корабли, которые он нанял на 18 месяцев и соответственно заплатил за них. По сути, ни Бленвиль, ни граф Холланд не могли сделать ничего толкового, чтобы сблизить английскую и французскую точки зрения, притом что отношения между королем Карлом и королевой Генриеттой продолжали ухудшаться.
Опала Уильямса
Весьма неожиданно одной из жертв парламентской сессии стал хранитель печати Уильямс, верный сторонник и друг Бекингема еще с тех далеких времен, когда тот женился на Кейт Мэннерс.
Уильямс не был политическим гением, но обладал ловкостью, порождаемой здравомыслием. Мы помним, какие он давал советы Бекингему в деле против монополий в 1621 году [63] и в случаях нападок испанцев на фаворита в 1624 году [64]. Так что у главного адмирала были все основания дорожить его дружбой. Однако Уильямсу решительно не нравились воинственные проекты его покровителя. Он откровенно придерживался умеренных взглядов, разделявшихся большинством англичан: враждебное отношение к Испании – само собой, но главнее всего – положение дел внутри Англии и гражданский мир.
Вдобавок к этому, Карл I, в отличие от своего отца, недолюбливал хранителя печати. Его советником в религиозных делах стал епископ Лод, которому Яков I не доверял по причине его нетерпимости к кальвинистам. Лод же пылал жгучей ненавистью к Уильямсу, что объяснялось как теологическими, так и личными причинами (из-за их давнего соперничества за деканство Вестминстера64).
Уильямс возражал против преждевременного роспуска парламента в августе 1625 года. Карл не простил ему этого: 25 октября Уильямсу было предложено сдать государственную печать и удалиться в свое линкольнское епископство. Со стороны молодого короля это была грубая ошибка. В последующие годы при решении конфликтов, которые отныне стали отличительной чертой его правления, Карлу пригодились бы умеренная позиция и мудрость Уильямса.
Согласно общему мнению, опала хранителя печати была делом рук Бекингема. «Власть герцога над королем столь сильна, что те, кому он хочет оказать милость, пользуются всяческими почестями, а те, кому он желает зла, оказываются повержены», – написал в ноябре один из тех, кто внимательно наблюдал за английской политикой {311}. Возможно, это было не совсем так, но общество проявляло почти полное единодушие. И фавориту предстояло пожинать плоды этих настроений.
Уильямса сменил честный юрист, генеральный прокурор Томас Ковентри, который вплоть до своей смерти в 1640 году оставался самым дисциплинированным и самым бесцветным министром, проявлявшим постоянную враждебность к католикам. Он не был человеком, с которым Бекингем мог бы совместно решать серьезные проблемы. Он тем более не был тем, кто в случае необходимости мог бы оказать герцогу поддержку.
Глава XVII «Именно от него исходит все зло»
Кадис – неосуществленная мечта
Со времени разрыва отношений с Испанией Бекингем задался целью, к достижению которой без колебаний привлек нового короля: он хотел возглавить морскую экспедицию, чтобы напасть на короля Филиппа на его собственной территории и доказать всему миру, что возвращаются времена подвигов Дрейка и Рэли. Таким образом удалось бы еще раз подтвердить господство Англии на море, а правление Карла I вписало бы славную страницу в историю.
Помимо всего прочего, этот проект полностью соответствовал желанию парламента, высказанному в конце правления короля Якова. У всех еще звучало в ушах громкое заявление Джона Элиота: «Мы бедны, а Испания богата. Вот где следует искать нашу Индию!» Поэтому казалось, что планируемая Бекингемом экспедиция получит поддержку народа.
Что касается Карла, то он искренне верил, будто, послав флот к берегам Испании, он весьма серьезно повлияет на возможность восстановления сестры и зятя на троне Пфальца, а этого он упорно добивался. Он явно рассчитывал, что Испания, будучи атакована и отрезана от американского золота, отступит в Нидерландах и Германии. Возможно, он просто принимал желаемое за действительное, как ему не раз случалось поступать и в дальнейшем. Именно этот вопрос с недоумением задавал себе шведский посол, которому король за несколько дней до отправки экспедиции заявил: «Я стану воевать с Испанией до тех пор, пока мой зять не будет восстановлен в правах, даже если это будет стоить мне короны» {312}.
Итак, ничто заранее не предвещало провала великого замысла Бекингема. Ничто, кроме разве упорного нежелания парламента предоставить дополнительные субсидии сверх двух субсидий в 140 тысяч фунтов стерлингов, по которым голосовали в июне. Несмотря ни на что, подготовка к операции продолжалась, главный адмирал опять вложил собственные деньги. В августе Тайный совет подтвердил желание короля призвать наиболее состоятельных подданных «добровольно» внести пожертвования, и большинство действительно их вносили, пусть без особого энтузиазма, но и без сопротивления.
На протяжении всего лета 1625 года флот вооружался в портах, расположенных у южных берегов Англии. Соединенные провинции также пообещали предоставить 22 корабля. Матросов и солдат набирали «путем давления», то есть насильственно, поскольку добровольцев не нашлось. Все еще, конечно, помнили печальный опыт армии Мансфельда. Но что оставалось делать? Всего было оснащено 12 судов королевского военного флота, 73 торговых корабля и множество угольных барж из Ньюкасла. Предстояло перевезти 5 тысяч матросов, 10 тысяч солдат, 100 лошадей и артиллерию – все они должны были быть собраны в Плимуте к началу октября. То были мощные силы – более многочисленные, нежели вошедшая в легенду армада, посланная в свое время Филиппом 11 на покорение елизаветинской Англии. Достоинства новой армии внушали великие надежды. Но…
Таких «но» было немало. В первую очередь бросалось в глаза полное отсутствие энтузиазма и профессионализма у солдат и матросов. Приятно мечтать о славе Дрейка, но с тех пор образ мыслей изменился и англичане уже не отличались тем боевым духом, который в 1560-1580-х годах заставлял их мчаться на край света в поисках приключений и добычи. Большая часть нынешнего контингента шла на войну нехотя, из-под палки, не имела никакой технической подготовки и не знала, куда и зачем их везут.
Существовало еще одно «но» – однако оно станет явным чуть позже – материальное оснащение оставляло желать лучшего. Снаряжения не хватало, многие корабли были в плохом состоянии, мачты оказались изъедены древоточцами, паруса износились. И главное, не хватало провизии: мяса, хлеба, воды. Запасы скоро истощились, и это привело к бунтам. В данном вопросе нельзя отрицать ответственность Бекингема. Будучи главным адмиралом, он был обязан следить за количеством и качеством снаряжения и провизии. Он же оставил эти вопросы на попечение своих подчиненных, из которых многие были некомпетентны, а другие откровенно бесчестны: приказы исполнялись плохо, поставки не осуществлялись. Везде царил хаос. После катастрофы с армией Мансфельда Бекингему, чья честность не вызывает сомнений, следовало бы сделать соответствующие выводы. Он их не сделал.
И наконец, главное: руководство экспедицией было посредственным. Поначалу было решено, что главный адмирал сам поведет флот. Однако в сентябре сочли, что он принесет больше пользы как дипломат на поприще создания и укрепления англо-голландско-датско-шведско-французской коалиции, необходимость которой теперь ощущалась как никогда. Поэтому, приняв (несколько обманчивое) звание «генералиссимуса», Бекингем передал командование назначенному королем адмиралу. Этим адмиралом стал Эдвард Сесил, отважный солдат, ветеран нидерландских войн, не имевший, однако, опыта морских сражений. Ему довольно неожиданно, прямо накануне отъезда, присвоили титул виконта Уимблдона, что не добавило ему авторитета, необходимого для того, чтобы заставить подчиняться таких вице-адмиралов, как граф Эссекс, важный вельможа, сын фаворита Елизаветы I, или граф Денби, шурин Бекингема. Фаворитизм давал о себе знать.
Для полноты картины упомянем вопиющее отсутствие дисциплины на кораблях и отсутствие общего стратегического плана операции. Заботясь о соблюдении тайны и боясь заранее насторожить испанцев, руководство решило держать цель экспедиции в секрете. Инструкции, отданные королем (то есть Бекингемом) адмиралу Сесилу в момент отплытия, были до странности туманны: атаковать те испанские порты, которые окажутся наиболее легко достижимы, по возможности захватить галионы, которые в это время должны были везти в Кадис мексиканское золото. Сесил никак не мог решить, на какой порт напасть: Лиссабон, Санлукар или Кадис? Наконец, уже находясь в водах Атлантического океана и посовещавшись со своими двумя вице-адмиралами, он выбрал Кадис. Эссекс, несомненно, припомнил, что именно там двадцать девять лет назад стяжал славу его отец. Однако случилось так, что галионы, предупрежденные лазутчиками, повернули на юг и, целые и невредимые, прибыли в Кадис позже, уже после того как англичане оттуда ушли.
Решение Бекингема передать другим лицам руководство экспедицией, на которую Англия возлагала столь большие надежды, подверглось суровой критике. Старый генерал Кромвель, переживший катастрофу армии Мансфельда, писал фавориту: «Ваша Светлость берет на себя тяжкую ответственность, отправляя флот в нынешних условиях. Говорят, что Вы не допускаете до себя опытных людей и что только Вы один в курсе происходящего в то время, как даже лорды, члены Тайного совета, пребывают в неведении. Теперь, если дело увенчается успехом, все решат, что Вы туг ни при чем, раз Вы отсутствовали, но если экспедиция обернется неудачей, все станут винить Вас за то, что Вы втянули короля в подобное предприятие, и все Ваши действия сочтут опасными для королевства» {313}.
Рассказав обо всем этом, мы не считаем необходимым подробно описывать несчастья, обрушившиеся на экспедицию, поскольку сам Бекингем в ней не участвовал. Корабли отплыли из Плимута 8 октября 1625 года, к ним в условленное время присоединились голландские суда, которые, кстати, очень хорошо проявили себя в последующих операциях. 22 октября (1 ноября, по испанскому календарю) флот достиг Кадиса. И, начиная с этого момента, тактические ошибки, бессмысленные маневры и нарушения дисциплины следовали друг за другом без перерыва. Граф Эссекс, не обращая внимания на адмирала Сесила, атаковал несколько испанских галер, стоявших на якоре в стороне от города, но дал им возможность укрыться в порту и предупредить гарнизон. 24 октября англичане овладели крепостью Пунтал, но часть кораблей отказалась принимать участие в операции. Затем Сесил намеревался перекрыть перешеек, связывающий Кадис с большой землей. Он бросил туда войска, изголодавшиеся и испытывающие жажду под суровым солнцем Андалусии. Наткнувшись на склад, в котором испанцы хранили вино, солдаты устроили дикую пьянку, а тем временем в Кадис успело войти подкрепление, и город сделался неприступен. В результате пришлось вернуться на корабли и поднять якоря.
В течение многих дней английские и голландские суда курсировали в открытом океане, все еще надеясь встретить и перехватить мексиканские галионы, – а те в это время благополучно вошли в Кадис. В середине ноября потрепанный бурями флот в плачевном состоянии вернулся в Англию. Солдаты умирали от голода. Великая надежда Карла и Бекингема рухнула столь же стремительно, как за тридцать лет до того не оправдались планы Филиппа II, пославшего Непобедимую армаду. Как справедливо предостерегал лорд Кромвель, ответственным за эти несчастья все англичане сочли фаворита {314}.
Дипломатические маневры в Гааге
Бекингем не принимал личного участия в командовании флотом (впрочем, позволительно усомниться в том, что его присутствие могло бы что-нибудь изменить), поскольку в это время он находился в Гааге, где развернулись масштабные дипломатические маневры, которые, по мысли англичан, должны были привести к сплочению грандиозного союза протестантов против Испании, Австрии и их сторонников – германских католиков. То была изощренная эквилибристика, если принять во внимание, что Англия теоретически по-прежнему оставалась союзницей Франции, которая ни за что на свете не желала выглядеть сторонницей протестантов: этого не допускали ни общество, ни сам король.
Ходу переговоров серьезно мешало обязательство, принятое Карлом I по отношению к его кузену, королю Дании Кристиану IV, еще в начале правления. Карл пообещал Кристиану ежемесячно выплачивать 30 тысяч фунтов стерлингов на содержание армии, на которую он рассчитывал в деле отвоевания Пфальца. Однако откуда было взять такие деньги после парламентской неудачи в апреле-августе?
Вдобавок посол Швеции заболел и не присутствовал на конференции. Франция официально не была представлена. Бекингем мог сколько угодно расточать свое обаяние, но он имел дело с серьезными политиками, а козырей у него не было. Кроме того, его расшитые и усыпанные бриллиантами костюмы не просто поразили, а шокировали одетых в черные платья суровых буржуа, которые составляли Генеральные штаты Соединенных провинций.
Параллельно с политическими дискуссиями Бекингем отчаянно пытался договориться с амстердамскими банкирами о займах. Речь шла даже о том, чтобы заложить драгоценные камни английской короны – сделка незаконная, поскольку король Карл не был ее владельцем и не мог распоряжаться ею без разрешения парламента, который ни за что не дал бы на это согласия. Впрочем, голландские заимодавцы прекрасно знали об этом, и ни один из них не позволил втянуть себя в столь опасное дело.
Наконец 29 ноября 1625 года было заключено соглашение (Гаагский договор) между Англией, Соединенными провинциями и Данией. Соединенные провинции брали на себя серьезные финансовые обязательства, а Бекингем – увы, согласно английскому обыкновению последних лет – дал необдуманные обещания. Никто не понимал, как ему удастся сдержать слово: о провале кадисской экспедиции было уже известно, международный престиж Карла I опустился до небывало низкого уровня.
Известен один эпизод, случившийся во время пребывания Бекингема в Гааге и весьма для него характерный. В то время умер голландский ученый по имени Эрпениус. Его вдова осталась без средств, но с богатой библиотекой. Библиотеку, в которой находилось много редких восточных рукописей, очень хотели купить иезуиты Анвера. Бекингем узнал об этом и сразу предложил вдове королевскую цену: 500 фунтов стерлингов, «сумму, превышавшую стоимость веса библиотеки в серебре». Великолепный жест мецената. Но в подходящий ли момент он был сделан? {315}После заключения Гаагского договора главный адмирал хотел было поехать в Париж, чтобы еще раз, в том же духе, что и раньше, попытаться убедить Ришелье присоединиться к антиавстрийскому и антииспанскому союзу. Но кардинал был полон решимости ни в коем случае не пускать английского фаворита снова во Францию, тем более что пункты брачного договора Генриетты Марии, касавшиеся католиков, не были выполнены, а супруга Карла I подвергалась всяческим нападкам со стороны протестантов. Было еще кое-что, о чем Ришелье умалчивал, но все наблюдатели прекрасно знали: Людовик XIII ни под каким предлогом не желал допускать до своего двора англичанина-соблазнителя. «Вы достаточно светский человек, чтобы догадаться о том, чего нельзя написать», – сообщал Лавиль-о-Клер в тайной депеше Блен- вилю {316}. Бекингем снова натолкнулся на нежелание французской стороны принимать его. Расплатиться за это вскоре пришлось Генриетте Марии.
Хочешь не хочешь, а парламент придется созывать
Одной из самых характерных психологических черт Карла I вплоть до конца его правления была верность друзьям и слугам. Бекингем был, разумеется, тому ярким, но не единственным примером. После провала операции при Кадисе командование боялось возвращаться в Англию, страшась королевского гнева (гнева, большинством из них вполне заслуженного), Карл, напротив, не прибег ни к одной санкции против них и ни в чем их не винил. Снисходительность государя скорее всего объясняется тем, что расследование причин неудачи естественным образом задело бы слишком высокие инстанции, вплоть до ближайшего окружения главного адмирала, если не его самого.
Однако общественное мнение было не столь терпимо. Вид полураздетых, умирающих от голода матросов и солдат, сходящих с поверженных, истрепанных кораблей, вызвал жалость и негодование. Было нетрудно угадать, что, если когда-нибудь созовут новый парламент, критические высказывания прозвучат открыто и со всей суровостью.
Созвать парламент… Разумеется, ни Карлу, ни Бекингему этого ни в коей мере не хотелось, учитывая горький опыт заседаний, которые пришлось поспешно прервать в августе 1625 года. Но как обойтись без него? Казна была пуста. Скудные субсидии, за которые проголосовали в июне, все еще не были получены. Введенные налоги принесли какие- то 25 тысяч фунтов стерлингов, а надо было содержать то, что осталось от армии Мансфельда, и платить деньги, неосторожно обещанные Кристиану IV Датскому. Кроме того, приходилось заново снаряжать флот – провал экспедиции против Кадиса не мешал Бекингему мечтать о реванше. Вдобавок были нужны средства для организации церемонии коронации, отложенной на несколько месяцев из-за чумы и осложнения международных отношений. Все это означало, что, хочешь не хочешь, а созывать парламент придется. Оставалось надеяться, что новый его состав окажется менее склонным к конфликтам, чем предыдущий. «Послания» о созыве были разосланы на 6 февраля 1626 года.
Король и фаворит питали в отношении парламента необоснованные иллюзии. Ни внутренняя, ни внешняя политика не принесла положительных результатов со времени роспуска предыдущего состава парламентариев: напротив, за это время успела провалиться экспедиция в Кадисе. Хотя Карл и Бекингем довольно легко отнеслись к этой неудаче, общество восприняло ее с горечью и возложило ответственность за нее на главного адмирала.
Более того, Тайный совет опасался, что заседания не пройдут безболезненно. Не имея возможности открыто влиять на исход выборов, прибегли к испытанному, но законному способу: наиболее ярых противников, таких как Сеймур, назначили шерифами в их графствах. Став королевскими чиновниками, они больше не могли быть избраны депутатами. Но если король и Бекингем думали, что таким образом обеспечивают себе послушную и мирную палату общин, то они сильно ошибались. Такие люди, как Дадли Диггс, Джон Элиот и другие, не замедлили проявить себя как противники еще более опасные, нежели те, от кого удалось избавиться.
Коронация короля Карла
Следовало, пусть с опозданием, короновать короля. Чума еще не сошла на нет, казна была пуста, но церемонию нужно было организовать безотлагательно. Власть короля, его достоинство требовали священного ритуала. Сам Карл, будучи приверженцем традиции, придавал этому большое значение, а его религиозный советник Лод подчеркивал, что суть ритуала состоит в мистическом единении с Богом и со страной.
Учитывая обстоятельства, было решено отказаться от большой процессии через Лондон, однако сама церемония подготавливалась с величайшим тщанием и вниманием к деталям. Карл даже лично решал вопрос о составе елея для священного помазания и велел включить в него мускус, жасмин, флeрдоранж и оливковое масло.
Однако в последний момент возникло непредвиденное препятствие: Генриетта Мария, которая должна была короноваться вместе с супругом на хорах всеми почитаемого Вестминстерского аббатства, внезапно отказалась участвовать в ритуале, проводимом англиканским священником. Она заявила, что ее участие в подобном ритуале можно было бы расценить как принятие ею религии, к каковой она не принадлежит. Французские католические священники, к которым обратились за консультацией, рассмотрели эту проблему с формальной точки зрения: коронацию королевы может провести только епископ-католик – в частности, ее исповедник, епископ Мандский – в противном случае будет-де поставлено под вопрос спасение ее души.
Как хотелось бы верить, что подобное требование в условиях «антипапистских» настроений в Англии 1626 года было просто язвительной остротой! Увы, то была не шутка. Карл предложил, чтобы его жена, раз уж она не может быть коронована, присутствовала на церемонии в специально отведенной для нее ложе. Опять отказ. И так получилось, что 2 февраля 1626 года Карл I, «защитник веры», облаченный в белую одежду, один получил помазание, корону, скипетр, державу и все прочие монархические регалии из рук епископа Лода. К отсутствию королевы все отнеслись с вполне справедливым суровым осуждением. «Подобная демонстрация неповиновения и нежелания прийти к согласию достойна сожаления», – записал государственный секретарь Конвей {317}.
Описывая коронацию, ее свидетель сэр Саймондс Дьюз приводит красноречивый эпизод. При восхождении на помост Бекингем, шедший слева от короля, протянул ему правую руку, чтобы помочь подняться, однако Карл, наоборот, «просунул свою руку под правый локоть герцога и таким образом помог ему взойти по ступеням, говоря при этом: "Вам нужнее моя поддержка, чем мне Ваша"». «Эти слова, – завершает свой рассказ Дьюз, – я припомнил позднее, когда король ради спасения герцога, которого парламент поставил в опасное положение, решил распустить его раньше срока» {318}.
Открытие парламента
Сразу же после коронации, 6 февраля, состоялось открытие парламента. На этот раз была организована традиционная процессия от Уайтхолла до Вестминстера. То было красочное зрелище, ибо в процессии шагали пэры в длинных горностаевых мантиях, епископы, облаченные в свое полное одеяние, и депутаты общин в темных, но весьма элегантных костюмах, а возглавляли процессию король и его Тайный совет.
Увы! Случилась новая стычка с королевой. Она пожелала смотреть на процессию из окна Уайтхолла, сидя рядом с послом Бленвилем, со своим камергером Тилльером и в окружении французских фрейлин. Король предполагал, что все будет иначе: он хотел, чтобы Генриетта Мария сидела рядом с леди Бекингем, матерью фаворита, и герцогиней Кейт на балконе дома, находившегося на противоположной стороне улицы. Разумеется, то был знак внимания к герцогу, но вместе с тем также способ продемонстрировать всем, что молодая королева благосклонна к английским дамам. Последовала бурная сцена, в которой Генриетта Мария повела себя, как капризный ребенок: она отказалась двинуться с места, потому что идет дождь и он испортит ее прическу. Когда об этом сообщили Карлу, он сказал, что дождь уже закончился, и послал к супруге Бекингема с приказом выполнить его желание. Опять отказ. Дело принимало серьезный оборот. Тогда вмешался посол Бленвиль, оказавшийся лучшим дипломатом, нежели его считал Бекингем, и королева наконец согласилась перейти на другую сторону улицы. «Однако Бекингем не мог допустить, чтобы пропала столь прекрасная возможность внести сумятицу, – пишет враждебно относившийся к герцогу Тилльер, – и воспользовался случаем, чтобы настроить короля против "наглых французов". На следующий день Бленвилю было запрещено появляться при дворе и видеться с королевой» {319}.
Суть этой супружеской ссоры – не первая и не последняя между Карлом и Генриеттой Марией – стараниями Бленвиля и Тилльера дошла до Ришелье и Людовика XIII в сильно преувеличенном виде, и те посчитали, что спровоцировал ссору Бекингем, о котором в то время во французской дипломатической переписке упоминали как о человеке, «чье сердце ожесточено против Франции». Говорили, что он-де «полон ярости» и «бросает вызов», специально ухудшая отношения между двумя странами «в угоду странностям собственного настроения» {320}.
Впрочем, в тот момент у Карла и Бекингема было немало более важных забот.
Дерзость Элиота
Речь на открытии парламента, произнесенная в Вестминстере 6 февраля 1626 года Карлом I, на чьих плечах красовалась мантия, а на голове – корона, была, по обыкновению, краткой и уклончивой. «Я собрал парламент в самом начале своего правления, с тем чтобы попросить у моего народа совета и содействия в выполнении трудных задач, но был вынужден распустить его из-за того, что он слишком неторопливо откликался на мой призыв. […] Ныне же я снова созвал это собрание и надеюсь, что оно, не теряя времени даром, даст исчерпывающий ответ на мою просьбу о субсидиях в соответствии с безотлагательными потребностями королевства и всего христианского мира и не допустит, чтобы критические высказывания и неуместные сожаления мешали работе моего правительства. Я предпочитаю действия словам, и больше мне нечего сказать» {321}.
Можно легко представить, какое впечатление эта авторитарная, точнее, презрительная, речь произвела на лордов, пекшихся о своих привилегиях, и на депутатов, имевших достаточно поводов для недовольства. Косноязычие короля только усугубило неприятное впечатление.
Последовавшая за этим проповедь Лода не улучшила положения: главной темой своего рассуждения он избрал сплочение нации вокруг короля, «ибо с ним – Бог». Затем выступил хранитель печати Ковентри, объявивший, что казна нуждается в деньгах, но так и не назвавший точных сумм и не сказавший ни слова о том, как были использованы субсидии, выделенные год тому назад.
Со стороны короля и его Совета было до странности легкомысленно предполагать, что при подобных условиях парламент, еще находившийся под впечатлением августовского роспуска – ведь это произошло всего шесть месяцев назад, – проголосует за субсидии, не заставляя себя упрашивать и не теряя времени даром (как выразился король), а также не высказав никаких критических замечаний. Еще удивительнее то, что ни король, ни Совет не предвидели, какая буря надвигается на Бекингема. Разразившись несколько недель спустя, она явно застала короля, фаворита и правительство врасплох.
Недавняя катастрофа под Кадисом давала оппозиции прекрасный повод для наступления. 8 февраля сэр Джон Элиот, который начал играть роль основного противника главного адмирала, поджег фитиль: «Господа, я прошу вас посмотреть по сторонам! Вы видите, в каком ужасном положении мы находимся, какие потери мы понесли. Задумайтесь о том, что унижена честь нашей страны, что в самом начале рухнули надежды нашего прекрасного государя. Разузнайте, как проводилась подготовка к операции, как велась она сама. Поищите, в чем была ошибка и кто виноват. Наши корабли погибли, наши люди убиты врагами, причем не по воле судьбы, а из-за тех, кому мы доверились. […] Неужели нам скажут, что нас это не касается? Я утверждаю, что все, связанное с использованием субсидий, которые мы предоставили, входит в нашу компетенцию. А потому я прошу вас тщательно проверить военный бюджет и бюджет королевского дома».
Знаменательная речь. Бекингем не был упомянут – пока, – но все указывало на него. Элиот сразу же задел больное место, проникнув в самую суть предстоящих дебатов: да или нет, имеет ли право парламент требовать отчета об использовании предоставленных средств? Исторические прецеденты были неоднозначны. Великая Елизавета никогда не допускала выполнения подобных претензий, однако Яков I поступал по-разному: если он просил денег, то был готов предоставить по этому поводу любые обоснования; затем он забывал о собственных обещаниях и прикрывался «королевской прерогативой». Карлу I требование объяснений казалось покушением на его достоинство, или, как он выражался, на его честь. Поэтому он вскоре отреагировал на свой лад.
В это время вне парламента произошло событие, приведшее к ожесточенным дебатам. Французское торговое судно «Святой Петр» из Гавра, возвращение которого было обещано владельцам Бекингемом, было вновь захвачено и удерживалось в Англии под тем предлогом, что Франция отказалась вернуть суда, приведенные Пеннингтоном. Надо заметить, что отказ Франции был вполне оправдан, поскольку эти суда нанимались с единственным условием: не использовать их против Англии. Вскоре распространился слух, что французские товары, на которые также был наложен арест по приказу Совета, переданы в распоряжение главного адмирала. Этот слух был абсолютно беспочвенным, но подействовал безотказно. Английские купцы, напуганные тем, что Франция наложит ограничения на торговлю, предупредили своих депутатов в Вестминстере.
Затем, как будто еще мало было пороха в готовой взорваться бочке, Карл I дал парламенту новый повод для возмущения. На этот раз речь шла уже не об общинах, а о палате лордов. Граф Эрандел, из клана Говардов, женился вопреки воле короля на кузине Карла Елизавете Стюарт, сестре молодого герцога Леннокса. Карл пришел в ярость и велел посадить Эрандела в Тауэр как раз во время заседаний парламента, тем самым нарушив традицию, согласно которой лорды и депутаты общин во время сессии пользовались неприкосновенностью, за исключением случаев государственной измены, по делу о которой возбуждалось законное следствие. Палата лордов выразила гневный протест, но король отказался принять петицию в защиту Эрандела, и тот остался в Тауэре. Вмешательство королевы Генриетты Марии только осложнило положение. Что думал об этом Бекингем, неизвестно.
Неожиданная атака доктора Тернера
Внезапно, 11 марта, перешел в наступление малоизвестный депутат, о котором впоследствии также никто больше не упоминал, – некий доктор Тернер. Он произнес речь, в которой обвинил лично Бекингема по шести пунктам: «1. Разве герцог как главный адмирал не стал причиной развала королевского флота? 2. Разве неоправданное, неумеренное и постоянное дарение герцогу и его семье денег и земель не стало причиной истощения богатств короны и уменьшения доходов короля? 3. Разве огромное количество должностей и чинов, доверенных герцогу и его бездарным подручным, не стало причиной ухудшения управления государством? 4. Разве не стал поддержкой и помощью католикам тот факт, что мать и тесть герцога остаются папистами? 5. Разве герцог не является тем звеном, через которое продаются и покупаются королевская милость, должности и судейские полномочия, а также чины и бенефиции духовенства? 6. Разве тот факт, что герцог благоденствовал на суше в то время, как, будучи главным адмиралом, он должен был бы командовать флотом, не является причиной провала операции при Кадисе?»
Смелое заявление. Оно, без сомнения, отражало настроение многих депутатов, но вплоть до этого времени никто не осмеливался произнести вслух имя фаворита, сопроводив его столь точно сформулированными обвинениями. Конечно, 27 февраля, во время обсуждения бюджета, Элиот напомнил о том, сколь плачевно закончили свои дни Губерт де Бург и граф Суффолк, фавориты Генриха III и Ричарда II [65]. Упоминание о них задело за живое Карла I, потому что после падения обоих этих фаворитов начались гражданские войны. Однако аналогия между Губертом де Бургом и Суффолком, с одной стороны, и Бекингемом – с другой, только подразумевалась, и все тщательно избегали упоминания конкретного имени.
Как и следовало ожидать, Карл I отреагировал резко. Он созвал депутатов общин в Уайтхолле и обратился к ним с торжественной речью: «Господа, я вижу, что вы уделяете слишком много времени рассуждениям о бедах. Я предпочел бы, чтобы вы лучше постарались помочь мне выправить положение. […] Некоторые из вас (я не говорю: все) желают расследовать поведение не какого-то должностного лица, но человека, стоящего ко мне ближе всех. Было время, когда говорили: что можем мы сделать для пользы человека, которому король желает воздать почесть? Нынче же, напротив, некоторые стремятся как можно более навредить человеку, коего я выделяю из всех. […] Знайте, что герцог Бекингем во всех случаях действует согласно моему приказу. Я не могу допустить, чтобы ваша палата сомневалась в моих слугах и тем более в том из них, кто стоит ко мне ближе прочих. Потому я рассчитываю, что вы по справедливости накажете тех, кто позволил себе подобное оскорбление моего достоинства».
Несколько дней спустя Карл подвел окончательный итог своему рассуждению в еще более резкой речи: «Я хочу предостеречь вас, господа. Вы желаете настаивать на своем, но так не обращаются с королями. Королю проще перенести нападение врагов, нежели выпады собственных подданных. Помните, что в моих руках право как созывать, так и распускать парламент. Поэтому в зависимости от того, увижу ли я плоды добрые или худые, парламенты либо продолжат, либо прекратят свое существование».
Это было уже чересчур, ибо с XIII века после подписания Великой хартии парламент обеспечивал равновесие традиционной английской политики. Угрожать общинам нарушением этого равновесия светской власти было, по меньшей мере, опасно. Однако можно серьезно усомниться в том, что Бекингем хоть как-то ответствен за столь необдуманную речь короля. Напротив, он всегда старался уважать привилегии парламента и обращался как к лордам, так и к депутатам со всем почтением и уважением. Именно поэтому можно предположить, что, будь Бекингем жив, он удержал бы Карла I от тех стычек с парламентом, которые спровоцировали гражданскую войну и привели короля на эшафот, – но это уже другая история.
В любом случае, если король предполагал, будто угроза роспуска запугает таких депутатов, как Элиот, это доказывает, что он плохо знал их характер, столь же неуступчивый, как и его собственный. Осознав опасность, Бекингем попытался 30 марта сгладить впечатление, произведенное государем, и дал кое-какие объяснения по поводу кораблей, одолженных Франции. Похоже, подспудно он стремился обмануть французов, что не способствовало росту его авторитета в глазах Ришелье. Он также согласился от имени короля на создание комитета при обеих палатах для рассмотрения состояния финансов.
Вернувшийся из Франции посол Дадли Карлтон также привез успокоительную новость: было получено согласие на то, чтобы «Авангард», единственный корабль королевского флота, предоставленный французам, вернулся в Англию. Франко-английские отношения улучшались. Людовик XIII вступил в переговоры с Ла-Рошелью. Казалось, заседания парламента будут теперь продолжаться в более спокойной обстановке.
На сцене появляется Бристоль
Однако тут на сцену вышел, или, точнее, вернулся, еще один персонаж, который сработал как детонатор ожидавшегося взрыва. То был лорд Бристоль, бывший посол в Испании, который прозябал в своем замке Шерборн, назначенном ему королем местом проживания. Он называл это «заключением», и, несмотря на все удобства подобного «заключения», оно заставляло поднять вопрос о праве графа заседать в палате лордов, то есть присутствовать в парламенте.
Мы знаем, что Бристоль был человеком непреклонным и очень ценил свои права. Чтобы избежать нового конфликта с высоким собранием, король счел возможным… уступить, не уступая, но все-таки уступить. Характерная для него неподобающая позиция! Бристоль получил вызов на заседания, но его «просили» на них не появляться. Однако граф потребовал, чтобы его официально судили либо выпустили на свободу. Карл I сделал выбор в пользу суда. 1 мая против Бристоля было выдвинуто официальное обвинение в том, что в Испании он советовал наследному принцу перейти в католичество, – подобное действие расценивалось законами Английского королевства как государственная измена {322}.
То была роковая неосторожность со стороны принца, ставшего королем. Бристоль сохранил документы, которые позволяли доказать судьям – то есть лордам – обратное: что в Мадриде он постоянно предостерегал принца и Бекингема от опасностей, которыми чревато участие в играх испанцев. К тому же суд давал Бристолю возможность разоблачить Бекингема и, в свою очередь, обвинить его в измене.
Так и случилось: 6 мая Бристоль представил парламенту свою версию хода переговоров о браке с инфантой, и эта версия по многим пунктам противоречила той, которую изложил парламенту Бекингем в феврале 1624 года. Нет сомнений, что лорды и депутаты общин в большинстве своем были рады услышать подобные разоблачения. Однако бывший посол вступил в опасную игру. Ведь доклад Бекингема был официально одобрен принцем, и возражать против него было все равно что ставить под сомнение свидетельство того, кто теперь стал королем. Карл был не из тех людей, кто пропускает мимо ушей подобные оскорбления королевской чести, тем более что Бристоль увлекся и обвинил уже не только Бекингема, но и государственного секретаря Конвея в том, что тот, сознательно или неосознанно, способствовал интригам испанцев.
В данном случае позицию Карла I можно понять. В XVII веке в Англии, как и в других странах, авторитет монарха был краеугольным камнем всего политического строя. Можно было критиковать министров, даже нападать на них (французы не отказывали себе в этом удовольствии по отношению к Ришелье, а позже – к Мазарини), но король, по определению, оставался выше любых осуждений. Подспудно обвинив Карла в том, что тот-де дал согласие на лживый доклад Бекингема, Бристоль покусился на самые основы системы. Карл понял – должно быть, в большей степени, чем Бекингем, – к каким последствиям может привести подобная дерзость. Он попытался прервать расследование. Но общины теперь уже решились идти до конца. «Законы Англии не позволяют королю отдавать незаконные приказы. В противном случае, за незаконность должны отвечать советники короля», – заявил Дадли Диггс.
На этот раз двери для обвинителей Бекингема оказались открыты.
«Несварение желудка от импичментов»
В 1624 году, когда Карл и Бекингем поддержали, если не сказать спровоцировали, импичмент против лорда-казначея Миддлсекса, старый король Яков сказал сыну: «Придет день, когда у тебя случится несварение желудка от импичментов». Он оказался провидцем.
Импичментом называлась возникшая еще в Средние века процедура, в ходе которой палата общин выдвигала перед палатой лордов обвинение в государственной измене в адрес какого-либо лорда. Король не вмешивался, и в его компетенцию входило лишь исполнение приговора и, разумеется, право помиловать осужденного, если он считал это нужным. К этой процедуре прибегали редко, практически в исключительных случаях, когда речь действительно шла об изменниках. Проводилась она с согласия и даже по инициативе монарха.
Естественно, в 1624 году, когда парламент произносил дифирамбы в адрес Бекингема, «спасителя отечества», «кумира толпы», никто и представить себе не мог, что в один прекрасный (и не столь далекий) день лордам будет предложен билль об импичменте против этого человека. Но этот день настал в мае 1626 года после выступлений Бристоля.
Обвинительный акт – если воспользоваться этим анахроничным термином, чтобы упростить повествование, – был предъявлен двумя депутатами: Дадли Диггсом и Джоном Элиотом, явившимися в сопровождении шести своих коллег, каждый из которых давал комментарий по одной из ключевых статей обвинения. То был странный документ, который в пересказе Рутворда {323} занимает 54 страницы. Его текст приводит читателя XXI века в полное недоумение. В нем почти нет точных дат и имен, зато в избытке приводятся обвинения общего характера, не подкрепленные никакими доказательствами. В подобном случае современный юрист легко отказался бы от дела или, по крайней мере, потребовал бы детального расследования по каждому пункту. В XVII веке все было не так: риторика и цитаты из классической литературы заменяли судебные доводы. Справедливости ради следует отметить, что защита следовала такой же традиции и ограничивалась подобными общими местами.
Не желая утомлять читателя этим неудобоваримым разглагольствованием, все же нельзя устоять перед соблазном привести в качестве примера вступительную речь Диггса (в некотором сокращении): «Милорды, когда солнце своими огненными лучами извлекает из центра земли пары, которые воспламеняются и горят на небе подобно звездам, то не следует удивляться, что народы, видя кометы и ощущая их неблагоприятное воздействие, приписывают его извращенности материи, из каковой те состоят [66]. Недавно, когда слепящая звезда появилась в лоне Кассиопеи в том месте, в котором, по мнению Аристотеля и древних философов, находится средоточие разрушительных сил, математики установили, что траектория движения этой звезды необычайна, и народы с полным правом предположили, что от нее исходит опасность. Подобным этой комете, милорды, общины считают герцога Бекингема, у коего траектория движения весьма необычна, что мы и докажем Вашим милостям…» И дальше в том же духе.
Обвинение, до невозможности сумбурное и многословное, включало десять пунктов. Мы не станем перечислять и тем более комментировать их все. Некоторые из них, относившиеся к частностям и малозначительные, даже в ту эпоху воспринимались скорее как пересказ сплетен, нежели как политическое выступление. Мы вкратце остановимся лишь на тех, которые в исторической перспективе действительно могут помочь выяснить степень ответственности или виновности Джорджа Вильерса, герцога Бекингема.
Первый пункт – возможно, с нашей, сегодняшней, точки зрения он наиболее серьезен – это то, что фаворит имел слишком много титулов, чинов и обязанностей, которые один человек не в состоянии выполнять одновременно. В этом отношении поражает даже само перечисление титулов, приведенное Диггсом: «Герцог, маркиз и граф Бекингем, граф Ковентри, виконт Вильерс, барон Уоддон, главный адмирал королевств Англии и Ирландии, а также Уэльса, их доминионов и островов, города и области Кале [sic!], Нормандии, Гаскони и Гиени [sic!], генерал-губернатор морей и кораблей указанных королевств, генерал-лейтенант, адмирал, главный капитан и предводитель недавно созданных королевского флота и армии, главный конюший нашего владыки короля, лорд-хранитель, канцлер и адмирал Пяти Портов, констебль Дуврского замка, судья по вопросам лесов и охоты по эту сторону реки Трент, камергер Его Величества в его королевствах Англии, Шотландии и Ирландии, рыцарь высокочтимого ордена Подвязки».
Даже учитывая преувеличения (при чем здесь Кале, Нормандия, Гасконь и Гиень, отошедшие к Франции еще в XV и XVI веках?), трудно представить, чтобы подобное нагромождение должностей (и доходов) было совместимо с достойным выполнением соответствующих функций. В защитной речи Бекингем настаивал на том, что все эти назначения исходили от короля, а сам он никогда не плел интриг и тем более не платил за то, чтобы их получить. За одним исключением: он купил должность хранителя Пяти Портов (речь вдет о пяти портах на юге Англии, управление которыми не входило в юрисдикцию главного адмирала) именно для того, чтобы контролировать все побережье королевства в интересах общественной безопасности. Подобный довод в свою защиту, пусть даже нам он кажется слишком слабым, вполне оправдан с юридической точки зрения. Кроме того, сосредоточение множества должностей и чинов в одних руках не было в XVII веке исключительным явлением. Достаточно вспомнить Ришелье, Мазарини, Кольбера и Лувуа.
После этого в обвинительном акте речь шла о продажности. Якобы Бекингем заплатил графу Ноттингему 3 тысячи фунтов за должность главного адмирала, а лорду Зучу – тысячу фунтов за Пять Портов. Бекингему не стоило никакого труда доказать необоснованность этого обвинения. Он уже объяснил свои действия в отношении Пяти Портов. Что до графа Ноттингема, то речь шла просто о возмещении ему дохода, утраченного после отставки, и сделано это было с полного согласия короля.
Более тонким было обвинение в небрежении и некомпетентности в вопросах оснащения флота и охраны морей. Главный адмирал пояснил, что со времени назначения на этот пост по его приказу было построено и спущено на воду множество кораблей – и это правда, – но увеличение числа пиратов, как и недавнее появление «турок» вблизи английских берегов, не позволяют полностью искоренить эти бедствия. Все верно, однако подобным аргументом нельзя объяснить, почему так плохо была оснащена, снабжена продуктами и проведена экспедиция против Кадиса. На этот счет Бекингем не сказал ни слова. Как ни странно, обвинительный акт также удивительно деликатно отнесся к этому вопросу, хотя нам он кажется одним из основных.
Не будем останавливаться на кораблях, одолженных Франции, на захвате «Святого Петра» и других французских судов – об этом уже много говорилось. Не станем также разбирать темное дело о штрафе в 10 тысяч фунтов, наложенном на Ост-Индскую компанию (и полученном с нее) за некую противозаконную сделку на Ближнем Востоке. Этот вопрос потонул в тонкостях морского и торгового права, а личная ответственность Бекингема из всего этого не явствовала.
Напротив, нетрудно согласиться с обвинением в фаворитизме и непотизме, выдвинутым против герцога в связи с тем, что масса должностей и чинов перепала членам его семьи, большинство из которых этого не заслуживали. Конечно, таковы были нравы эпохи (вспомним братьев де Люиней или племянниц Мазарини, столь живо описанных сравнительно недавно Пьером Комбеско [67]), но ясно и то, что по этому вопросу защита Бекингема была весьма уязвима.
А теперь перейдем к ключевому и наиболее тяжкому обвинению, которое, несомненно, задевало за живое и фаворита, и короля: к тому, какую роль играл Бекингем в последние дни жизни короля Якова.
Новые разговоры о «пластыре» и «настойке» для короля Якова
Рассказывая о болезни и смерти Якова I, мы уже упоминали пластырь и настойку, которые Стини предложил страдавшему королю. Разумеется, с того времени (ведь прошло уже больше года) зловредные слухи еще больше умножились и распространились. Тем не менее Диггсу потребовалась большая смелость, чтобы посметь сказать: «Будучи камергером, герцог, без всяких предписаний сведущих людей и даже вопреки официальной точке зрения врачей, пользовал Его Величество некими пластырями и некой настойкой, которые медикам неизвестны, позабыв при этом о своем долге и сердечном почтении, каковые он должен был испытывать по отношению к столь священной особе. Эти средства произвели столь неблагоприятное воздействие, что врачи отказались продолжать лечение Его Величества, пока пластыри и настойку не перестанут применять. […] Сам король, чувствуя себя все хуже, считал, что причиной ухудшения являлись указанные пластыри и настойка, что говорит о столь тяжком преступлении, что его можно охарактеризовать как измену и убийство. Я не стану долее распространяться на эту тему, щадя честь короля» {324}.
Подобное заявление было уже чересчур. Что имел в виду Диггс, упоминая о «чести короля»? Что Карл был сообщником убийцы своего отца? Во всяком случае, король понял это именно так. И не замедлил отреагировать.
Бекингем – Сеян? Карл I – Тиберий?
После подобных обвинений можно было ожидать самой бурной кульминации. Она и прозвучала в конце концов из уст Джона Элиота, окончательно превратившегося в ожесточенного преследователя своего бывшего друга и покровителя.
Как мы видели, обвинительный акт кое-как соединил в одном тексте обвинения весьма общего и туманного характера (сосредоточение должностей в руках герцога, продажность) с мелкими придирками, а под конец сформулировал обвинение в убийстве {manslaughter). Речь Джона Элиота включает все эти пункты, обильно сдобренные риторическими фигурами и латинскими цитатами. Из этого следует, что лорды, перед которыми он выступал, знали классику куда лучше наших современников – по правде говоря, в это нетрудно поверить.
Основным аргументом Элиота было то, что прежде, чем Бекингема осудят судьи, его осудило общественное мнение, а следовательно, «доказательств не требуется». В наше время подобное выступление в суде привело бы к прекращению процесса. В 1626 году оно казалось убедительным. Затем последовали выпады, кажущиеся нам чересчур живописными: «Герцог – воплощение обмана и лжи. Его можно сравнить разве что со зверем, коего древние именовали "Stellionatus", столь ужасным, столь грязным, что они не знали, как с ним обходиться». Распаляясь в собственном красноречии, Элиот выражал удивление, что подобное существо вообще может так долго жить и благоденствовать. «Не чудно ли то, что человек, столь опасный, столь жестоко злонамеренный, мог до сих пор безнаказанно злодействовать, ввергая страну в пучину нищеты и разрушения ради удовлетворения своих низких желаний и потребностей своих близких? Как совместить подобную ситуацию с благополучием государства и честью короля?» (Опять эта «честь короля», о которой упоминают по любому поводу!)
И в заключительной части своей речи Элиот пускается в долгие исторические сравнения, почерпнутые из времен Римской империи и наверняка хорошо известные его слушателям: «Этот человек – язва, разъедающая государство. Я искал в истории персонаж, с которым можно было бы его сравнить, и не нашел никого, кто больше походил бы на него, чем Сеян, о ком Тацит говорит, что был он audax, sui obtegens, in alios criminator, juxta adulator et superbus [68]. Он был высокомерен, презрителен, постоянно смешивал свои интересы с делами государства до такой степени, что велел именовать себя Imperatoris laborum socius [69]. Смотрите: разве не подходят все эти описания слово в слово к портрету герцога, который так часто в речах упоминает дела короля рядом со своими собственными?… Милорды, таков этот человек. Именно от него исходит все зло, именно он – причина несчастий; лишь его низвержение может дать надежду к улучшению положения дел».
Сравнение с Сеяном требовало известной дерзости, ибо, если оно относилось к грубому, жестокому и продажному министру, описанному Тацитом в Анналах (Книга IV, глава I) и казненному в 31 году до н. э., то подразумевало также и государя, чьим фаворитом долгое время оставался Сеян, а именно – Тиберия, ставшего архетипическим образом кровавого тирана. Понимал ли это Элиот? Может быть, и нет, ибо подобное красноречие приводит к запальчивым заявлениям. В любом случае, Карл I все понял правильно. «Если Бекингем – Сеян, то, следовательно, я – Тиберий», – с горечью отозвался он на эту речь {325}.
На следующий день Карл появился в палате лордов: «Единственной причиной моего нынешнего прихода сюда является желание сказать вам, что наглые речи, недавно произнесенные в вашем присутствии, задевают как вашу честь, так и мою. Я не имею обыкновения наказывать тех, кто выступает против меня, а что до тех, кто нападает на Бекингема, то он сам всегда просит меня не обращать на них внимания из опасения, что его обвинят в том, что он настраивает меня против них. Об этом я свидетельствую вам лично. Я говорю это не затем, чтобы вмешиваться в ваши привилегии, а просто для того, чтобы объяснить, почему вплоть до нынешнего дня я не желал наказывать наглецов. И теперь, надеюсь, вы более ревностно станете защищать мою честь, как я защищаю вашу».
Взяв слово перед депутатами общин, Карлтон, в свою очередь, попытался начать дебаты, настаивая на важности нынешнего момента для будущего Англии. Он только что вернулся из своего посольского путешествия во Францию и имел возможность сравнить две страны. «Умоляю вас, господа, не поступать таким образом, коим вы можете заставить Его Величество забыть о своей любви к парламенту. Во всех христианских странах поначалу тоже существовали парламенты, пока короли не осознали свою силу и, видя недисциплинированность и неугомонность подобных ассамблей, постепенно не перестали их созывать. И так произошло везде, за исключением нашего Английского королевства…» Далее следовало ужасающее описание Франции, где, за отсутствием парламента, аналогичного английскому, царит деспотизм, а жители «напоминают скорее призраков, нежели людей». Несмотря на риторические преувеличения, доводы Карлтона, человека, имеющего огромный дипломатический опыт, действительно заставили задуматься. Начавшийся с обвинения против Бекингема конфликт между королем и парламентом не должен был закончиться поражением первого и триумфом последнего. Карлтон почувствовал эту опасную возможность куда быстрее, чем Диггс или Элиот.
Авторитарный поступок и первое отступление короля
Карл I посчитал себя лично оскорбленным и отреагировал тем, что приказал арестовать и посадить в лондонский Тауэр Диггса и Элиота. Такой поступок был вполне в его духе, но, по меньшей мере, неуместен. Чем превращать оппозиционеров в жертв произвола, лучше уж было заставить их отвечать перед Судом королевской скамьи [70] или перед Судом лорда-канцлера, подготовив хорошо составленный список обвинений. Бекингем почувствовал это и тщетно умолял короля отдать приказ об их освобождении.
Как и следовало ожидать, палата общин и палата лордов заявили протест против подобного покушения на их традиционные привилегии, согласно которым членам парламента гарантировалась свобода слова на заседаниях. Карлу пришлось отступить и спустя неделю после ареста вернуть обоим депутатам свободу. Таким образом, сам того не понимая, он положил начало своим последующим отступлениям, в результате которых постепенно дошел до известного нам итога.
Тем же приказом король выпустил из Тауэра графа Эрандела, чье содержание под стражей раздражало палату лордов. За графа заступился Бекингем.
Бекингем – канцлер Кембриджа
Тем временем (28 мая 1626 года) произошло событие, не связанное с заседаниями парламента, но явно подействовавшее раздражающе. Поскольку умер ректор Кембриджского университета граф Суффолк, университетские профессора должны были избрать его преемника. То был престижный пост, весьма почетный и не лишенный политического значения, поскольку в данном университете, как и в Оксфорде, шла борьба между двумя партиями: с одной стороны, англиканской, «королевской» партией, с другой – партией пуритан-кальвинистов. Под нажимом Лода король настаивал на том, чтобы новый ректор был избран из числа сторонников первой партии: он выдвинул кандидатуру Бекингема.
Мы не знаем, что думал об этом сам герцог, не имевший никакой университетской подготовки. Видел ли он в этом назначении лишь еще один чин, еще одну милость короля? Или, скорее, будучи любителем искусств и библиофилом, предполагал, что сможет оказать университету благодеяния (что впоследствии и сделал)? В любом случае профессора исполнили желание государя и избрали Бекингема 108 голосами против 103, отданных за графа Беркшира. Карл был в восторге. Палата общин в большинстве своем расценила это новое назначение ненавистного ей человека как провокацию. Разумеется, в этом она не совсем ошибалась.
Защитная речь Бекингема перед лордами
Буйный, порывистый герцог вовсе не собирался игнорировать обвинение общин и настаивал на том, чтобы как можно скорее произнести ответную речь и доказать свою невиновность по всем пунктам импичмента.
Эта речь, произнесенная 8 июня, занимает в сборнике Рашуорта {326} пятнадцать страниц. Менее риторическая и педантичная, чем речь Диггса и Элиота, она более точна в описании деталей и дышит искренним ощущением невиновности. (Что, конечно, не означает, что мы должны безоговорочно принимать на веру все содержащиеся в ней утверждения.)
Особенно красноречиво и трепетно Бекингем останавливается на одном пункте: на лечении короля Якова. Здесь мы опять видим Стини, преданного своему «старому папе» и возмущенного тем, что в его уважении и любви к государю можно было усомниться. Он говорил, что изо всех сил пытался отговорить больного от того, чтобы пить настойку и прикладывать пластырь, но король, слышавший о чудодейственных свойствах этих средств, настаивал столь яростно, что ему пришлось уступить. Кроме того, многие люди уже пробовали эту настойку и не испытали ни малейшего дурного действия. А когда король узнал, что некоторые из его окружения считают, будто это средство ему повредило, он объявил в присутствии свидетелей: «Те, кто говорит подобные вещи, хуже демонов». Мы не можем проверить достоверность всех этих утверждений Бекингема, равно как и истинность обвинений его врагов. Однако ясно, что психологическое правдоподобие полностью на стороне Стини. Его можно представить вспыльчивым, высокомерным, любителем удовольствий, но в нем трудно распознать черты отравителя, хладнокровно избавляющегося от человека, которому он был обязан всем. Хочется надеяться, что у хорошо знавших его лордов сложилось такое же впечатление.
Упомянем также историю об интересном атмосферном явлении, которая позволит представить настроение, царившее во время дебатов. После защитной речи Бекингема 8 июня в Лондоне наблюдалось редкое событие: сильная буря с дождем и градом, громом и молниями. Холборнское кладбище было размыто, чумные трупы выворотило из земли, а над Темзой образовался купол испарений, «напоминающий дым над плавильней» и заставивший остолбенеть всех наблюдателей, включая депутатов и лордов, прятавшихся за окнами парламента. Каждый из них, в зависимости от собственных убеждений, увидел в этом событии проявление божественного гнева либо против Бекингема, либо против его обвинителей.
Ремонстрация депутатов: парламент испытывает свою силу
Неизвестно, как завершилась бы процедура импичмента в палате лордов, будь она проведена до конца. Можно предположить, что, несмотря на претензии многих пэров к фавориту, врожденное уважение аристократов к королю и определенная классовая солидарность в конце концов привели бы к вынесению оправдательного приговора. К тому же у Бекингема было достаточно средств, как законных, так и тайных, чтобы оказать влияние на исход голосования. Но ему не пришлось прибегать к подобному способу. Горя нетерпением, депутаты общин довели короля до крайности и заставили применить силу.
По инициативе самых ретивых, депутаты начали 9 июня – на следующий день после защитной речи Бекингема перед лордами – подготовку ремонстрации, процедуры торжественного заявления протеста королю по поводу злоупотреблений его правительства. В данном случае речь шла о ненавистном фаворите. И этому Карл твердо решил воспротивиться. Он дал это понять председателю палаты, но не добился результата. В составленном документе Бекингема называли «врагом Церкви и Государства»; говорилось, что его влияние на короля ввергает страну «в убогое и опасное состояние». Короля почтительно просили «лишить Бекингема монаршего присутствия», не позволять, чтобы «благополучие одного человека приравнивалось по значимости к благополучию всего христианского мира» (не больше и не меньше!). И наконец, чтобы окончательно прояснить смысл послания: «Все субсидии, каковые мы могли бы предоставить Вашему Величеству, обернутся из-за этого человека во вред стране, что подтверждается жалким опытом использования субсидий, за которые голосовал предыдущий парламент. Пока он вмешивается в дела государства, нет никакой надежды на то, что оно будет процветать».
Это уже не ремонстрация, а ультиматум. Ни один европейский монарх не потерпел бы подобного заявления от своих подданных, а Карл I и подавно не мог с этим смириться.
15 июня 1626 года, после четырех месяцев заседаний, второй парламент нового правления был распущен.
А денег в казне по-прежнему не было, как не было и надежд на новые поступления.
А. Ван Дейк. Карл I.
Д. Майтенс. Королевская чета – Карл и Генриетта Мария отправляются на охоту.
А. Ван Дейк. Карл I в парадном облачении кавалера ордена Подвязки.
A. Baн Дейк. Королева Генриетта Мария.
П. П. Рубенс. Пейзаж со святым Георгием и драконом (фрагмент). Романтическая аллегория, изображающая галантного рыцаря Карла в образе святого Георгия, избавляющего принцессу (Генриетту Марию) от дракона.
A. Bан Дейк. Король Карл, отдыхающий после охоты.
А. Ван Дейк. Автопортрет с Эндимионом Портером (художественным агентом Бекингема).
Гравюра с картины А. Ван Дейка. Карл и Генриетта Мария
A. Ван Дейк. Адонис и Венера. Герцог и герцогиня Бекингем в образах античных богов.
Неизвестный художник. Карл и Генриетта Мария за трапезой. Интерьер дворца вымышленный. Возможно, картина была написана в связи с амбициозными планами Карла по перестройке Уайтхолла.
Ф. де Шампснь. Людовик XIII, венчаемый Славой.
У. Ларкин, герцог Бекингем в парадном одеянии кавалера ордена Полвязки.
Герцог де Субиз.
Герцог де Роган.
Маршал Бассомпьер.
Мария де Роган. Герцогиня Шевреч.
Ф. де Шампень. Кардинал Ришелье.
А. Боссе. Людовик XIII Справедливый, король Франции и Наварры.
Триумф Людовика XIII. Аллегория на взятие Ла-Рошели в 1628 году.
П.П. Рубенс. Анна Австрийская.
П. П. Рубенс. Герцог Бекингем.
Глава XVIII «Война, лишенная какого-либо смысла»
После роспуска парламента
Итак, утром 16 июля 1626 года Карл I уже правил без парламента, но также и без денег и практически без флота и армии.
Уж кому-кому, а Бекингему не следовало бы искать виноватых при подобном положении дел. Однако, вполне в соответствии со своим характером, сам он и его господин король возлагали вину за дурной настрой парламента на пуритан и примкнувших к ним. Король и герцог знали, что их собственные души чисты, намерения честны, а действия соответствуют возложенным на них обязанностям. В конце концов, война против Испании началась по требованию парламента, и не их вина, если после воцарения Карла I те же самые депутаты не желают предоставить средства для успешного проведения военных операций.
Что касается непопулярности Бекингема, то в XVII веке с подобными проблемами в политике не считались. Важнее всего было доверие короля – остальное не имело значения. Мы видим аналогичный пример во Франции: Ришелье тоже ненавидели, но он был всемогущ.
И потому после провала импичмента в палате лордов Стини был как никогда уверен в себе и полон новых проектов. Парламент оказался быстро позабыт. Королевским указом предписывалось уничтожить все копии запретной «ремонстрации». Судебное разбирательство по делу Бристоля, по которому лорды не успели вынести суждения, было передано в Суд Звездной палаты [71], орган, полностью послушный королю. Бристоля на несколько недель засадили в тюрьму, а затем дело замяли. Что до импичмента против Бекингема, то данная процедура не могла быть доведена до конца, поскольку лорды, единственные компетентные в подобных решениях люди, больше не заседали.
Однако при таком повороте дела остались без решения три проблемы, которые летом и осенью 1625 года одновременно беспокоили двор, правительство и народ Англии. То были проблемы финансов, войны с Испанией и отношений между королем и королевой.
«Стини, гони французов прочь, как диких зверей!»
Супруги ссорились все чаще и чаще. Неловкое вмешательство посла Бленвиля только усугубило положение. Несомненно, Генриетта Мария находилась под чересчур сильным влиянием своей французской свиты и особенно своих исповедников. В Лондоне говорили, что эти «священники Люцифера» унижают ее, навязывая покаянные обряды, например, заставляют пешком бродить по парку в то время, как священник едет рядом в карете, или понуждают прислуживать им за столом. «Если они осмеливаются обращаться подобным образом с дочерью, сестрой и супругой столь великих королей, то на какое же рабство они способны обречь английский народ?!» – возмущенно восклицал пуританин Поури {327}.
Большого шума наделал один случай. Кто-то видел, как королева ходила поклониться тайбернской виселице (сейчас на этом месте к северу от Гайд-парка находится Мраморная арка). Там казнили многих католиков, считавшихся в среде протестантов «предателями», а среди собратьев по религии «страстотерпцами». Подобное паломничество, которое королеву побудили совершить исповедники, было в глазах пуритан и франкофобов выражением презрения к законам Англии. По сути, скорее всего это получилось случайно, во время обычной прогулки по парку прекрасным летним утром.
К подобным вопросам Карл был чрезвычайно чувствителен, как и к дурным манерам. Он упрекал жену за то, что она отказывается говорить по-английски, любит осмеивать английские обычаи, постоянно обижается. Однажды, услышав, как Генриетта Мария развлекается в своих покоях в окружении французских дам, он вошел, не позволив объявить о своем приходе, велел дамам выйти, закрыл дверь на ключ и отругал Генриетту за то, что она ведет себя не в соответствии со своим достоинством, веселясь со слугами, а его, собственного супруга, встречает хмуро и холодно.
Весьма характерный эпизод был описан самим Карлом в письме к английскому послу в Париже с просьбой объяснить Людовику XIII причины его недовольства королевой. Эта жалоба производит одновременно удручающее и смехотворное впечатление. «Однажды вечером мы были в постели, и она подала мне список людей из своей свиты, для которых хотела испросить награды. Я сказал, что прочту его утром, но в любом случае все решу сам. Она сказала, что внесла в список как французов, так и англичан, на что я ответил, что для французов сделать что-либо невозможно. Тогда она возразила, сказав, что список одобрен ее матерью и она не собирается ничего в нем менять. Я напомнил, что ни ее матери, ни ей не подобает брать в свои руки подобную инициативу и что, если она настаивает, я вообще не стану рассматривать этот список. На это она дерзко ответила, что я-де могу оставить себе свои награды и она не примет от меня ни земель, ни домов. Я попросил ее не забывать, с кем она разговаривает, и помнить, что она не имеет права говорить со мной таким тоном. Тогда она произнесла страстную речь, говоря, что она самая несчастная из женщин и что, если она что-нибудь просит, я всегда ей отказываю, а она не столь низкого происхождения, чтобы так с ней обращаться. Я велел ей замолчать и таким образом положил конец спору» {328}.
В том же письме Карл добавляет, что жена зачастую при свидетелях говорит с ним «столь неподобающе, что я даже не осмеливаюсь этого воспроизвести», а также, что, «когда я хочу ее о чем-то попросить, мне приходится сначала говорить об этом с ее французскими слугами, иначе она наверняка откажет».
В наши дни все эти претензии были бы собраны воедино для возбуждения дела о разводе с обоюдного согласия. В данном случае такая процедура была невозможна, тем более что речь шла не просто о мужчине и женщине, а о стоявших за ними двух королевствах. И хуже всего было то, что в глубине души Карл любил свою жену, а она – его, как показало дальнейшее развитие событий. Ни тот ни другая не желали разрыва. Единственным выходом было истребить корень зла: изолировать королеву от ее французского окружения.
Карл I принял такое решение в июле 1626 года, месяц спустя после роспуска парламента. Следует признать, что он провел эту операцию достаточно грубо, почти как отправку военнопленных. Утром 9 мая государственный секретарь Конвей явился к королеве и сообщил ей от имени короля, что все французы, состоящие в ее свите, должны немедленно покинуть ее и будут отосланы обратно во Францию. Пока Генриетта яростно протестовала, ее фрейлин и слуг собрали во дворе Сент-Джеймсского дворца и усадили в уже ожидавшие их кареты, окруженные гвардейцами, как будто предстояло везти государственных преступников. Свидетели описывают вопли и слезы молодой женщины, к которой в это время пришел супруг. Она пыталась открыть окно, чтобы поговорить с соотечественниками, но король оттащил ее прочь, и она поранила руку; то было душераздирающее зрелище, но оно никак не повлияло на принятое решение.
Само собой разумеется, моментально отосланные в Париж сообщения (первым написал Тилльер, пребывавший под защитой своего дипломатического статуса) вызвали негодование в Лувре. «Женщины вопили, как если бы их везли на эшафот», – пишет непосредственный свидетель отец де Гамаш, один из капелланов королевы {329}. Ришелье, составлявший свои «Мемуары» много лет спустя, упоминает, что Генриетта Мария «испускала крики, способные пошатнуть скалы, бросалась на пол, обнимая колени короля, целовала ему ступни, напоминала об обещаниях, данных в брачном контракте, но все было напрасно» {330}. В обстановке обострения национальных и религиозных разногласий по обе стороны Ла-Манша подобные сообщения могли только окончательно испортить отношения между Францией и Англией.
Именно с этим эпизодом связана недатированная, часто цитируемая и многократно воспроизводившаяся записка Карла Бекингему. К сожалению, невозможно точно установить, была ли она написана до или после 9 августа: «Стини, я велю тебе завтра выгнать всех французов из Лондона. Если можешь, делай это деликатно, но без долгих разговоров; если не получится, применяй силу. Гони их, как диких зверей, пока они не сядут на корабли, – и пусть их заберет дьявол. Не отвечай мне, пока не исполнишь приказа. Твой верный, вечный и близкий друг, Карл R[ex]» {331}.
В связи с этой запиской встает вопрос о личной ответственности Бекингема за изгнание французов из дома Генриетты Марии. На этот вопрос нелегко ответить.
Нет сомнений в том, что главный адмирал не любил неуступчивое и враждебное к англичанам окружение королевы. В частности, против герцога с самого начала была настроена госпожа де Сен-Жорж. Она упорно возражала против того, чтобы подле королевы сидели английские дамы. Но несмотря на то, что Бекингем очень хотел, чтобы его мать, сестра и жена были приняты в свиту юной государыни, он ни в коем случае не был заинтересован – скорее наоборот! – в обострении отношений между Англией и Францией. Похоже, сам тон записки Карла указывает на уверенность короля в том, что Стини слишком затягивает исполнение приказа о высылке французов. Кроме того, многие свидетели указывают, что отношения между королевой и Бекингемом были «сердечными», то есть дружескими. Так что мы можем, не особо боясь ошибиться, приписать решение о высылке французов лично Карлу, хотя почти всем во Франции именно фаворит казался причиной разногласий в королевской семье.
Впрочем, высылка прошла куда более цивилизованно, нежели можно было подумать после сцены 9 августа. Приближенные слуги Генриетты получили подарки (госпожа де Сен-Жорж – драгоценности, стоившие 3 тысяч фунтов стерлингов; всего же было потрачено 11 тысяч серебряных фунтов, что, принимая во внимание состояние казны, отнюдь не мало, хотя французы сочли это мелочью). Король лично пришел в Сомерсет-Хауз поприветствовать французов перед отъездом. Ничего страшного не произошло, если не считать враждебных выкриков из толпы и камня, брошенного в госпожу де Сен-Жорж в Дувре и сбившего с нее шляпу.
Вскоре после этого Карл назначил фрейлинами королевы трех леди Бекингем, леди Денби, леди Гамильтон, леди Карлайл (ту, что была замешана в деле с бриллиантовыми подвесками). Генриетта Мария быстро привыкла к ним и даже с ними подружилась. В любом случае, изгнание французов привело к желаемой цели. Однако Людовик XIII не оставил этого без последствий.
Маршал Бассомпьер, дипломатичный посол
После того как Ришелье послал в Англию не блиставшего дипломатическими способностями Бленвиля, следовало, ради воссоздания видимости дружбы между странами, отправить посла, который был бы птицей другого полета. Для выполнения столь деликатной миссии кардинал выбрал фигуру первого плана – знак внимания, которого Карл не мог не оценить, – человека, искушенного в том, что касается придворного этикета и не склонного к тому, чтобы позволять монахам, будь то ораторианцы или францисканцы, влиять на его поступки. Короче, то был маршал Бассомпьер.
Бассомпьер, давний товарищ Генриха IV, сердцеед, известный своими остротами, а также смелостью и учтивостью, обладал всеми достоинствами, чтобы понравиться в Лондоне. Вместе с тем подобная задача была не из простых. Карл столь же упорно настаивал на изгнании всех французов из окружения жены, сколь Людовик XIII на необходимости уважать пункты брачного договора.
Принятого в Лондоне 7 ноября 1626 года без особой пышности Бассомпьера сразу же навестил Бекингем, который заверил посла в своих наилучших чувствах и пообещал оказать поддержку при дворе. «Он просил меня не говорить королю о его визите, поскольку нанес его по собственному побуждению». Рассказывая об этом в своих «Мемуарах», Бассомпьер добавляет: «Я этому не верю» {332}. Что не помешало ему на следующий же день нанести Бекингему ответный визит в «невероятно красивом» Йорк-Хаузе. Он нашел герцога «разодетым столь пышно, как никто другой», после чего они «расстались добрыми друзьями».
Действительно, на этом этапе Бекингем был очень заинтересован в улучшении отношений с Францией. Он все еще мечтал о морской экспедиции против Испании, и нейтралитет Франции, раз уж нельзя добиться союза, был необходим. Поэтому герцог решил содействовать переговорам посла с королем, несмотря на сопротивление последнего. Карл I боялся, как бы во время первой официальной и публичной аудиенции Генриетта Мария «не повела себя экстравагантно и не расплакалась на глазах у всех». Ловкий Бассомпьер предложил ограничиться на этот раз протокольным обменом приветствиями, а обсуждение серьезных вопросов отложить до последующей частной аудиенции, на которой присутствовал бы только Бекингем. «Когда я сказал это, герцог обнял меня и сказал: "Вы разбираетесь в таких делах лучше меня", – после чего, смеясь, попрощался со мной и отправился к королю, чтобы передать мое предложение. Король принял его и досконально все исполнил» {333}. Маршал явно обладал качествами, необходимыми профессиональному дипломату.
Щекотливым пунктом переговоров был вопрос об отце де Санси, исповеднике королевы, который был выслан в августе и которого она настоятельно требовала вернуть. Бассомпьер привез отца де Санси с собой, что очень не понравилось Карлу. Король потребовал немедленного отъезда священника, посол отказался. Переговоры начались не лучшим образом.
14 ноября Бассомпьера привели в галерею Хемптон-корта, где его ожидал король. «Он дал мне продолжительную и неблагосклонную аудиенцию. Он гневался на меня, а я, не преступая границ уважительности, отвечал ему в таком духе, что в конце концов, слегка уступая, добился от него многого». Маршал упоминает о поступке Бекингема, который шокировал его своей дерзостью, «если не сказать наглостью»: «Когда герцог увидел, как мы разгорячились, он встал между королем и мной и сказал: "Не пора ли мне развести вас по углам?"» Разумеется, это дерзость, но скорее в глазах недавно прибывшего француза, нежели придворных, привыкших к тому, что король и фаворит афишируют свою близкую дружбу. В любом случае, этот эпизод показывает, что Бекингем не только не пытался ухудшить франко-английские отношения, в чем некоторые его обвиняли, но, напротив, стремился к примирению сторон.
Наконец, после многих подступов и отступлений, аудиенций и дискуссий с Тайным советом, после протокольных столкновений, которым маршал-посол уделяет много места в своем рассказе, удалось прийти к решению, в которое каждый внес свою лепту. «Они были благоразумны, – признает Бассомпьер, – а я умерен в требованиях».
Образ жизни свиты Генриетты Марии, одобренный обеими сторонами, вполне удовлетворял требованиям французов. За королевой закреплялось право иметь при себе 12 католических священников или капуцинов (о епископе на этот раз уже не было речи) и французскую свиту, состоящую из оберкамергера, пажа, привратника, хранителя гардероба, слуги-дворянина, лютниста и десяти музыкантов, хирурга, смотрителя кухни, аптекаря, поставщика овощей, пекаря, булочника, кондитера, виночерпия – всего 43 человека. Такое решение устраивало придирчивого короля Франции.
Казалось, все улажено, но Генриетта Мария сочла необходимым выразить свое несогласие. Об этом рассказывает сам Бассомпьер, и это подтверждает тот факт, что детские капризы королевы не были пустой выдумкой англичан. «Я сказал ей, что тогда буду вынужден проститься с королем, не уладив спорных вопросов, и расскажу государю [Людовику XIII] и ее матушке королеве, что она сама во всем виновата. […] Когда я вернулся к себе, отец де Санси, которому она написала о нашей размолвке, отправился утешать ее. Это было так неуместно, что я сильно на него разозлился». Вот какая бездна терпения и изощренности требовалась участникам переговоров, чтобы лавировать среди стольких препятствий…
Срок посольства подходил к концу. 15 декабря Бекингем дал в честь Бассомпьера «самый великолепный пир, какой я видел в своей жизни. Король отужинал за одним столом с королевой и со мной. Каждая перемена блюд сопровождалась отдельным балетом [sic], различными представлениями, – полное разнообразие спектаклей, блюд и музыки. Герцог прислуживал королю, граф Карлайл – королеве, а граф Холланд – мне. После ужина короля и всех нас пригласили в другой зал, где находились собравшиеся гости. Туда входили по очереди, и там был показан великолепный балет, в котором танцевал герцог. После этого мы танцевали контрдансы до четырех часов пополуночи, после чего нас отвели в сводчатые апартаменты, где подали пять различных закусок» {334}.
Как ни странно, Бассомпьер не дает подробного описания балета, в котором – мы знаем об этом из других источников – была изображена королева-мать Франции Мария Медичи, сидящая на троне в царстве Нептуна в окружении трех своих дочерей и их супругов: короля Испании, короля Англии и герцога Савойского. Политический намек был ясен всем мало-мальски посвященным.
Прежде чем попрощаться с послом, Карл I подарил ему «четыре ромбовидных бриллианта и один большой камень вдобавок», а еще, в качестве исключительного знака благосклонности, он освободил из тюрьмы католических священников, которые отправились во Францию на одном корабле с Бассомпьером. Можно представить себе ярость пуритан! Миссия маршала, в отличие от деятельности Бленвиля, увенчалась полным успехом.
Новая поездка Бекингема во Францию?
Тем временем Бекингем хотел, чтобы улучшение франко- английских отношений получило конкретное воплощение в новом договоре. Он был убежден, что лишь ему одному удастся этого добиться. Эту идею он изложил Бассомпьеру, провожая его до Дувра. Бассомпьер не знал, что сказать.
А тут еще буря, свирепствовавшая над Ла-Маншем, задержала отплытие французов на 14 дней (что, как записал посол, обошлось ему в 14 тысяч экю!). За это время от Карла I прибыло письмо, в котором Бекингема официально предлагали как кандидатуру для посольства в Париж. «Я отговорил его, дав понять, что его не примут», – пишет Бассомпьер. Едва прибыв во Францию 18 декабря, после кошмарной переправы, длившейся 15 часов и приведшей к потере двух карет с одеждой и подарками на сумму в 40 тысяч франков, а также двадцати девяти лошадей, посол получил письмо от Анны Австрийской, в котором она сообщала, что «приезд герцога Бекингема был бы ей неприятен, и он должен отклонить его кандидатуру».
Откуда такое настойчивое желание главного адмирала снова поехать в Париж? Все современники считали, что он хотел увидеть Анну, и это желание превратилось в навязчивую идею. В это довольно трудно поверить, потому что, даже если бы Людовик XIII позволил герцогу приехать с посольством, он позаботился бы об отсутствии королевы. Что до Ришелье, то он был о Бекингеме столь дурного мнения, что не имел ни малейшего желания опять позволить герцогу впутываться в его планы. «То был человек, не особенно благородный по рождению, но еще менее благородный по духу, не отличавшийся ни добродетелью, ни образованием, человек дурного происхождения и еще более дурного воспитания. Отец его сбился с пути истинного, а брат был таким безумцем, что его приходилось связывать. Что до него самого, то он находился между здравомыслием и безумием, был исполнен экстравагантности, бешенства и не умел сдерживать свои страсти. […] Король Англии доверил ему управление государством, и неудивительно, что он безрассудно вел его к гибели» {335}.
Как ни посмотри, это суждение кардинала несправедливо. Конечно, Бекингем был импульсивен, склонен к химерам, но ни в коей мере нельзя назвать его безумцем или бешеным. Тогда, в конце 1626 года, он чистосердечно желал союза с Францией. Он не отказался от своего великолепного замысла объединить Европу против Испании и Австрии, и эта идея не была такой уж бессмысленной. Однако он слабо представлял себе политическую реальность, стратегический и экономический контекст европейских событий. Ришелье же разбирался в этом самым доскональным образом. А главное, герцог недооценивал степень враждебности французов к англичанам и наоборот, а также гордое упрямство двух королей: Карла I и Людовика XIII, каждый из которых настаивал на своем праве и не желал отступить ни на йоту.
В подобных условиях Бекингема ни за что не приняли бы во Франции. Его друг граф Холланд, находившийся в это время в Париже, откровенно писал ему: «Я вижу, что Вам много чего пришлось бы здесь опасаться, а надежд на искреннее и надежное соглашение нет никаких. Король упорствует в своих подозрениях на Ваш счет, часто говорит об этом и позволяет злонамеренным лицам утверждать, что [в этом месте изображено сердечко, обозначающее королеву] Вы питаете нежные чувства, сами догадываетесь к кому. Все придворные твердят, что те, кто желал бы возвращения во Францию английского адмирала, – дурные французы» {336}.
Разрыв отношений с Францией
Пока маршал Бассомпьер усердно вел переговоры во имя сближения двух стран, а Бекингем устраивал в его честь празднества и пиры, в Ла-Манше и Атлантическом океане происходили все более ожесточенные столкновения между французскими и английскими кораблями.
Трудно сказать, кто был зачинщиком. Каждая сторона обвиняла другую в пиратстве и нарушении морских законов. И те и другие были правы. Захват в открытом море множества французских кораблей (среди них – уже известный «Святой Петр» из Гавра) под предлогом, что они-де перевозят испанские грузы или направляются в Испанию, был совершенно незаконным: в англо-испанском конфликте Франция сохраняла нейтралитет, и решение англичан запретить французам торговать с Испанией не имело никаких юридических оснований. Распродажа на английских рынках товаров, конфискованных подобным образом, была еще более незаконной.
С другой стороны, захват в конце ноября 1626 года в Бордо по приказу губернатора Гиени герцога д'Эпернона всей англо-шотландской флотилии, прибывшей, чтобы взять на борт французские вина и соль, нельзя охарактеризовать иначе как применение силы и нарушение прав человека. Ненавидевший Ришелье д'Эпернон явно хотел восстановить против Франции английское общественное мнение и помешать попыткам сближения двух стран. Это ему прекрасно удалось. В ответ Тайный совет Карла I распорядился безотлагательно распродать в пользу английской короны все французское имущество, находившееся на территории Англии. Полученные таким образом суммы пополнили королевскую казну, находившуюся в плачевном состоянии.
Бекингем даже задумал весьма дерзкое нападение – следует признать, что, будь оно осуществлено, его расценили бы как начало военных действий. Он дал капитану Пеннингтону, бывшему по духу истинным пиратом, флотилию из двадцати кораблей, с тем чтобы он захватил французские суда, которые, по его сведениям, с большим грузом товаров стояли в гаврском порту. Инструкции, посланные Пеннингтону, циничны до невозможности: «Когда Вы окажетесь на расстоянии видимости от этих кораблей, сделайте все, чтобы затеять ссору. Едва они попытаются вас атаковать, введите в дело все свои силы и захватите или потопите их. Мне говорили, что их не очень много. Если они не посмеют напасть на вас, воспользуйтесь первой же возможностью для стычки под предлогом того, что они перевозят товары, предназначенные противнику. Главное, чтобы по видимости нападение исходило от них, а не от вас. В любом случае, повторяю: захватите их или потопите» {337}. Прискорбно, что подобное письмо могло выйти из-под пера адмирала. Операция не состоялась, потому что на самом деле в Гавре не было никаких кораблей. Пеннингтон пришел в ярость: «Видите, в какую жалкую авантюру Вы меня втянули, причем в разгар зимы, когда ночи длинны, а мои посудины – в жалком состоянии, плохо экипированы и таковы, что при любых условиях я не мог бы добиться славы с их помощью». Английский флот явно больше не соответствовал своей прежней репутации.
Итак, в начале 1627 года все вело к еще большему расширению трещины в отношениях между Францией и Англией. Людовик XIII не согласился на предложения Бассомпьера и потребовал выполнения всех пунктов брачного контракта между своей сестрой и королем Карлом. Последний посчитал себя оскорбленным, а Бекингема – политически униженным. Постепенно, незаметно дело шло к войне. Но ради чего? И какими средствами?
Война, но ради чего?
Эта англо-французская война, приближение которой ощущали наблюдатели (особенно венецианские послы, всегда внимательные и склонные к предсказаниям), была в высшей степени парадоксом. Казалось бы, всего два года назад две страны намеревались заключить союз против Испании. Теперь же они оказались близки к разрыву отношений. Вернее – поскольку Франция не проявляла агрессивности, – Англия готовилась начать военные действия против Франции. Почему?
Современники, а вслед за ними и историки, часто задавали себе вопрос о причине такого поворота событий. Франция никоим образом не угрожала Англии. Единственным, что могло насторожить островное королевство, со времен Елизаветы I считавшее себя владыкой морей, было желание Ришелье усилить свой флот, но то была весьма отдаленная перспектива. Англичане часто заявляли о солидарности с французскими гугенотами, их «братьями во Христе», ибо считали, что их преследует Ришелье, но и эта причина не кажется существенной при ближайшем рассмотрении. Остается экономическое соперничество, которое, впрочем, между Англией и Францией было менее серьезным, чем между Англией и Голландией. Но важнее всего было раздражение, которое у Карла I и Бекингема вызывали Людовик XIII и Ришелье.
В наши дни трудно представить, что международная политика может зависеть от личных настроений государственных деятелей. Однако во времена, когда управление осуществлялось исключительно королями и их фаворитами, подобные мотивы не являлись чем-то невозможным. Карл I был оскорблен отказом шурина принять договоренности, выработанные Бассомпьером в отношении свиты Генриетты Марии. Что касается Бекингема, то его до глубины души обидел запрет на приезд во Францию. Согласно свидетельству некоторых очевидцев, он воскликнул: «Если я не поеду в Париж как посол, я войду в него во главе армии!» {338} Разумеется, это было бахвальство, но оно помогает многое понять.
В своей «Истории мятежа» Кларендон выражает мнение, весьма распространенное в его время: «Вступление в войну с Францией без каких-либо видимых причин, даже без формального объявления таковых причин и целей экспедиции королем, [проистекало] из того, что он [Бекингем] дал клятву вновь увидеться с той великой женщиной, которую любил, несмотря на все сопротивление и все могущество короля Франции. Он задумал настроить своего короля против Франции и оказать поддержку гугенотам, которых побуждал таким образом к возмущению против государя» {339}.
На деле гугеноты были всего лишь предлогом, да и не могли быть ничем иным. Они не только не просили помощи у Англии – во всяком случае, на данном этапе, – многие из них даже опасались ее принимать. Субиз, укрывшийся в Англии год назад, ни в коей мере не выражал мнения своих братьев по вере: это стало ясно всем после того, как он прибыл в Ла-Рошель на борту корабля Бекингема. Что до Ришелье, то, строго принуждая ларошельцев к гражданскому повиновению, он во всеуслышание и искренне заявлял, что не собирается ограничивать их свободу вероисповедания. И все же именно этот предлог Бекингем избрал для того, чтобы начать экспедицию. Он говорил о необходимости спасти верных Христу людей, которым угрожают кардинал и иезуиты. В действительности же за этим благовидным фасадом скорее всего скрывалась идея создать протестантскую республику на побережье Ониса [72] и сделать ее союзником (точнее, протекторатом) Англии, чем-то вроде нового Кале, богатого вином, солью, славящегося торговлей. Какова была бы месть Ришелье и Людовику XIII!
Война, но как?
Приняв решение о нападении на Францию под знаменем спасения гугенотов Ла-Рошели, которые об этом не просили, Бекингем и Карл I занялись материальной и дипломатической подготовкой операции.
К материальным задачам относились снаряжение нового флота и набор новой армии – поскольку теперь, в отличие от прошлогодней экспедиции против Кадиса, предстояло высадить войска на берег и воевать на суше. Бекингем развил бурную деятельность. Но откуда взять деньги? В дело были пущены все средства. Принудительный заем, объявленный после роспуска парламента, осуществлялся ни шатко ни валко. Судьи не желали наказывать непокорных (и вправду, юридические основания для подобных наказаний были весьма зыбкими). Несмотря ни на что, страх перед унизительными и зачастую суровыми санкциями сыграл свою роль, и «взносы» понемногу поступали, сопровождаясь возрастающей враждебностью населения, каковая дурно сказалась на популярности планируемой операции. Подумывали даже провести девальвацию денежных знаков, но в конце концов на подобную акцию не решились. Законно или незаконно взимали пошлину «на тонны и фунты». Карл I рассчитывал также продать свое серебро, заложить многие королевские земли (однако магистраты лондонского Сити решительно отказались дать согласие на заем в 100 тысяч фунтов стерлингов под залог драгоценностей короны). Деньги поступили также после захвата в Ла-Манше и в океане французских судов, поскольку добытые таким образом товары были, как мы уже упоминали, быстро распроданы.
Все эти меры вызывали в народе протест, критику, даже сопротивление, тем более что по обыкновению того времени обществу не разъяснялись цели проводимой политики. Поэтому англичане были убеждены, что сбор средств служит удовлетворению страсти к роскоши и личных амбиций ненавистного фаворита. Его освистывали на улицах, толпа кричала ему: «Убирайся! Уезжай и не возвращайся!» Нужно признать, что праздники, пиры со сменами блюд стоимостью 600 фунтов каждая, как бы они ни соответствовали придворным обычаям и дипломатическому этикету той эпохи, были особенно неуместны теперь, когда денег не хватало, а демобилизованные матросы и солдаты, не получив платы, в обносках и босиком с криками бродили по улицам Лондона и по деревням, вызывая жалость и гнев жителей.
Понятно, что в подобных условиях набор экипажей кораблей и армии для предполагаемой экспедиции проходил с огромным трудом. Людей записывали в солдаты насильно, они были плохо вооружены, совершенно неопытны, готовы дезертировать при первой возможности. Как и в прошлом году, морские и армейские службы работали беспорядочно и неэффективно: коррупция, небрежность, некомпетентность и даже откровенный саботаж… «Стыдно видеть, что Его Величеству так плохо подчиняются», – с возмущением пишет граф Холланд {340}.
При этом Бекингем со свойственным ему оптимизмом действовал так, будто до военной победы рукой подать. Он затеял большие дипломатические маневры, чтобы изолировать Францию. Он вел переговоры с Лотарингией, правящего герцога которой подталкивала к войне против Ришелье герцогиня де Шеврез, ставшая его любовницей. В Савойе при дворе герцога Карла-Эммануила плел интриги граф Суассон, кузен Людовика XIII, и Бекингем рассчитывал на него, чтобы организовать нападение на Францию с тыла. И более того – самое невероятное! – неутомимый главный адмирал додумался до того, чтобы совершить удивительную рокировку союзников. Теперь речь шла о войне с Францией, а та была соперницей Испании, – так почему бы не сблизиться с Мадридом? Бекингем послал в Брюссель своего друга Балтазара Жербье под предлогом покупки картин (очень вовремя!); на деле же речь шла о том, чтобы встретиться с Рубенсом, который часто играл роль официального дипломата Филиппа IV и Оливареса. Как ни удивительно, испанское правительство, похоже, заинтересовалось. Конечно, пришлось бы договариваться о том, чтобы помочь еретику Карлу I поддержать еретиков Ла-Рошели, что беспокоило совесть Его Католического Величества, но ведь с помощью неба (или Рима) можно получить отпущение грехов. В конце концов переговоры между Жербье и Рубенсом потерпели неудачу, потому что Испания потребовала, чтобы Англия отказалась от своих голландских и датских союзников, с чем Карл I не согласился. И Оливарес как хороший игрок в дипломатические шахматы, за неимением Бекингема, обратился к… Ришелье, которому сообщил об английских маневрах, а 16 марта 1627 года заключил с ним договор о добрососедском нейтралитете {341}.
Дипломатический тупик для Бекингема: ему придется атаковать французов в одиночку, если не считать обещанного участия нескольких голландских кораблей.
Тем временем положение дел в Германии обернулось катастрофой: остатки армии Мансфельда были разбиты Тилли 25 апреля 1626 года на мосту через Эльбу подле Дессау. Мансфельд умер вскоре после этого по дороге в Венецию. А Кристиан IV Датский, потерпев 27 августа поражение при Луттере от Валленштейна, отказался далее участвовать в войне, не преминув напомнить об ответственности Карла I, который втянул его в конфликт, пообещав финансовую помощь, так и не поступившую. Казалось, дело протестантизма проиграно.
Именно в этих, более чем неблагоприятных, условиях – если не сказать большего, – Бекингем пустился в авантюру, от которой зависело его будущее.
Беспокойство, предсказания и предостережения
Если главный адмирал и король Карл, по своему обыкновению, были полны оптимизма, то этого нельзя сказать о прочих жителях Англии.
Даже жена и мать Бекингема, всегда восхищавшиеся своим великим мужем и сыном, на этот раз, впервые, были охвачены беспокойством и полны дурных предчувствий. Некий маг, с которым посоветовалась мать герцога, увидел в зеркале огромного человека с каштановой бородой и искусственной рукой, который с кинжалом нападал на адмирала. В этом описании леди сразу же признала полковника Грея, который должен был сопровождать ее сына в экспедиции. Отчаянной мольбой она добилась того, что Грей был переведен на другой корабль.
В письме мужу перед его отплытием Кейт называет себя «самой несчастной из женщин из-за того, что не смогла его удержать». Ей остается лишь молиться и ожидать его скорого возвращения: «Я молю Бога, чтобы Он никогда не заставлял ни одну женщину страдать так, как сейчас страдаю я, а также прошу Его наказать тех, кто побуждает Вас уехать. Я говорю Вам: "До свидания". Ваша любящая и покорная жена, Кейт Бекингем». И в постскриптуме она патетически добавляет: «Не гневайтесь на меня, ибо сердце мое переполнено чувствами, и я не могу сдержать свое перо. Сожгите это письмо, пожалуйста» {342}.
Что до матушки главного адмирала, то она была необычайно сурова: «Вы сказали, что едете затем, чтобы установить мир, на деле же Вы взошли на корабль, чтобы воевать с христианами. Вы объявляете, что делаете это во имя религии, но это значит вмешивать Бога в жалкие дела, столь же далекие от Него, как день от ночи…» {343}
Король и Бекингем со всех сторон получали доклады о том, что готовность флота вызывает опасения. Солдаты недисциплинированны, недокормлены, плохо одеты; съестные припасы и амуниция поступают с опозданием; население проявляет недовольство. Этот лейтмотив уже привычен: он звучал при отправке экспедиции против Кадиса. Тем более он должен был бы поколебать уверенность Карла I и Стини в грядущей удаче.
Отплытие навстречу славе
На этот раз уже не могло идти и речи о том, чтобы главный адмирал доверил кому бы то ни было командование кампанией. Он отправился на войну собственной персоной на борту роскошного корабля «Триумф», и именно ему должны были достаться все лавры победы.
16 мая 1627 года Бекингем дал в Йорк-Хаузе великолепный пир в честь короля и королевы. После еды была показана «маска», по ходу которой псы Клеветы кидались на адмирала, побуждаемые Завистью, однако их заставляла замолчать Истина. Все ясно, если не сказать: прямолинейно. 11 июня Карл прибыл в Портсмут и провел смотр флота. Он передал своему другу официальные инструкции: «Ваша задача состоит не в том, чтобы поднять восстание во Франции, а в том, чтобы помочь ларошельцам защитить свои права. Когда Вы окажетесь на расстоянии видимости от Ла-Рошели, Вы спросите жителей, желают ли они Вашей помощи. Если их ответ будет отрицательным, Вы вернетесь в Англию. Если он будет положителен, Вы передадите командование сопровождающему Вас Субизу. После этого Вы освободите наши корабли, которые удерживаются в Бордо в нарушение всех прав. Затем Вы поплывете вдоль берегов Испании и Португалии, захватывая испанские корабли, вплоть до Азорских островов и даже до Новой Земли, если будет необходимо» {344}.Подобная программа настолько нереальна, что можно усомниться, что Карл и Бекингем принимали ее всерьез. Но кто знает?
Как всегда, встречные ветры и волны задержали отплытие. Наконец 27 июня на рассвете якоря были подняты и величественный флот вышел в спокойное открытое море. Впечатляющее зрелище: издалека можно было видеть 77 кораблей, разделенных на пять эскадр. На кораблях плыли 6 тысяч пехотинцев, 200 всадников, 20 пушек, – было отчего порадоваться сердцу короля Англии, который ни секунды не сомневался в том, что на его глазах открывается славная страница истории его страны.
Иллюзия была тем более простительна, что ни на горизонте, ни в океане не было видно ни одного французского паруса. Бекингем приблизился к побережью Ониса на расстояние видимости через 13 дней, 10 июля (20 июля по французскому календарю) при полном спокойствии моря. Некий поэт, почувствовав вдохновение, заранее воспел триумф экспедиции:
Я видел, как владыка Эдуард При Слeйсе [73] обагрил французской кровью воды. Я помню, как суда Елизаветы С позором гнали прочь Великую армаду. Но нынче вижу большую победу: Без разрушений, без боев, не встретив Ни одного врага, ты утвердил Триумф своей счастливой, непреложной власти {345}.Уж лучше бы поэт не поддавался вдохновению и подождал несколько дней, прежде чем хвататься за струны своей лиры.
Глава XIX «Неизгладимый позор для Англии»
Экспедиция на остров Ре
Событие, известное под названием «экспедиция на остров Ре», хотя и не является одним из ключевых в военной истории XVII века, несомненно, стало кульминационным пунктом карьеры Джорджа Вильерса, герцога Бекингема, и его основным козырем в борьбе за почет и даже славу, которую он надеялся стяжать.
Нельзя сказать с уверенностью, что именно Ре был целью экспедиции при отплытии. В любом случае, такая цель заранее не ставилась. Речь шла о том, чтобы занять (или «освободить», согласно официальной терминологии) Ла-Рошель. Впоследствии Субиз, хорошо знавший местность, обратил внимание адмирала на важность стратегического положения острова, с которого можно было контролировать побережье подле города. Именно поэтому захват острова оказался выгоден для проведения операции. Бекингем сразу же понял это и – вполне обоснованно – приказал начать военные действия именно в этом месте.
Однако оказалось, что Субиз – плохой советник в отношении политической ситуации в Ла-Рошели и желания жителей города воевать с королем Франции. Конечно, Людовик XIII уже в течение долгих лет старался положить конец относительной независимости протестантов, рассматривавших город как «безопасное место», дарованное гугенотам Нантским эдиктом. Король построил у входа в порт крепость Святого Людовика, в которой держал гарнизон. Ларошельцы постоянно требовали снесения этого форпоста. Вместе с тем после многих лет ожесточенной борьбы, 5 февраля 1626 года между мятежным городом и королевским правительством было заключено соглашение, и горожане, входившие в городской совет, не имели ни малейшего желания начинать драку, зная, что могут потерять все.
Несмотря на это, в Ла-Рошели существовала воинственная партия. Ее вдохновляла герцогиня де Роган, мать Субиза; однако в июне-июле 1627 года эта партия не составляла большинства населения. Прибытие английского флота не только не пробудило энтузиазма, но скорее насторожило жителей города. Дальнейшую судьбу предприятия Бекингема решило именно это изначальное непонимание позиций заинтересованных сторон.
Высадка в Саблансо
Развитие операций на острове Ре известно нам из свидетельств многочисленных очевидцев, как англичан, так и французов. Они сходятся в главном и дополняют друг друга, хотя и высказывают противоречивые суждения о главном адмирале, руководителе экспедиции. Но при этом все они признают его человеческие качества и личную храбрость, каковые никто не ставит под сомнение, несмотря на печальный исход самого дела.
С тех пор как два года назад Субиз захватил остров, явившись сюда на краденых кораблях [74], военное положение радикально изменилось. По приказу Ришелье было построено два форта: большой – Сен-Мартен-де-Ре и поменьше -Ла-Пре (к востоку от Сен-Мартена).
Оба форта стояли напротив входа в пролив Пертюи-Бретон, естественного подступа к городу для кораблей, идущих с севера. В обоих находились королевские гарнизоны под командованием будущего маршала де Туара, которого протестанты Ла-Рошели всей душой ненавидели. Вопреки тому, на что рассчитывал Субиз, высадка на берег оказалась сопряжена с серьезными трудностями.
В качестве места высадки Бекингем и Субиз избрали побережье Саблансо, то есть часть острова, которая была ближе всего к большой земле. Когда 23 июля Туара увидел маневры флота Бекингема перед этим берегом, он поднял по тревоге все свои пешие и конные отряды. Однако английской артиллерии быстро удалось нарушить порядок наспех построенных войск. Горящий жаждой деятельности Бекингем лично следил за тем, как его люди садятся в шлюпки. При этом не раз случались дисциплинарные нарушения, и он сразу набрасывался на тех, кто не хотел подчиняться. Он стоял по пояс в воде, подбадривал нерешительных и угрожал строптивым.
Едва они оказались на суше, завязался кровавый бой. К полудню берег был усеян трупами людей и лошадей, по большей части французских. Туара отдал приказ отходить к Сен-Мартену. Французы заперлись в этой крепости, а в Лa- Пре остался небольшой гарнизон. Теперь англичане владели всем островом, кроме этих двух укреплений. Несомненно, то была победа. В течение всего дня Бекингем героически сражался со шпагой в руке. Увидев распростертого на песке раненого, он, рискуя захлебнуться в нарастающей приливной волне, взял его на руки и дотащил до берега. В этот день он показал себя истинным командующим армией. После высадки очевидцы-французы не могли не воздать должное благородству адмирала: «Бекингем доказал свою щедрость и великодушие, отказавшись от выкупа, который Туара предлагал за тела погибших французов. Герцог велел перевезти их в Сен-Мартен для захоронения и наградил пажа [посланного к нему Туара с данной просьбой] двадцатью золотыми монетами, а трубача – десятью. Состязаясь с ним в щедрости, Туара отпустил пятерых английских пленных, вручив каждому по десять пистолей» {346}.
Английский король принял известие о победе с энтузиазмом: «Стини, я получил сообщение о том, что ты счастливо и удачно захватил Ре. Я молю Бога послать тебе столько же радости, сколько мне доставила эта новость. Я сейчас занят тем, что готовлю тебе помощь, и скоро ты узнаешь, что я могу порадовать тебя действиями, а не только словами…» {347}
Однако то был слишком оптимистичный взгляд на вещи. Французы прочно удерживали крепости Сен-Мартен и Ла- Пре, и, поскольку они не собирались их сдавать, рано было говорить о настоящем захвате острова.
Ла-Рошель приносит разочарование
Высадившись на Ре, Бекингем сразу послал в Ла-Рошель Субиза и своего друга, секретаря морского ведомства сэра Уильяма Бигера, чтобы сообщить мэру и эшвенам [75] о том, что им на помощь пришли друзья. Но – горькое разочарование! – перед посланцами закрыли ворота города. Потребовались долгие переговоры, прежде чем ларошельцы впустили Субиза – официально для того, чтобы встретиться с волновавшейся за него матерью, – и с ним английского офицера, однако они не желали вступать в контакт с Бекингемом.
После двухдневных дискуссий в городском совете Субиза и Бигера отослали обратно на Ре с уведомлением, что Бекингем не должен принимать решений до согласования с французскими «братьями»-гугенотами и, в особенности, с герцогом Роганом, братом Субиза, который в это время тщетно пытался побудить к войне протестантов Лангедока.
Внезапно выяснилось, что экспедиция Бекингема не соответствует изначальной цели («Его доводы казались несерьезными всему христианскому миру», – заметил Ришелье {348}). Если бы Стини пожелал выполнить официальные инструкции, данные ему королем, он должен был бы сразу прекратить военные действия и вернуться в Англию. Но, похоже, подобная мысль даже не пришла ему в голову. Он находился на Ре и намеревался там оставаться до тех пор, пока ларошельцы не передумают, а французские протестанты не поднимут всеобщего восстания против своего короля.
Надо отметить, что Бигер и Субиз возвратились на Ре в сопровождении сотни жителей Ла-Рошели, добровольно пожелавших присоединиться к английской армии.
Осада крепости Сен-Мартен-де-Ре
И тогда, в последних числах июля, началась осада крепости Сен-Мартен-де-Ре, в которой закрылся со своими отрядами Туара. Осаде было суждено продлиться три месяца.
Начиная с этого момента, у Бекингема было две задачи: удерживать позиции и мешать доставке подкреплений и съестных припасов для Туара. Поначалу осада проходила без особых сложностей. 28 июля главный адмирал написал государственному секретарю Конвею: «Я намереваюсь, с Божьей помощью, полностью изолировать крепость как со стороны суши, так и со стороны моря. Я приказал рыть траншеи столь быстро, сколь это возможно и сколь это позволяет продолжительность светлого времени суток. На море я расположил перед крепостью хорошо вооруженные суда и выстроил в линию шлюпки, преграждающие доступ к стенам. […] Когда все закончится, надеюсь, другая крепость, Ла-Пре, падет быстро. Лучшее средство заполучить Сен-Мартен – голод. Французов там много, у них хорошая артиллерия и запасы зерна, соленой рыбы и вина. Их предводитель [Туара] поставил на карту свою честь и благополучие…» {349}
Все происходило в согласии с законами цивилизованной войны. Как-то раз Бекингем послал Туара дыни, а тот в благодарность прислал воду, настоянную на цветках лимонного дерева, и «кипрскую пудру» {350}. Но время шло, и англичанам стало не хватать припасов и солдат. Было ясно, что захватить Ре и надолго закрепиться там можно, только получив значительное подкрепление. Август и сентябрь прошли в переписке Бекингема с Карлом и его министрами. Бекингем проявлял все большее беспокойство и торопил, а его английские корреспонденты рассыпались в извинениях. Совершенно очевидно, что судьба экспедиции решалась в Лондоне и в британских портах в не меньшей степени, нежели подле Сен-Мартена.
Увы, главный адмирал все время получал разочаровывающие сообщения. И дело было не в нежелании Карла I: он сам содрогался при виде того, как медленно исполняются его приказы. Казалось, все сговорились, чтобы не допустить оказания помощи Бекингему: некомпетентность, сопротивление солдат и офицеров, нехватка денег, неблагоприятные погодные условия.
Поначалу король верил в лучшее. Скоро («через восемь дней») он пошлет-де первые отряды в четыреста человек и 14 тысяч фунтов стерлингов наличными, затем – «два отряда по тысяче солдат каждый» и две тысячи шотландцев под командованием лорда Мортона и сэра Уильяма Бальфура. «Можешь с уверенностью рассчитывать на все это» {351}. Но проходили недели, а никто не появлялся. «Стини, мне очень грустно и стыдно за наше промедление в посылке помощи, которая тебе нужна. Причина в том, что трудно найти матросов, а комиссары флота весьма нерадивы. Надеюсь, что, с Божьей помощью, у тебя скоро не останется повода жаловаться на нас, потому что через два-три дня граф Холланд отправится к тебе с подкреплением…» {352}«Через два-три дня»: письмо датировано 14 октября. Но Карл по-прежнему находился во власти иллюзий. Флот графа Холланда оказался заперт в порту непогодой. Он все же отправился в путь, но значительно позже.
Король был буквально болен от нетерпения: «Если мы не поможем Бекингему после столь прекрасного и славного начала его действий, это станет неизгладимым позором для меня и для всей Англии. Те, кто противится этому или затягивает дело, заслуживают того, чтобы их повесили в Тайберне» {353}. Однако на деле это ничего не изменило…
Бекингем брошен на произвол судьбы?
Бекингем видел, что, по мере того как проходили дни и ни один английский парус не появлялся на горизонте, его шансы на победу уменьшаются. Он чувствовал себя покинутым, брошенным на произвол судьбы. Конечно, письма Карла I были полны любви и дружеского чувства: «Стини, уверяю тебя, что ни расстояние, ни время не могут изменить мою любовь [love] к тебе. Я знаю, что ты и так понимаешь это, но неплохо, подобно тому, как ростовщик обожает созерцать свои сокровища, чтобы ты был уверен в обладании самой редкостной, самой ценной вещью на свете, каковой является истинная дружба» {354}. Разумеется, Стини был счастлив получить эти свидетельства верности, но он предпочел бы оружие, припасы и снаряжение.
Тем временем еще можно было надеяться на два удачных поворота событий: в Ла-Рошели и Сен-Мартене.
Ла-Рошель. После прибытия Бекингема на остров Ре, положение дел в гугенотском городе и вокруг него изменилось. Узнав о присутствии англичан на побережье Ониса, Людовик XIII решил любыми средствами помешать захвату большого торгового порта. Он прибыл туда вместе с армией, сопровождаемый братом Гастоном и кардиналом. Ла- Рошель оказалась отрезанной со стороны суши. То было начало осады, продолжавшейся восемь месяцев и вошедшей в историю.
На этот раз ларошельцам было не до сомнений: помощь английского флота стала для них необходимой. Однако Бекингем уже не чувствовал себя таким уверенным победителем, как в июле. 22 сентября он заключил с властями Ла-Рошели соглашение: тысяча раненых англичан будет размещена в городе, а пятьсот гугенотов присоединятся к английским войскам, осаждающим Сен-Мартен. Поскольку в это время герцог Роган наконец поднял восстание протестантов на юге, у ларошельцев и Бекингема появилась надежда.
Однако главную надежду подавали Туара и Сен-Мартен: защитники крепости слабели. У них больше не было хлеба и питьевой воды. 5 октября Бекингем принял парламентеров, пришедших оговорить условия сдачи крепости. Неужели близится конец испытаний? Англичане верили в это. Но спустя два дня случилась катастрофа: буря разметала линию английских кораблей и шлюпок, блокировавших доступ к Сен-Мартену с моря, и французские корабли под командованием капитана Болье-Персака прорвали блокаду, доставив осажденным оружие и продукты, которые позволили им продолжать сопротивление. В ходе операции Бекингем проявил себя храбрецом. «Его Светлость продвинулся очень далеко в море, пустив против французов брандеры, однако многие наши солдаты вели себя очень плохо, – написал Би- гер Конвею. – Против нас дул очень сильный ветер, и в море начался отлив, так что солдаты крепости могли отталкивать брандеры длинными шестами, а французам удалось прорвать наш барьер из лодок, соединенных между собой канатами. Таким образом крепость получила провизию» {355}.
Теперь Бекингем уже не мог надеяться на то, что Сен- Мартен сдастся из-за голода. Порой казалось, он впал в отчаяние. Он послал к Людовику XIII парламентера с предложением мира, но Ришелье ответил, что не станет вести переговоров, пока хоть один английский солдат остается на французской земле {356}. Бекингему оставалось либо уступить, либо дожидаться прибытия вспомогательного флота своего друга графа Холланда, который ему давно обещали, но все никак не присылали.
Последние надежды, последние разочарования
3 октября под председательством главного адмирала был проведен военный совет. Было решено снять осаду, учитывая деморализованное состояние войска, которое страдало от непогоды, голода и дизентерии, спровоцированной тем, что солдаты в большом количестве ели растущий на острове недозрелый виноград. Два дня спустя опять шевельнулась надежда – после того, как явились парламентеры от Туара. 7 октября – новое разочарование после доставки продовольствия Болье-Персаком. Потом пришло письмо Карла I, датированное 14 октября. Он обещал, что «через два-три дня» отправится в путь флот графа Холланда. При подобной смене благоприятных и неблагоприятных известий утрачивались последние проблески решимости. В окружении Бекингема царили разочарование и гнев на английское правительство, которое бросило свои войска в беде. «Наши люди говорят, что родная страна о них забыла, – пишет адмирал Конвей. – Прибыла армия короля Франции, в нее входят самые выдающиеся и закаленные воины его королевства. Говорят, он намерен атаковать нас на море своими кораблями» {357}. А граф Холланд все еще оставался в Портсмуте из-за плохой погоды.
У англичан оставалась лишь одна возможность: попытаться взять крепость Сен-Мартен штурмом.
То было дерзкое, почти отчаянное предприятие. У осажденных теперь было продовольствие, их дух укрепился уверенностью в том, что соотечественники скоро окажут им помощь. Англичанам же, у которых и раньше отсутствовала четкая мотивация, напротив, не хватало многого, а больше всего – уверенности в победе. Крепость была тверда, ее стены – высоки и неприступны. «Пытаться победить более полутора тысяч человек, карабкаясь на стены крепости с четырьмя бастионами, имеющими прекрасную артиллерию, означало отнять веру у солдат и изначально не дать им стяжать славу», – с горечью написал об этом позже герцог Роган {358}. Совершенно верно. Но был ли у Бекингема выбор? Его армия таяла день ото дня. За время, прошедшее с начала экспедиции, он уже понял, сколь мало обоснованы все обещания помощи, которые он получает из Англии. И вдобавок 20 октября большой французский отряд занял Ла-Пре: Бекингем рисковал теперь оказаться меж двух огней.
Штурм Сен-Мартена был назначен на 5 ноября. Все пошло плохо с самого начала. Лестницы, подготовленные для того, чтобы карабкаться на стены, оказались слишком короткими. Осажденные поливали штурмующих мушкетным огнем. Многие сотни англичан остались лежать во рвах и погибли в море. Спустя два дня в южной части острова высадился маршал Шомберг с армией в две тысячи человек. Для Бекингема все было потеряно. У него теперь достало мужества только на то, чтобы посадить своих солдат на корабли и отплыть восвояси.
Отступление
Возвращение на корабли оказалось самым кровавым эпизодом всей операции, и именно из-за него на голову главного адмирала обрушилась самая беспощадная критика. Впоследствии Субиз утверждал, что отговаривал Бекингема от принятого плана. Так это или нет, деморализованные англичане желали теперь только одного: покинуть Ре и вернуться на родину. При этом французский флот, ценой огромных усилий снаряженный Ришелье, приближался. Надо было действовать как можно быстрее.
План состоял в том, чтобы переправить войска (вернее, то, что от них осталось) на маленький остров Луа к западу от Ре. Тогда Луа отделялся от большого острова фарватером, в настоящее время засыпанным. Оттуда можно было произвести погрузку на корабли, не опасаясь угрозы со стороны французских солдат Туара или Шомберга, и использовать для этого залив Лафосс-де-Луа, куда могли зайти английские корабли. Но сначала надо было добраться до Луа. Вот тут-то и разыгралась трагедия.
Бекингем приказал построить через фарватер деревянный мост и защитить его оборонительным укреплением со стороны Луа. По роковой и, по правде говоря, необъяснимой небрежности, со стороны Ре такого укрепления не построили. Как и следовало ожидать, преследуемые французами англичане устремились на мост и расстроили порядок отступления. Вскоре наступил полный хаос. «Враги [французы] убивали, захватывали в плен и топили наших людей, как им вздумается», – пишет полковник Питер Кросби {359}. Отчаявшийся в благополучном исходе дела Бекингем сражался, как простой солдат, с пикой в руке под мушкетным огнем французов. «В самый разгар битвы, когда его людей охватила паника, он пытался возродить в них мужество и остановить бегство. Он последним покинул остров и взошел на корабль, горько оплакивая своих смелых друзей и всех солдат, которые лишились жизни» {360}. Это свидетельство, оставленное нам французом, позволяет представить, какое уважение вызывала храбрость главного адмирала даже у его врагов.
Операция завершилась катастрофой. Погибли более четырех тысяч англичан – некоторые называют пять тысяч – и ни одна из поставленных целей не была достигнута. Как заметил маршал Пьер Мерво, «положение приверженцев веры [протестантов] стало много хуже, чем до прибытия англичан» {361}.
Якоря были подняты утром 8 ноября. Ларошельцы наблюдали, как последняя надежда на спасение исчезает на горизонте, а Ришелье тем временем завершал окружение города.
Поражение Бекингема
Французы ликовали. «Поведение Бекингема – сплошное лицемерие. Он завел ларошельцев на край пропасти и оставил, дабы они в нее упали. […] Религиозный предлог требовался ему лишь для того, чтобы приукрасить свои намерения. Под личиной благочестия он скрывал хитросплетение своих амбиций. Следует предполагать, что он хотел ввести англичан в Ла-Рошель, притворяясь, будто спасает город» {362}. В этом суровом суждении ларошельского историка есть доля истины. Что бы ни думали о военной стороне этого предприятия, его изначальное обоснование более чем подозрительно и, говоря откровенно, несерьезно. Таких операций не начинают вопреки воле собственной страны и ее армии. Англичан, за исключением короля и его окружения, никогда всерьез не волновало то, что происходило на острове Ре. С самого начала была допущена ошибка, а из нее естественным образом проистекал провал всего дела.
Вместе с тем, если бы обещанное Карлом I подкрепление и, в особенности, флот под командованием графа Холланда прибыли на Ре до появления армии Шомберга, вполне могло случиться, что Ришелье, который тоже не располагал неисчерпаемыми военными силами и ресурсами, отказался бы от немедленного захвата острова. Как отмечают почти все английские историки, «юго-западный ветер, помешавший графу Холланду вовремя отплыть, изменил ход истории» {363}. Возможно. Но дело не только в ветре, ибо существует огромное число свидетельств о проволочках и недостатках, проявившихся при снаряжении флота графа Холланда. Провизия, заготовленная для армии Бекингема, портилась. Недисциплинированные матросы съедали продукты почти сразу после того, как их грузили на борт. Крестьяне отказывались делать поставки. Непогода (особенно сильная буря 30 октября) потребовала починки судов, находившихся в столь плохом состоянии, что многие из них пришлось отослать на четхэмские верфи в устье Темзы. Сам граф Холланд не был виноват; он с ужасом обнаруживал вокруг себя полную дезорганизацию и плохую работу всех служб.
В результате переплетения этих причин флот отплыл только 8 ноября. К этому времени (граф Холланд об этом не знал) остатки армии Бекингема уже неделю как покинули остров Ре и в полном беспорядке возвращались к английским берегам. Встретив их в открытом море, граф Холланд развернулся и поплыл назад в Портсмут.
Как легко представить, ярость английского общества была ужасна. Если бы в момент отплытия Бекингем пользовался популярностью, ему были бы найдены оправдания. (Впрочем, будь он популярен, не прошла ли бы экспедиция более успешно?) Но поскольку его и так ненавидели, в глазах всех он стал ответственным за провал и унижение национального достоинства. Около сорока британских знамен попали в руки французов. Говорят, Людовик XIII с довольно тяжеловесным юмором объявил послу Савойи: «Если бы я знал, что моему доброму брату королю Англии так хочется иметь остров Ре, я сам продал бы ему этот остров за половину той цены, которую он заплатил» {364}.
Повсюду распространялись сатирические стихи:
И ты посмел вернуться? Ты, кого Считают королем бездельников никчемных! Три вещи погубили честь, твою: Измена, небрежение и трусость {365}.Такое суждение несправедливо, и это знали все, кто был в курсе событий. Побывавший на Ре полковник Кросби пишет: «Вне всяких сомнений, герцог проявил мужество, великодушие и несравненную способность к действию, и в других условиях он стал бы прославленным военачальником. Однако офицеры плохо выполняли его приказы по причине своей неопытности, проявляли слабость, сталкиваясь с нарушениями дисциплины, а большая часть армии была готова к мятежу, отказывалась выполнять приказы или шла в атаку, едва волоча ноги. […] Напротив, когда зашла речь об отступлении, всe стали делать очень быстро. Особенно это касалось погрузки на корабли пушек, на которую герцог согласился слишком рано, о чем потом жалел» {366}.
Лучшим опровержением обвинения в трусости, которое против Бекингема выдвигали враги, служат свидетельства французов, таких как Иснар, которого мы уже цитировали выше: «Он последним покинул остров и взошел на корабль…»
Что до качеств Бекингема как военачальника, то даже самые бесстрастные военные комментаторы по большей части признают, что мысль захватить Ре, чтобы поддержать Ла-Рошель, сама по себе стратегически великолепна. Поначалу этот замысел вполне удался благодаря энергичным действиям главного адмирала при высадке на Саблансо. Однако захват острова мог послужить делу, только если бы прибыло подкрепление, потому что без него армия Бекингема не располагала достаточными силами, чтобы начать на суше масштабную операцию против крепнущей день ото дня французской армии.
Осада крепости Сен-Мартен также была хорошо продумана: траншеи на суше, а на море – линия кораблей и шлюпок, соединенных канатами. Буря, позволившая Болье-Персаку прорвать блокаду, стала для англичан одним из тех бедствий, каким из-за капризов погоды подвержены любые морские операции. Бекингема ни в коем случае нельзя винить за эту неудачу.
Остаются штурм крепости 5 ноября и, в особенности, разгром при переходе через мост на Луа. Что до штурма, то лестницы явно были коротки. Однако можно усомниться в том, что, даже при наличии достаточно длинных лестниц, сытый и хорошо вооруженный гарнизон крепости сдался бы деморализованной и недисциплинированной английской армии. В другой своей ошибке Бекингем публично раскаивался: пушки были погружены на корабли слишком рано, а они были очень нужны в день штурма. Что до моста на Луа, то очевидцы признавали, что в неправильной подготовке переправы виноваты «неопытные» офицеры. Возможно, Бекингему следовало самому внимательнее следить за работами. Но в тот момент численный перевес французов стал столь очевиден, что охваченные паникой англичане уже не подчинялись приказам.
Итак, в целом «экспедиция на остров Ре» – с точки зрения историков, а не современников – довольно почетное поражение (a fairly honourable defeat), если вспомнить название прекрасного романа Айрис Мердок.
Впрочем, таково же было мнение короля Карла, который, едва узнав о прибытии флота, послал верного Эндимиона Портера, чтобы тот встретил Бекингема в Портсмуте и передал ему дружеское послание: «Стини, мое несчастье заключается в том, что я не смог вовремя послать тебе подкрепление. Все честные люди признают, что ты сделал даже больше, чем можно было надеяться, я смею сказать: даже больше, чем было возможно. Первые известия о твоем отступлении были, слава Богу, хуже, чем дело обстоит в реальности. Я счастлив знать, что ты вел себя во всех отношениях благородно. […] Больше всего я сожалею о том, что не был рядом с тобой в это время страданий, ибо мы могли бы заботами утешать друг друга. Но будь уверен, что в моих глазах ты завоевал такую же репутацию и достоинство, как если бы тебе удалось исполнить то, чего ты желал» {367}.
Прекрасное свидетельство верности и доверия короля, сохранившихся после столь сильного разочарования. Однако в Англии мало кто отреагировал подобным образом. Вид матросов и солдат, сходящих с кораблей в Портсмуте и Плимуте, оборванных, голодных (некоторые были почти раздеты), вызвал негодование, а также страх. Многие были больны и заразны. Никто не хотел брать их на постой. Тайный совет решил насильственно разместить их в селениях Девона и Корнуолла. Это вызвало протест: «Почему одни мы должны страдать от последствий общенационального несчастья?» Небезосновательный аргумент.
Едва сойдя на берег, Бекингем поспешил в Лондон, чтобы встретиться с королем и своей верной Кейт, которая была на последних месяцах беременности. Когда главный адмирал уезжал из Портсмута (король послал за ним собственную карету, чтобы доставить как можно быстрее), некая старуха предупредила его, что слышала, как какие-то люди планировали убить его по дороге в столицу. Племянник Бекингема Уильям Филдинг, сын его сестры Сьюзан, сопровождавший его на Ре, предложил поменяться с ним одеждой, чтобы убийцы приняли его за герцога. «На что герцог, нежно обняв его, ответил, что благодарит за подобное предложение и доказательство любви, но если он сейчас смалодушничает, то впредь у него не будет ни минуты покоя» {368}. Трусость явно не входила в число недостатков Джорджа Вильерса.
Уладив свои личные дела, Бекингем выслал в Портсмут сумму в 3 тысячи 500 фунтов стерлингов из собственных доходов на помощь нуждающимся матросам и солдатам. Тем временем эпидемия разыгралась вовсю: 12 декабря насчитывали уже 500 умерших со дня возвращения экспедиции.
Но думать, что главный адмирал впал в отчаяние и чувствовал себя неудачником, означало бы слишком плохо знать его. Исполненный своей обычной невероятной энергии – по правде говоря, граничащей с безрассудством, – он уже горел новыми проектами. Он планировал нападение на Кале и возвращение к Ла-Рошели с новым, хорошо оснащенным флотом. Карл I, не менее самоуверенный мечтатель, желал того же. Но как взяться за дело, если опять нет ресурсов?
Глава XX «Ах, негодяй!»
Новые проекты, последние иллюзии
По мнению одного беспристрастного наблюдателя, весной 1628 года положение Карла I как в Англии, так и за ее пределами постоянно ухудшалось. Становилось все более очевидным, что тяготы войны – или, точнее, трех войн: против Франции, против Испании и против германских католиков – выше сил Англии. Тем более что с самого начала правления, которому в марте пошел четвертый год, выразитель воли народа – парламент – открыто противился утверждению налогов, а набор солдат и матросов с каждым разом осуществлялся все с большим трудом.
Если бы это был не Карл I, а его советником был не Бекингем, из подобных обстоятельств сделали бы соответствующие выводы. Но характер главного адмирала, равно как и его господина, не позволял отступать. К их политике после неудачи на острове Ре вполне подошло бы выражение «бегство вперед». Впрочем, по мнению Карла I, неуспех был не столь велик, как его расписывали невежды и злопыхатели. «Я не скажу, что отступление – это большая удача, но я не скажу также, что оно столь уж разрушительно», – доверительно сообщил он в декабре 1627 года венецианскому послу. И добавил: «Король Франции решил погубить Ла-Рошель, а я решил помешать ему в этом. Самое лучшее – это возобновить военные действия и послать в Ла-Рошель двести тысяч человек» {369}. Как только Стини вернулся в Лондон и снова стал участвовать в заседаниях Тайного совета, замаячили новые проекты.
Что касается новой экспедиции к Ла-Рошели, то Субиз, вернувшийся в Англию вместе с Бекингемом и несколькими представителями города, небезосновательно настаивал на том, что операцию надо проводить срочно, иначе рассчитывать на успех не придется. Ведь после отплытия англичан с Ре Ришелье с невероятной энергией повел осаду Ла-Рошели, оказавшейся в полном окружении. От моря она была отрезана полутора километровой дамбой, построенной в апреле, а также линией мощно вооруженных вражеских судов. Бекингем осознавал опасность дамбы, но ларошельцы заверили его, что дамбу можно взять штурмом и хорошо управляемый флот может войти в порт. В ожидании помощи осажденные жители Ла-Рошели страдали от голода. У них уже не оставалось другой надежды, кроме вмешательства братьев во Христе с другого берега Ла-Манша.
Но для этого – как всегда, как всегда… – требовались деньги. Финансовая бездна, в которой оказалось государство, продолжала углубляться. Заложив земли короны, вновь прибегнув к принудительному займу, выжимая пошлину «на тонны и фунты», Карл худо-бедно сумел собрать к концу 1627 года около 263 тысяч фунтов стерлингов, а долг составлял 319 тысяч фунтов. Более 7 тысяч 500 солдат и 4 тысячи матросов не получали жалованья. Босые и полураздетые, они бродили повсюду, сея ужас грабежами и нападениями, «достойными диких зверей». Волну протеста вызвало также навязанное правительством насильственное определение на постой.
Снаряжение нового флота также стоило очень дорого: 300 тысяч фунтов стерлингов, согласно подсчетам на конец 1627 года. Речь шла о вооружении восьмидесяти кораблей, наборе двух тысяч солдат и матросов, на пропитание которых требовалось по меньшей мере 4 тысячи фунтов стерлингов. От подобных цифр голова идет кругом, но для того, чтобы заставить главного адмирала и его «дорогого хозяина» отказаться от своей идеи, этого было мало. Принесли в жертву казначея морского ведомства сэра Джеймса Бэгга, который (по нечестности? по неопытности? – кто знает…) оказался не в состоянии отчитаться в использовании нескольких поступивших к нему сумм. В январе 1628 года его заменили капитаном Мейсоном, который, вступив в должность, сразу заявил: «Положение дел – как в чистилище, если не как в аду» {370}.
В Тайном совете обсуждались разные варианты выхода из сложившейся ситуации, один нереальнее другого: девальвация денежных знаков, морской налог {ship money) на прибрежные графства, акцизы на потребление вина и пива. Юристы предупреждали о незаконности подобных мер, которые нельзя принять, пока не созван парламент. Бекингем, похоже, несколько утративший чувство реальности, отстаивал идею набора постоянной армии в 20 тысяч человек в Германии. Проект явно из области фантастики, но о нем стало известно, и Бекингема обвинили в желании установить военную диктатуру. Оплошность, за которую ему пришлось вскоре дорого заплатить.
Впрочем, в самой Германии дела шли из рук вон плохо. Последние английские войска под началом сэра Чарльза Моргана оказались окружены армией Тилли в городе Штаде в устье Эльбы и 27 апреля 1628 года сдались на почетных условиях. Что до грандиозных планов союза против Франции, которые Бекингем вынашивал до экспедиции на остров Ре, то они рассеялись как дым. Рассеял их Ришелье, в какой-то мере благодаря аресту английского агента Уолтера Монтегю и захвату его бумаг в Лотарингии (правда, ценой нарушения международного права; но кого останавливают подобные мелочи во время войны?). Ни Лотарингия, ни Савойя пальцем не пошевелили, чтобы вступиться за гугенотов Ла-Рошели. А герцог де Роган в Лангедоке топтался на месте, не сумев объединить французских протестантов.
Непопулярность Бекингема
Если король Карл неизменно оставался верен своему другу, то английское общество считало главного адмирала виновным во всех бедах. Впрочем, сам он, видимо, ни на минуту не сомневался в правоте своих действий. Враждебность, которая окружала его со всех сторон, казалась ему плодом коварства его врагов пуритан, то есть следствием пропаганды. Он был уверен, что прав. Карл I одобрял его замыслы, и он верил, что сумеет в свое время убедить народ.
Пока же не получающие жалованья моряки проклинали его имя. Несколько мятежников добрались до Лондона и угрожали взять штурмом его дом. Чтобы отогнать их, пришлось позвать стражу. То же настроение выказала толпа, когда Бекингем ехал 16 марта 1628 года на пир, даваемый лордом-мэром Лондона: его карету освистали, и страже пришлось охранять ее, дубася недовольных. Постоянно поступали жалобы жителей прибрежных графств на принудительное размещение солдат и матросов, напоминавшее скорее оккупацию земель противником. Все это были предзнаменования печального будущего. Но в то время, весной 1628 года, Бекингем и король мечтали только об одном: спасти Ла- Рошель.
А 1 февраля в жизни Стини произошло радостное событие, которое только укрепило его уверенность в благополучном будущем: его жена родила сына, которого, как и отца, назвали Джорджем. Впоследствии он стал вторым герцогом Бекингемом и продолжателем этого рода. Разумеется, крестным отцом был король [76].
Чрезвычайно опасный парламент
К несчастью для планировавшейся экспедиции, в королевской казне не оставалось ни пенни. На этот раз члены Тайного совета не смогли найти никакого выхода: оставалось созвать новый парламент.
Наученный опытом двух предыдущих созывов, Карл I сомневался. Он понимал, сколь опасно будет открыть в Вестминстере общественную трибуну для критических выступлений. Он боялся этой неуправляемой ассамблеи, совсем недавно доказавшей, как трудно ее контролировать.
Вместе с тем, как ни странно, именно главный адмирал на одном из заседаний Совета стал на коленях молить государя созвать лордов и депутатов. С лордами проконсультировались, и они обещали, что против Бекингема не будет нового импичмента. И все-таки, несмотря на это, мольба герцога о созыве нового парламента обескуражила наблюдателей. Проницательный и всегда хорошо осведомленный посол Венеции Контарини написал дожу, что «члены Совета, слушая речь герцога, не знали, как все это понимать. Они предполагали, что сцена подготовлена заранее, чтобы повысить его популярность, и никто не осмелился даже рта открыть, чтобы возразить ему. Только король, вопреки обыкновению, остался безразличен к его аргументам» {371}.
Наконец Карл все-таки дал себя убедить, и 1 февраля по графствам были разосланы уведомления о созыве парламента, открытие которого намечалось на 17 марта.
Парламент обещал быть – и это осознавали все – очень опасным. Король и главный адмирал надеялись, что отплытие экспедиции на помощь Ла-Рошели, назначенное почти на то же время, что открытие заседаний в палатах, убедит депутатов без препирательств проголосовать за кредиты, необходимые для победы. Учитывая состояние умов электората, они слишком сильно рисковали.
По сути, с самого начала стало ясно, что оппозиция (воспользуемся современным словом, которое не существовало в словаре того времени, хотя само явление существовало) будет иметь перевес во время дебатов. «Достаточно было, чтобы кого-то заподозрили в том, что герцог [Бекингем] хорошо к нему относится, – и кандидатура этого человека отклонялась», – отметил венецианский посол {372}. На скамьях палаты общин собрались все знаменитые противники Бекингема и политической линии Карла I: Эдвард Кок, Дадли Диггс, Джон Элиот, Дензил Холлз, Роберт Фелипс, Фрэнсис Сеймур, а также богатый и влиятельный дворянин из Йоркшира Томас Уэнтуорт, вскоре ставший парламентским лидером, а позже вошедший в историю под именем Страффорд. Среди депутатов следует выделить еще троих человек, которые впоследствии, через двенадцать – пятнадцать лет, сыграли важную роль в пуританской революции: Джон Гемпден, Джон Пим… и Оливер Кромвель. Эти трое впервые участвовали в заседаниях. Имея подобных ораторов, следовало ожидать бурной сессии.
Карл I, в своей лучшей форме, задал тон последующим заседаниям, произнеся 17 марта вступительную речь: «Милорды, господа, настало время действовать. Я надеюсь, что вы быстро примете добрые решения, которые диктуются потребностями времени, и не погрязнете в бесполезных, я даже сказал бы опасных, дискуссиях. […] Вы знаете, каковы причины созыва парламента, осознаете грозящую нам опасность и необходимость новых кредитов. Именно потому, что я знаю, что созыв парламента – лучший путь для получения субсидий в неспокойные времена, я собрал вас здесь. Пусть каждый из вас действует в согласии с тем, что велит ему совесть. […] Однако, если вы не исполните долга и откажете государству в том, что ему необходимо, это будет вопреки воле Божьей, и я буду вынужден прибегнуть к другим средствам, каковые Бог вложил в мои руки. Не принимайте этих слов за угрозу, ибо я угрожаю только тем, кто мне равен. Считайте же мои слова предостережением со стороны человека, который, по природе своей, более всего заботится о вашем здравии и благосостоянии. И верьте: ничто не может быть для меня более приятным, нежели пребывать с вами в полной гармонии, на что я и уповаю» {373}. Трудно было выразиться одновременно более туманно, более авторитарно и с большей уверенностью в своем праве. Лордам и депутатам потребовалась бы чрезмерная добрая воля – а ее у них не было вообще – чтобы удовлетвориться подобной речью.
На следующий день, на первом заседании в палате общин, как и следовало ожидать, разгорелась дискуссия о многочисленных преступлениях против власти, среди которых, как всегда, особое место занимали религиозные проблемы. Объектом нападения стал епископ Лод, а также некий доктор Майнуоринг, автор «арминианской» книги, задевшей за живое чувства пуритан. Король пошел на уступки и объявил о введении новых мер против католиков, но этого оказалось мало. Депутаты вперемешку критиковали навязанные народу займы, необоснованные налоги, незаконные аресты, нарушения принципа Habeas corpus, насильственный набор войск и размещение солдат вопреки воле местных жителей. Король пообещал рассмотреть все эти вопросы, но сначала попросил голосовать по субсидиям. Диалог глухих…
Наконец 3 апреля общины одобрили пять субсидий, то есть чуть меньше 350 тысяч фунтов стерлингов. Карл был в восторге. В Тайном совете он заявил: «Я поначалу любил парламенты, потом не знаю, как случилось, что я перестал доверять им, а сейчас моя любовь к ним возрождается, и я буду рад созывать их почаще». А Бекингем со своим обычным энтузиазмом добавил: «Государь, я вижу, что вы – великий король, ибо любовь подданных значит даже больше, чем величие. Можно было подумать, что народ не любит вас, но теперь ясно, что вас столь же любят в вашей стране, сколь боятся за рубежом. Мы видели, что общины, как один человек, проголосовали от чистого сердца. […] Что до меня, государь, то я давно переживал из-за того, что меня обвиняли, будто я встаю между королем и народом. Однако теперь всем ясно, что те, кто говорил подобные вещи, ошибались. Нынешний день, когда я увидел возрождение любви между вами и парламентом, стал самым счастливым в моей жизни» {374}.
Неужели наконец наступило затишье? Эта иллюзия быстро рассеялась. Когда государственный секретарь Джон Кок [77] выразил в палате общин от имени короля благодарность за субсидии, ему пришла в голову злополучная идея пересказать также речь Бекингема в Тайном совете. Джон Элиот сразу же потребовал вычеркнуть из протокола это добавление, возмутившись, что в присутствии депутатов к словам монарха смеют присовокуплять слова простого подданного. И сразу было сделано уточнение: субсидии будут реально предоставлены только после того, как король даст ответ на документ, разрабатываемый нынче парламентом. Этот документ впоследствии вошел в историю под названием «Петиция о праве» (Petition of Right).
То был чрезвычайно важный документ для истории развития конституции Англии, поскольку он впервые откровенно и ясно выразил мысль о том, что королевская власть ограничивается правами парламента. Когда петиция была передана общинами в палату лордов, Бекингем предусмотрительно попытался сгладить ее направленность, предложив добавить пункт о сохранении «суверенной власти» короля. Это предложение вызвало возмущение в палате общин. «Королевская прерогатива известна всем и всеми соблюдается, – заявил Эдвард Кок, – но это выражение: "суверенная власть" – нигде не фигурирует. Оно ставит короля выше законов». Томас Уэнтуорт настаивал: «Если мы примем подобную поправку, мы дадим повод к опасным интерпретациям». Наконец петиция была утверждена без спорной поправки. Она была подана королю 8 мая.
Спасать Ла-Рошель поздно
Пока в парламенте разворачивались дебаты, оснащение флота, посылаемого на помощь осажденной Ла-Рошели, завершилось. Подготовка все время сопровождалась неудачами. Солдаты и матросы дезертировали вскоре после насильственного набора, офицеры служили неохотно. Супротивные ветры и бури объединились, чтобы помешать отплытию флота, который в конце концов сократился до пятидесяти пяти судов вместо изначально планировавшихся ста.
Поскольку Бекингем не мог покинуть Лондон в разгар парламентской сессии, король назначил командующим экспедицией другого человека. Увы! По совету Стини, он выбрал для этой роли шурина и друга герцога графа Денби, мужа Сьюзан Вильерс, сестры обожаемого Джорджа. Денби был хорошим человеком, но совершенно не имел опыта в морском деле. То был типичный случай фаворитизма, в котором Бекингема вполне справедливо обвиняли.
Результат получился плачевный. Флот покинул Плимут – спустя два месяца после планировавшегося срока – 24 апреля и прибыл на расстояние видимости от Ла-Рошели 1 мая (11 мая по французскому календарю). Он был встречен сильным огнем из пушек, расставленных Ришелье вдоль берега. Было ясно, что войти в порт невозможно из-за дамбы и оборонявших ее французских кораблей. После недели сомнений, переговоров с Ришелье и отчаявшимися жителями Ла-Рошели Денби предпринял неуверенную атаку, а затем отступил. 8 (18) мая он поднял паруса и вернулся в Англию.
На этот раз Карл I пришел в ярость. «Если бы корабли были потоплены, – заявил он, – я мог бы по крайней мере собрать дерево и построить новые» {375}. Он приказал Денби немедленно отправиться обратно. Но корабли были истрепаны, моряки решительно отказывались снова выходить в море. От плана пришлось отказаться. Изголодавшаяся Ла- Рошель стала ждать следующей (гипотетической) экспедиции, которой уже должен был заняться сам Бекингем.
Тем временем в Англии, как и в Ла-Рошели, начали ходить слухи о главном адмирале: мол, говорят, что он получил от Ришелье 200 тысяч крон за отказ от спасения осажденного города. И еще говорят, что Анна Австрийская прислала ему письмо с просьбой не вмешиваться в дела Франции (век спустя в это еще верил Вольтер). Разумеется, все было неправдой. Но: «клевещите, клевещите, что-нибудь да останется» [78]. Неудача Денби еще больше увеличила непопулярность его шурина, если только ее можно было увеличить… {376}Парламент рыдает
Сообщение о бесславном возвращении Денби отменило в парламенте последние запреты, которые до этой поры не позволяли депутатам открыто называть Бекингема виновником несчастий страны. В палате общин воцарилась странная атмосфера паники и возбуждения, чреватая любыми крайностями. Нервы накалились до предела. Когда 5 июня Карл I ознакомился с «Петицией о праве» и в своей уклончивой манере ответил, что «возместит упомянутый в жалобах ущерб в рамках законности», в палате началась настоящая истерика. «Еще никогда в парламенте не видели подобных страстей, – пишет очевидец. – Одни рыдают, другие предсказывают гибель королевства, третьи изображают пророков и говорят о гневе Господнем, – и все решительно настроены бороться против врагов короля и государства» {377}.
Враги короля и государства? Первым из них, конечно, считали Бекингема. Эдвард Кок взывал: «Хватит нам притворяться! Если мы промолчим, Бог нас покарает. Герцог Бекингем – причина всех наших несчастий. Если королю не доложат об этом, мы не сможем ни спокойно заседать, ни с честью покинуть этот зал. Этот человек – причина из причин всех недовольств (the grievance of grievances). Поищем источник наших бед, и мы увидим, что все они восходят к нему» {378}. Председатель палаты сэр Джон Финч, весь в слезах, обратился к королю, а Дадли Диггс, тоже рыдая, объявил своим сотоварищам: «Давайте посидим молча, ибо в нашем несчастье мы не знаем, что делать». Однако Карл I, который, в отличие от других, не рыдал, велел закрыть заседание. Депутаты поднялись со своих мест, обозленные на Бекингема, «как свора собак, почуявшая след дичи».
На следующий день, 6 июня, король решил – возможно, по совету своего друга – утвердить петицию, сказав по традиционной средневековой формуле: «Пусть право будет обеспечено в соответствии с желаемым». Так он выполнил условие, поставленное парламентом в отношении реального предоставления пяти субсидий. Вечером весь Лондон радовался, звонили колокола, горели костры, прошел слух, что Бекингема посадят в тюрьму. «Подобного ликования не видели со времен возвращения принца из Испании», – записал очевидец. Как и в тот раз, причиной всеобщей радости стал главный адмирал, но какое изменение всего за два с половиной года!
Ремонстрация против королевской власти
В более спокойное время согласие короля на «Петицию о праве» удовлетворило бы депутатов и лордов. Однако теперь ободренная успехом оппозиция решила пойти дальше. Она пожелала составить ремонстрацию, торжественный документ с перечислением всех претензий к властям. Дискуссия была направлена не просто против Бекингема, которого теперь называли по имени, но – для умеющих читать между строк -против самой королевской власти. Эдвард Кок произнес слова, чреватые тяжкими последствиями в будущем: «Народ нашей страны не обязан подчиняться никакой власти, кроме той, на которую он добровольно согласился по изначальному договору между ним и королем» {379}. Договор между королем и его народом? Карл I, подобно всем монархам того времени, укрепленный своим божественным правом, не мог согласиться с подобным заявлением. Не слушая доводов Бекингема, он решил положить конец парламентской сессии. (Заметим, что он имел в виду не роспуск, а отсрочку заседаний до 20 октября.)
26 июня 1628 года король пришел в Вестминстер и произнес перед объединенным собранием обеих палат речь, в которой коротко излагались его представления о власти: «Я слышал, что готовится ремонстрация, нацеленная на то, чтобы лишить меня права взимать налог "на тонны и фунты", каковой является одной из основных статей дохода короны. С подобным решением я не могу согласиться. Ни одна из двух палат парламента, ни вместе, ни по отдельности, никогда не имела права издавать законы без согласия короля. Ваше решение является столь серьезным посягательством на мои права, что я считаю себя обязанным прервать ваши заседания раньше, чем я планировал. […] Со своей стороны, я не отказываюсь от исполнения ни одного из данных вам обещаний и словом короля заверяю, что у вас никогда не будет повода на меня жаловаться» {380}.
То были сильные слова, но они ничего не решали. Первая сессия парламента 1628 года завершилась – используя анахроничное выражение – со счетом «ноль-ноль».
Грозовые раскаты и предвестия бури
Когда депутаты и лорды разъехались по домам, Бекингем вновь смог полностью посвятить себя подготовке экспедиции на помощь Ла-Рошели. На этот раз, поскольку его присутствие в Лондоне перестало быть необходимым, он решил лично принять командование флотом. Он, не считая, тратил деньги, но наткнулся на те же трудности, что и раньше: административный хаос, сопротивление рекрутов, некомпетентность и коррумпированность чиновников морского ведомства. Несмотря на все это, субсидии, утвержденные парламентом и счастливым образом санкционированные перед закрытием сессии, влили немного свежей крови в дряхлый организм. В конце июля 1628 года в Портсмуте было собрано около 60 готовых к отплытию военных кораблей, 40 транспортных судов, оснащенных брандерами и лодками для высадки людей на берег. На кораблях находились четыре тысячи солдат. Король сгорал от нетерпения. Он послал главному адмиралу официальное письмо, предназначенное всеобщему вниманию. Он обращался уже не к «Стини», а к герцогу: «Бекингем, я велю Вам объединить силы моей армии в Портсмуте и безотлагательно повести их к Ла-Рошели. Инструкции о способе расположения войск Вы получите перед отплытием. Пока же данное письмо послужит Вам гарантией и приказом Вашего любящего, верного и преданного друга Карла R[ex]» {381}.
Одновременно, благодаря тем же деньгам, выделенным парламентом, вовсю заработала дипломатия. Венецианский посол посоветовал Бекингему дать ларошельцам возможность договориться с Людовиком XIII и начать переговоры о франко-английском мире. Он даже полагал, что, раз уж морская экспедиция должна вот-вот отправиться, Бекингем может воспользоваться ею для встречи с Ришелье у стен Ла- Рошели. Но главный адмирал не желал ничего об этом слышать, настолько он был уверен – опять! – в успехе своего предприятия {382}.
Карл I, со своей стороны, стал подумывать о посылке новых войск в Германию, чтобы помочь Кристиану IV Датскому воссоединить фронт с Соединенными провинциями. Собирался ли он подобным образом погасить долг? Об этом нельзя сказать ничего определенного. На данный момент самым главным делом была экспедиция к Ла-Рошели.
Насколько серьезно относился Ришелье к проекту посылки армады на помощь загнанным в угол ларошельцам? Вряд ли слишком серьезно. У него были шпионы, сообщавшие о трудностях, с которыми было сопряжено снаряжение флота, о состоянии умов в Английском королевстве. Он был уверен в неприступности крепостей, окружавших осажденный город, в прочности дамбы, закрывавшей вход в порт. Но, несмотря ни на что, он был готов к любым случайное- там. «Приложив все усилия и воспользовавшись всей своей ловкостью для того, чтобы примириться с парламентом, Бекингем лично отправился в Портсмут, чтобы самим своим присутствием поторопить подготавливаемую им экспедицию помощи [Ла-Рошели], и был полон решимости отправиться вместе с ней. […] Но дамба была достроена таким образом, что у англичан не оставалось никакой возможности добиться успеха» {383}.
Тем временем в Англии над готовящейся экспедицией продолжали сгущаться тучи. Ненависть к Бекингему достигла наивысшей точки. 13 июня некий доктор Лэмб, полуврач-полуалхимик, заподозренный в дружеских отношениях с герцогом, был убит, растерзан и разорван на части озверевшей толпой, а в песенках стали провозглашать следующее:
Пусть Карл и Джордж болтают, что хотят,
Но Бекингем умрет, как умер Лэмб {384}.
Красавчика Джорджа Вильерса обвиняли уже не только в том, что он растрачивает государственные деньги, определяет своих родственников и друзей на доходные должности и поворачивает в свою пользу политику страны. В глазах народа он был теперь человеком, продавшимся дьяволу и исчадием Сатаны, что в XVII веке было исполнено конкретного смысла и имело силу. Народ ворчал:
Кто правит королевством? – Король.
Кто правит королем? – Герцог.
Кто правит герцогом? – Дьявол {385}.
Бекингема обвиняли во всех преступлениях. Он-де продался французам. Он-де якшается с иезуитами и шотландцами (странное сочетание!). Он-де убил короля Якова, маркиза Гамильтона и бог знает скольких еще лордов. Народ был готов верить чему угодно.
Обеспокоенные друзья герцога советовали ему ради безопасности надевать под рубашку кольчугу. Но он, высокомерный и, как всегда, верящий в свою судьбу, отвечал: «Против множества доспехи не помогут. Что до нападения одиночки, то в Англии больше не осталось римлян» {386}.
Однако предзнаменования несчастья и мрачные предчувствия возникали все чаще. Кларендой повсюду рассказывал историю, потрясавшую умы: призрак сэра Джорджа Вильерса, отца герцога, трижды являлся в Виндзоре некоему королевскому офицеру и велел передать послание сыну из потустороннего мира. «Услышав об этом, герцог побледнел и решил, что тот, кто открыл ему все эти вещи, мог прийти только от дьявола. […] Потом он пошел к матери и оставался у нее два или три часа. Когда же он вышел, все заметили, что лицо его изменилось, а графиня была вся в слезах и полна величайшей тревоги» {387}.
Покидая Лондон, чтобы возглавить флот в Портсмуте, Бекингем, по словам его близких, сам был полон мрачных мыслей. Он написал записку своей сестре Сьюзан, леди Денби, а та, получив ее, «омочила бумагу слезами и упала в обморок, сказав, что ее брат обречен» {388}. Герцог поговорил с епископом Лодом и попросил после его смерти позаботиться о его жене и детях. Поскольку епископ удивился подобной просьбе, Бекингем пояснил: «У меня нет никаких конкретных предчувствий, но я знаю, что смертен и могу внезапно погибнуть, как любой другой человек» {389}.
Не будем придавать особого значения этим предвестиям и сообщениям из загробного мира, которые всегда в изобилии появляются накануне (вернее, сразу после) больших исторических катастроф. Но сделаем вывод, что атмосфера в окружении Бекингема перед отплытием флота была полна пессимизма. Даже король, в начале июля инспектировавший вместе с герцогом судостроительную верфь в Дептфорде, сказал ему: «Джордж, есть люди, которые желали бы твоей смерти. Но не беспокойся из-за них: если ты умрешь, умру и я» {390}.
Портсмут, 22 августа 1628 года
16 августа Бекингем вместе с женой прибыл в Портсмут в сопровождении всего своего штаба. Он поселился в доме казначея морского ведомства капитана Мейсона. Король опередил его на несколько дней и расположился вместе с двором в замке Саутвик в десяти километрах от города. От короля к герцогу и обратно постоянно скакали конные курьеры.
августа произошел серьезный инцидент. Когда главный адмирал садился в карету, чтобы ехать к государю, его окружили триста матросов и стали требовать выплаты жалованья. Один из них даже попытался вцепиться в герцога и выволочь его из кареты. Стража схватила бунтовщика и отвела в дом Мейсона. Герцог успокоил мятежников и уехал в Саутвик. Во время его отсутствия матросы осадили дом Мейсона и потребовали освобождения их товарища, а «если Мейсон их не послушает, они разнесут весь дом» {391}.
Ни король, ни Бекингем не могли потерпеть подобного открытого нарушения порядка и военной дисциплины. Собравшийся 22 августа военный совет приговорил виновного к смерти. Сразу же начался бунт, и главный адмирал, вскочив на коня, в окружении своего штаба со шпагой в руке оттеснил мятежников, причем многие были ранены или убиты. Осужденного сразу же отвели на виселицу и казнили, несмотря на то, что за него просила герцогиня Кейт. «Если бы не было мятежа, – делает вывод очевидец событий Оглендер, – бедняга остался бы жив, но теперь его уже нельзя было помиловать, если власти намеревались укрепить дисциплину в армии».
Лондон, 17 августа 1628 года
Пока главный адмирал устраивался в Портсмуте, а король – в Саутвике, в Лондоне смаковал свои претензии и ненависть некий лейтенант в отставке по имени Джон Фельтон.
Этому человеку исполнилось 33 года. Он был мелким дворянином из Суффолка и, служа в армии, участвовал в экспедиции на остров Ре. Существуют намеки на то, что там ему отказали в повышении, когда при осаде Сен-Мартена погиб его капитан. Чин перешел к кому-то из друзей адмирала, Фельтон же считал, что он должен быть передан ему. Он был ранен в левую руку. После возвращения в Англию он дважды пытался встретиться с Бекингемом, оба раза безрезультатно. Как и многим другим офицерам, жалованье ему выплачивалось нерегулярно, и он испытывал серьезные финансовые затруднения.
Фельтон прислушивался к разговорам на улицах того лондонского квартала, в котором жил. Так он узнал, что Бекингем проклят Богом, что он – причина всех бед страны и дурной советник короля. Он прочитал брошюры, в которых публиковались ремонстрации парламента, памфлет доктора Иглишема об обстоятельствах смерти короля Якова и маленькую книжку под названием «Золотые послания» (Golden Epistles), автор которой вдохновлялся идеалами самого крайнего пуританства. Он слышал, как «пророки» на улицах призывают к покаянию и самопожертвованию ради спасения королевства.
Постепенно он прозрел… 17 августа он купил на Тауэрском холме (Tower Hill) за десять пенсов нож, спрятал его во внутреннем кармане куртки, с тем чтобы легко достать его правой рукой, не беспокоя раненую левую. Проходя мимо церкви на Флит-стрит, он зашел внутрь и попросил помолиться «за человека с мятущейся душой». После этого он пустился в путь на запад.
Он шел пешком пять дней. Иногда какой-нибудь извозчик из жалости подвозил его на пару миль в своей колымаге.
22 августа он прибыл в Портсмут. Именно в этот вечер казнили мятежного матроса.
Портсмут, 23 августа 1628 года
На следующий день, 23 августа, герцог Бекингем проснулся свежим и бодрым после ночи, проведенной вместе с Кейт. Она же спала плохо, чувствовала себя подавленной и умоляла мужа не выходить из дома. Он мягко одернул ее и спустился вниз, чтобы позавтракать в компании многочисленных офицеров своего штаба. Ему предстояла встреча в Саутвике с венецианским послом, предложившим обсудить возможность договоренности с Францией. В завтраке участвовали Субиз и депутаты Ла-Рошели. Разговор получился оживленным и сопровождался бурной жестикуляцией «согласно французскому обыкновению». Из-за этого присутствующие, не знавшие языка, сделали вывод, что собеседники спорят. Мы не знаем, правда ли это, и никогда не узнаем.
После завтрака Бекингем направился к ожидавшей его на улице карете. Прихожая была полна разных людей, офицеров, слуг. Чуть не дойдя до двери, герцог почувствовал удар, поднес руку к груди и вытащил окровавленный нож. «Ах, негодяй!» («Fie, the villian!») – воскликнул он и упал. Его положили на стол, стали искать врача, но кровь фонтаном била из раны, текла изо рта и из носа. Спустя несколько мгновений он умер.
В образовавшейся толчее Фельтону удалось ускользнуть и спрятаться в соседней комнате. Присутствующие, помня о только что состоявшемся споре с ларошельцами, кричали: «Французы! Это кто-то из французов!» («А Frenchman, а Frenchman!») То ли Фельтону показалось, что выкликают его имя, то ли он побоялся, что схватят невиновного. Он выбрался из укрытия и выступил вперед. «Это сделал я, я здесь», – сказал он. Его чуть не растерзали на месте, но некий офицер защитил его, крикнув: «Не троньте! Его должны судить. Надо узнать, кто его сообщники». Под охраной его отвели в тюрьму. В его шляпе обнаружили записку: «Если меня убьют, пусть никто не осуждает мой поступок, а каждый осуждает себя самого, ибо наши грехи ожесточили наши сердца. Тот, кто боится пожертвовать своей жизнью, недостоин называться дворянином и солдатом. Джон Фельтон» {392}.
С высоты галереи второго этажа всю эту сцену видела леди Англси, невестка Бекингема, вышедшая взглянуть на отъезд главного адмирала. Она помчалась в комнату, где еще лежала в постели герцогиня. Кейт выбежала, увидела лежащее на столе тело и издала душераздирающий крик, такой, что один очевидец написал: «Я никогда не слышал подобного вопля и надеюсь никогда в жизни больше не услышать» {393}. После этого она потеряла сознание.
Один из офицеров сразу же поехал в Саутвик, где король ожидал прибытия друга. Тот находился в часовне и читал утренние молитвы. Когда ему сообщили о трагедии, он поначалу казался невозмутим и закончил чтение молитв, после чего ушел в свою комнату, запер дверь и не выходил два дня, не желая никого видеть. Позже, уже вернувшись к делам, он называл Джорджа не иначе как «мой мученик». Что- то умерло в его душе вместе со Стини.
Глава XXI «Загадка для всего мира»
Судьба Фельтона
Известие о жестокой смерти главного адмирала, всемогущего фаворита английского короля, в момент, когда он собирался возглавить экспедицию, которую некоторые считали последней надеждой французских протестантов, пронеслось по Европе подобно грозовому раскату.
Как всегда в подобных случаях, стали искать виновных, воображать заговоры, подозревать в сообщничестве высокопоставленных лиц. Карл I на всю жизнь сохранил уверенность в том, что руку Фельтона направили враждебные королевской власти пуритане. Многие англичане, а возможно, и иностранцы задавали себе вопрос: не замешан ли здесь Ришелье? Уж больно удачно произошло это убийство, как раз накануне отправки английского флота в Ла-Рошель. Доказательств так и не нашли, а Фельтон постоянно, даже под угрозой пытки, твердил, что действовал в одиночку. Несомненно, так и было. Но разжигание ненависти к Бекингему пуританами парламента, в первую очередь Джоном Элиотом, сыграло свою роль, пусть даже только тем, что подпитывало иллюзии и распаляло злобу впавшего в отчаяние лейтенанта.
Тем временем, пока король горевал, лондонская толпа ликовала. Когда Фельтона везли в Тауэр, прохожие кричали: «Спаси тебя Бог, маленький Давид!» – приравнивая таким образом убийцу к библейскому победителю Голиафа. Люди верили, что, избавившись от вредоносного влияния герцога, Карл I повернется лицом к народу и вновь обретет его любовь. Ходили слухи, что даже приближенный ко двору Бен Джонсон, сочинивший для короля и фаворита огромное число дивертисментов и «масок», написал стихотворение, восхвалявшее Фельтона! {394}Тем не менее судебное разбирательство перед Судом королевской скамьи проводилось по принятой форме и без нежелательных вмешательств. Поначалу обсуждался вопрос о возможности того, что король прикажет применить «допрос с пристрастием» (the rack), меру исключительную, но законную, если речь шла о безопасности страны и особы государя. В конце концов к этому прибегать не стали. Итак, Фельтон заверил своего защитника в том, что действовал без принуждения и полностью берет на себя ответственность за убийство Бекингема, в котором по-прежнему видит злого гения Англии. По утверждению некоторых современников, он тем не менее выразил сочувствие вдове и детям герцога, признаваясь в своем «великом грехе» {395}.
29 ноября 1628 года, три месяца спустя после трагедии в Портсмуте, Фельтон был повешен в Тайберне. Перед смертью он заявил: «Я примирился с Богом». Его труп был, согласно традиции по отношению к государственным преступникам, расчленен на четыре части, и жуткие останки на долгое время были выставлены на всеобщее обозрение в Портсмуте (тела менее значительных убийц обычно выставлялись на Лондонском мосту).
«Августейшая торжественность…»
На следующий день после убийства тело герцога забальзамировали и отправили в Лондон. Его сердце было захоронено в главной церкви Портсмута и остается там по сей день.
Карл I хотел устроить своему другу пышные похороны, но члены Тайного совета отговорили его, опасаясь враждебных выпадов толпы. Они так сильно боялись инцидентов, что тело под строжайшим секретом перевезли ночью в Вестминстерское аббатство, а официальный кортеж сопровождал 18 сентября пустой гроб. Было десять часов вечера, стража стояла вдоль всей дороги от Уоллингфорд-Хауза до церкви, били барабаны, но ни артиллерийских залпов, ни других церемониальных действий не производилось. «Вот каким безвестным концом увенчалась жизнь этого великого человека», – с удивлением констатировал некий житель Лондона, больше заинтересованный тем, из каких средств будут заплачены долги герцога, нежели желавший почтить его память {396}.
Карл приготовил для погребения своего дорогого Стини нишу в часовне Генриха VII позади готических хоров Вестминстерского аббатства. С XVI века в этой часовне хоронили членов королевской семьи. Так что Джордж Вильерс, герцог Бекингем, покоится неподалеку от могил Марии Стюарт и Елизаветы I. Его венценосный друг хотел воздвигнуть ему великолепный памятник, но королю объяснили, что это будет неправильно понято: ведь у короля Якова не было пышного надгробия. Прошло время, и только шесть лет спустя, в 1634 году, вдова главного адмирала на собственные средства поставила надгробие в барочном стиле с изображением трубящей Славы, с обелисками, черепами и помпезной латинской надписью:
Вечная память
великому и могущественному вельможе
Джорджу Вильерсу,
герцогу, маркизу и графу Бекингему…
фавориту двух королей,
достойному любви всех людей,
отмеченному военными и гражданскими талантами,
благосклонному покровителю достойных,
отличавшемуся прекрасными человеческими качествами,
павшему под подлыми ударами
ножа кровожадного отцеубийцы…
Прославленная леди Катерина, его супруга, велела с августейшей торжественностью воздвигнуть сей монумент там, где покоятся его останки {397}
На боковой части памятника расположена табличка, в которой покойный назван «загадкой для всего мира» {398}. Тем временем из уст в уста передавалась другая эпитафия, которая, без сомнения, точнее отражала общее настроение современников:
Коль спросят тебя, чье пристанище
здесь, пускай отвечает надгробие это:
«Покоятся здесь остров Ре и Кале,
посмешище гордых испанцев и франков,
позорище Англии, герцог Бекингем» {399}
Агония Ла-Рошели
Смерть главного адмирала все же не отменила отправки экспедиции на помощь Ла-Рошели, той самой экспедиции, которой герцог посвящал все силы в последние месяцы жизни и на которую возлагал столько надежд.
Когда стало известно о случившейся трагедии, король назначил другого командующего, человека мужественного и опытного – лорда Уиллоуби, который незадолго до этого стал графом Линдсеем. Флот наконец был готов к отплытию. В него входила сотня кораблей, из них сорок были нагружены съестными припасами и снаряжением для осажденных гугенотов. На кораблях плыли две тысячи солдат и три тысячи матросов. Флот поднял паруса 7 сентября и прибыл на расстояние видимости от Ре 20 сентября (30 сентября по французскому календарю).
Однако было уже поздно. Ла-Рошель содрогалась в агонии, и все попытки прорвать блокаду Ришелье были обречены на провал. Тем не менее Линдсей, в отличие от Денби, попытался сделать невозможное. Он послал против французских кораблей, защищавших подходы к берегу и к дамбе, брандеры и шлюпки, груженные взрывчаткой. С риском для собственной жизни закаленные экипажи «ласточек» [79] Ришелье повернули их вспять. Линдсей начал было атаку против французских крепостей, но тоже безрезультатно. Увидев, что англичане не могут к ним пробиться, ларошельцы решили сдать город. Ришелье в полной мере проявил свой политический гений, предложив побежденным гугенотам исключительно выгодные условия сдачи. Даже Субизу было обещано королевское прощение, но упорный мятежник от него отказался, – он так и не вернулся во Францию и умер в Лондоне в 1641 году. Людовик XIII вошел в Ла-Рошель 1 ноября 1628 года.
Линдсей вернулся в Англию, не стяжав славы, но и не покрыв себя позором. От великого замысла Бекингема ничего не осталось. Даже если бы он выжил, это явно ничего не изменило бы {400}.
Стоит заметить, что после сдачи Ла-Рошели Ришелье приказал снести крепость Сен-Мартен-де-Ре, «каковая была прекраснейшим фортификационным сооружением во Франции и считалась неприступной» {401}. Этим поступком Ришелье подтвердил, что прошлогоднее поражение Бекингема было почетным и героическим.
После падения Ла-Рошели и замирения гугенотов военные действия между Англией и Францией лишились смысла. 14 февраля 1629 года в Сузе был подписан мирный договор, и отношения между двумя странами опять стали спокойными, если не сказать дружественными. Что до Германии, то Карл I скоро понял, что у Англии нет никакой возможности играть там значительную военную или дипломатическую роль. Он повел переговоры с Испанией и заключил мир. Наконец, после последней бурной сессии, 11 марта 1629 года был распущен парламент, и его следующий созыв произошел только спустя 11 лет. В истории Англии наступала новая эра. Трудно сказать, что произошло бы в стране, останься Бекингем жив.
Преданность короля Карла
Мы уже говорили, что преданность была одной из основных черт характера Карла I. Эта черта как нельзя более ярко проявилась в его отношении к памяти Бекингема.
На следующий же день после портсмутской трагедии король пригласил к себе вдову дорогого Стини и его детей, Молли и маленького Джорджа. Герцогиня была беременна. Пять месяцев спустя она родила сына, Фрэнсиса Вильерса. После того как у Карла I в 1630 году родился первый сын Чарльз (будущий Карл II), он велел воспитывать сына Бекингема вместе с его собственным.
Тем не менее вскоре после этого отношения между королем и герцогиней заметно охладели. Далеко не будучи безутешной вдовой, чего можно было бы ожидать, она в 1635 году снова вышла замуж, на этот раз за ирландского католика графа Антрима, и обратилась (точнее, вернулась) в католичество, веру, в которой и была рождена. В любом случае, оба сына Бекингема проявили свойственную их отцу верность короне. Старший, Джордж, второй герцог Бекингем, «прекрасный и гениальный, как Алкивиад», воевал в королевских войсках во время гражданской войны, а затем стал министром при Карле II. Он, как и его отец, заслуживает подробного биографического описания, каковое напоминало бы роман. Младший сын, Фрэнсис, погиб в 1643 году, воюя за короля.
Что касается Мэри, «маленькой Молли», столь любезной сердцу отца и старого короля Якова, то она трижды выходила замуж: за лорда Герберта, затем за кузена короля Чарльза Стюарта, герцога Леннокса и Ричмонда, и, наконец, за брата графа Карлайла. Как и ее брат Джордж, она унаследовала красоту отца и в возрасте сорока лет еще блистала при дворе Карла II.
Было бы несправедливо по отношению к памяти Стини, друга и почти брата Карла I, не упомянуть, что после его смерти Карл и его жена Генриетта Мария, преодолев первые сложности супружеской жизни, превратились в любящую (и весьма плодовитую) чету. Современники и, как мы видели, особенно французы нередко полагали, что Бекингем специально старался поссорить короля с его французской супругой, чтобы остаться единственным властителем его дум. Спору нет, поначалу герцог действительно не раз ссорился с французской свитой Генриетты. Но после того как эта свита была удалена, отношения фаворита с королевой стали безоблачными и она считала его своим другом. В этом можно убедиться, читая одно из писем Карла. Когда Бекингем находился на острове Ре, король приписал в постскриптуме одного из своих распоряжений по поводу военных действий следующую фразу, ясно дающую понять, что происходило в это время в его семье: «Я не могу не сообщить тебе, что благодаря твоим стараниям (upon this action of yours) мы с женой сейчас в наилучших отношениях. Она относится ко мне с любовью и ведет себя так, что все ею восхищаются и ценят ее» {402} (15 августа 1627 года).
После смерти Джорджа Генриетта Мария постепенно стала играть роль конфидента и советника своего мужа, заменив таким образом его погибшего друга. Честно говоря, трудно рассудить, выиграла ли Англия от подобной замены.
Набросок портрета Джорджа Вильерса
В этой книге мы привели достаточно свидетельств и мнений о Бекингеме, чтобы теперь, в конце, попытаться набросать обобщенный портрет этого человека как частного лица и как общественного деятеля.
Нарисовать психологический портрет красавчика Стини – задача не из сложных. В нем нельзя найти тех противоречий, сомнений и изменчивых нюансов, которые ставят в тупик историков при описании, например, Людовика XIII, этого «короля в стиле Корнеля» {403}, или Елизаветы I. В какой- то мере характер Бекингема можно счесть показательным в своей простоте: гедонизм, преданность, щедрость, импульсивность. Он не был человеком тонкого расчета, холодных размышлений и долгосрочных стратегий. На фоне таких изощренных политиков, как Оливарес и Ришелье, он кажется дилетантом. Первые двое его таковым и считали, в особенности Ришелье, который, как мы видели, глубоко презирал его как недостойного противника.
Однако как частное лицо Джордж Вильерс был, несомненно, наделен привлекательными чертами, и они вызывали симпатию к нему у большинства биографов. Правда, и эти качества не лишены оборотных сторон.
Например, что можно сказать о его знаменитой красоте, столь поражавшей современников и на века сохранившейся в легенде? Она несомненно поспособствовала началу его карьеры, когда его, юношу из мелкой и бедной дворянской семьи, собственная мать и высокие покровители представили ко двору, где склонный к увлечениям король Яков был покорен его обаянием. Разумеется, никто не строил иллюзий в отношении этой благосклонности короля. Так что же, осмелимся спросить: Бекингем был простым «альфонсом»? Ничего подобного. Очень скоро между королем и фаворитом установился другой тип отношений: настоящая глубокая привязанность, взаимопонимание ученика и учителя, полное доверие друг к другу.
Дабы объяснить исключительную, можно сказать уникальную, длительность «царствования» Бекингема при двух королях, следует учитывать его явные и неизменные достоинства. Он был умен, его ум был открытым и подвижным. Конечно, ему не хватало лоска воспитанности, но этот пробел был скоро восполнен. Ему удалось вызвать симпатии столь разных людей, как наследный принц Карл, королева Анна, архиепископ Эббот, канцлер Бэкон, хранитель печати Уильямс. Короче, ничего общего с обычным «плейбоем». К тому же он всегда оставался идеально верен как своим первым покровителям, так и тем, кому впоследствии сам оказывал покровительство.
Среди качеств, привлекавших к нему людей, нельзя не упомянуть его щедрость и великодушие. В наше время существует тенденция скорее упрекать его в этом, потому что, по большей части, речь идет о фаворитизме, о щедротах, изливавшихся на головы членов его семьи, на его близких и друзей. Это далеко от современных (хотя бы теоретических…) понятий демократии. Но в XVII веке политическая власть не могла существовать, не опираясь на преданных людей и клиентелу. И потому не стоит упрекать Бекингема в том, что он вел себя подобно всем своим современникам. Наоборот, можно лишь пожалеть, что те, кто пользовался его благосклонностью, зачастую оказывались ненадежными, а то и нечестными людьми. В этом плане его действительно трудно извинить. Ришелье, например, никогда не допускал подобных ошибок.
В рамках той же щедрости (и гедонизма) следует рассматривать и блестящую роль мецената и любителя искусств, которую играл Бекингем. Опять же: не будем впадать в анахронизм. Страсть к искусству входила в XVII веке в понятие аристократического образа жизни. Она была одним из атрибутов придворного круга. Вспомним знаменитых итальянских коллекционеров из Флоренции, Венеции, Рима или Екатерину Великую в России. В наши дни мы изумляемся, читая об огромных суммах, которые тратились на то, чтобы удовлетворить экстравертированное «я» подобных людей, в том числе на одежды, расшитые золотом, жемчугом и бриллиантами, на кареты, обитые атласом и кружевами. Однако в те времена подобная роскошь шокировала разве что пуритан, и Бекингем всего лишь следовал примеру своих современников, таких как граф Эрандел, с той лишь разницей, что последний не был выскочкой из мелкого дворянства.
И потому не будем слишком настаивать на том, что Бекингемом овладела страсть к коллекционированию. Сокровища искусства, собранные им с помощью агентов и посредников, действовавших почти во всех европейских странах (эти агенты также зачастую играли роль дипломатов, как, например, знаменитый Балтазар Жербье, голландский художник, ставший близким человеком герцога и тесно общавшийся с Рубенсом), – эти сокровища известны нам по описям, составленным после смерти Бекингема. Они поражают воображение: 19 полотен Тициана, 17 – Тинторетто, 21 – Бассано, 13 – Веронезе, 13 – Рубенса, 8 – Пальмы, 3 – Леонардо да Винчи, 4 – Рафаэля, 3 – Джулио Романо, 3 – Гвидо Рени, 3 – Корреджо… Всего 215 картин, мраморных, бронзовых и алебастровых статуй, не считая «двенадцати шкатулок с агатами и другими древними драгоценными камнями» {404}. Так и хочется сравнить с сокровищами Мазарини и вспомнить его отчаянные слова перед смертью: «И все это придется оставить…»
Покупая произведения искусства почти везде, где они только продавались (вспомним приобретение им в Гааге библиотеки голландского ученого Эрпениуса), Бекингем также заказывал их изготовление художникам своего времени. Наиболее известен его портрет кисти Рубенса, написанный во время пребывания герцога в Париже в 1625 году. Сейчас он находится в галерее Питти во Флоренции. Существует множество копий и оригиналов изображений красавца герцога {405} – еще одно проявление нарциссизма, не раз проявлявшегося в характере «милорда Букинкана».
Известно, что Карл I являлся одним из самых значительных меценатов своего времени. Менее известно, что эта склонность, согласно его собственному признанию, была развита в нем Бекингемом. Сеть посредников и скупщиков произведений искусства, которую создал главный адмирал, стала, в особенности после его смерти, поставщиком для фантастической коллекции короля. Здесь особенно следует отметить покупку картинной галереи герцога Мантуанского, которая была сделана – как это ни невероятно – в самый разгар экспедиции на остров Ре.
Собрание произведений искусства, составленное Бекингемом, было распродано с аукциона во время гражданской войны, в 1649 году. Значительная часть была приобретена австрийским эрцгерцогом Леопольдом и находится в Художественно-историческом музее в Вене. Часть картин оказалась в Лувре, в Лондонской национальной картинной галерее, в других музеях Европы и Америки. Йорк-Хауз, который Бассомпьер назвал «исключительно прекрасным», был в 1674 году продан вторым герцогом Бекингемом и затем снесен. О нем осталось лишь воспоминание, благодаря тому, что между Стрэндом и Темзой до сих пор существуют улицы с названиями Вильерс-стрит, Дьюк-стрит («Герцогская»), Бекингем-стрит, Джордж-корт и монументальные ворота в барочном стиле, сооруженные Иниго Джонсом.
Понятно, что вся эта роскошь, к которой следует добавить праздники, пиры, «маски», шикарно одетых слуг, щедро раздаваемые пенсионы, стоила очень дорого. Королевских подарков на все не хватало. После смерти герцога его долги составляли 66 тысяч фунтов стерлингов. Большую часть их заплатил Карл I. Возможно, подобные долги были обычным делом среди крупных вельмож. Однако общество не могло простить поднявшемуся из низов фавориту того, что прощало наследникам крупных аристократических семей.
Дабы завершить обсуждение личных качеств Джорджа Вильерса, следует также упомянуть признаваемые за ним всеми добродетели хорошего супруга, отца, сына. Добродетели супруга. Можно, конечно, улыбнуться, вспомнив, скольких женщин он покорил, по подсчетам даже самых доброжелательных современников. Однако в XVII веке подобные вещи, можно сказать, не шли в счет. Важны были лишь любовь и уважение к законной супруге, а в этом плане Бекингема не за что упрекать. Из предыдущих описаний очевидно, какую преданность проявлял к герцогине Кейт ее супруг. Его отношение к ней отразилось во многих письмах. Что касается детей – и особенно очаровательной Молли, – то Джордж относился к ним с заботливой нежностью. Это было известно всем и не представляло собой распространенного явления среди подобных ему вельмож.
Бекингем перед судом истории
Итак, человек, ценящий удовольствия, но также преданный и любящий – таким предстает Бекингем в личной жизни в той мере, насколько, в его случае, можно отделить личную жизнь от общественной. Эти качества привлекательны, но сами по себе они не могут объяснить тот интерес, который фаворит двух королей Стини продолжает вызывать даже спустя почти четыре столетия.
В первую очередь следует обратить внимание на то, что представления о Бекингеме в Англии и во Франции совсем неодинаковы. Среди английских историков XVIII и XIX веков, по большей части склонных к оценке монархии в духе «вигов», то есть в какой-то мере стоявших на позициях партии, враждебной Карлу I и его окружению, герцог почти единогласно считался злым гением короля и всей страны. В их рукописях явно звучат отголоски мстительных высказываний Джона Элиота и пуритан, заседавших в парламенте 1628 года. В XX веке исследования стали менее эмоциональными и более разносторонними. Они позволили сформировать более взвешенную и более благоприятную точку зрения. Здесь следует в первую очередь упомянуть работу Чарльза Ричарда Кэммелла и более позднее исследование Роджера Локиера, который подчеркивает политическую роль Бекингема, описывая ее в контексте европейских событий его времени {406}.
Во Франции, где либеральные историки XIX века с готовностью перенимали предубеждения вигов, Бекингема также сурово осуждали в университетских курсах истории. Однако каким посмертным реваншем стал для него яркий, романтический портрет, созданный Александром Дюма в «Трех мушкетерах»! Нет никаких сомнений в том, что именно этот образ, а не та негативная оценка, что высказана в «Мемуарах» Ришелье, царит в умах французских читателей.
Так какой же вывод можно сделать, внимательно рассмотрев противоречивые факты, свидетельства и исследования?
Абсолютно ясно, что Джордж Вильерс не был политическим гением и его нельзя сравнивать с его современниками и противниками Оливаресом и Ришелье. У него не было ни достаточной подготовки, ни методичного рассудка, ни широты взглядов, которые необходимы человеку, обладающему высшей властью. Для него стал скорее несчастьем, нежели удачей, тот факт, что Яков I, а затем Карл I возложили на него ответственность, к которой он не был готов и, можно быть уверенным, никогда не стремился.
Но разве можно сказать (а подобное утверждали {407}), что он был некомпетентен и представлял собой «полный нуль»? Став главным адмиралом, он был деятелен и провел серьезные реформы, несмотря на всеобщее нежелание их принимать {408}. Его воспламеняли прекрасные намерения, а его проницательность порой оказывалась более тонкой, чем точка зрения двух королей, которым он служил. Его патриотизм и преданность королю никогда не ослабевали.
В течение двух или трех лет, когда он действительно правил Англией и играл роль первого плана в европейской политике – приблизительно со времени возвращения из Испании и вплоть до своей смерти, – он разработал грандиозный проект, согласно которому его страна должна была возглавить огромную коалицию, включающую Францию, Соединенные провинции и Скандинавские страны. Коалиция должна была бороться против колосса, каковым виделись Испания и австрийская католическая империя Габсбургов. План был грандиозен, но невыполним, учитывая нехватку сил и все более возраставший дух неподчинения в Англии. Франция (но без Англии!) воспользовалась идеей Бекингема в своих целях и воплотила ее в жизнь, это сделали Ришелье, Мазарини и Людовик XIV. Ни Карл I, ни Бекингем, пользуясь просторечным выражением, не могли этого «потянуть». К тому же в тот исторический момент их королевство пуританской буржуазии, замкнувшееся на своем острове, не желало участвовать в каких бы то ни было кампаниях в Европе.
В характере Бекингема было два недостатка, которые, независимо от неблагоприятного политического положения, в котором он оказался, объясняют провал его замыслов. Ему недоставало последовательности в действиях. Он лучше чувствовал себя на турнире, балетной сцене или теннисном корте, нежели в тиши кабинета. Он никогда не был человеком, способным на скрупулезное исследование и изучение чего бы то ни было. А главное, импульсивность делала его неспособным к тому, чтобы проводить последовательную политику. Он был переменчив и чрезмерно чувствителен к сиюминутным впечатлениям. Сначала он был настроен против Испании, потом стал другом кастильца Гондомара и поддерживал принца Карла в его желании жениться на инфанте Марии, потом стал подталкивать Карла к разрыву отношений с Испанией и этим, практически сам того не желая, добился эфемерной популярности. Затем он стал основным вдохновителем союза с Францией и брака Генриетты Марии с Карлом I, а после оказался настроен против Франции и втянул свою страну в бесполезную и разрушительную войну, увязнувшую в болотах острова Ре.
Но опять же, ничто из вышеперечисленного не могло бы объяснить, почему Бекингем занимает столь исключительное место в истории, если бы не существовало – и в этом ключ к разгадке – романтического ореола вокруг его столь короткой жизни. Современники небезосновательно сравнивали его со звездой, чей быстрый полет на короткое время освещает небесное пространство, после чего она исчезает, оставив мерцающий след. Авантюрная история бедного мелкого дворянина, поднявшегося за несколько лет к ступеням трона и погибшего в тридцать шесть лет от кинжала убийцы, не может не завораживать людей, как не может не очаровывать образ соблазнителя, который заставил всех поверить (и, возможно, поверил сам), что является возлюбленным королевы Франции. Не может не интересовать и военачальник, который, помоги ему вовремя ветер, возможно, изменил бы ход истории, помешав Ришелье захватить Ла-Рошель. Решительно, его жизнь протекала как авантюрный роман. То была страстная, яркая, трагическая личность, привлекательность которой пережила столетия. И, как гласит надпись на его надгробии, этот человек навсегда остался «загадкой для всего мира».
Примечания
Сокращения приводимых названий (полные названия см. в разделе «Библиография»)
Akrigg: G.P.V. Aloigg, Letters of James I (1984).
Cabala: Cabala» sive Scrinia sacra (ed. 1691).
Cammell: C.R. Cammell, The Great Duke of Buckingham (1939).
Chamberlain: J. Chamberlain, Letters, ed. N.E. Me Clure (1939).
Clarendon: E. Hyde, Earl of Clarendon, History of the Rebellion, ed. W.D. Vacray, 1888 (6 vol.).
CSP Venet.: Calendar of State Papers… in the Archives of Venice (21 vol.).
Ellis: H. Ellis, Original Letters Illustrative of English Histoiy, 1st Series (1825, 3 vol.).
Gardiner: S.R. Gardiner, History of England from the Accession of James to the Outbreak of the Civil War, 1603-1642 (1883-1884, 10 vol.).
Gibbs (P.), Romance of George Villiers (1908).
Goodman: G. Goodman, The Court of King James I. 2 vol. (1839).
Halliwell: J.O. Halliwell, Letters of the Kings of England (1846, 2 vol.).
Hanotaux: G. Yanotaux, Histoire du cardinal de Richelieu (1893-1947).
Hardwicke: P. Yorke, Earl of Hardwicke, Miscellaneous State Papers (1778, 2 vol.).
Lockyen R. Lockyer, Buckingham (1981).
Nichols: J.B. Nichols, Progresses of King James I (1828, 4 vol.).
Richelieu: Cardinal de Richelieu, Memoires (ed. Sоciete de I’Histoire de France, 1907-1926).
Rushworth: J. Rushworth, Historical Collections of Private Passages of State… 1618-1626 (1659).
Spedding: J. Spedding, Letters and Life of Sir Francis Bacon (1839, 7 vol.).
Tillieres: T. Leveneur, comte de Tillieres: Memoires inedits sur la Cour de Charles Ier et son marriage… (1862).
Wotton: H. Wotton, Reliquiae Wottonianae (1651).
Основные даты жизни и деятельности Джорджа Вильерса, герцога Бекингема
1592, 28 августа – рождение Джорджа Вильерса, будущего герцога Бекингема.
1602 – смерть отца Джорджа Вильерса.
1610-1612 – пребывание Джорджа Вильерса во Франции.
1613 или 1614 – проект брака между Джорджем Вильерсом и Энн Эстон.
1614 август – первая встреча Джорджа Вильерса с королем Яковом I; ноябрь – Джордж Вильерс становится виночерпием короля.
1615 23-24 августа – Джордж Вильерс возводится в рыцарское достоинство и получает звание джентльмена королевской опочивальни; октябрь – арест графа Сомерсета.
1616 январь – Джордж Вильерс получает должность главного конюшего;
апрель – становится кавалером ордена Подвязки; май – судебный процесс над Cомерсетом и его осуждение; август – Джордж Вильерс получает титул барона Уоддона и виконта Вильерса.
1617 январь – Джордж Вильерс становится графом Бекингемом;
февраль – входит в состав Тайного совета;
март-август – путешествует вместе с королем по Шотландии.
1618 январь – получает титул маркиза.
1619 январь – назначается главным адмиралом Англии;
февраль-март – болезнь короля Якова I;
2 марта – смерть королевы Анны.
1620 16 мая – женитьба Бекингема на Кетрин Мэннерс.
1621 январь-декабрь – сессия парламента, первые нападки на Бекингема.
1622 август-сентябрь – дипломатическая конференция в Брюсселе.
1623 февраль-сентябрь – поездка Бекингема и принца Карла в Испанию;
июль – Бекингем получает титул герцога.
1624 – разрыв отношений с Испанией; интрига испанских послов против Бекингема; формирование армии для ведения войны в Германии под командованием Мансфельда.
1625 февраль – высадка армии Мансфельда в Голландии;
27 марта – смерть Якова I и восшествие на престол Карла I;
11 мая – женитьба Карла I на Генриетте Марии Французской по доверенности в Париже;
24 мая – 27 июня – посольство Бекингема во Францию; инцидент в Амьене с Анной Австрийской;
июнь-июль – сессия первого парламента при Карле I, затем, в августе, в Оксфорде;
октябрь-ноябрь – морская экспедиция в Кадис и ее провал; ноябрь – посольство Бекингема в Гааге.
1626 2 февраля – коронация Карла I;
февраль-июнь – сессия второго парламента Карла I, процедура импичмента (обвинения) против Бекингема;
25 апреля – поражение армии Мансфельда под Дессау в Германии;
май – Бекингем становится канцлером Кембриджского университета;
август – изгнание французской свиты королевы Генриетты Марии;
ноябрь – захват английских судов в Бордо.
1627 июнь-ноябрь – неудачная военная экспедиция Бекингема на остров Ре.
1628 1 февраля – рождение сына Бекингема Джорджа;
март-июнь – сессия третьего парламента Карла I, «Петиция о праве»;
27 апреля – капитуляция английского гарнизона Штаде в Германии;
май – неудачная экспедиция графа Денби к JIa-Рошели;
23 августа – убийство Бекингема в Портсмуте;
18 сентября – похороны Бекингема в Вестминстерском аббатстве.
Источники и библиография
Если место издания не указано особо, значит, английские книги опубликованы в Лондоне, а французские – в Париже.
Раздел I Архивные источники
Документы о политической деятельности Бекингема находятся в многочисленных английских и иностранных архивах. Основные из этих фондов:
Английские:
Public Record Office (Национальный архив Англии в Кью): State Papers, Domestic Series (опись опубликована в Calendars of State Papers, Domestic, 7 томов за период 1603-1628 годов); State Papers, Foreign Series (опись за интересующий нас период не опубликована).
Многие рукописные фонды Британской библиотеки (особенно Harleian Mss.).
Французские:
Фонд «Англия» в Дипломатическом архиве Министерства иностранных дел (Les Archives du minist6re des Relations extЈrieures, Histoire et Guide, vol. II, 1985).
В отделе рукописей Национальной библиотеки Франции имеются документы, составленные послами, в частности Тилльером, Бленвилем и Эффиа (Каталог французских рукописей).
Испанские:
Все документы, касающиеся поездки принца Карла и Бекингема в Мадрид в 1623 году, хранятся в Archivo General de Simancas. К сожалению, Calendar of letters and State Papers relating to the negotiations between England and Spain не содержит материалов по интересующему нас периоду.
Итальянские:
Отчеты послов Венеции в Лондоне и Мадриде являются очень информативным источником и часто используются. См.: Calendar of State Papers and manuscripts relating to English affairs in the Archives and Collections of Venice and other Libraries in Northern Italy ( обычное сокращение названия: Calendar, Venetian), период 1603-1628 годов. Охватывают 12 томов.
Раздел II Тексты и сборники документов
В Англии с XVII века было опубликовано много сборников документов, хранящихся в государственных и частных архивах. Их ценность неодинакова. В сборниках содержатся тексты документов, часть которых уже утрачена. Издания XIX и XX веков более соответствуют нормам современной науки.
N. В. Письма приведены в данной библиографии в разделе 3.
Clarendon State Papers, 2 vol., 1767-1773.
Constitutional documents of the Puritan Revolution, ed. S.R. Gardiner, Oxford, 1889.
Debates in the House of Commons, 1621, ed. W. Notestein, F.H. Relf,
Simpson, New Haven, 1935.
Debates in the House of Commons, 1625, ed. S.R. Gardiner, 1870. Documents illustrating the impeachment of Buckingham in 1626, ed. S.R. Gardiner, 1889.
Elsing (H.). Notes of the debates in the House of Lords, 1621, ed. S.R. Gardiner, 1870.
Elsing (H.). Notes of the debates in the House of Lords 1624 and 1626, ed. S.R. Gardiner, 1879.
Fortescue Papers, collected by John Parker, secretary to George Villiers Duke of Buckingham, ed. S.R. Gardiner, 1871.
Hardwicke State Papers, Miscellaneous State Papers in the possession of P. Yorke, Earl of Hardwicke, 2 vol., 1776.
Harleian Miscellany, a Collection of scarce, curious and entertaining tracts in the late Earl of Oxford’s library, ed. W. Oldys, 11 vol., 1744-1746.
Howell (Thomas B.) ed. A Complete collection of State Trials … to the year 1738, 24 vol., 1809-1828.
Journals of the House of Commons 1647-1714, 17 vol., 1742.
Journals of the House of Lords 1678-1714, 19 vol., 1767.
Letters and documents illustrating the relations between England and Germany at the commecement of the Thirty Year War, ed. S.R. Gardiner, 1865.
Notes and debates in the House of Lords, 1621, 1625 and 1628, ed. F.H. Relf, 1929.
Proceeding and debates of the House of Commons in 1620 and 1621, ed. Sir Edward Nicholas, 1766.
Royal Stuart Proclamations, ed. J.F. Larkin, 2 vol., Oxford, 1983. Rushworth (John), ed. Historical Collection of private Papers of State, beginning anno 1618 and ending anno 1625, 1659.
Somers Tracts, ed. W. Scott, 13 vol., 1809-1815.
State Trials, cm. Howell.
Stuart Tracts, 1603-1693, ed. C.H. Firth, R.S. Rait, 1903.
Раздел III Мемуары и письма XVII века
Важным источником по истории жизни Бекингема являются мемуары и переписка его современников, а также материалы, опубликованные после его смерти, в том числе скандальные памфлеты. Разумеется, все эти источники требуют критического подхода.
Aulicus Coquinarius, ed. W. Scott, Secret History of the Court of James I, Edinbourg, 1811.
Bacon (Francis), Letters and Life of Sir Francis Bacon, ed. J. Spedding, 7 vol., 1857-1874.
Bassompierre (Francois de), Ntemoires, 1837 (collection Michaud et Poujoulat).
Bassompierre (Francois de), Ambassade du marechal de Bassompierre en Angleterre Tan 1626, Cologne, 1688.
Birch (Thomas), The Court and Times of King James I, ed. R.F. Williams, 2 vol., 1848.
Birch (Thomas), The Court and Times of King Charles I, ed. R.F. Williams, 2 vol., 1848.
Brienne (Henri-Auguste de Lomenie, comte de), Memoires, 1838 (collection Michaud et Poujoulat).
Buckingham (George and Katherine), Letters of the Duke and Duchess of Buckingham, chiefly addressed to King James I, ed. T.G. Stevenson, Edinbourg, 1834,
Cabala, sive Scrinia sacra, Mysteries of State and Government, 3d ed., 1691.
Camden (William), Armais of the Reign of James I, in: Kennet (W.), Complete History of England, II, 1706.
Carleton (Dudley), Letters to John Chamberlain, 1603-1624, ed. R. Lockyer, 1972.
Chamberlain (John), Letters, ed. N.E. Me Clure, 2 vol., Philadelphia, 1939.
Clarendon (Edward Hyde, Earl of), History of the Rebellion and Civil War in England, ed. W. Dunn Macray, 6 vol., 1888.
Clarendon (Edward Hyde, Earl of), The Differences and Disparity between George Villiers, Duke of Buckingham, and Robert, Earl of Essex, 1651.
Coke (Roger), Detection of the Court of England, 1696.
D’Ewes (Simonds), Autobiography and Correspondence, ed. J.O. Halliwell, 2 vol., 1845.
Eglisham (George), The Forerunner of Revenge (1625) in: Harieian Miscellany, vol. II, 1744.
Ellis (Henry), ed. Original Letters illustrative of English history, 1st series, vol., 1825.
Fairholt (F.W.), ed. Poems and Songs relating to Buckingham and his assassination, 1850.
Frankland (Т.), Annals of Kings James and Charles I, 1681.
Francisco de Jesus. Narrative of the Spanish Marriage Treaty (trad. a. ed. S.-R. Gardiner), 1869.
Gamache (Cyprien de), Memoirs of the mission in England of the Capuchin Friars of the Province of Paris, trad. a. ed. R.F. Williams, The Court and Life of Charles I, II, 1848.
Glanville (J.), The Voyage to Cadiz in 1625, 1882.
Goodman (Godfrey), The Court of King James I, 2 vol., 1839.
Hacket (John), Scrinia Reserata, a Memorial offered to the great deservings of John Williams…, 1693.
Herbert of Cherbury (Edward), The Life of Edward, Lord Herbert of Cherbury, written by himself, ed. Horace Walpole, 1764.
Herbert of Cheibury (Edward), The Expedition to the Isle of Rhe, 1860.
Howell (James), Epistolae Ho-Elianae, 1650.
Isnard (Jacques), Arcis Sammaritianae obsidio et fuga Anglorum a Rea insula, 1629. Фр. пер.: Siege du Fort Saint-Martin et fuite des Anglais de Tile de Re (trad. Par le Dr. Augier), Angers, 1902.
James I, Letters, in: J.O. Halliwell, Letters of the Kings of England, II, 1846 (в этой же книге имеется много писем Бекингема).
James I, Letters, ed. G.P.V. Akrigg, Berkley, 1984 (весьма неполное издание).
La Porte (Pierre de), Мemoires, 1839 (collection Michaud et Poujoulat).
La Rochefoucauld (Francois de), Memoires, 1838 (collection Michaud et Poujoulat).
Mervault (Pierre), Journal des choses les plus memorables qui se sont раsseеs au siege de Saint-Martin de Re…, La Rochelle, 1893.
Motteville (Fran$oise de), Memoires, 1838 (collection Michaud et Poujoulat).
Nichols (J.B.) ed. Progresses of King James I, 4 vol., 1818.
Oglander (John), A Royalist’s Notebook, ed. F. Bamford, 1936; ed. W.H. Long, New York, 1971.
Osborne (Francis), Some Traditional Memoirs of the rign of King James ed. W. Scott, Secret History of the Court of James I, Edinbourg, 1811.
Peyton (Edward), The Divine catastrophe of the Royal House of Stuart, ed. W. Scott, Secret History of the Court of James I, Edinbouig, 1811.
Richelieu (Armand, cardinal de), Мemoires, 10 ed. 1907-1926 (collection de la sос1e1e de I’Histoire de France).
Richelieu (Armand, cardinal de), Lettres, instructions diplomatiques et papiers d’fitat, ed. D.D. Avenel, 8 vol., 1853-1877.
Sanderson (William), A complete History of the Life and Reign of King Charles I…, 1658.
Tillieres (Tanneguy Leveneur, comte de), Memoires inedits sur la Cour de Charles Ier et son marriage avec Henriette de France, 1862.
Tom Tell-Truth, ed. W. Scott, Somers Tracts, II, 1810.
Weldon (Antony), The Court and Character of King James I, ed. W. Scott, Secret History of the Court of James I, Edinbourg, 1811.
Whitelocke (James), Liber Famelicus, ed. J. Bruce, 1858.
Wilson (Arthur), The Life and Reign of James I, in Kennet (W)., Complete History of England, II, 1706.
Wotton (Henry), Reliquiae Wottonianae, 1651 (в книгу входят: The Life and Death of George Villiers, Duke of Buckingham и Some Observations by way of parallel between Robert Devereux, Earl of Essex, and Geiige Villiers, Duke of Buckongham).
Раздел IV Общие работы по периоду 1603-1628 годов
Cottret (Bernard), Histoire d’Angleterre, XVIIe-XVIIIe sifccles, 1996 (collection Nouvelle Clio).
Davies (Godfrey), The Early Stuarts, 1603-1660, 1936 (Oxford History of England).
Davies (Godfrey) and Keeler (Mary), Bibliography of British History, Stuart Period, 1603-1714, Oxford, 1970.
Fritze (R.H.) and Robinson (W.B.) ed. Historical Dictionary of Stuart England, 1603-1689, 1996.
Gardiner (Samuel Rowson), History of England from the accession of James I to the outbreak of the Civil War, 1603-1642, 10 vol., 1883-1884.
Lockyer (Roger), The Early Stuarts: a political History of England, 1603-1644, 1949.
Раздел V Биографии Бекингема и его современников
5.1 Современные биографии Бекингема.
Cammell (C.R.), The Great Duke of Buckingham, 1939.
Erlanger (Philippe), L’finigme du monde, Geoige Villiers, due de Buckingham, 1951.
Gibb (M.A.), Buckingham, 1592-1628, 1935; фр. пер. 1936.
Gibbs (Philip), Romance of George Villiers and some Men and Women of the Stuart Court, 1908.
Lockyer (Roger), Buckingham: The Life and Political Carreer of George Villiers, 1981.
Thomson (Katherine), Life and Time of George Villiers, Duke of Buckingham, 3 vol., 1860.
Williamson (W.R.), George Villiers, first Duke of Buckingham, 1940.
5.2 Биографии современников Бекингема.
Dictionary of National Biography, 63 vol., 1885-1900.
Анна Австрийская: Dulong (Claude), Anne d’Autriche, meге de Louis XIV, 1980; Kleiman (Ruth), Ann of Austria, Queen of France, Columbus, Ohio, 1985; фр. пер.: Anne d’Autriche, 1993.
Бэкон (Фрэнсис), канцлер Англии: Spedding (James), Letters and Life of Sir Francis Bacon 7 vol., 1857-1874.
Генриетта Мария Французская (королева Франции): Dupuy (Micheline), Henriette de France, reine d’Angleterre, 1994.
Елизавета Стюарт (королева Чехии): Everette Green (Mary Ann), Elizabeth, Electress Palatine and Queen of Bohemia, 1909.
Карл I: Carlton (Charles), Charles 1, the personal Monarch, 1983; Duchein (Michel), Charles Ier, 1 honneur et la fldelite, 2000; Gregg (Pauline), Charles I, 1981; фр. пер.: Charles Ier, 1984.
Коттингтон (Фрэнсис): Havran (Martin J.), Caroline Courtier: the Life of Lord Cottington, 1975.
Крэнфилд (Лайонел, граф Миддлсекс): Prestwich (Menna), Cranfield, Politics and Profit under the Early Stuarts, Oxford, 1968; Tawney (R.H.), Business and Politics under James I: Lionel Cranfield, 1958.
Лод (Уильям), архиепископ Кентерберийский: Trevor-Roper (H.R.), Archbishop Laud, 1962.
Людовик XIII: Chevallier (Pierre), Louis XII, roi cornelien, 1979.
Ноттингем (Чарльз Говард), граф: Kenny (Robert W.), Elizabeth’s Admiral: The Political Career of Charles Howard, Earl of Nottingham, Baltimore, 1970.
Оливарес: The Count-Duke of Olivares, New York, 1986; фр. пер.: Olivares, L’Esnagne de Philippe IV, 1992.
Портер (Эндимион): Huxley (G.), Endymion Porter, the Life of a Courtier, 1959.
Ришелье: Bergin (J.) and Brockliss (L.), Richelieu and his Age, Oxford, 1992; Carmona (Michel), Richelieu, l’ambition et le pouvoir, 1983; Hanotaux (Gabriel), Histoire du Cardinal de Richelieu, 6 vol., 1893-1947.
Роган (Анри), герцог де: Deyon (Pierre et Solange), Henri de Rohan, huguenot de plume et d’epee, 2000.
Эббот (Джордж), архиепископ Кентерберийский: Welsby (Р.А.), George Abbot, the unwanted Archbishop, 1962.
Элиот (Джон): Forster (John), Sir John Eliot, a biography, 2 vol., 1864; Hulme (Harold), The Life of Sir John Eliot, Struggle for Parliamentary Freedom, 1981.
Яков I: Bingham (Caroline), James I of England, 1981; Duchein (Michel), Jacques Ier Stuart, le roix de la paix, 1985; Lee (Maurice), Great Britain’s Solomon, University of Illinois, 1990; Lockyer (Roger), James VI and I, 1998; Mathew (David), James I, University of Alabama, 1968; Me Elwee (W.), The Wisest Fool in Christendom, 1958; Williams (Charles), James I, 1984; Willson (David Harris), King James VI and I, 1959.
Раздел VI Отдельные исследования, касающиеся периода 1603-1628 годов
Aiken (Willaim A.) and Henning (B.D.), ed. Conflict in Stuart England, 1966.
Allen (J.W.), English Political Thought, 1603-1660, 2 vol., 1938.
Andrews (Kenneth R.), Ships, Money and Politics: seafaring and naval enterprise in the Reign of Charles I, Cambridge, 1991.
Ascoli (George), La Grande-Bretagne devant l’opinion frangaise au XVIIе siecle, 2 vol., 1930.
Ashley (Maurice P.), England in the 17th century, 1978.
Ashton (Robert), The City and the Court, 1605-1643, 1979.
Aylmer (G.E.), “Buckingham as an administrative reformer?”, English Historical Review, april, 1990.
Cogswell (Thomas), The Blessed Revolution: English Politics and the Coming of War, 1621-1624, Cambridge, 1989.
Cottret (Bernard), “Diplomatic et ethique de I’Etat: l’ambassade d’Effiat en Angleterre et le manage de Charles Ier et d’Henriette-Marie de France”, in H. Mechoulan, L’Etat baroque: regards sur la pensee politique de la France du premier XVIIе siecle, 1985.
Cust (R.), The forced loan and English Politics, 1626-1628, 1987.
Cust (R.) and Hughes (A.), ed. Conflict in Early Stuart England: Studies in Religion and Politics, 1603-1642, 1989.
Dietz (E.C.), English Public Finance, 1558-1641, II, 1964.
Elliot (John H.) and Brockliss (L.W.B.), The World of the Favourite, Yale, 1998.
Firth (C.H.) and Lomas (S.C.), Notes on the Diplomatic Relations of England and France, 1603-1688, 1906.
Firth (C.H.), The House of Lords during the Civil War, 1910 (включает также материалы по времени царствования Якова I и началу царствования Карла I).
Foster (Elizabeth R.), The House of Lords, 1603-1649, Chapel Hill, 1983.
Gardiner (Samuel Rawson), Prince Charles and the Spanish Marriage, 1869.
Gardiner (S.R.), The Thirty Year War, 1618-1648, 1871.
Guizot (Francois), Un projet de mariage royal: Charles Ier et Henriette de France, 1863.
Hirst (Derek), The Representatives of the People? Voters and voting in England under the Early Stuarts, Cambridge, 1975.
Houssaye (Michel) “L’ambassade de M. de Blainville a la cour de Charles Ier d’Angleterre”, Revue des questions historiques, 1878.
Kenyon (J.P.), The Stuart Constitution, Cambridge, 1966.
Lockyer (Roger), “An English valido? Buckingham and James I”, in R. Ollard and P. Tudor-Craog, ed. For Veronica Wedgwood, 1986.
Mathew (David), The Jacobean Age, 1938.
Me Elwee (W.), The Murder of Sir Thomas Overbury, 1952.
Oppenheim (М.), A History of the Administration of the Royal Navy, 1509-1660, 1886.
Parker (Geoffrey), The Thirty Year War, 1984; фр. пер.: La Guerre de Trente Ans, 1987.
Peck (Linda David), ed. The Mental world of the Jacobean Court, 1951.
Peck (Linda David), Court, Patronage and corruption in Early Stuard England, 1993.
Penn (C.D.), The Navy under the Early Stuarts, 1913.
Ruigh (R.E.), The Parliament of 1624, Cambridge, Mass., 1971.
Russell (Conrad), Parliaments and English Politics, 1621-1629,Oxford, 1979.
Rye (W.B.), England as seen by Foreigners in the Days of Elizabeth and James I, 1865.
Sharpe (Kevin), ed. Faction and Parliament, Oxford, 1978.
Sharpe (K.), and Lake (Peter) ed., Culture and Politics in Stuart England, 1994.
Stone (Lawrence), The Crisis of the Aristocracy, 1558-1641, Oxford, 1965.
Stone (Lawrence), Social Change and Revolution in England, 1540- 1640, Oxford, 1965.
Stone (Lawrence), Family and Fortune: Studies in Aristocratic Finance in the 16th and 17th Centuries, Oxford, 1973.
Tite (Colin), Impeachment and Parliamentary Judicature, 1976.
Tomlinson (Howard), ed. Before the English Civil War, Essays on Early Stuart Politics and Government, 1983.
Trevelyan (George М.), England under the Stuarts, 1938.
Vaux de Foletier (Francois de), Le Siege de La Rochelle, 1931.
White (Beatrice), Cast of Ravens, New York, 1965 (о деле Овербери).
Zaller (R.), The Parliament of 1621, a Study in Constitutional Conflict, Berkley, 1971.
Комментарии 1
Wotton, 76.
2
R, Coke, Detection of the Court of England (1696), 45.
3
Clarendon, I, II.
4
Aulicus Coquinarius, in: W. Scott, Secret History of the Court of James I (1811), 258.
5
Clarendon, I, 10.
6
Hacket, I, 41.
7
S. D'Ewes, Autobiography (1825), I, 166.
8
Goodman, I, 225.
9
Oglander, A Royalist's Notebook.
10
Clarendon, I, 38.
11
Цит. по: Cammell, 60.
12
Wotton, 77.
13
Rushworth, I, 456.
14
Rushworth, I, 456.
15
См.: J.H. Elliott, L.W. Brockliss, The World of the Favourite (1998).
16
Цит. no D.H. Willson, King James VI and I (1956), 196.
17
Idem, 36.
18
A. Wilson, The Life and Reign of James I, in: W. Kennet, Complete History of England (1706), II, 728.
19
D.H. Willson, op. cit., 337.
20
Halliwell, II, 126.
21
A. Wilson, loc. cit., 350.
22
Tillieres, 3.
23
D.H. Willson, loc. cit., 350.
24
Halliwell, II, 126 (цитата сокращена).
25
A. Weldon, The Court and Character of King James I (1650), 98.
26
W. Sanderson. A Complete History of the Lives and Reigns of Mary Queen of Scots and of her Son James VI and I (1656), 466.
27
Halliwell, II, 133.
28
D.H. Willson, op. cit., 353.
29
A. Wilson, loc. cit., 603.
30
Об убийстве Овербери и его последствиях см.: W. Мс Elwee, The Murder of Thomas Oveibury (1952).
31
Goodman, II, 161.
32
Idem, 160.
33
Spedding, II, 13-26.
34
Idem, IV, 7.
35
Gardiner, III, 27.
36
J . Whitelocke, Liber Famelicus (1858), 55.
37
J. Oglander, A Royalist's Notebook (1888, нов. изд. 1971).
38
Cammell, 82.
39
Halliwell, II, 243.
40
Cammell, 89.
41
Idem, 90.
42
См.: Cammell, 90.
43
Nichols, III, 319.
44
Cammell, 110.
45
Nichols, III, 319.
46
Gardiner, III, 98.
47
F. Osborne, Some Traditional Memoires (1658).
48
Lockyer 22.
49
Clarendon, I, 13; CSP Venet. XVIII(1623-1625), 208.
50
Akrigg, 431
51
Gibbs, 33.
52
Spedding, VI, 223.
53
Id., 237.
54
Id., 238.
55
Id., 249.
56
T. Birch, The Court and Times of King James I (1848), I, 453.
57
Cammell, 91.
58
CSP Venet., XV (1617-1619), 113.
59
Ellis, III, 102.
60
T. Birch, op. cit., II, 78.
61
Spedding, VI, 118.
62
D.H. Willson, King James VI and I (1956), 368.
63
Chamberlain, II, 144.
64
Spedding, VII, 58.
65
Gibbs, 77.
66
Gardiner, III, 195.
67
Cammell, 155.
68
Clarendon, 14.
69
Chamberlain, III, 173.
70
Rushworth, I, 22.
71
Chamberlain, II, 271.
72
Gardiner, III, 207.
73
Goodman, I, 164-167.
74
Lockyer, 76.
75
C.D. Penn, The Navy under the Early Stuarts (1913), 89.
76
M. Lee, Great-Britain's Solomon (1990), 129.
77
Goodman, I, 334.
78
D.H. Wilson, King James VI and I (1956), 348.
79
Id., 251.
80
Goodman, I, 168.
81
J. Williams, Great-Britain's Solomon (1625).
82
Goodman, I, 132.
83
Clarendon, I, 11.
84
A. Wilson, The Life and Reign of James I, in: W. Kennet, Complete History of England (1706), II, 728.
85
S. D'Ewes, Autobiography (1845).
86
E. Peyton, The Divine Catastrophe of the House of Stuarts, in: W. Scott, Secret History of the Court of James I (1811).
87
Hacket, I, 43.
88
Goodman, II, 191-192.
89
Id., 279.
90
Wotton, 122.
91
Akrigg, 374.
92
Id. 376.
93
A. Weldon, Court and Character of King James, in W. Scott, Secret History of the Court of James I (1811).
94
Cammell, 144.
95
Goodman, II, 183.
96
A. Wilson, loc. cit., 728.
97
Gibbs, 99.
98
A. Wilson, loc. cit., 751.
99
W. Laud, A Relation of the Conference between W. Laud and W. Fischer (1639).
100
Akrigg, 225.
101
Halliwell, II, 246.
102
Gibbs, 97.
103
Nichols, III, 673-709.
104
S.-R. Gardiner, Letters and Documents illustrating the relations between England and Germany… (1865), 22 и 26.
105
Id., 27.
106
Id, XXXII.
107
Об этом см.: Gardinerи Lockyer.
108
CSP Venet., XVI (1619-1621), 275.
109
Id., 202.
110
Id., 431.
111
Id., 452.
112
Id., 460.
113
Lockyer, 85.
114
Id., 58.
115
CSP Venet. loc. cit. 327.
116
D.-H. Willson, King James VI and I (1956), 416.
117
Tillieres, 43.
118
R. Zaller, The Parliament of 1621 (1971), 35.
119
Tillieres, цит. по: R. Zaller, loc. cit., 35.
120
Gardiner, IV, 21.
121
Id., IV, 40.
122
Hacket, I, 50.
123
Gardiner, IV, 53.
124
A. Wilson, The Life and Reign of James I, in: W. Kennet, Complete History of England (1706), II, 734.
125
Spedding, VII, 213.
126
Lockyer, 99.
127
Gardiner, IV, 86.
128
Id., 97.
129
Goodman, II, 223.
130
A, Wilson, loc. cit., 747.
131
Id., 734.
132
CSP Venet., XVII (1621-1623), 171.
133
Gardiner, IV, 265.
134
Goodman, II, 209.
135
Rushworth, I, 47.
136
Gardiner, IV, 226.
137
Id., 339 (документ датирован 2 августа 1622 года).
138
Id., 212.
139
J.-H. Elliott, Olivares: L'Espagne de Philippe IV (1992), 101.
140
Cabala, 314.
141
Id., 224.
142
Gardiner, IV, 297.
143
Lockyer, 127.
144
Gardiner, IV, 296. Памфлет«Tom Tell-Truth» опубликованв: W. Scott, Somers Tracts, II (1810).
145
J.-H. Elliott, loc. cit., 344.
146
Lockyer, 131.
147
CSP Venet., XVII (1621-1623), 502.
148
Gardiner, IV, 369.
149
Chamberlain, II, 472.
150
Hacket, I, 63.
151
Goodman, II, 207.
152
Clarendon, I, 14-22.
153
Goodman, I, 363.
154
Id., 368.
155
Ellis, III, 121.
156
Hardwicke, I, 403.
157
Основные источники информации о поездке из Лондона в Мадрид: Goodman, Nichols, Wotton.
158
Hacket, I, 116.
159
Id., 116.
160
Halliwell, II, 171.
161
Все письма Якова I «мальчикам» опубликованы у Akrigg; письма Карла и Бекингема Якову I см.: Halliwell II и Goodman II.
162
Fr. de Jesus. Narrative of the Spanish Marriage Treaty, trad. a. ed. S.- R. Gardiner (1869).
163
Nichols, IV, 315.
164
Hardwicke, I, 408.
165
Все эти тексты см. Nichols, IV.
166
Gardiner, IV, 1.
167
Процесс Бристоля, см.: Т.В. Howell, State Trials, II (1810).
168
Hardwicke, I, 422.
169
Fr. de Jesus. Narrative of the Spanish Marriage Treaty (ср. гл. X, сноска 162).
170
J. Howell, Epistolae Ho-Elianae (1690), 3 section, 60.
171
Goodman, I, 372.
172
Hardwicke, I, 410.
173
J. Howell, loc. cit., 64.
174
Gardiner, V, 30.
175
J. Howell, loc. cit., 64.
176
Fr. de Jesus, op. cit., 76.
177
Gardiner, V, 38.
178
Nichols, IV, 815.
179
Akrigg, 400.
180
Fr. de Jesus, op. cit., 72.
181
Ellis, III, 152.
182
Akrigg, 397.
183
Id., 402, 417.
184
Hardwicke, I, 454.
185
Goodman, II, 290.
186
Id., II, 277.
187
Hardwicke, I, 417.
188
Akrigg, 411.
189
Hardwicke, I, 452.
190
Akrigg, 415.
191
Hardwicke, I, 433.
192
Gardiner, V, 65.
193
Gardiner, V, 68.
194
Akrigg, 421.
195
Gardiner, V, 99.
196
Akrigg, 422.
197
Cabala, 108.
198
Hardwicke, I, 426.
199
Gardiner, V, 92.
200
Hardwicke, I, 434.
201
Halliwell, II, 227.
202
Akrigg, 424.
203
Rushworth, I, 119.
204
Fr. de Jesus, op. cit.; J. Howell, loc. cit., 20.
205
Cammell. 217.
206
Nichols, IV, 815-919 (скупюрами).
207
Fr. de Jesus, op. cit.
208
Halliwell, II, 227.
209
Gardiner, V, 118.
210
Id., 121.
211
Id., 121.
212
Id., 118.
213
Cammell. 217.
214
Clarendon, I, 44.
215
Wotton, 90.
216
Cabala, 101.
217
Goodman, I, 372.
218
Hardwicke, I, 432.
219
Cabala, 252.
220
Id., 252.
221
Hacket, I, 137.
222
Goodman, II, 283.
223
Clarendon, I, 46.
224
Cabala, 252.
225
Clarendon, 22; Goodman, I, 384.
226
W. Scott, ed., Somers Tracts (1809), II, 552.
227
Hacket, I, 165.
228
Gardiner, V, 138.
229
Gardiner, V, 221.
230
Cabala, 101.
231
Gardiner, V, 117.
232
Hardwicke, I, 483.
233
Gardiner, V, 146.
234
Id., V, 154.
235
Nichols, IV, 639.
236
P. Gregg, Charles Ier (1984), 106.
237
Gardiner, V, 151.
238
F. Bacon, Works, ed. J. Spedding, R.L. Ellis, D.D. Heath, XIV, 442.
239
Lockyer, 174.
240
Cabala, 96.
241
Gardiner, V, 170.
242
Hacket, I, 169.
243
Gardiner, V, 179.
244
A. Wilson, The Life and Reign of James I, in: W. Kennet, Complete History of England (1706), II, 780.
245
Rushworth, I, 116.
246
Id., 119-126.
247
См. сноску 244.
248
Rushworth, I, 119.
249
Gardiner, V, 186.
250
T. Birch, The Court and Times of King James I (1848), II, 428.
251
Hardwicke, I, 460.
252
Gardiner, V, 193.
253
J. Foreterm Sir John Eliot (1864), I, 155.
254
Rushworth, 130.
255
Cabala, 252 и далее. Последующие цитаты взяты из этого же источника.
256
Gardiner, V, 194.
257
Hacket, I, 196.
258
Id., 197-198.
259
Gardiner, V, 220.
260
Clarendon, I, 28.
261
Gardiner, V, 230.
262
Более подробные цифры см.: Lockyer, 212.
263
Ellis, III, 169-176.
264
1 Цит. по: В. Cottret, Diplomatic et ethique de l'Etat: l'ambassade d'Effiat en Angleterre et le mariage de Charles Ier et d'Henriette-Marie de France, in: H. Mechoulan, ed. L'Etat baroque (1985), 224.
265
О ходе этих переговоров см.: Gardiner, V, а также C.Carlton, Charles I, the Personal Monarch (1983); F. Guizot, Un projet de mariage royal (1863); B. Cottret (см. предыдущую сноску).
266
Lockyer, 210.
267
Id., 228.
268
Chamberlain, II, 601.
269
Lockyer, 252.
270
Ellis, III, 189.
271
Рассказ о смерти Якова I см.: D.H. Willson, KingJamesVIandI, 443-447, со ссылками на источники.
272
Journal of the House of Lords, III, 670.
273
Н.А. de Brienne, Memoires (collection Michaud et Poujoulat, 1838), 35.
274
Clarendon State Papers (1767), И, XXV.
275
О характере Карла I см.: M. Duchein, Charles Ier, l'honneur et la fidelte (2000).
276
Lockyer, 451.
277
Clarendon, 40.
278
Id., 41.
279
P. de La Porte, Мemories (collection Michaud et Poujoulat, 1839), 7.
280
Richelieu, V, 84
281
F. de Motteville, Memoires (collection Michaud et Poujoulat, 1838), 18.
282
F. de La Rochefoucauld, Memoires (collection Michaud et Poujoulat, 1838), 3.
283
Id., ibid.
284
Tillieres, 61.
285
La Porte, loc. cit., 7.
286
Motteville, loc. cit., 19.
287
Tallemant des Reaux, Historiettes (historiette du cardinal de Richelieu).
288
La Rochefoucauld, loc. cit., 382.
289
Motteville, loc. cit., 19.
290
R. Coke, Detection of the Court of England (1696), II, 44.
291
La Rochefoucauld, loc. cit., 383.
292
Tallemant des Reaux, loc. cit.
293
Tillieres, 88.
294
О приезде Генриетты Марии и ее свиты в Англию см.: М. Dupuy, Henriettede France(1994), 68 и далее.
295
Tillieres, 88 и далее; Brienne, Memoires, 38.
296
С. Carlton, Charles I, the Personal Monarch (1983), 65.
297
Rushworth, I, 179. Другие цитаты из выступлений в парламенте 1625 года взяты из того же источника.
298
Особенно J. Forster, Sir John Eliot (1864).
299
Рассказано самим Элиотом в Negotium Posteriorum. Цит. по: J. Forster, op. cit., I, 251.
300
Gardiner, V, 378-387; Hanotaux, 45-54.
301
Clarendon, I, 31.
302
Rushworth, I, 184.
303
Gardiner, V, 423.
304
Rushworth, I, 190-193.
305
Gardiner, V, 429.
306
CSP Venet., XVIII (1623-1626), 217.
307
Tillieres, 70-78.
308
Id., 93, 99 и др.
309
Id., 100.
310
Cyprien de Gamache, Memoirs of the mission in England of the Capuchin Friars, in R.F. Williams, The Court and Life of Charles I (1848), II, 110.
311
Gardiner, VI, 32.
312
Gardiner, VI, 7.
313
Cabala, 377.
314
О Кадисской экспедиции см.: J. Glanville, The Voyage to Cadiz in 1625 (1883).
315
Wotton, 99.
316
Gardiner, VI, 25.
317
Id., VI, 48.
318
Ellis, III, 216.
319
Tillieres, 119.
320
Richelieu, V, 143, 161.
321
Rushworth, I, 218. Последующие цитаты взяты из этого же источника.
322
Процесс Бристоля, см. гл. XI, сноска 1.
323
Rushworth, I, 306-360.
324
Id, I,354-357.
325
Gardiner, VI, 108.
326
Rushworth, I, 379-394.
327
Ellis, III, 241.
328
Опубликовано в: Е. Ludlow, Memoirs(1751), 459.
329
С. De Gamache (см. выше гл. XVI, сноска 310), 119.
330
Richelieu, VI, 233.
331
Ellis, III, 244.
332
Bassompierre, Memoires (ed. Michaud et Poujoulat, 1837), 252.
333
Id., 253.
334
Id., 256.
335
Richelieu, VI, 247.
336
Цит. по: Hanotaux, I, 93.
337
Gardiner, VI, 161.
338
R. Coke, Detection of the Court of England (1696).
339
Clarendon, I, 49.
340
Цит. по: Gibbs, 334.
341
Hanotaux, III, 97.
342
Gibbs, 309.
343
Id., 310.
344
Gardiner, VI, 179.
345
Id., VI, 171.
346
J. Isnard, Siege du Fort Saint-Martin et fuite des Anglais de Pile de Re (trad, fr., 1902), 45.
347
Hardwicke, II, 13.
348
Richelieu, VII, 97.
349
Hardwicke, II, 27.
350
Hanotaux, III, 113.
351
Hardwicke, II, 13.
352
Id., 17.
353
Gardiner, VI, 179.
354
Hardwicke, II, 15.
355
Id., 48.
356
Correspondence du cardinal Richelieu, ed. Avenel (1855), III, 574.
357
Hardwicke, II, 45.
358
H. De Rohan, Memoirs (1646).
359
Hardwicke, II, 18.
360
J. Isnard, op. cit., 169.
361
P. Mervault, Journal des choses les plus memorables… au siege de Saint-Martin de Re et de La Rochelle (ed. 1893), 31.
362
L.E. Arcere, Histoire de Ville de La Rochelle et de pays d'Aunis (1767), II, 254.
363
M.A. Gibb, Buckingham, 1592-1628 (trad. fr. 1936), 265.
364
T. Birch, The Court and Times of King Charles I (ed. 1848), I, 281.
365
1 Calendar of State papres, Domestic, 1627-1628, 453.
366
Gardiner, VI, 199.
367
Hardwicke, II, 20.
368
Wotton, 110.
369
CSP Venet., XX (1626-1628), 542.
370
Gibbs, 351.
371
CSP Venet., loc. cit., 559.
372
Id., 595.
373
Rushworth, I, 480.
374
Id., 531 и далее.
375
Gibbs, 7.
376
Об экспедиции Денби см.: Hanotaux, I, 151-156.
377
Т. Birch, The Court and Times of King Charles I, I, 336.
378
Rushworth, I, 651.
379
Id., 630.
380
Id., 643.
381
Ellis, III, 253.
382
CSP Venet., loc. cit.,361.
383
Richelieu, VIII, 190-196.
384
T. Birch, loc. cit., 361.
385
Id., 367.
386
Wotton, 116.
387
Clarendon, I, 51-54.
388
Wotton, 120.
389
Id., 119.
390
T. Birch, loc. cit., 368.
391
J. Oglander, A Royalist's Notebook (1888).
392
Существует множество рассказов свидетелей и современников об убийстве герцога: Oglander, Wotton, письмо Д. Карлтона (D. Carlton) королеве Генриетте Марии и часто цитируемый рассказ Кларендона (Clarendon, I, 33-37).
393
Ellis, III, 256.
394
Gardiner, VI, 354.
395
Ellis, III, 278-282.
396
Id., 263.
397
Cammell, 340.
398
P. Erlanger, L'Enigme du monde: George Villiers, due de Buckingham (1951).
399
Gibbs, 391.
400
Richelieu, VIII, 196-201.
401
Richelieu, VIII, 206.
402
Hardwicke, II, 13.
403
P. Chevallier, Louis XIII, roi cornelien (1979).
404
Cammell, 344.
405
Id., 371-385.
406
См. названия в разделе «Библиография».
407
Gardiner, VI, 358.
408
С.О. Penn, The Navy under the Early Stuarts (1933); G.E.Aylmer, "Buckingham as an administrative reformer", English Historical Review, april, 1990, 355-362.
1
«Виги» (от англ. wig – «парик») – существовавшая с 1679 года партия, отражавшая в первую очередь интересы крупных землевладельцев и богатых коммерсантов. Выступала в защиту прав парламента и ограничения «прерогатив» короля. Стала од-ной из предшественниц существующей ныне либеральной партии. (Прим. пер.)
(обратно)2
Это слово этимологически восходит к «stellio» («звездчатая ящерица»), символу ловкости и пронырливости. (Прим. пер.)
(обратно)3
Имение Бруксби отошло детям Вильерса от первого брака, с которыми леди Вильерс, став леди Комптон, сохраняла хорошие отношения.
(обратно)4
Кончини, Кончино (1575-1617) – фаворит Марии Медичи. Пытался, совместно с королевой, ограничить власть молодого Людовика XIII и был убит по его приказу. (Прим. пер.)
(обратно)5
Так называли Генриха IV. (Прим. пер.)
(обратно)6
Графы Нортхемптон и Суффолк приходились друг другу дядей и племянником, и оба принадлежали к роду Говардов. Суффолк был лордом-казначеем королевства. Кроме того, Суффолк был тестем Сомерсета. Оба они получали деньги от испанского короля.
(обратно)7
Яков Стюарт, сын Марии Стюарт и Генри Дарнли, был наследником шотландского престола. Он 36 лет правил в Шотландии под именем Якова VI, а затем, в 1603 году, стал королем Англии под именем Якова I как наследник Елизаветы I.
(обратно)8
Слово «миньон» означало в ту пору просто близкого друга и не имело обязательного сексуального подтекста. Современное значение – «любовник» – появилось позже.
(обратно)9
Яков I не ревновал своих фаворитов, когда они женились. Напротив, он принимал во всем живейшее участие и способствовал их браку. Этот факт следует подчеркнуть при создании его психологического портрета.
(обратно)10
В оригинале privacy.
(обратно)11
Пуританский пастор Эдмунд Пичем написал злобный памфлет против Якова I, используя исключительно сильные выражения. Он был приговорен к смерти, но умер в тюрьме до казни.
(обратно)12
Портрет приписывают Дэниелу Майтенсу-старшему либо Уильяму Ларкитту; в настоящее время он находится в Национальной портретной галерее в Лондоне.
(обратно)13
Верховный судья – наивысшая судейская должность в королевстве.
(обратно)14
Блаженны миротворцы (лат.).
(обратно)15
Главный стряпчий (Solicitor General) – верховный адвокат, юридическая должность, обычно считавшаяся преддверием к посту генерального прокурора. Перед тем как стать генеральным прокурором, ее занимал Фрэнсис Бэкон, а в 1613 году его сменил Йелвертон.
(обратно)16
В сцене обвинения святого Стефана синедрионом: «И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо Ангела». (Прим. пер)
(обратно)17
См. главу IVX.
(обратно)18
Несомненно, речь идет о дичи, которую король часто посылал Бекингему.
(обратно)19
Имя «Яков», принятое для именования королей Стюартов, соответствует английскому «Джеймс». Инициал «R» означает «король» (лат. – гех), а встречающееся в письмах принца Карла «Р» – принц (лат. – princeps). (Прим. пер.)
(обратно)20
Государственный секретарь сэр Ральф Уинвуд был враждебно настроен по отношению к Бэкону. Спустя несколько месяцев он скончался.
(обратно)21
Отсюда необходимость для нынешних историков пересчитывать даты, приходящиеся на период между 1 января и 24 марта: так, 1 января 1618 года по нашему календарю было для людей того времени 1 января 1617 года. В настоящей книге все даты приводятся с соответствующими поправками.
(обратно)22
В настоящее время территория Венесуэлы.
(обратно)23
«Высокая церковь» – течение в англиканстве, придающее большее значение авторитету и юрисдикции церкви, а также церковной иерархии и обрядам, возникшее еще в правление Елизаветы I, когда так называли духовенство, утверждавшее, что кальвинизм несовместим с учением древней церкви, и проповедовавшее божественное происхождение епископата. (Прим. пер.)
(обратно)24
Принца Генри (1594-1612), принцессу Елизавету (1596-1662) и принца Карла (1600-1649).
(обратно)25
Во Франции могущественные принцы крови, происходившие по мужской линии из королевских семей, часто становились серьезными политическими соперниками короля и настаивали на том, что он – всего лишь «первый среди равных». (Прим. пер.)
(обратно)26
Подагра.
(обратно)27
Вервенский договор, подписанный Генрихом IV Французским и Филиппом II Испанским, подвел итог Религиозным войнам и положил конец претензиям Испании на Бретань, Пикардию и Прованс. В свою очередь Франция отказалась от владений во Фландрии и Артуа. (Прим. пер.)
(обратно)28
Равальяк Франсуа (1575-1610) убил Генриха IV 14 мая 1610 года. Будучи экзальтированным человеком, он считал, что таким образом защищает католицизм от бывшего еретика-гугенота, и утверждал, что действовал в одиночку. (Прим. пер.)
(обратно)29
Старинная крепость в центре Праги. (Прим. пер.)
(обратно)30
В 1612 году он женился на дочери Якова I, принцессе Елизавете, пользовавшейся большой популярностью в Англии. Столица Фридриха находилась в Гейдельберге.
(обратно)31
Объединение северных провинций – Голландии, Зеландии, Утрехта, Фрисландии и Гельдерна, – провозгласивших независимость от Испании.
(обратно)32
Еще один прославившийся махинациями монополист.
(обратно)33
Дочь Филиппа II и Елизаветы Валуа. Именно ее признания в качестве наследницы французского престола требовал после смерти Генриха III ее отец. В 1622 году ей было 56 лет.
(обратно)34
Сын императора, будущий Фердинанд III (1608-1657).
(обратно)35
Католики, отказавшиеся присягнуть королю как высшему церковному главе Англии.
(обратно)36
Письма, которые Карл и Бекингем писали королю Якову, как и ответы последнего, датированы в соответствии с юлианским календарем, в то время как французские и испанские документы помечены датами по григорианскому.
(обратно)37
Пиренейский договор, положивший конец Франко-испанской войне в правление Людовика XIV, был подписан на Фазаньем острове, на пограничной реке Бидассоа. Он закрепил границы обоих государств, значительно улучшив стратегические возможности Франции, и предполагал женитьбу французского короля на инфанте Марии-Терезии. Впоследствии при подписании брачного договора оба короля снова встретились на Фазаньем острове. (Прим. пер.)
(обратно)38
Тогда он еще не был «графом-герцогом». Герцогство Сан-Лукар было передано ему только в 1625 году.
(обратно)39
Два брата короля.
(обратно)40
Carlos Estuardo soy Que, siendo amor mi guia Ai ciel d'Espaca me voy For ver mi estrella Maria.
(обратно)41
В тексте письма вставлено французское слово. Скорее всего, намек на французского короля Генриха IV, дважды менявшего вероисповедание из политических соображений. (Прим. пер.)
(обратно)42
Бриллианты? Жемчужины?
(обратно)43
Слуга Бекингема, доставлявший письма.
(обратно)44
Старший сын Фридриха и Елизаветы Стюарт, Карл-Людвиг, родившийся 22 декабря 1617 года и живший в это время вместе с матерью в Голландии.
(обратно)45
В этих данных, приводимых в документах того времени, кроется загадка, разрешить которую мы не в силах. 18 сентября по испанскому (григорианскому) календарю соответствовало 8 сентября по английскому (юлианскому). Как примирить прибытие в Портсмут 5 октября (подтвержденное всеми английскими документами) с тем, что путешествие длилось семь дней (см. Гардинер, Локиер и др.)? Если флот вышел из Сантандера 18 сентября по григорианскому календарю, как указано во всех документах, что соответствует 8 сентября по юлианскому календарю, то переезд длился 26 дней вопреки свидетельствам современников и… здравому смыслу. Поэтому мы приводим все даты так, как они даны в источниках, но объяснить противоречие не можем.
(обратно)46
Непременное условие (лат.)
(обратно)47
Вальтелина – долина по верхнему течению реки Адды в Альпах. Через нее проходили дороги из Ломбардии в Швейцарию. В 1620 году Испания воздвигла по всей Вальтелине цепь укреплений, однако долина была важна для Франции, так как связывала ее с союзной Венецией. Поэтому Ришелье, совместно с швейцарскими войсками, изгнал из Вальтелины испанские гарнизоны и настаивал на подчинении местности Швейцарии. Окончательное решение вопроса было достигнуто в 1626 году (Монзонский договор). (Прим. пер.)
(обратно)48
См. главу XII.
(обратно)49
Дозволено извлекать пользу из чужих грехов (лат.).
(обратно)50
См. главу VII.
(обратно)51
Мария Медичи.
(обратно)52
Такое положение дел продлилось недолго.
(обратно)53
То есть инфанты Марии.
(обратно)54
Якова I часто называли именем Соломона, мудрого библейского царя Израиля. Подобный комплимент всегда льстил его самолюбию.
(обратно)55
Старинный титул, к тому времени абсолютно фиктивный и восходящий к эпохе Столетней войны. В английских дипломатических документах короля Франции и Наварры именовали просто «королем французов» без упоминания Наварры.
(обратно)56
Генри Уоттон упоминает только об одном бриллианте, который оторвался от костюма герцога и был возвращен ему на следующий день. Не здесь ли исток легенды?
(обратно)57
Подобные карты характерны для литературы эпохи барокко, получившей название «прециозной». Образцом для «карт нежности» служили аллегории средневекового «Романа о Розе». Наиболее известный пример детально разработанной «прециозной географии» включен Мадлен Сюодери в роман «Клелия» (1654). (Прим. пер.)
(обратно)58
Французское уменьшительное «chevrette» («козочка») созвучно фамилии герцогини Chevreuse. (Прим. пер.)
(обратно)59
Подвесками называлось драгоценное украшение на конце шнура или ленты, служивших как застежка для рубашек, курток или штанов.
(обратно)60
Если это и не правда, то это прекрасно придумано (ит.).
(обратно)61
См. главу I.
(обратно)62
Мария Стюарт, которую считали мученицей за католическую веру.
(обратно)63
См. главу VIII.
(обратно)64
См. главу XIV.
(обратно)65
Речь идет о Средних веках. (Прим. ред.)
(обратно)66
Ссылка на комету, незадолго до того появившуюся в небе. Народное суеверие связало ее со вспышками эпидемии чумы.
(обратно)67
Combescot P. Les Petites Mazarines, 1999.
(обратно)68
Дерзок, скрытен, склонен к клеветничеству, а также льстив и надменен (лат.).
(обратно)69
Сотоварищем трудов императора (лат.).
(обратно)70
Высший суд по гражданским делам.
(обратно)71
Суд, занимавшийся преимущественно уголовными делами и делами о государственной измене. Возник в XV веке как продолжение традиционных судебных заседаний королевского Тайного совета в Звездной палате Вестминстера. Был упразднен в 1641 году решением так называемого Долгого парламента. (Прим. пер.)
(обратно)72
Приморская историческая область Франции, столицей которой была Ла-Рошель. (Прим. пер.)
(обратно)73
Морская битва при Слёйсе (Фландрия) во времена Эдуарда III (1340 год).
(обратно)74
См. главу XVI.
(обратно)75
Эшвенами в интересующее нас время назывались во Франции члены городского магистрата. (Прим. пер.)
(обратно)76
Первый сын по имени Чарльз умер в младенчестве за два года до этого.
(обратно)77
Не пугать с Эдвардом Коком, бывшим генеральным прокурором, одним из самых ярых противников Бекингема и королевской власти.
(обратно)78
Цитата из «Трактата о достоинстве и приумножении наук» Фрэнсиса Бэкона. В принципе, подобные высказывания о необоримости клеветы встречаются у многих других авторов от Плутарха до Вольтера и Бомарше. (Прим. пер.)
(обратно)79
Такое название получили небольшие, легкие и очень маневренные корабли, которые Ришелье использовал при осаде Ла-Рошели. (Прим. пер.)
(обратно)

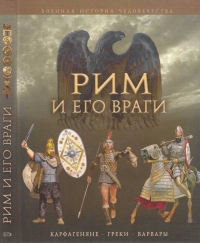

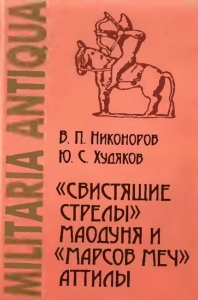
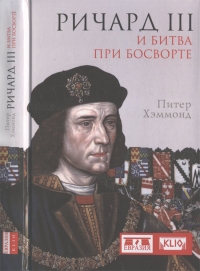

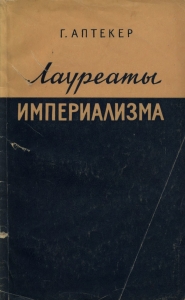
Комментарии к книге «Герцог Бекингем», Мишель Дюшен
Всего 0 комментариев