Вячеслав Николаевич Козляков, Игорь Львович Андреев, Василий Александрович Токарев,П. Михайлов, Юрий Моисеевич Эскин День народного единства: биография праздника
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. ЧЕТВЕРТОЕ НОЯБРЯ (В. Никонов)
4 ноября 2005 г. Россия впервые отметила День народного единства. «Почти четыре века назад, в тяжелейшие времена раскола и междоусобиц многонациональный народ нашей страны объединился, чтобы сохранить независимость и государственность России. Ее великие граждане Кузьма Минин и Дмитрий Михайлович Пожарский возглавили народное ополчение, которое остановило Смуту и вернуло на нашу землю закон и порядок», – говорил о событиях, в честь которых был установлен этот праздник, Президент Российской Федерации В. В. Путин.
Со времен первого из династии Романовых – царя Михаила Федоровича в России почитали Казанскую икону Богоматери. В народной памяти она связана с освобождением Москвы от польско-литовских интервентов войсками земского ополчения. Все в стране знали предание о явлении Богородицы казанской отроковице. Богоматерь указала ей место, где будет найдена чудотворная икона, которая защитит Россию от иноземных захватчиков. Такова историческая и религиозно-духовная подоплека этого праздника.
Победа над захватчиками имела огромное политическое значение. В начале XVII в. решался вопрос о том, какая из стран станет великой державой Восточной Европы, а какая окажется «на задворках истории». На первенство с примерно равными основаниями претендовали Россия, Польша и Швеция. Минин и Пожарский лишили этого шанса Польшу и дали шанс России, который она и реализовала по прошествии еще одного века, когда Петр I под Полтавой разгромил шведов.
Но в начале XVII в. до триумфа России было далеко: страна переживала Смутное время – один из самых тяжелых периодов своей истории. Смута началась после смерти царя Федора Иоанновича, последнего в династии Рюриковичей. Сменялись в результате заговоров, переворотов и интервенций правители и претенденты на трон: Борис и Федор Годуновы, Лжедмитрий, Василий Шуйский, Семибоярщина, самозваные царевичи; шла беспринципная борьба за власть боярских кланов, призывавших на помощь зарубежных правителей и наемников. Клятвоотступничество и серия предательств знати, междоусобица, казачья вольница, стремление Речи Посполитой,[1] католической церкви, Швеции навязать России свое господство – все это поставило страну на грань гибели.
К 1611 г. Москва была занята польским гарнизоном, который фактически захватил власть в столице. Король Речи Посполитой Сигизмунд III из-под осажденного им Смоленска отдавал от своего имени распоряжения всей России и удерживал в плену великое посольство из лучших московских людей, которое было направлено к нему, чтобы просить на царство его сына Владислава. Северо-западная часть страны находилась в руках шведов. Шайки казаков из стана уже убитого Лжедмитрия II, которого народ нарек Тушинским вором, бродили по Руси, занимаясь грабежом.
В этот момент и проявились лучшие качества нашего народа, который взял дело спасения Родины в свои руки. У истоков народного движения стоял «начальный человек Московского государства» – патриарх Русской православной церкви Гермоген. Заключенный в Чудовом монастыре, он рассылал по городам грамоты, благословляя людей на восстание против захватчиков. По всей стране распространялись послания от смолян о бедствиях в их крае.
Предводителем восстания стал П. П. Ляпунов, к которому потянулись земские дружины со всех концов государства – из земель Рязанской, Северской, Муромской, Суздальской, из северных и поволжских областей. К Первому ополчению присоединились и многие казаки. В апреле 1611 г. ополченцы осадили польский гарнизон в Москве. Однако внутренняя рознь погубила ополчение. Ляпунов по польскому навету погиб от рук недавних сторонников. Положение страны еще более ухудшилось.
Пал Смоленск, где из 80 тысяч жителей в живых осталось только 8 тысяч. Шведы обманом взяли Великий Новгород и навязали ему договор, по которому власть над ним получил один из сыновей шведского короля. В Пскове объявился самозванец Сидорка, он же Лжедмитрий III. Запад страны и Москва были захвачены.
Но россияне не чувствовали себя побежденными. Напротив, общие страдания только закаляли волю народа. «Весь север и северо-восток Руси находились тогда в состоянии какого-то духовного напряжения и просветления, какое является в массах в моменты великих исторических кризисов», – подчеркивал выдающийся историк Смутного времени Сергей Платонов.
На борьбу народ вновь вдохновлял патриарх и священнослужители Троице-Сергиевого монастыря во главе с архимандритом Дионисием. Центром нового освободительного движения стал Нижний Новгород, а его зачинателем – посадский человек Кузьма Минин. Осенью 1611 г. он обратился к посадским людям с призывом собрать средства для формирования Второго ополчения: «Захотим помочь Московскому государству, так не жалеть нам имения своего, не жалеть ничего, дворы продавать, жен и детей закладывать и бить челом, кто бы вступился за истинную православную веру и был у нас начальником». Воеводой избрали талантливого полководца князя Дмитрия Михайловича Пожарского, участника Первого ополчения. В Нижний стали прибывать воины – сначала оставшиеся без крова смоляне и вязьмичи, потом ополченцы из Рязани, Коломны, Казани, Свияжска, Чебоксар, других поволжских городов. Поляки пытались заставить Гермогена написать увещевание о роспуске ополчения, но патриарх отказался, предпочтя принять голодную смерть.
В марте 1612 г. ополчение двинулось на Ярославль, где Пожарский и Минин оставались до конца лета, снаряжая войско и обеспечивая безопасность тылов от шведов и разбойничьих шаек. Князь «со товарищи» управлял не только войском, но и «всей землей»: принимал челобитные, давал жалованные грамоты, оказывал помощь разоренным, назначал денежные сборы на армию. И делал он это «по совету всей земли», коль скоро его ополчение и представляло собой всю Россию.
Войско выступило к Москве 20 августа. Польский гарнизон, несмотря на жесточайший голод, отказался сдаваться и героически оборонялся. И только в конце октября бойцам Пожарского удалось занять Китай-город. Датой освобождения столицы традиционно считается 22 октября (4 ноября по новому стилю).
После взятия Москвы Пожарский своей грамотой созвал представителей от городов для избрания царя. В январе 1613 г. выборные съехались на многолюдный Земский собор, где назвали новым государем Михаила Федоровича Романова. Смута еще продолжалась. Шведы стояли в Новгороде; Речь Посполитая не оставила своих планов подчинить Московское государство; банды поляков, литовцев, просто разбойников бесчинствовали на западе и севере Руси. Но исход битвы за независимость страны был уже предрешен. Освобождение Москвы положило конец междоусобице и распрям. Началось возрождение Отечества, становление великой и суверенной державы. Сам народ отстоял российскую государственность, проявив высочайшую ответственность и гражданское мужество, готовность к самопожертвованию.
Для современной России День народного единства – это праздник, в который мы отдаем дань вековым традициям патриотизма и согласия народа. Необходимость гражданского единства в российском обществе не вызывает сомнения. Можно спорить лишь о способах достижения этой цели, а лучший арбитр в подобном споре – время. Появление праздника, который побуждает искать в нашем прошлом то, что сплачивает, а не разъединяет – только первый шаг на этом пути.
ЗЕМСКИЕ ОПОЛЧЕНИЯ И ИЗБРАНИЕ ЦАРЯ МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА (В. Козляков)
Первое ополчение
Начало земского движения по организации Первого ополчения, называющегося еще ляпуновским (по имени его главного организатора Прокофия Петровича Ляпунова[2]), совпало с событиями в Калуге, где 11 декабря 1610 г. погиб Лжедмитрий II. Долго сдерживавшееся недовольство «литвой»[3] и Речью Посполитой прорвалось. Именно ради борьбы с самозванцем боярское правительство (Семибоярщина) в августе 1610 г. впустило в столицу польско-литовский гарнизон и договаривалось с гетманом Жолкевским о призвании королевича Владислава на русский престол. Со смертью одиозного «царика» исчезала необходимость дальнейшей поддержки кандидатуры польского королевича, тем более что стало очевидным нежелание короля Сигизмунда III выполнять условия договора, и переговоры под Смоленском зашли в тупик. Поэтому появились предпосылки для объединения всех, кто был недоволен избранием на русский престол польского королевича Владислава, не исключая вчерашних сторонников самозванца. Позднее польско-литовская сторона обвинила главу смоленского посольства боярина князя Василия Васильевича Голицына в том, что он первым настроил патриарха Гермогена и Прокофия Ляпунова против короля: «и к Ермогену патриарху в столицу, и на Рязань к Прокофью Ляпунову, и к иным многим изменником по городом грамоты росписал неправдиве, будто государь король, его милость, не хочет дати сына своего королевича его милости Владислава на Московское государство» [53, 395]. Делал это Голицын, по мнению «панов-рады» Речи Посполитой, для того, чтобы воцариться самому. Обвинения эти выглядят правдоподобными, но не более того. Очевидно, что выступление Прокофия Ляпунова действительно началось после провала смоленского посольства и не без связи с воззваниями патриарха Гермогена, оказавшегося последовательным противником «латынян» (католиков) в Московском государстве.
Вопрос о причастности патриарха Гермогена к делу создания ополчения, несмотря на свою очевидность, относится к числу спорных тем истории Смуты [62, 33$; 29, 22–26]. Независимо от того, писал или не писал патриарх Гермоген призывные послания (а какая-то переписка все-таки была, например с рязанским архиепископом Феодоритом), именно его открытое неповиновение польско-литовским властям и их русским сторонникам обозначило возможный выход из тупика.
Патриарха Гермогена не послушали летом 1610 г., при низложении с престола царя Василия Шуйского, и в дальнейших контактах с гетманом Станиславом Жолкевским, грубо указав ему, чтобы не вмешивался в земские дела. Поэтому у него были все основания для обид на Боярскую думу, которая продолжала держаться буквы договора (уже успевшего превратиться в фикцию) о призвании королевича Владислава. Патриарх решительно отказался от того, чтобы вместо королевича передать русский престол королю.
Под Смоленском передавали слова патриарха Гермогена: «Легко теперь этих поганых и разбойников истребить можем, когда у нас согласие будет и один только в земле неприятель» [62, 325]. Не были, видимо, эти речи тайной и в самой Москве, а также за ее пределами. Из Переславля-Рязанского воевода и думный дворянин Прокофий Ляпунов тоже обращался к Боярской думе с посланием, чтобы она прямо объявила, ожидается или нет приезд королевича Владислава, и не соглашалась на передачу русского престола Сигизмунду III [62, 332]. Следующим шагом стал отказ воеводы Ляпунова в конце 1610 г. присылать в Москву так необходимый столице рязанский хлеб. Собранные доходы тоже оставались в его распоряжении, и он использовал их на земское дело, начав выяснять, кто еще готов, как и он, до конца воевать против польского короля и его сторонников в Москве.
Московских бояр такая перспектива очень пугала, и они сообщали Сигизмунду III под Смоленск, что Прокофий Ляпунов «воевод и голов с ратными людьми от себя посылает, и городы и места заседает, и в городех дворян и детей боярских прельщает, а простых людей устращивает и своею смутою от вашей государской милости их отводит; а ваши государские денежные доходы и хлеб всякой збирает к себе» [53, 215]. Опять попытались повлиять на патриарха Гермогена, чтобы он остановил рязанского строптивца. Однако это обращение достигло противоположного результата.
Патриарх Гермоген говорил: «…а к Прокофью Ляпунову стану писати: будет королевич на Московское государство и крестится в православную християнскую веру, благословляю его служить, а буде королевич не крестится в православную християнскую веру и Литвы из Московского государства не выведет, и я их благословляю и разрешаю, кои крест целовали королевичю, идти под Московское государство и померети всем за православную християнскую веру» [37, 106].
Патриарха Гермогена в Москве теснили и держали под подозрением, но в итоге под Смоленском решили, что надо использовать его авторитет в своих целях. В марте 1611 г. канцлер Лев Сапега отправил к нему официальное посольство во главе с Адамом Жолкевским (племянником гетмана Станислава Жолкевского) говорить «о делех всего государства Московского» [52, 264–265]. Никакого разговора о «добрых делах» в итоге у этого посольства не получилось, так как развитие событий привело к страшному пожару в Москве 19 марта 1611 г. и открытой войне с войсками Первого ополчения, подошедшего к столице. В тот момент даже сам гетман Жолкевский, полностью утративший доверие московских бояр, ничего бы не мог поправить, не говоря о его племяннике. Он писал об этом так: «У Москвы не имею уважения, так как ничего не сделано из того, что я обещал» [62, 366].
Переславль-Рязанский и Нижний Новгород, первыми начавшие движение по созданию земского ополчения, заключили договор о совместных действиях около 31 января 1611 г. Им нужно было только вспомнить недавние времена борьбы с тушинцами и поддержку, оказанную рати князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Снова служилые и посадские люди, представители всех «чинов» действовали рядом друг с другом, самостоятельно определяя, что делать дальше, чтобы решить главный династический вопрос. К движению быстро присоединились и другие замосковные[4] и украинные[5] города.
Вокруг городовых воевод, отказавшихся от поддержки королевича Владислава, объединялись местные посадские «миры», дворяне и дети боярские, другие служилые люди. Надо хорошо представлять переворот, совершившийся в умах людей, в обычное, «несмутное» время редко покидавших свои посады и уезды (за исключением городового дворянства, которому такая служба была привычна). Должны были сложиться чрезвычайные обстоятельства, побуждавшие людей действовать именно таким образом. Отнюдь не случайно в агитационных грамотах начала движения ссылались на призыв патриарха идти под Москву к концу зимы, чтобы авторитетом «земли» повлиять на выполнение обещания о новом царе.
Но у нового движения было одно важное отличие от всех остальных коалиций периода Смуты: Первое ополчение должно было объединить тех, кто еще до недавнего времени находился в непримиримой вражде друг с другом, – «земцев» и «тушинцев». Ко всему добавлялась другая, социальная рознь между дворянами и казаками, между дворянами и их «старинными» и «крепостными» людьми, которых зазывали в ополчение, обещая дать им волю.
В этот момент сказалось выгодное расположение Рязанской земли, посредине между последовательной земщиной в Нижнем Новгороде и мятежными сторонниками Ивана Болотникова и Тушинского вора в Туле и Калуге. Кроме того, фигура Прокофия Ляпунова, резкого в своих политических порывах и неоднократно открыто выступавшего против власти царя Василия Шуйского, была удобнее для переговоров тем, кто еще недавно служил самозванцу и тоже предпочитал, как и Ляпунов, не ждать, как будут разворачиваться события, а решительно влиять на них. Так Рязань и ее воевода Прокофий Ляпунов оказались в центре земского движения, организовав столь необходимые переговоры со всеми, кто стремился избавиться от диктата короля Сигизмунда III в московских делах.
Представление о начальных целях земского движения дает первая крестоцеловальная запись, по которой впервые присягали в Нижнем Новгороде те, кто «записывался» в ополчение при его создании в январе 1611 г. В ней лучше было сформулировано то, против чего восстала собиравшаяся земская сила, а общая задача была всего одна: «что нам за православную крестиянскую веру и за Московское государьство стояти и от Московского государьства не отстати» [1, 307]. Совершившийся поворот превращал бесконечные междоусобья в войну за веру и защиту столицы Русского государства.
В крестоцеловальной записи упоминалось самое насущное, касавшееся всех, без чего нельзя было достичь общих целей. Будущие ополченцы договаривались «стояти заодин» против польского короля Сигизмунда III и его русских сторонников. Но одного этого было мало, надо было еще сохранить мир друг с другом, поэтому в записи подробно сказано, чего нельзя делать в будущем. Один этот список возможных преступлений является ярким свидетельством глубины общественного распада (так до конца и не преодоленного в Первом ополчении): «…и меж собя смутных слов никаких не вмещати, и дурна никакого не всчинати, скопом и заговором и никаким злым умышлением никому ни на кого не приходити, и никому никого меж собя не грабити, и не побивати, и лиха ни которого меж собя никому ни над кем ничем не чинити» [1, 307]. Самый главный вопрос о царе не предрешался. Более того, на этом этапе деятельности земского ополчения по-прежнему сохранялась возможность призвания королевича Владислава. Хотя сказано об этом было предположительно и в ряду заведомо невыполнимых для короля Сигизмунда III условий.
В начавшейся агитационной переписке земские «миры» обращались друг к другу от имени широкого союза разных чинов. Так, отвечая на нижегородское обращение, рязанский воевода Прокофий Ляпунов писал:
«В преименитый Новгород Нижней, священного причета, архимадритом и игуменом, и протопопом и всему Освященному собору, и государственного ж сана, господам воеводам, и дьяком, и дворяном и детем боярским Нижнего Новагорода и розных городов и Нижнего Новагорода головам литовским и стрелецким и казачьим, и литве и немцом, и земским старостам и целовалником, и всем посадским людем, и пушкарем, и стрелцом, и казаком и розных городов всяким людем, обитающим в Нижнем Новегороде, всему христоименитому народу» [1, 301].
За этим пышным обращением лежало не стремление к украшению речи «плетением словес», а отчетливое понимание, что в своих призывах нельзя никого пропустить (даже служилых иноземцев и их голов, упомянутых в рязанской грамоте). В грамоте Прокофия Ляпунова, в отличие от нижегородских обращений, подчеркивавших, что целью земского дела становится борьба за веру, большой упор сделан на текущую борьбу с боярами в Москве. Все время существования ополчения они будут самыми главными врагами Ляпунова.
Рязанский союз с самого начала объединил Калугу, Тулу, Михайлов, северские[6] и украинные города, где тоже началось крестное целованье и был заключен договор «со всею землею стояти вместе, заодин, и с литовскими людми битись до смерти» [1, 301].
К ним примкнула «понизовая сила», стоявшая под Шацком. Посланники Прокофия Ляпунова ездили во Владимир и Коломну и смогли привезти благоприятные вести. Эти два города (несмотря на то, что в Коломне еще оставалась помеха в лице воеводы Василия Борисовича Сукина, подчинявшегося московскому боярскому правительству) и были назначены в качестве сборных мест для схода первых отрядов ополчения. Для своих рязанцев Прокофий Ляпунов определил самый очевидный, близкий путь на Москву – через Коломну. Бывшие тушинцы, среди которых выделялось казачье войско Ивана Заруцкого в Туле, и отряды бояр из Калуги, должны были самостоятельно двигаться к столице. А «земская» часть войска из Нижнего Новгорода и других городов Замосковного края по предложению Прокофия Ляпунова должна была прежде идти на Владимир.
Так и поступили. Первые сотни направились из Нижнего Новгорода во Владимир 8 февраля 1611 г. Владимир стал местом сбора воевод, ранее известных прежде всего своей приверженностью царю Василию Шуйскому. Кроме нижегородского воеводы князя Александра Андреевича Репнина, там должны были собраться окольничий князь Василий Федорович Мосальский из Мурома и суздальский отряд во главе с Андреем Захарьевичем Просовецким.
Андрей Просовецкий был из той же плеяды казачьих вождей Смуты, что и Иван Заруцкий (и тех же политических пристрастий). Несмотря на то что он одним из первых включился в земское движение, во Владимире первым воеводой суздальского отряда стал окольничий Артемий Васильевич Измайлов (правда, в земских городах ему не сразу смогли простить то, что он был фактически временщиком у царя Василия Шуйского, и иногда упоминали его без чина окольничего и даже отчества). Под командованием Андрея Просовецкого остались казаки, пришедшие из-под Пскова, оказавшиеся сначала в Суздале, а потом с земскими отрядами во Владимире.
11 февраля под Владимиром отряд воеводы окольничего А. В. Измайлова был атакован, хотя и безуспешно, присланным из Москвы полком боярина князя Ивана Семеновича Куракина. Судьба далеко развела друг от друга бывших ближайших советников Шуйского, один из которых воевал на стороне ополчения, а другой продолжал поддерживать кандидатуру польского королевича.
Король Сигизмунд III и московские бояре также сделали попытку привлечь для борьбы с начинавшимся земским движением войско гетмана Яна Петра Сапеги, стоявшее в Перемышле. Здесь и сказалось то, что у ополчения было все-таки две части, потому что тушинцы смогли уговорить гетмана сохранять нейтралитет, обнадежив его самого и войско уплатой им в случае успеха «заслуженного жалованья».
В войске Сапеги могло быть немало сочувствовавших начавшемуся движению, провозгласившему одной из своих главных целей защиту православной церкви. Эта идея могла быть привлекательна для сапежинцев хотя бы потому, что, как писал гетман, «у нас в рыцарстве болшая половина руских людей» [2, 375] (речь шла о православных выходцах из Речи Посполитой, воевавших под началом Яна Петра Сапеги). Одновременно посольство от войска Сапеги из Перемышля ездило в Тулу, где смогло договориться с Иваном Заруцким. Обрадовался стремлению Сапеги к союзу и Прокофий Ляпунов, не желая, по его словам, оставлять «за хребтом» таких «великих людей». Он послал договариваться в Калугу и к гетману Сапеге своего племянника Федора Ляпунова, думая уговорить гетмана встать в Можайске на дороге. Секрет возможного согласия был прост, его сообщал гетману Федор Плещеев в начале февраля 1611 г.: «…а про заслуженое де они так говорят: «не токмо что де тогды заплатим, коли кто будет царь на Москве, нынече де ради заслуженное платить»» [1, 311–312]. Однако в условиях отсутствия общей казны ополчения это была всего лишь декларация, которой гетман Сапега в итоге не поверил.
Ополчение еще только собиралось двигаться к Москве, а в городах уже выбирали тех, кто мог представлять на будущем Земском соборе, – служилые дворянские общества и посады.
Основу городовых отрядов, двинувшихся к Москве, составляли местные дворяне и дети боярские, но с ними вместе приняли участие в ополчении стрельцы, казаки и даточные люди,[7] собранные с монастырских земель. Даточные люди собирались также с поместий и вотчин отставных людей, вдов и недорослей, всех тех, кто не мог идти под столицу.
19 марта 1611 г., в день страшного пожара Москвы, у русских публицистов появилась своя дата, от которой они отсчитывали «конечное разорение» Московского государства. Отряды Первого ополчения уже были на подходе к Москве, видели всполохи подожженного города и встречали на дорогах спасавшихся погорельцев. Это была упреждающая месть неуютно чувствовавшего себя в столице польско-литовского гарнизона во главе с Александром Госевским. Что мог сулить приход земского ополчения нескольким тысячам поляков и литовцев, расположившимся полками в Кремле, Китай-городе и Белом городе, было очевидно. Ротмистр Николай Мархоцкий, как опытный военный, запомнил диспозицию и правдиво написал, что в последнее время польско-литовский гарнизон уже «не очень полагался на свои силы, которые были слишком малы для города в сто восемьдесят с лишним тысяч дворов» [30, 88]. Но случай отменил все расчеты: долго копившееся недовольство самоуправством иноземных гостей, превратившихся в единственных хозяев, прорвалось во время рядового дела по установке пушек на Львиные ворота Китай-города 19 марта 1611 г. Сказалось и ожидание прихода ляпуновского ополчения, слухи о котором уже достигли столицы. Во время начавшихся волнений на безоружных русских людей бросились поляки, литовцы и «немецкие» наемники; в итоге в один день погибло шесть или семь тысяч «москвитян», еще утром того дня мирно торговавших в Китай-городе [8, 59].
Все это означало только одно – войну против москвичей. Иными словами, чтобы спастись самим, начальники польско-литовского гарнизона приняли решение сжечь Москву. Николай Мархоцкий описал страшную картину: «Ночь мы провели беспокойную, ибо повсюду в церквах и на башнях тревожно били колокола, вокруг полыхали огни, и было так светло, что на земле можно было иголку искать» [30, 89–90]. По подсказке своих сторонников в Боярской думе польско-литовское войско приложило немало усилий, чтобы сжечь Замоскворечье, где находилась Стрелецкая слобода, окруженная деревянной стеной. Собственно, произошло то, что должно было происходить, когда город оказывался в осаде и его защитники затворялись в Кремле за каменными стенами. Но в данном случае речь шла о разорении огромного города и убийстве многих и многих тысяч людей, что прекрасно понимали те, кто решился на это: «Этот пожар все разорил, погубил великое множество людей. Великие и неоценимые потери понесла в тот час Москва» [30, 89–90]. Войдя в город в качестве друзей, от которых ждали совместных действий против самозванца в Калуге, всего полгода спустя поляки и литовцы превратились в ненавидимых оккупантов.
Люди, оставшиеся на московском пепелище, недолго ходили перепоясанные рушниками (их заставили это сделать, чтобы отличить тех, кто снова принес присягу королевичу Владиславу). Уже в «Великий понедельник», 25 марта 1611 г., передовые отряды земского ополчения встали за Москвой-рекой у Симонова монастыря.
В грамотах, рассылавшихся из ополчения, днем начала московской осады называлось 1 апреля 1611 г. С этого дня земские отряды заняли свои позиции около ворот каменных стен Белого города и началась осада. Сил ополченцев, оставшихся без поддержки московских стрельцов и посада, не могло хватить на то, чтобы организовать планомерное окружение города. Вместо «кольца» вокруг Каменного города получилась «чересполосица», враждебные войска стояли рядом друг против друга. В руках польско-литовского гарнизона оставались Никитские, Арбатские и Чертольские ворота, а также две башни Белого города.
Начавшиеся бои приняли затяжной характер, а ополчению надо было решить множество задач, чтобы утвердиться в качестве признанной земской власти. Сразу же была исправлена крестоцеловальная запись, по которой стали присягать те, кто заново присоединялся к ополчению. Главным новшеством стало полное исключение службы королевичу Владиславу, от которого отказывались как от возможного русского самодержца. В новой «редакции» крестоцеловальной записи говорилось уже прямо: «королю и королевичу (выделенное словосочетание добавлено по сравнению с прежним текстом. – В. К.) полскому и литовскому креста не целовати, и не служити и не прямити ни в чем ни которыми делы». Из текста записи удалили упоминание о готовности подчиниться Владиславу, если король Сигизмунд III даст его на московское царство. Вместо этого добавилась страшная клятва с проклятиями тем, «кто не учнет по сей записи креста целовати, или крест целовав не учнет так делати, как в сей записи писано» [1, 319–320]. Пришедшие под Москву ратные люди стали себя называть «Великого Московского государьства бояре и воеводы». По городам в церковных службах «на многолетье» стали поминать «благоверныя князи и бояря» и обращаться под Москву с челобитными к «Великого Росийского Московского государьства и всей земли бояром». Повсюду рассылались призывы действовать «обще со всею землею» и в ополчение приглашались все новые ратники, вплоть до «крепостных» людей. Была назначена дата – 29 мая (по другим сведениям 25 мая), к которой приезд в ополчение становился уже не желателен, а обязателен для всех. В противном случае по земскому приговору предлагалось конфисковать поместья и отдать их «в роздачу».
Кроме военной задачи – блокирования польско-литовского гарнизона в Москве и принуждения его к сдаче, ополчение занялось созданием земского правительства.
Еще в момент организации ополчения на его нужды были направлены те доходы, которые собирались в городах, примкнувших к общему совету. На эти деньги закупались свинец и порох, выплачивалось жалованье служилым людям, готовился «корм».[8]
Все эти траты после прихода ополчения под Москву стали еще более насущными. Поэтому «бояре Московского государства» (в противовес боярам из Москвы) призывали привозить собранную казну в ополчение, а не отдавать ее сидевшим в столице полякам и литовцам. К призыву помочь общему делу присоединилась и братия Троице-Сергиева монастыря, «освятив» своими грамотами действия воевод земского ополчения. Трудно найти в публицистике Смутного времени более сильные слова, чем те, которые были сказаны в грамотах архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына, рассылавшихся из Троице-Сергиева монастыря «в Казань и во все понизовые городы,[9] и в Великий Новгород и Поморье; на Вологду и в Пермь Великую» [1, 329].
В этих отдаленных частях государства уже давно привыкли жить по собственному разумению, не особенно слушая сменявших друг друга воевод (в начале 1611 г. в Казани сбросили с башни бывшего любимца Ивана Грозного окольничего Богдана Бельского, а в Новгороде Великом убили воеводу Ивана Михайловича Салтыкова). Троицкие грамоты должны были подвигнуть население оказать помощь земскому движению, и они достигли своей цели.
Воеводы, собравшиеся под Москвой, все же не преуспели в создании полноценного земского союза. «Скудость» казны и «кормов» еще можно было как-то пережить, но оказалось, что никуда нельзя деться от междоусобной вражды. Когда города договаривались друг с другом идти в поход под Москву – это было одно, когда дворянские и казачьи отряды стали воевать вместе, то старое недоверие и обиды вернулись. Не было согласия прежде всего среди главных воевод ополчения. «Новый летописец» написал о начале раздоров с того момента, как только Первое ополчение оказалось у стен столицы: «Бысть у них под Москвою меж себя рознь великая, и делу ратному спорыни не бысть меж ими» [37, 112].
Выборы трех главных ратных воевод – князя Дмитрия Трубецкого, Ивана Заруцкого и Прокофия Ляпунова (именно в таком порядке) – тоже не внесли окончательного успокоения. Получалось, что бывшие тушинские бояре должны были подтверждать в подмосковных полках пожалования, сделанные служилым людям «за царя Васильево осадное сиденье», т. е. за оборону Москвы от сторонников «вора» (фактически их самих)! Прокофий Ляпунов, в свою очередь, стремился распоряжаться казаками, отучать их от тушинских повадок: выделять себе «приставства»[10] и распоряжаться по собственному усмотрению. Ничего хорошего от такого «правительства», отягощенного старыми счетами, ожидать не приходилось. Ко всему добавилось и то, что вожди ополчения стали думать больше о собственных интересах, чем об общем земском деле, ради которого они пришли под Москву.
В продолжении рассказа «Нового летописца» о делах Первого ополчения читаем: «В тех же начальниках бысть великая ненависть и гордость: друг пред другом чести и начальство получить желаста, ни един единого меньше быти не хотяше, всякому хотяшеся самому владети» [37, 112]. Чем же, кроме этого, поистине «враждотворного» местничества, запомнилась история ополчения автору летописи? Оказывается, безмерной гордостью Прокофия Ляпунова, который «не по своей мере вознесеся», и картинами ожидания приема у главного воеводы, внимания которого добивались многие «отецкие дети» и сами бояре: «Приходяху бо к нему на поклонение и стояху у него у избы многое время, никакова человека к себе не пущаше и многокоризными словесами многих поношаше, х казаком жесточь имеяше». «Другой начальник» Иван Заруцкий «поимал себе городы и волости многие», из-за чего «на того ж Заруцкого от земли от всей ненависть бяше». Лишь для одного князя Дмитрия Трубецкого не нашлось никаких бранных слов, но это, скорее, потому, что несмотря на то, что его имя писалось первым среди воевод ополчения, на самом деле, как пишет автор «Нового летописца», «Трубецкому же меж ими чести никакие от них не бе» [37, 112].
Необходимо все же подчеркнуть, что на летописцев этого времени влияло знание того, что случилось с каждым из воевод впоследствии. Упреки, адресованные, например, Прокофию Ляпунову, могут быть справедливы, но в них заметно стремление тех, кто участвовал в событиях с другой стороны, принизить значение действий Ляпунова под Москвой. А он действительно не особенно щадил чувства своих противников – бояр, сидевших в Москве.
Главным памятником земского дела под Москвой остался знаменитый Приговор Первого ополчения 30 июня 1611 г. Приговор был необходим ополченцам для того, чтобы остановить новое «нестроение» власти, связанное уже с авторитетом «всей земли».[11] «Новый летописец» упоминает, что принятию Приговора 30 июня 1611 г. предшествовала совместная челобитная «ратных людей» ополчения, объединившихся ради этого дворян и казаков: они просили, «чтоб бояре пожаловали быть под Москвою и были б в совете и ратных людей жаловали б по числу, по достоянию, а не через меру». Следовательно, собравшиеся в ополчении люди уже тогда нашли главную причину продолжения Смуты и раздоров, заключавшуюся в стремлении к новым чинам и наживе тех, кто получал такую возможность и не считался с устоявшимся местническим порядком, а иногда и со здравым смыслом. К сожалению, не были исключением из этого ряда и собравшиеся в ополчении «бояре» (здесь это слово упоминалось в широком смысле и подразумевало всех, кто облечен властью правительства и командования над ратными людьми). Бояр под Москвой просили, чтобы они «себе взяли вотчины и поместья по достоянию боярские; всякой бы начальник взял одного коего боярина». Вместо этого в ополчении началась безудержная раздача в частные руки фонда дворцовых и черносошных[12] земель, который ратные люди считали общим источником обеспечения «кормами» и жалованьем. Не удалось в Первом ополчении полностью избавиться и от вражды по старым поводам. «Ратные люди» били челом записать в будущем Приговоре: «Меж бы себя друг друга не упрекати, кои б в Москве и в Тушине».
Оставалась нерешенной проблема, что делать с крестьянами и холопами бояр, сидевших в Москве. Пока хозяева оставались в столице, их «крепостные» люди пришли воевать в ополчение под столицу в составе казачьих сотен и ждали выполнения обещания о воле. Считалось, как писал автор «Нового летописца», что из трех главных воевод ополчения двоим – «Трубецкому и Заруцкому, та их челобитная не люба бысть», и только «Прокофей же Ляпунов к их совету приста, повеле написати приговор» [37, 112].
Преамбула Приговора перечисляет все чины, участвовавшие в создании ополчения, и содержит наказ «боярам и воеводам», выбранным «всею землею». Воеводскому триумвирату были даны полномочия, «что им будучи в правительстве, земским и всяким ратным делам промышляти и расправа всякая меж всяких людей чинити вправду». Приговор 30 июня 1611 г. содержал, по подсчетам И. Е. Забелина, нашедшего один из двух известных списков документа, 24 статьи, посвященные прежде всего решению земельного вопроса в ополчении и организации его правительства. Не приходится сомневаться, что самой назревшей могла считаться первая статья Приговора: «А поместьям за бояры быти боярским, а взяти им себе поместья и вотчины боярския и окольничих и думных дворян, боярину боярское, а окольничему окольническое, примеряся к прежним большим бояром, как было при прежних российских прироженных государях» [42, 45]. Однако это был пока еще принцип, идеал земского устройства, который только предстояло достичь.
Приговор ополчения еще раз высветил его основную проблему, которая заключалась в попытке соединения под Москвой двух противоположных по своему статусу и действиям сил дворян и казаков. Земский собор нашел-таки решение проблемы, которое впоследствии будет использовано правительством царя Михаила Романова. В Приговоре последовали старому и действенному принципу «разделяй и властвуй» (даже не зная его древнеримских истоков): за теми атаманами и казаками, которые «служат старо», признавалось право «верстания» поместными и денежными окладами, т. е. переход их на службу «с городы». Учитывая, что не все атаманы и казаки, получив право влиться в состав уездного дворянства, захотят воспользоваться им, в Приговоре предлагали выдавать им «хлебный корм с Дворца» и денежное жалованье из приказа Большого прихода и четвертей «во всех полкех равно». Таким способом пытались решить главную проблему казачьих приставств. Включив в Приговор статью об их отмене, воевода Прокофий Ляпунов, и без этого выказывавший «жесточь» к казакам, подписал себе смертный приговор.
В последних статьях Приговора определялся порядок исполнения «земских и ратных дел», устанавливалась иерархия «бояр» и полковых воевод, принимались меры для сбора денежных доходов и казны только в финансовых приказах, а не самими воеводами. Ополчение учреждало земскую печать, которую нужно было прикладывать к грамотам «о всяких делах». Для легитимности грамот «о больших, о земских делах» требовались еще боярские рукоприкладства («у грамот быти руке боярской»). Приговором была проведена своеобразная «централизация» управления. Для ведения ратных дел создавался один «большой Розряд», где и должна была вестись вся документация о службе и «послугах» ратных людей, об их ранении и гибели на земской службе. В противном случае в полковых разрядных шатрах создавалась возможность для злоупотреблений. С этой же целью наведения порядка запретили ведать поместные дела непосредственно «в полкех», сосредоточив их «в одном Поместном приказе».
И наконец, стоящая в конце документа, но особенно важная для истории Первого ополчения статья 23 Приговора 30 июня 1611 г. В советской историографии эта статья воспринималась как важное звено в истории закрепощения крестьян, потому что в ней определенно говорилось «по сыску крестьян и людей отдавать назад старым помещикам». Однако при этом упускалось из виду, что речь шла только о тех крестьянах и холопах, которые были вывезены по указам Бориса Годунова 1601 и 1602 гг., а также о беглых, о тех же, кто продолжал служить в ополчении и поступил там в казаки, не говорилось ни слова. И это умолчание красноречивее всех более поздних обвинений в крепостничестве говорит о том, что так просто крестьянский вопрос в Первом ополчении не решался [56, 235–247].
Приговор, подписанный всеми «чинами», присутствовавшими в ополчении, устанавливал порядок смены бояр, «выбранных ныне всею землею для всяких земских и ратных дел в правительство». «Бояре» князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, Прокофий Ляпунов и Иван Заруцкий (за этого боярина подписался Ляпунов) должны были «о земских делех радети» и «росправы чинити… вправду». Полковые воеводы подчинялись боярам, но как те, так и другие руководители ополчения назначались и сменялись «всею землею».
Все это показывает, что в Первом ополчении уже выработался общий принцип приоритета «земского дела» перед всем остальным, не исключая личные амбиции «правительства». Более того, Приговор создавал предпосылки для оформления нового порядка управления Московским государством, где наряду с традиционными приказами – Разрядным, Поместным, Дворцовым, Большого прихода, Разбойным и т. д. – существовал постоянный Собор «всея земли». Земский собор представлял разные «чины», перечень которых отражают рукоприкладства на Приговоре 30 июня 1611 г. (к сожалению, сохранившиеся только в пересказе). Именно Земскому собору и принадлежала тогда верховная власть в полках под Москвой летом 1611 г.
Короткое согласие, достигнутое в Первом ополчении принятием Приговора, все-таки безнадежно опоздало. В несчастливом июне 1611 г. король Сигизмунд III взял «приступом» Смоленск. Героическая оборона окончилась поражением, оставив в анналах Смуты подвиг «смольнян», заживо взорвавших себя в соборном храме. Так завершилась эта осада, вызывая в памяти описания Батыева нашествия, когда в церквах погибали прятавшиеся там семьи князей и бояр независимых русских княжеств. То, что было горем для защитников Смоленска, для короля Сигизмунда III стало главным военным триумфом всего его правления. Он возвращался из московского похода «со щитом», добившись того, что Смоленск на несколько десятилетий снова вошел в состав Речи Посполитой. В обозе Сигизмунда находились знаменитые пленные – бывший московский царь Василий Шуйский и князь Дмитрий Иванович Шуйский с семьей. Был пленен руководитель смоленской обороны боярин Михаил Борисович Шеин с женой и детьми. Потеряли всякий смысл посольства митрополита Филарета Романова и боярина князя Василия Васильевича Голицына, превратившихся уже в настоящих пленников, а не просто в задержанных на время переговоров представителей Боярской думы из Москвы. В результате король Сигизмунд III уехал из-под Смоленска в Варшаву готовить свое прославление на предстоящем сейме (с чем не в последнюю очередь оказался связанным перевод столицы из Кракова).
Смоленская победа короля Сигизмунда III не могла не повлиять на польско-литовские войска, участвовавшие в русских событиях. Гетман Ян Сапега договорился о совместных действиях с Госевским, обещавшим «после многих споров» выдать заслуженные деньги «вещами». Сапежинцы дали недвусмысленный ответ послам Ляпунова, чтобы те продолжали держаться присяги королевичу Владиславу. Предложения, переданные из стана гетмана Сапеги через Федора Плещеева, звучали издевательски. Как писал в дневнике Иосиф Будило,[13] русским предлагалось, чтобы они «разъехались по домам, дали продовольствие войску и сейчас же обдумали, как бы уплатить ему деньги за четверть» [51, 245].
Сапежинское войско встало лагерем у Донского монастыря и вступило в бои с отрядами ополчения. «Новый летописец» писал о боях с гетманом «противу Лужников». Большое сражение произошло также в Гонной слободе во время наступления сапежинцев на острожек у Тверских ворот: «…быша с ними бою чрез весь день, и на обе стороны людей много побиша».
Повоевав под Москвой, гетман Ян Сапега ушел в хорошо известные ему «Переславские места» около 14 июля 1611 г. По дороге сапежинские отряды взяли Александрову Слободу и осадили Переславль-Залесский. Ратные люди ополчения во главе с князем П. В. Бахтеяровым-Ростов-ским и А. Просовецким, посланные упредить поход гетмана Сапеги, сами едва убереглись от разгрома. В Александровой Слободе, покинутой Просовецким, последние защитники города, осажденные в башне, вынуждены были спустя несколько дней сдаться.
Создавалось впечатление своеобразного реванша гетмана Сапеги за чувствительное поражение, нанесенное из Александровой Слободы князем Михаилом Скопиным-Шуй-ским в 1609 г. Но за полтора года значение этого города в русской истории сильно изменилось. Как бы ни была неприятна угроза, исходившая от войска Сапеги, все должно было решиться под Москвой, где ополченцы смогли достигнуть значительных успехов. К концу июня 1611 г. были полностью отвоеваны все башни Белого города. Бояре, сидевшие в Москве с польско-литовским гарнизоном, оказались в тяжелой осаде и впервые стали испытывать «и в своих и в конских кормех недостаток и голод великой», в противоположность тому, что к «вором» (т. е. в полки подмосковного ополчения) «живность везут отовсюду и во всем у них достаток великой» [53, 274].
С этой точки зрения на судьбу Русского государства не могло оказать решающего влияния даже отторжение Великого Новгорода, произошедшее под давлением оккупационных шведских сил во главе с известным Якобом Делагарди [22, 114–134]. Еще в марте 1611 г. новгородцы присоединились к Первому ополчению. Жители Новгорода заручились благословением новгородского митрополита Исидора, одного из главных лиц церковной иерархии. Выступление новгородцев на стороне земщины немало способствовало успеху объединения ее сил. Однако оказать более действенную поддержку «боярам Московского государства» и послать свой отряд под Москву Новгородское государство не могло. Наоборот, «начальники» подмосковного ополчения отослали в Новгород Василия Ивановича Бутурлина «и повелеша ему збиратися с ратными людьми и Нова города оберегати» [37, 110]. На северо-западе России шла настоящая война со шведами, повернувшими оружие против вчерашних союзников, как только стало известно о принятии на московский престол королевича Владислава. Однако присылка отряда воеводы Василия Бутурлина лишь запутала управление в Новгороде, где был свой воевода – боярин князь Иван Никитич Одоевский.
В июле 1611 г. штурмом была взята Софийская сторона Новгорода и создалась реальная угроза полной потери новгородской независимости. Как это уже не раз бывало в Смуту, не обошлось без предательства. Шведов провел в город Чюдинцевскими воротами один пленный с «говорящим» прозвищем Ивашко Шваль. Воевода Василий Бутурлин вместо защиты города от «немцев», с которыми беспрестанно перед этим пировал на непонятных «съездах», бежал в Москву, предварительно «на Торговой стороне выграбив лавки и дворы». Но рядом были и героические примеры. В новгородских летописях остались имена погибших защитников города: стрелецкого головы Василия Гаютина, дьяка Анфиногена Голенищева, Василия Орлова и казачьего атамана Тимофея Шарова, вернувшегося из подмосковных полков в Новгород. Более всего потряс новгородцев подвиг Софийского протопопа Амоса, бившегося «с немцами многое время» у себя на дворе, несмотря на свой сан. Многие, в том числе митрополит Исидор, видели с городских стен этот бой, и протопоп Амос, бывший в каком-то «запрещении» был прощен заочно. С тяжелым сердцем должны были потом очевидцы новгородского взятия смотреть на пепелище двора протопопа Амоса, где погибли и он, и все, кто защищался вместе с ним: «…и зажгоша у него двор, и згорел он совсем, ни единово не взяша живьем» [37, 113–114].
В Великом Новгороде повторилась история с избранием королевича, только имя его было Карл-Филипп (могло быть и Густав-Адольф, будущий шведский монарх и знаменитый полководец времен Тридцатилетней войны), а вместо гетмана Жолкевского договор заключал Якоб Делагарди. Кандидатуру Карла-Филиппа на русский трон поддержали в Первом земском ополчении еще до новгородского взятия. По известиям, полученным московскими боярами к 23 июня 1611 г., для переговоров «в воровские полки к Прокофью Ляпунову с товарыщи» прибыл присланный Якобом Делагарди «капитан Денавахоб с товарыщи». Он сообщил, что шведский король Карл (бояре в Москве называли его Свейской Арцы-Карло, без королевского титула) обещал дать своего сына на Московское государство, «которой московским людем люб будет». Учитывалось и недоверие в вопросах веры, обычно мешавшее иностранным претендентам. В этом случае было дано обещание, что король Карл «крестити его хочет в греческую веру на границе» [53, 274]. Впрочем, немецкий королевич всего лишь противопоставлялся казачьему претенденту – сыну Марины Мнишек: «У Заруцкого же с казаками бысть з бояры и з дворяны непрямая мысль: хотяху на Московское государство посадити Воренка Калужсково, Маринкина сына» [37, 112; 23, 293–295].
Для заключения договора из полков были посланы князь Иван Федорович Троекуров, Борис Степанович Собакин и дьяк Сыдавной Васильев. Земское ополчение получало шанс повторить успехи, связанные с совместными действиями рати князя Михаила Скопина-Шуйского и «немцев». Однако переговоры о призвании Карла-Филиппа на русский трон начались только тогда, когда их условия продиктовал воевода Якоб Делагарди. Новгородцы вынуждены были выбрать «мир» с Делагарди вместо его пушек. Им удалось выговорить сохранение собственной независимости, хотя и в виде странного Великого княжества Новгородского, от имени которого был заключен договор в форме династической унии.
Шведские власти думали, что, поставив Новгород в один ряд с Великим княжеством Литовским, смогут со временем добиться его отторжения от Московского государства. Все это, как покажет история провалившейся новгородской оккупации в 1611–1617 гг., никак не соответствовало реальным устремлениям новгородцев. Многие вопросы отпадут сами собой, если еще раз вспомнить, что в преамбулу договора с Якобом Делагарди 11 июля 1611 г. он собственноручно вписал слова: «…вооруженною рукою овладел я Великим Новгородом и готов был осадить и самую крепость; в то время новгородцы для прекращения кровопролития вступили со мною в переговоры» [53, 274]. Взаимоотношения Великого Новгорода с земскими ополчениями не должны были сильно измениться, так как обе стороны обещали не иметь никаких контактов с поляками и литовцами. Но суть произошедшего хорошо обозначил автор «Нового летописца», написавший об отсылке послов новгородцев «в Свию для королевича»: «А от Московского государства и ото всей земли отлучишася» [37, 114].
Под Москвой тем временем произошли события, поставившие под угрозу существование только что налаженного земского дела. Исходом розни между дворянами и казаками в Первом ополчении стала гибель его вождя. О недовольстве казаков Прокофием Ляпуновым уже говорилось. По сообщению «Карамзинского хронографа»,[14] после принятия Приговора 30 июня 1611 г. Ляпунов продолжал преследовать казаков и требовал от них в большом Разрядном приказе, «чтоб оне от воровства унялися, по дорогам воровать не ездили и всяких людей не побивали и не грабили, а в села и в деревни и в городы на посады не ездили ж, по тому ж не воровали, чтоб под Москву всякие ратные люди и торговые люди ехали без опасенья, чтоб под Москвою б ратным людем нужи не было» [42, 58]. Один из земских «бояр» смог добиться от Ивана Заруцкого и Андрея Просовецкого, под началом которых в основном служили казаки, чтобы другие начальники войска тоже боролись с мародерами. Более того, казачью старшину заставили пообещать «перед Розрядом боярину и воеводам» и согласиться, что пойманных на воровстве будут «казнить смертью; а будет не поймают и тех воров побивать» [42, 58]. (Последнее слово надо запомнить, оно сыграет ключевую роль в обвинениях Ляпунову.)
Дорога от обещаний к действительности, как всегда, оказалась длиннее, чем рассчитывали. Казаки просто стали осторожнее и в свои походы за добычей ездили теперь большими станицами, чтобы их не могли захватить, выполняя земский приговор.
Ополчение, видимо, уже готово было развалиться на части, и ему не хватало только повода. «Новый летописец» отсчитывал «начало убьения Прокофьева» со времени случая, произошедшего с казачьей станицей в 28 человек, посаженных «в воду» Матвеем Плещеевым у Николы-Угреш-ского монастыря. Плещеев своей жестокой казнью лишь выполнял тот уговор, с которым казаки согласились следовать в Разряде. Однако, когда произошел этот случай, они не смогли стерпеть и вмешались в судьбу своих товарищей: «…казаки же их выняху всех из воды и приведоша в табары под Москву» [37, 113].
После случая у Николы-Угрешского монастыря казачье войско забурлило. Видимо, предчувствие беды посетило и Прокофия Ляпунова, якобы он даже «хотя бежати к Резани» [37, 113], но его уговорили вернуться. Опасность этого дела понимали многие, не исключая… главы польско-литовского гарнизона в Москве Александра Госевского, внимательно наблюдавшего за всем, что происходило в подмосковных полках. Здесь ему представился случай познакомить русских людей с неизведанной ими до тех пор политической интригой. Нет, речь не о том, что в Московском государстве не знали, что такое политическое убийство. Просто до Госевского никто не додумывался до того, что убить может не яд, а одна подделанная подпись.
Мало кто тогда мог представить себе, что «грамота от Прокофья по городом, что будто велено казаков по городом побивать» [37, 113], окажется фальшивкой, изготовленной новым хозяином Московского кремля. Однако тайный «подвиг» своего патрона раскрыл ротмистр Николай Мархоцкий. Ему не терпелось рассказать потомкам об изобретательности руководителя польско-литовского гарнизона, и он посвятил в своей «Истории Московской войны» отдельную главку «ловким действиям пана Госевского». Госевский нашел случай передать с попавшим в плен казаком поддельную грамоту Ляпунова (на самом деле сочиненную им самим), «мол, где ни случится какой-нибудь донской казак, всякого следует убивать и топить. А когда даст Господь Бог Московскому государству успокоение, он [Ляпунов] этот злой народ [казаков] якобы весь истребит» [30, 94].
Учитывая все это, становится понятным настойчивое стремление казаков, добивавшихся приезда Прокофия Ляпунова в их общий круг. Уговорили его приехать только после того, как несколько человек поручилось «душами», что ему ничего не будет, а зовут его в круг «для земского дела». Этим делом и была злополучная грамота, которую предъявили Ляпунову. Авторы русских летописей были убеждены, что эту грамоту написали казаки. Один из них описывал дальнейшее как очевидец, стоявший рядом с главными героями драмы. Посмотрев на грамоту, Прокофий Ляпунов сказал: «…грамотка де походила на мою руку, толко аз не писывал» [42, 59]. Ошибкой воеводы был приезд в казачий круг, но еще большей ошибкой стало то, что он начал что-то объяснять казакам. Их мнение сложилось давно, и самому Прокофию Ляпунову уже нельзя было на него повлиять. Казаки кричали в лицо своему врагу: «…велел де ты нас побивати». Достаточно было только атаману Сергею Карамышеву, первым позвавшему Ляпунова на казачий круг, первому же ударить саблей главного земского вождя…
Нелепость убийства Прокофия Ляпунова была понятна даже его недоброжелателю Ивану Никитичу Ржевскому, оставившему ради службы в ополчении свой чин окольничего Боярской думы в Москве. Ржевскому тоже надо было много раз подумать, прежде чем ехать в казачий круг, расправившийся с ним за невинное замечание: «…за посмешно де Прокофья убили, Прокофьевы де вины нет» [47, 350–352]. О степени ненависти, которую вызывал Прокофий Ляпунов у казаков, свидетельствует также грамота московских бояр, писавших, что тело главного воеводы «держали собакам на снеденье на площеди 3 дни» [53, 294]. Такими обескураживающими в своей жестокости смертями завершилась 22 июля 1611 г. история объединительного земского движения. Но это был еще не конец самого Первого ополчения.
Историки сходно описывают дальнейшие события, обозначая их одним словом – «распад». Источник такого взгляда – в грамотах того времени, причем созданных уже в следующем, нижегородском ополчении Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. В городах, продолжавших поддерживать Первое ополчение, о смерти его главного воеводы Ляпунова писали сдержаннее: «…казаки убили, преступя крестное целованье». Главную опасность видели в том, чтобы казаки не стали «выбирати на Московское государьство государя по своему изволенью» [1, 345–346].
Грамота Второго земского ополчения 7 апреля 1612 г. создавалась тогда, когда все опасения, связанные с тем, что казаки поддержат нового самозванца, уже осуществились. Два ополчения впрямую враждовали друг с другом, поэтому в описании казачьих бесчинств, последовавших после убийства Прокофия Ляпунова, заметен сильный публицистический подтекст. Казаков даже обвинили в том, что они хотели «полским и литовским людем ослаба учинить» [1, 355]. О разъезде из Первого ополчения сказано в связи с формированием нового земского движения: «Столники же и стряпчие, и дворяне и дети боярские всех городов, видя неправедное их начинание, ис под Москвы розъехолися по городом и учали совещатися со всеми городы, чтоб всем православным християном быти в совете и соединение, и выбрати государя всею землею» [1, 355–356].
На формирование концепции разложения ополчения в июле 1611 г. повлияли также популярные сочинения о Смуте, распространявшиеся во множестве списков и воспринявшие оценки грамоты земского ополчения. Например, Авраамий Палицын в своем Сказании писал: «…по неправедном же оном убиении Прокопиеве бысть во всем воиньстве мятеж велик… Разыдошя бо ся тогда вси насилиа ради казаков» [54, 217]. В «Новом летописце» причиной «разъезда» ратных людей из-под Москвы названо «теснение от казаков» и хула в адрес царя Василия Шуйского (?!), которого «понизовые казаки» (напомним, выбиравшие когда-то своего царя Петра Федоровича) «лаяху и позоряху» [36, 114].
Сохранилось подробное известие «Карамзинского хронографа», автор которого рассказал о времени, наступившем после гибели Прокофия Ляпунова:
«И после Прокофьевы смерти столники и дворяне и дети боярские городовые ис под Москвы разъехались по городом и по домом своим, бояся от Заруцкого и от казаков убойства; а иные у Заруцкова купя, поехали по городом, по воеводством и по приказам; а осталися с ними под Москвою их стороны, которые были в воровстве в Тушине и в Колуге» [47, 351].
Суть произошедших изменений определена арзамасским дворянином Баимом Болтиным, считающимся наиболее вероятным автором этого памятника, как двойной раскол. Во-первых, между дворянами и казаками, во-вторых, между земцами и бывшими «тушинцами». В этом, безусловно, была значительная доля истины, но если до конца прочитать ту же запись хронографа, можно увидеть, что правительство, созданное в ополчении, осталось:
«А под Москвою владели ратными всеми людми и казаками и в городы писали от себя боярин князь Дмитрей Тимофеевич Трубецкой да боярином же писался Ивашко Мартынов сын Заруцкой, а дал ему боярство Тушинской вор. Да с ними же под Москвою были по воротам воеводы их и советники; да под Москвою же во всех полкех жили москвичи, торговые и промышленные и всякие черные люди, кормилися и держали всякие съестные харчи. А Розряд и Поместной приказ и Печатной и иные приказы под Москвою были, и в Розряде и в Поместном приказе и в иных приказех сидели дьяки и подьячие, и из городов и с волостей на казаков кормы збирали и под Москву привозили, а казаки воровства своего не оставили, ездили по дорогам станицами и побивали» [47, 353].
Следовательно, власть в Первом ополчении со второй половины 1611 г. перешла к двум «боярам» – князю Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому и Ивану Мартыновичу Заруцкому. Правительство Первого ополчения продолжало следовать нормам Приговора 30 июня 1611 г. в организации власти (были созданы общие для всех полков Разрядный и Поместный приказы, и Печатный приказ, где прикладывали земскую печать к документам ополчения). Даже собирались «кормы» на казаков, хотя, конечно, навести порядок «по Ляпунову» больше не удалось. Прав Н. П. Долинин, исследовавший историю подмосковных полков в 1611–1612 гг.: «Политика казацкого войска после смерти Ляпунова и сосредоточения власти в руках Заруцкого и Трубецкого не дает повода думать о каком-то крутом повороте в деятельности подмосковного правительства в смысле предоставления центральной власти казачеству, точнее, той его части, которая образовала в подмосковных полках низший слой из беглых холопов, боярских людей и крестьян. Не видно в мероприятиях временного правительства и «воровского казацкого обычая», который приписывал подмосковному ополчению Д. Пожарский, изображая Заруцкого новым Болотниковым» [15, 71–72].
Несмотря на то что князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой тоже получил свое боярство от Лжедмитрия II, этот воевода ополчения стал восприниматься как глава его «дворянской» части. К ноябрю 1611 г. в полках ополчения оказались представители московских дворянских родов Змеевых, Измайловых, Исленьевых, Колтовских, Коробьиных, Одадуровых, Охотиных-Плещеевых, князей Приимковых-Ростовских, Пушкиных, Самариных. У королевского войска, окруженного в столице Московского государства, создалось впечатление, что после гибели Ляпунова, вопреки их ожиданиям, воеводы подмосковных полков только сплотились.
Летом 1611 г. в Первое ополчение продолжали прибывать значительные отряды ратных людей из Казани и Смоленска, что также свидетельствует о том, что ополчение не распалось и не прекратило своей деятельности. Более того, приезд казанского войска во главе с боярином Василием Петровичем Морозовым и принесенный в ополчение список Казанской иконы Богоматери имели важное символическое значение для остававшихся под Москвой людей. Ратная сила, пришедшая из Казани, уже на следующий день вступила в бой и освободила Новодевичий монастырь от стоявших там немецких рот.
Еще 4 июля 1611 г. подмосковные полки смогли решить важную военную задачу, которая ставилась с самого прихода Первого ополчения под Москву. Об этом написал архиепископ Арсений Елассонский:
«Когда пан Ян Сапега отправился 4 июля месяца со многими воинами в города и деревни чтобы награбить провианта, то Прокопий со многим войском взял все большое укрепление кругом, и большие западные башни, и всех немцев, одних взял живыми, а других убил; и заключил всех поляков внутри двух укреплений; и воевали старательно день и ночь русские извне, а поляки изнутри» [16, 122].
Согласно свидетельствуют об овладении противником всеми башнями Белого города также Николай Мархоцкий и Иосиф Будило. В Замоскворечье были поставлены два укрепленных острожка. Польско-литовский гарнизон оказался затворенным в Кремле и в стенах Китай-города и не мог быть освобожден без помощи извне, так как ополченцы выкопали вокруг укреплений «глубокий ров».
«В течение целых шести недель мы находились в плотной осаде, – писал Николай Мархоцкий. – Выбраться от нас можно было, разве что обернувшись птицей, а человеку, будь он хитер, как лис, хода не было ни к нам, ни обратно» [30, 22; 34, 340]. Тем серьезнее была потеря опорного пункта в Новодевичьем монастыре, потому что его и создавали, по свидетельству Иосифа Будилы, «чтобы оберегать дорогу в Можайск и в Польшу» [51, 251]. По этой дороге ждали помощь от литовского гетмана Яна Кароля Ходкевича, назначенного руководить московскими делами после отъезда короля Сигизмунда III из-под Смоленска в Речь Посполитую. Сами осажденные уже не надеялись на приход гетмана Ходкевича, а русские люди в открытую издевались над безвыходным положением польско-литовского гарнизона: ««Идет к вам литовский гетман с большими силами: а всего-то идет с ним пятьсот человек». Они уже знали о пане Ходкевиче, который был еще где-то далеко. И добавляли: «Больше и не ждите – это вся Литва вышла, уже и конец Польше идет, а припасов вам не везет; одни кишки остались». Так они говорили потому, что в том войске были ротмистры пан Кишка и пан Конецпольский» [30, 99]. В этот момент высших успехов Первого ополчения и был принят Приговор 30 июня 1611 г. Позднее князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой получит грамоту на Вагу, в которой будет сказано о его заслугах в это время: «…большой Каменной царев-город все ворота и башни взятьем взяли. А после того новой Девичь монастырь» [18, 287].
Выручил московский гарнизон гетман Ян Сапега, и это стало последним его «подвигом» в русских делах. Сапежинцы и пахолики,[15] отправлявшиеся для сбора запасов, пришли под Москву из Переславля-Залесского 4 августа 1611 г.
Как писал архиепископ Арсений Елассонский, это случайно совпало с гибелью Ляпунова, и дезорганизованное войско не оказало сопротивления:
«…так как русские стражи по случаю волнения и смерти Прокопия не находились в воротах, воины пана Яна Сапеги неожиданно вошли внутрь [города] через Никитские ворота. И после этого поляки изнутри и пан Ян Сапега извне со всем польским войском отворили западные ворота Москвы; и поляки, освобожденные из заключения, ожидающие помощи и войска от великого короля день на день, входили в Москву и выходили» [16, 193].
Из записок офицеров польского гарнизона выясняется следующая картина: первоначальный штурм стен и башен Белого города сапежинцам не удался, но они захватили один из острожков в Замоскворечье и переправились к Кремлю по Москве-реке. Дальнейшее уже стало делом случая, так как, вопреки «мнению пана Госевского», которому «казалось невероятным», что удастся вернуть ворота Белого города, осажденные успешно штурмовали Водяную башню, а потом бои, как пожар в ветреный день, стали перекидываться к Арбатским, Никитским и Тверским воротам. С защитниками Арбатских ворот польско-литовские хоругви не могли справиться целый день. Никитские ворота им тоже удалось отвоевать, а вот Тверские ворота воевода Мирон Вельяминов, получивший подкрепление от полков, стоявших за рекой Неглинной, смог удержать [30, 100–104].
Итогом похода войска Сапеги к Москве стало то, что осада города опять ослабла, осажденные получили продовольствие, а со стороны Арбатских и Никитских ворот снова открылся доступ в Кремль. Сапежинское войско встало лагерем близ Новодевичьего монастыря на Москве-реке (сам монастырь был в руках ополченцев, но теперь это уже было не столь важно). Большего гетману Сапеге достигнуть не удалось, он заболел и через две недели умер в Кремле в бывших палатах царя Василия Шуйского в ночь с 4 на 5 сентября.
На подмогу осажденному войску пришел новый гетман Ян Кароль Ходкевич. Появившись под Москвой десять дней спустя после смерти Яна Сапеги, он вступил в Кремль. В этот момент полкам Первого ополчения удалось, наконец, поджечь Китай-город, для этого его специально «обстреляли калеными ядрами» [30, 105]. Архиепископ Арсений Елассонский писал: «…едва они вошли внутрь Москвы, как в течение трех дней сгорела срединная крепость, так как русские извне бросили в крепость огненный снаряд и, при сильном ветре, был сожжен весь центральный город» [16, 194]. В огне погибли многие поляки, вместе с ними пропало все их оружие, лошади и награбленное имущество: «Оставшиеся поляки от великих злоключений своих и скорби и от громадного пожара бежали из домов крепости, чтобы не сгореть» [16, 194]. О серьезных потерях в войске «полководца Карла», побежденного «дважды и трижды в большом сражении», также сообщал архиепископ Арсений Елассонский.
Вообще вмешательство Ходкевича ни к чему хорошему не привело. Он еще на подходе к Москве зачем-то завернул посольство столичной Боярской думы, отправленное на сейм, не понравившееся ему тем, что просило дать «королевича на свое государство», а не самого короля Сигизмунда III. Однако заставить бояр изменить цели посольства он тоже не смог. Не решил гетман Ходкевич и самой насущной проблемы – обеспечения польско-литовского войска, только санкционировал разграбление московской казны, из которой выплатил залог принятым им на королевскую службу сапежинцам – короны и посох московских царей. В середине октября бывшие сапежинцы, вставшие под знамена нового гетмана, поехали на зимние квартиры в Гавриловскую волость, под Суздалем. За ними последовал и сам гетман Ходкевич, выбравший для постоя Рогачев (по дороге на Дмитров).
«Сопегин приход», а затем «Хоткеевич приход» стали теми вехами, которые заставили руководителей Первого ополчения изменить свои планы. Первую волну разъездов из ополчения служилых людей можно действительно отнести к концу июля – началу августа 1611 г. Только не все объяснялось гибелью Прокофия Ляпунова. Сказалась и военная неудача подмосковных полков, потерявших захваченные ранее башни Белого города. Кроме противоречий между дворянами и казаками в подмосковных полках, на ситуацию влияли такие насущные проблемы, как обеспечение служилых людей жалованьем, продовольствием, да и просто, выражаясь языком военных уставов, необходимость перехода на зимнюю форму одежды.
Сохранились документы, на которые при других обстоятельствах можно было бы и не обратить внимания. Они касаются шубного сбора, организованного в Первом ополчении в августе 1611 г. Есть росписи служилых людей, посланных для этих целей по городам и уездам, челобитные дворян и детей боярских о сложении с них этой повинности из-за бедности. Объяснить сбор тулупов иначе, чем необходимостью удержать под Москвой полки ополчения зимой, невозможно. Как писал С. Б. Веселовский, опубликовавший эти материалы, «чуть не в каждой грамоте, посланной от воевод кн. Д. Т. Трубецкого и И. М. Заруцкого, мы читаем одну и ту же жалобу: ратные люди «бьют челом боярам» о жалованье «безпрестанно, а дать им нечего, и они от голода (можно добавить и холода. – В. К.) хотят идти от Москвы прочь»» [10, 13].
Поэтому «великие Российской державы Московского государства бояре», как их называли под Москвой, стали думать не столько об организации осады, сколько о создании правительства. Оно должно было обеспечить участников ополчения под Москвой необходимым денежным жалованьем и поместными «дачами». С этой целью ополчение рассылало по городам своих воевод, давая им наказы собирать окладные и неокладные доходы в таможне, на торгах, перевозах, мельницах, строить самим «кабаки» для торговли «питьем» и как можно скорее присылать собранные на местах деньги, «а дати их служилым людям на жалованье для земские подмосковные службы».
Н. П. Долинин составил список из 45 городов, признававших власть подмосковного боярского правительства к январю 1612 г. В него вошли ближайшие к Москве города – Серпухов, Зарайск и др. (Коломна почему-то пропущена в списке Н. П. Долинина, хотя известно присутствие там двора Марины Мнишек).
Продолжал поддерживать полки Первого ополчения Замосковный край – Владимир, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Тверь, а также Вологда и поморские города (Тотьма, Соль Вычегодская, Чаронда). Вполне благоприятно относились к подмосковным «боярам» в землях Строгановых. Грамотам и указам, рассылавшимся из подмосковного ополчения, подчинялись в украинных, рязанских и заоцких городах (Тула, Орел, Кромы, Переславль-Рязанский, Калуга) и даже в мятежном Путивле в Северской земле. На северо-западе в союзе с «боярским» правительством князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого и Ивана Заруцкого действовали Торопец, Великие Луки, Невель и Псков [15, 63].
Земскому правительству под Москвой не просто приходилось удерживать свою власть. За годы Смутного времени люди приучились жить самостоятельно и по-своему распоряжаться в своих городах и уездах. Например, денежные доходы, которые требовало присылать ополчение, шли в раздачу дворянам, стрельцам, пушкарям и казакам на местах. Грамоту на поместье, выданную от очередного правительства, крестьяне могли просто не послушать, посчитав ее «воровской». Крайний случай сепаратизма произошел в то время в Казани, полки из которой пришли в июле 1611 г. под Москву к воеводам Первого ополчения. Однако вслед за гибелью Прокофия Ляпунова в Казани не признали боярское правительство, и дело было не в высокой сознательности казанских властей, вступившихся за дворян, «притесняемых» казаками, как можно было бы подумать. До недавнего времени были известны лишь неясные оговорки «Нового летописца» о том, что казанский дьяк Никанор Шульгин «хотящу в Казани властвовати». Однако только после находки комплекса документов о «деле Шульгина» выяснились многие детали беспримерного даже для своего времени самоуправства этого дьяка, «присвоившего» себе Казанское государство в 1611–1612 гг. Началось же все с того, что в Казани отказались менять воевод (а их уже там и не было) и убили гонца, привезшего грамоты подмосковного ополчения [37, 117; 25, 240–267].
Были блуждающие «служилые города» Смоленска, Вязьмы, Дорогобужа и Белой. Кто-то из них пришел воевать под Москву, другие оказались в Калуге и Брянске, где сидели воеводы Первого ополчения. Дворяне и дети боярские этих уездов, контролировавшихся королевскими войсками, получили от подмосковных «бояр» поместья из дворцовых земель в возмещение потерянных ими земельных владений. Однако, когда «смольняне» попытались закрепить за собой дворцовые земли в Арзамасском, Курмышском и Алатырском уездах, а также в Ярополческой волости (Вязники), они встретили не поддержку уездной администрации, а мужиков с топорами. «Повесть о победах Московского государства», написанная одним из таких «смольнян», описала их битву с арзамасцами, которые «неразумнии тогда явившеся, не разумеша помощи Божия и Московскому государству очищения, совету всей земли не послушаша и смольняном кормов и запасов дати не восхотеша, и начаша противитися и не возмогоша» [44, 29]. Автор повести пишет о победе «смольнян» над арзамасцами, побитыми «за непокорство» и «два острожка у них взяли». Однако арзамасские дворяне, наоборот, считали, что мужикам, соединившимся со стрельцами, удалось отстоять свои земли от новоявленных помещиков: «… и бои с мужиками были, только мужиков не осилели» [45, 29].
Поход около двух тысяч «смольнян» в арзамасских местах был заметным событием во всем Поволжье. Достаточно вспомнить, какую серьезную угрозу представлял Арзамас, находившийся в «воровстве», для нижегородской рати 1608–1609 гг. под руководством воеводы Андрея Алябьева, которая оставалась на стороне царя Василия Шуйского. В июле 1611 г. воеводой в Арзамасе был Иван Иванович Биркин. Он участвовал в организации первого земского движения и попал в нижегородские земли с посольством из Переславля-Рязанского. Потом, в августе– сентябре, грамоты из полков Первого ополчения в Арзамас адресуются князю Ивану Семеновичу Путятину. Не позднее ноября 1611 г. первым арзамасским воеводой был назначен известный сторонник Лжедмитрия II Григорий Андреевич Очин-Плещеев (князь Иван Путятин остался при нем вторым воеводой) [6, 377, 380–381, 384, 392, 396]. Сопоставляя эти факты смены арзамасских воевод с известием «Нового летописца», упоминавшим, что после отпуска «смольнян», дорогобужан и вязмичей из-под Москвы для испомещения в Арзамасе и Вязниках, «Заруцкой писа, не повеле их слушати», можно считать, что действительно вожди Первого ополчения оттолкнули от себя дворян из разоренных уездов. Очевидно, что в общем земском деле произошел новый раскол. Объединившиеся под Москвой служилые люди не смогли решить военной задачи освобождения Москвы от польско-литовского гарнизона, потеряли они и общие цели земского движения.
Власть бояр и воевод Первого ополчения князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого и Ивана Мартыновича Заруцкого удержалась еще по инерции до марта 1612 г. Тогда произошло событие, окончательно отделившее дворянскую, или «земскую», часть войска от казаков, вернувшихся к старой идее самозванства. Под Москвой учинили присягу Лжедмитрию III – «Псковскому вору Сидорке», принятому сначала ивангородцами, а потом и псковичами [5, 157–196]. Все, кого еще удерживало в полках чувство долга перед «землею», теперь могли не просто отказаться от продолжения подмосковной службы, а выступить против казачьих планов служить марионеточным «царикам». Тем более, что к этому времени уже несколько месяцев развивалось другое земское движение, начало которому было положено в Нижнем Новгороде.
Нижегородский «совет»
Начальная история нижегородского движения, оказавшегося навсегда связанным с именами Кузьмы Минина и князя Дмитрия Михайловича Пожарского, известна нам меньше всего. Нижний Новгород услышал призыв о создании нового движения от Кузьмы Минина, а сам Кузьма был вдохновлен призывами из Троице-Сергиева монастыря, – именно такой – под влиянием прежде всего Сказания Авраамия Палицына – рисовалась в умах современников картина возникновения ополчения.
Однако в действительности на нижегородцев должны были оказать влияние новые грамоты патриарха Гермогена. Пересмотр распространенных мнений начался с книги И. Е. Забелина о Минине и Пожарском, считавшего, что троицкая грамота 6 октября 1611 г. достигла Нижнего Новгорода тогда, когда новое земское движение там уже существовало [18, 246–248]. Новые аргументы добавили С. Ф. Платонов и П. Г. Любомиров – автор самой полной на сегодняшний день истории нижегородского ополчения [29, 314–340]. Оказалось, что «программа», предлагавшаяся в троицких грамотах, никак не соответствовала первоначальным целям движения; власти Троице-Сергиева монастыря продолжали поддерживать подмосковные полки, в то время как в Нижнем Новгороде противопоставляли себя казакам.
Во второй половине августа 1611 г., после того как войско гетмана Сапеги открыло часть ворот и башен Белого города для проезда, к патриарху сумели пробраться его доверенные люди из Нижнего Новгорода Родион Моисеев и Ратман Пахомов. С ними патриарх Гермоген передал грамоту, ставшую политическим завещанием «Второго Златоуста», как тогда его называли. Со всей страстной силой проповедника он твердил об одной опасности, грозившей Московскому государству: «…что отнюдь Маринкин на царьство ненадобен: проклят от святого собору и от нас». До патриарха Гермогена, томившегося во враждебном окружении в Кремле («… и слышати латынсково пения не могу», – говорил он), видимо, дошли какие-то слухи о возможной присяге подмосковных «таборов» царевичу Ивану Дмитриевичу – сыну Марины Мнишек. Гермоген стремится побудить через Нижний Новгород все земские города, принявшие участие в создании Первого ополчения, чтобы они берегли казаков от этой ошибки. Патриарх еще не отказывает полностью в поддержке подмосковным полкам, но уже разделяет их на «бояр» и «казацкое войско». У него есть определенное мнение, чем там занимается «атаманье» (введенное им словцо). Он просит церковные власти отовсюду – из Казани, из Вологды, из Рязани, – «чтоб в полки также писали к бояром учителную грамоту, чтоб уняли грабеж, корчму, блядню и имели б чистоту душевную и братство и промышляли б, как реклись, души свои положити за Пречистыя дом и за чудотворцов и за веру» [1, 343].
Патриарх Гермоген ни к чему иному как к проповеди и самопожертвованию «бесстрашных людей», провозивших его письма, не призывал. Однако его проповедь достигла также Казани. Там в полном соответствии с патриаршей грамотой, «сослалися с Нижним Новым городом, и со всеми городы поволжскими, и с горними и с луговыми татары и с луговою черемисою» и не позднее 16 сентября 1611 г. договорились, чтобы «быти всем в совете и в соединенье, и за Московское и за Казанское государство стояти» [1, 343]. Важный пункт этого договора состоял в противодействии казакам подмосковных «таборов», если они сами начнут выбирать царя: «а будет казаки учнут выбирати на Московское государство государя, по своему изволенью, одни не сослався со всей землею, и нам бы того государя на государство не хотети» [1, 399]. Это еще не было то движение, которое мы связываем с именами князя Дмитрия Михайловича Пожарского и Кузьмы Минина! Договоры между поволжскими городами, Казанью и Нижним Новгородом свидетельствуют об их готовности к защите интересов «всей земли» от казачьего произвола. Однако от этого еще далеко до каких-то общих действий.
У историков практически нет шансов повлиять на историческое сознание там, где действуют законы мифологии. Начало обсуждения Кузьмой Мининым в земской избе насущного вопроса о том, что делать дальше из-за остановившегося общего дела под Москвой, со временем обросло такими яркими подробностями и образами, которые все равно будут восприниматься реальнее осторожного исторического рассказа. «Кто же не знает», как Кузьма Минин призывал на нижегородском торгу отдать последнюю рубашку на создание ополчения, как он готов был заложить свою жену, чтобы только уплатить полагающийся сбор, как дружно нижегородцы откликнулись на его призыв и принесли все, что у них было, чтобы начать поход на Москву. Об этом же свидетельствуют источники. «Новый летописец» приводит речь Кузьмы Минина, который «возопи во все люди»: «…будет нам похотеть помочи Московскому государству, ино нам не пожелети животов своих; да не токмо животов своих, ино не пожелеть и дворы свои продавать и жены и дети закладывать и бити челом, хто бы вступился за истинную православную веру и был бы у нас начальником» [37, 116].
Точная дата выступления Минина до сих пор не установлена. Остается повторить вслед за С. Ф. Платоновым: «К сожалению, нельзя с желаемой полнотой и точностью изучить первый момент движения в Нижнем; для этого не хватает материала…» [41, 401]. Самой ранней из вероятных дат можно считать время получения в Нижнем Новгороде патриаршего воззвания 25 августа 1611 г. Но если бы это было так, то нижегородские ополченцы должны были всячески подчеркивать, что ополчение образовано под воздействием проповеди патриарха Гермогена… Но этого не случилось. Ничего не проясняет ссылка Авраамия Палицына в своем Сказании о влиянии на выступление в Нижнем Новгороде троицких грамот, – их текста нет в распоряжении исследователей. Из жития архимандрита Троице-Сергиева монастыря Дионисия выясняется, что монастырские власти постоянно рассылали «в смутныя городы ко священным чином, и к воеводам, и к простым людем о братолюбии и о соединении мира» [17, 428]. Так Дионисий понимал свой долг, он «писцы борзыя имеяша в келии» и «в тех грамотах, – по словам жития троицкого архимандрита, – болезнования Деонисиева о всем государстве Московском безчисленно много» [17, 428]. В известной грамоте из Троице-Сергиева монастыря 6 октября 1611 г. (адресованной, правда, в Пермь, а не в Нижний Новгород) архимандрит Дионисий, келарь Авраамий Палицын и соборные старцы недвусмысленно призывали «быти в соединенье» и идти «в сход» к подмосковным полкам Дмитрия Трубецкого и Ивана Заруцкого. Изучение троицкой грамоты 6 октября 1611 г. убеждает, что она не содержала в себе ничего принципиально отличного от прежних грамот, рассылавшихся из Троице-Сергиева монастыря. Цель октябрьского послания состояла в том, чтобы сообщить текущие новости о происходящем в полках и оказать помощь остающимся там служилым и ратным людям.
«Карамзинский хронограф» связывает начало движения в Нижнем Новгороде с приходом туда смоленских дворян и детей боярских. Напомним его текст:
«И во 120-м году во осень о Дмитриеве дни смольняне пошли из Арзамаса в Нижней Новгород, а из Нижнева Новагорода посацкие люди к ним присылали, чтоб к ним в Нижней пришли, и как смольняне в Нижней Новгород пришли, земской староста посацкой человек Кузма Минин и все посацкие люди приняли смольнян честно и корм им и лошадем стали давать доволно и всем их покоить для тово, что они люди разореные» [47, 353].
Однако Баим Болтин не объяснил, почему «смольняне», получившие отпор от арзамасских мужиков, поехали в Нижний Новгород, а не стали искать заступничества в подмосковных полках, где был отдан приказ о раздаче дворцовых земель. Более того, часть дворян и детей боярских из смоленских уездов пришла под Арзамас «отто Брянска» и потом тоже оказалась в Нижнем. «Карамзинский хронограф» и «Повесть о победах Московского государства» определенно и согласно свидетельствуют о том, что нижегородцы сами задумались о приглашении на службу смоленских дворян и детей боярских: «И послаша к смольняном из Нижнева Нова града в Орзамас с великою честию, и начаша призывати их, дабы шли в Нижней Новград, и обеща им дати денежныя оброки, кормовыя запасы, еже есть годно им на их потребу» [45, 30]. Точная дата их прихода в Нижний Новгород не известна. По сведениям арзамасского автора «Карамзинского хронографа», «смольняне» двинулись из Арзамаса 26 октября (Дмитриев день), а значит, к началу ноября могли уже добраться до Нижнего Новгорода. Этой дате противоречит известие автора «Повести о победах Московского государства», хорошо запомнившего, что «в Нижней Нов град приидоша генваря в 6 день, на празник Богоявления Господня» [35, 44]. Между тем, не зная ни целей, ни времени прихода «смольнян» в Нижний Новгород, нельзя решить и главный вопрос – о характере знаменитого призыва Кузьмы Минина. Остается снова процитировать «Карамзинский хронограф»:
«И земской староста Кузма Минин советовав с нижегородцы со всякими людми, чтоб прося у Бога милости начать доброе дело помочи Московскому государьству, собрався с ратными со всякими служилыми людми итти под Москву, как бы Московское государьство от злодеев от поляков очистить и Москву доступить, а ратных бы людей смольнян пожаловать поднять на службу большим жалованьем. Смольняне сказали все ради идти под Москву для очищения от врагов» [47, 353].
В конце 1611 г. можно было подумать, что возвращаются времена прежней розни и снова возникнет угроза Нижнему Новгороду. Поэтому не исключено, что был предпринят найм ратных людей для обороны города, для чего были приглашены дворяне и дети боярские из Смоленска и других городов «от Литовской Украины». Мы знаем, что позже состоялся отдельный поход нижегородского ополчения для освобождения Москвы, и уверенно говорим об этом как о начальной цели действий Кузьмы Минина и жителей Нижнего Новгорода. Но прежде чем эта цель была окончательно сформулирована, тоже прошло время.
Все говорит о том, что земский центр сопротивления подмосковным казакам и самообороны создавался в Нижнем Новгороде исподволь. Объявлять сразу о самостоятельном походе на Москву в городе, где сидит воевода, направленный «боярами» Первого ополчения, было бы по меньшей мере самонадеянно и опасно, если вовсе не бессмысленно. С. Ф. Платонов в речи на торжественном заседании Нижегородской ученой архивной комиссии 25 августа 1911 г. [49, 12–13] подчеркивал, что «в Нижнем Новгороде для ополченских дел» был устроен особый приказ, во главе которого стояли: князь Д. М. Пожарский, рязанский дворянин Биркин, дьяк Юдин; у казны был Кузьма Минин. Этот приказ состоял отдельно от общей администрации Нижнего Новгорода, где в то время воеводами были князь Звенигородский и Алябьев. Таким образом, создались два автономных присутственных места. Одно ведало нижегородскими делами, другое – делами сначала нижегородского ополчения, потом ополчения всего Московского государства. Еще в 20-х числах декабря 1611 г. в отписке князя Дмитрия Пожарского из Нижнего Новгорода в Курмыш говорилось о целях сбора ратных людей: «… а из Нижнева итьти им с нами под Москву против литовских и польских людей». Тогда это означало только то, что нижегородцы собирались оказать поддержку подмосковному ополчению! Такой политический жест был жизненно необходим, пока в Нижнем Новгороде не выяснили общее земское настроение по отношению к «боярам», стоявшим с полками под Москвой.
Показательно, что в документах и летописях тоже не говорится о каком-либо противопоставлении нижегородского ополчения подмосковным «таборам» в связи с известием о начале движения. В первой окружной грамоте ополчения князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, отправленной из Ярославля 7 апреля 1612 г., о начале движения писали следующим образом:
«Да по милости всемогущаго Бога, Его праведным неизреченным призрением, в Нижнем Новегороде гости и все земьские посадские люди, ревнуя по Бозе, по православной християнской вере, не пощадя своего именья, дворян и детей боярских смольнян и иных многих городов сподобили неоскудным денежным жалованьем, и тем Московскому государьству и всему православному християнству великую неизреченную помочь учинили» [1, 356–357].
Автор «Бельского летописца» упоминал лишь о найме на службу ратных людей в Нижнем Новгороде, относя его очень поздно – к зиме 7120 (1611/12) г.:
«Того же году зимою учал збиратца в Нижнем Новагороде князь Дмитрей Михайлович Пожарской да от молодчих от торговых людей с ним посацкой человек нижегородец Кузьма Минин с понизовскою силою и с разоренными городы, которые там от голоду и от разоренья зашли, бегаючи от гонения от литовских людей [с] смольняны и з беляны, и з дрогобужаны, и вязмечи, и брянчаны, и с рославцы, и с ыными со многими с порубежными с разоренными городы. И учали им давать князь Дмитрей Михайлович Пожарской да Кузьма Минин многие столовые запасы и денежное великое жалованье по тритцати по пяти рублев, смотря по человеку и по службе своим презреньем, и учинили ратных людей сытых и конных, и вооруженных, и покойных, и запасных» [9, 259].
Создавшееся первоначально нижегородско-смоленское «ядро» ополчения уже не стало решать лишь локальные задачи, как прежде, в 1608–1609 гг. при воеводе Андрее Алябьеве, воевавшем с тушинским самозванцем Лжедмитрием II. В Нижнем Новгороде задумались о судьбе всего Московского государства. Ярко об этом сказано в грамоте, отправленной от воевод князя Дмитрия Пожарского, Ивана Биркина и дьяка Василия Юдина курмышскому воеводе Смирному Елагину 26 декабря 1611 г.: «Кого тебе на Курмыше жаловать? А хотя и есть кого, и тебе Курмышом одним не оборонити Москвы» [12, 13].
Первые «программные» грамоты от имени «земского совета» во главе с воеводами князем Дмитрием Пожарским, Иваном Биркиным и дьяком Василием Юдиным сохранились в списках, указан только год их создания – «120» (1611/12). П.Г.Любомиров датировал их началом декабря 1611 г. Не в последнюю очередь на его датировку повлияло упоминание о посольстве в Казань из Нижнего Новгорода воеводы Ивана Ивановича Биркина, чье имя упоминается в составе первоначального «земского совета» рядом с князем Дмитрием Михайловичем Пожарским. В 20-х числах декабря он был в селе Мурашкино. Но в то же самое время в Нижнем Новгороде собираются «для земского совета» старосты, целовальники и лучшие люди из Мурашкина и других крупных нижегородских вотчин. Поэтому поездку Ивана Биркина можно вполне связать и со сбором доходов, и с организацией «совета» в Нижнем Новгороде, а не с поездкой в Казань, куда он, возможно, добрался только в начале следующего 1612 г. Обратим внимание на тот факт, что еще 15 января 1611 г. в Казани выдавались ввозные грамоты «по указу Великого Росийского Московского государства и всее земли бояр». Если в это время воевода Иван Биркин был уже в Казани, то имел ли он полномочия от нижегородского «совета» санкционировать подобные распоряжения? [25, 244–245]. Гораздо убедительнее осторожная датировка С. Ф. Платонова, считавшего, что первые нижегородские грамоты появились не позднее начала февраля 1612 г. [41, 411, 471].
Что же услышала «вся земля» из Нижнего Новгорода? Во-первых, обращение от необычного городового совета, куда вошли не местные власти и воеводы, а набранные на службу люди, действовавшие совместно с нижегородским посадом: «Дмитрей Пожарской, Иван Биркин, Василей Юдин, и дворяня и дети боярские Нижнево Новагорода, и смолняня, и дорогобуженя, и вязмичи, [и] иных многих городов дворяня и дети боярские, и головы литовские и стрелецкие, и литва, и немцы, и земьские старосты, и таможенные головы, и все посацкие люди Нижнево Новагорода, и стрелцы, и пушкари, и затинщики, и всякие служилые и жилецкие люди челом бьют» [42, 193–194]. Во-вторых, главной причиной выступления в Нижнем Новгороде называли необходимость оказания помощи верховым городам в борьбе с литовскими людьми.
По отношению к объединившемуся в лице Нижнего Новгорода и Казани «низу» ближайшими верховыми были города, лежавшие вверх по Волге – Кострома и Ярославль. В конце января к ним действительно опасно приблизились передовые отряды фуражиров войска гетмана Кароля Ходкевича. Вполне возможно, что существовали планы захвата этих городов польско-литовскими отрядами. 25–26 января 1612 г. в Переславль-Залесский, Кострому и Ярославль были посланы грамоты московской Боярской думы. Эти грамоты должны были побудить упомянутые города к тому, чтобы они перестали поддерживать Ивана Заруцкого и подмосковные полки. Очень показательно, что в боярских грамотах не упоминается о деятельности Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Вскоре слухи о нижегородском движении все-таки достигли столицы и «ошибка» была исправлена. В связи с «собранием в Нижнем ратных людей», по сообщению «Нового летописца», патриарху Гермогену было предложено написать, чтобы они «не ходили под Московское государство». Отказ патриарха Гермогена привел к тому, что «оттоле начаша его морити гладом и умориша ево гладною смертью» [36, 117]. Замученный «литовскими людьми» патриарх Гермоген погиб 17 февраля 1612 г.
Упоминание о верховых городах многое объясняет в первоначальной тактике нижегородского движения. В грамоте ополчения «120 года» действительно говорилось о походе под Москву против «полских людей», но собиравшееся земское войско не противопоставляло себя полностью подмосковным полкам. Войско, собранное «с нами, со князем Дмитреем, да с Ываном», необходимо было для защиты прежде всего объединившихся верховых и понизовых городов.
Стоит внимательно перечитать обращение грамоты «120 года» из Нижнего в Вычегду, чтобы убедиться в справедливости этого наблюдения: «…и ныне бы идти всем на полских людей вскоре до тех мест, покаместа ратные люди под Москвою стоят, чтоб литовские люди Московскому государству конечные погибели не навели и верховых бы и понизовых городов и досталь не разорили» [42, 196]. Чтобы не было противоречия с тем, что раньше говорилось в той же грамоте о «казачье грабеже и налогу», нижегородский земский совет убеждал, что у него есть для этого средства: «А будет, господа, вы, дворяня и дети боярские и всякие служилые люди, опасаетись от казаков какова налогу или иных каких воровских заводов, и вам бы однолично того не опасатца: как будем все верховые и понизовые городы в сходе, и мы всею землею о том совет учиним и дурна никакова вором делати не дадим» [42, 197].
Первые грамоты, рассылавшиеся из Нижнего Новгорода, создавались тогда, когда уже известны были все опасности, шедшие от «казацких таборов», и главная из них – провозглашение царя без совета со «всей землею». Самую большую угрозу видели в присяге «Маринкину сыну», и заранее отрекались как от присяги ему, так и другим неприемлемым претендентам. Вместо этого нижегородцы, становившиеся земским гарантом защиты от новой смуты именем Марины Мнишек и ее сына «царевича Ивана Дмитриевича», предлагали собраться понизовым и верховым городам «в сход» и самим избрать царя. В качестве очередной меры в Нижнем Новгороде собирались дождаться уже посланных из Казани «передовых людей» и вместе идти под Суздаль воевать с польскими и литовскими людьми (речь шла именно о походе на Суздаль, а не на Ярославль или Москву, как получилось позднее).
Стремление князя Дмитрия Михайловича Пожарского в стольный град бывшего Суздальского княжества с целью защищать «отцовские гробы» понятно, но тогда этого сделать не пришлось. Было бы наивно думать, что, широко заявив о созданном в Нижнем Новгороде движении, люди, собравшиеся там во имя идеалов привычного общественного порядка, встретят повсеместную поддержку. Скорее наоборот: как всякий политический жест, совпадающий с ожиданиями, накопившимися в обществе, вызов воевод князя Дмитрия Михайловича Пожарского и Ивана Ивановича Биркина был принят, и реакция на их выступление не замедлила себя ждать – и в Москве, и под Москвой. После присяги «псковскому вору» совсем рядом с Нижним Новгородом, в соседнем Арзамасском уезде, воевода Григорий Плещеев перешел на сторону «царя Дмитрия Ивановича», нарушив единение понизовых городов. Точно такая участь ждала и другие города, которым предстояло присягнуть самозванцу вслед за подмосковными «таборами».
Первый военный удар планам нижегородского ополчения нанес Иван Заруцкий, когда попытался в союзе с Андреем Просовецким захватить Ярославль и города Поморья, чтоб не дать соединиться нижегородской рати с ярославцами в середине февраля 1612 г. Когда в Нижнем Новгороде получили от ярославских гонцов известие о том, что их союзнику в верховых городах угрожает опасность, то отправили передовой отряд во главе с князем Дмитрием Петровичем Лопатой-Пожарским и дьяком Семейкой Самсоновым в Ярославль. Этот отряд успел опередить приход туда рати Андрея Просовецкого, а казаков, бывших в Ярославле, посадили под арест. Все это заставило нижегородскую рать выступить в свой поход, но уже не тем маршрутом, какой планировался раньше, и не соблюдая никакой видимости возможного союза с казаками, с которыми началась открытая война.
Вынужденное выступление нижегородского ополчения вместо Суздаля на Ярославль произошло в Великий пост 1612 г., начинавшийся 23 февраля. Переход войска от Нижнего Новгорода до Ярославля, по расчетам П. Г. Любомирова, должен был занять от двух до трех недель [29, 23]. Первое большое испытание земское ополчение ждало в Костроме, где войско князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина оказалось не позднее 14 марта. Еще на подходе к городу, в Плесе, ополчение встретили костромские посланцы, предупредившие о недружественных действиях воеводы Ивана Петровича Шереметева и его «советников», лояльных Боярской думе в Москве. Костромской воевода, когда-то подписавший Приговор Первого ополчения 30 июня 1611 г., не собирался пускать ополчение в город.
Сопротивление костромского воеводы показало, что дальнейший успех нижегородской рати не мог держаться на одном призыве к добровольному совету и обеспечению набираемого земского войска. Сменив Ивана Шереметева в Костроме на нового воеводу князя Романа Ивановича Гагарина и дьяка Андрея Подлесова, князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин сделали важный шаг к общеземскому правительству. Однако шаг этот был по-прежнему осторожный, с оглядкой на существовавшее распределение земских сил, главная из которых все равно оставалась под Москвой. Поэтому возвращение на воеводство в Кострому князя Романа Гагарина и дьяка Андрея Подлесова, впервые назначенных туда в 1611 г. тоже из Первого ополчения, могло восприниматься как поддержка прежних распоряжений, шедших из подмосковных полков. Важно было показать воеводам на местах, что они не будут сменены, если поддержат земскую борьбу с казачьими бесчинствами.
Перешел на сторону нижегородского ополчения переславль-залесский воевода Андрей Палицын, похвальную грамоту которому написал из Костромы 15 марта 1612 г. бывший дьяк Челобитного приказа Первого ополчения Семейка Самсонов. Жизнь прежнего костромского воеводы не только была сохранена; спустя некоторое время Иван Шереметев даже войдет в состав «Совета всей земли». Другое воеводское назначение, сделанное из Костромы, было связано с Суздалем, судьба которого продолжала волновать князя Дмитрия Пожарского. По челобитной суздальцев туда был направлен стрелецкий отряд во главе с князем Романом Петровичем Пожарским, «чтобы Просовецкие Суздалю никакие пакости не зделали» (речь о казаках, воевавших под началом братьев Андрея и Ивана Просовецких). В этот момент, судя по грамоте воевод ополчения, направленной из Костромы в Переславль-Залесский, противостояние с казаками было особенно напряженным: «И мы, господа, слыша то, что под Москвою атаманы и козаки своровали, вору крест целовали, конечно об них скорбим, что оне воровством своим, оставя свет, во тьму преложились и новую кровь вчинают… А мы… хотим, собрався всею землею, вскоре итить и битися с ними до смерти сколько Бог помочи даст» [50, 290]. «Русских воров» ставили в один ряд с польскими и литовскими людьми, призывая: «А на вражью бы есте прелесть, что Иван Зарутцкой с своими советники с атаманы и казаки вору крест целовали, ни в чем не сумнялись и стояли против их мужественно, что и против прочих врагов, польских и литовских людей» [50, 291].
В итоге в Костроме не только была собрана «дань» по «уставу» Кузьмы Минина. С этого момента нижегородский «совет» начал распоряжаться в верховых городах как новая земская власть. Такому превращению способствовали как новые воеводские назначения, после которых князь Дмитрий Пожарский мог почувствовать себя, по выражению П. Г. Любомирова, «в положении правителя государства», так и набор на службу костромских дворян и детей боярских. Кузьма Минин не просто обеспечил их жалованьем, но потребовал от них земской службы: «… и служивым людем, костромичам, с ратными людми идти повеле» [45, 32].
Настоящее земское правительство – «Совет всей земли» – было создано после прихода в Ярославль нижегородской и костромской рати во главе с князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым около 1 апреля 1612 г. Прошел ровно год с того момента, когда отряды Первого ополчения окружили сожженную Москву, но так и не достигли успеха. Вместо этого в подмосковных полках утвердилась рознь между дворянами и казаками и уже совершилась присяга новому самозванцу со старым именем «царь Дмитрий Иванович». Земское дело освобождения Москвы приходилось начинать заново и далеко от столицы.
Ярославское стояние
Дорога на Москву оказалась долгой для нижегородского ополчения. Четыре месяца стояло ополчение в Ярославле, побуждаемое из Троице-Сергиева монастыря и из других мест к походу на помощь подмосковным полкам. Но у «земского совета» были свои цели, которые он и реализовывал в период ярославского стояния. Известно, что именно в это время ополчение князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина укрепилось настолько, что создало «Совет всей земли» и вступило от его имени в дипломатические контакты с шведами в Новгороде Великом. Казалось, что «Совет всей земли» стал приобретать черты настоящего правительства, а Ярославль становился столицей для других городов, поддержавших нижегородское движение. Так ли это, впрочем, следует еще разобраться.
Первая грамота «ото всей земли» была направлена из Ярославля в Сольвычегодск 7 апреля 1612 г. В ней наконец-то формулировались цели движения и определялась позиция по отношению к подмосковным «таборам» князя Дмитрия Трубецкого и Ивана Заруцкого. Призыв собрать свой «земский совет» и прислать для этого «изо всех чинов людей человека по два» с наказами выборным красноречиво свидетельствовал о том, что в Московском государстве начинал создаваться новый земский центр власти. В грамоте говорилось о создании нижегородского ополчения: «Столники же и стряпчие, и дворяне и дети боярские всех городов, видя неправедное их (казаков Заруцкого. – В. К.) начинание, из-под Москвы розъехались по городом и учали совещатися со всеми городы, чтоб всем православным християном быти в совете и в соединенье, и выбрати государя всею землею» [1, 353].
Последняя фраза самая важная из всего земского послания, призывавшего города к созданию нового «Совета всей земли». Он требовался в первую очередь для того, чтобы сначала избрать царя и только потом думать об освобождении Москвы и создании правительства. В действительности все произошло, как известно, по-другому.
Первым делом в Ярославле определились, что будут поддерживать кандидатуру шведского принца Карла-Филиппа на русский престол. Главным преимуществом этого королевича было то, что шведская сторона гарантировала его крещение в православную веру еще до вступления в пределы Русского государства. Таким образом, Новгородское государство, согласившееся ранее, хотя и под давлением, принять у себя правителем шведского королевича, оставалось вместе с Московским государством. Возвращаясь к союзу с Швецией, можно было подумать о продолжении боев с главным врагом – королем Сигизмундом III. Шведы, установившие оккупационный порядок в Великом Новгороде, гарантировали, что будут сохранять новгородскую «старину»; новгородские духовные власти оставались на своих местах; дворян и детей боярских никто не лишал их поместий и вотчин.
12 мая 1612 г. ярославское посольство во главе со Степаном Лазаревичем Татищевым, состоявшее из «дворян розных городов», достигло Великого Новгорода. С собой оно привезло грамоты «о земском деле» к новгородскому митрополиту Исидору, воеводе боярину Ивану Большому Никитичу Одоевскому и к шведскому наместнику Якобу Делагарди. Посольство было организовано таким образом, чтобы подчеркнуть соборную волю, выраженную в Ярославле. Поэтому там были один жилец[16] и одиннадцать дворян, представлявших разные «служилые города»,[17] первыми примкнувшие к движению, в том числе Смоленск, Нижний Новгород, Казань и понизовые города. Присутствие в посольстве детей боярских из Переславля-Рязанского и Новгорода (Бежецкая пятина) тоже подтверждают факты представительства в ярославском ополчении служилых людей из этих двух самых обширных дворянских корпораций в России.
С Новгородом вступали в дипломатическую переписку представители «всех чинов и всяких людей» Московского государства и Казанского царства. О кандидатуре Карла-Филиппа на новгородский престол расспрашивали основательно. Речь шла и о месте крещения будущего государя и о распространении его власти не только на Новгородское государство, но и на остальную страну. Для переговоров в Ярославль приглашали посланцев Новгородского государства.
Состав «земского совета» и титул руководителя ополчения, к которым новгородцы адресовали свой ответ, уже 19 мая 1612 г. звучал следующим образом: «Великия Росийския державы Московского государьства бояром и воеводам, и по избранию всех чинов людей Росийского государьства многочисленного войска у ратных и у земских дел столнику и воеводе господам князю Дмитрею Михайловичу с товарыщи, и чашником, и столником, и дворяном болшим, и стряпчим, и приказным людем, и жилцом, и дворяном из городов, и детем боярским, и головам стрелецким и казачьим, и сотником, и гостем. И торговым людем, и стрелцом и казаком, и понизовых городов царьства Казанского и иных всех городов князем и мурзам и татаром, и литве и немцом, которые служат в Московском государьстве, и всех чинов всяким людем всех городов Московского и Казанского государьства» [1, 364]. Здесь важно то, что собор этот претендовал на представление мнения «всей земли», не исключая и подмосковных полков. Более того, в грамоте земского «Совета всей земли» в Великий Новгород обращались от «многого собрания» людей, которые стояли «под Москвою и в Ярославле» [1, 364]. Хотя на самом деле это была еще далекая и трудноосуществимая цель.
Представители Новгорода игумен Никольского-Вижец-кого монастыря Геннадий и князь Федор Оболенский с товарищами прибыли в Ярославль в 20-х числах июня 1612 г. В земских городах ходили списки «посланных речей», из которых известно о результатах переговоров новгородского владыки Исидора и воеводы боярина князя Ивана Никитича Одоевского с собравшимися в Ярославле представителями «земли». Позиция «всей земли» была обозначена на переговорах князем Дмитрием Пожарским, соглашавшимся на принятие кандидатуры Карла-Филиппа в случае его перехода в православие: «…хотим того, чтоб нам всем людем Росийского государьства в соединенье быть; и обрати б на Московское государьство государя царя и великого князя, государьского сына, только б был в православной крестьянской вере греческого закона, а не в иной которой, которая вера с нашею православной хрестьянскою верою не состоится» [1, 369–370].
Неудачный опыт с присягой королевичу Владиславу навсегда отучил московских людей от излишнего доверия к иноземным кандидатурам. С ответом об обязательном крещении в православие королевича Карла-Филиппа новгородские посланцы и представители ярославского «земского совета» Перфирий Иванович Секирин, Федор Кондратьевич Шишкин и подьячий Девятый Русинов отправились в Новгород 26–27 июля 1612 г. В главном вопросе «Совет всей земли» в Ярославле достиг согласия и это оправдывало всю деятельность Второго ополчения с начала апреля.
Другим очередным «земским делом» ополчения во время его стояния в Ярославле «Новый летописец» назвал «посылку» рати «на черкасы и на казаков». Запорожские казаки («черкасы») «сташа в Онтонове монастыре», а «вольные» казаки «стояху на Угличе», еще один казачий отряд Первого ополчения во главе с Василием Толстым «прииде с Москвы» и «ста в Пошехонье». Там казаки воевали с местными дворянами, выбивая их из своих поместий. Кроме того, действия казаков угрожали перекрыть дорогу из Ярославля на Вологду, Белоозеро и Поморье, поддерживавшее земское движение. Поэтому из ополчения были отправлены воевать с казаками отряды князей Дмитрия Мамстрюковича Черкасского (тушинского «боярина» по политическому происхождению) и Ивана Федоровича Троекурова. Земские воеводы отогнали черкас от Онтоньева монастыря и встали в Кашине с целью утвердить за собой еще одну дорогу на Великий Новгород. Затем они выбили казаков из Углича, причем на сторону ярославского ополчения перешли четыре казачьих атамана.
Повседневные занятия ярославского правительства касались прежде всего «устроенья» ратных людей. Пришедшие в Ярославль дворяне и дети боярские, другие ратные люди, приезжавшие в полки, нуждались в жалованье и «кормах». Князь Дмитрий Пожарский также «верстал новиков», сохранились сведения о верстании детей боярских в Ярославле. Обычно назначение поместных и денежных окладов производилось по царскому указу и затрагивало детей боярских всех «служилых городов». Воеводское «верстание» в Ярославле было вызвано чрезвычайными обстоятельствами, но потом его признали вполне законным. Раздача денег служилым людям, начатая в Нижнем Новгороде, была продолжена и в Ярославле. Кузьма Минин собирал казну, а князь Дмитрий Пожарский распоряжался ею в интересах «всей земли». По всем верховым и поморским городам, первыми примкнувшим к нижегородскому движению, были разосланы грамоты с призывом присылать деньги в казну. Источником пополнения земского бюджета стали также обычные подтверждения грамот и привилегий, а также пошлины от выданных поместных и вотчинных грамот. Логичным итогом финансовой деятельности ярославского правительства стало создание Денежного двора.
Л. М. Сухотин нашел в столбцах Печатного приказа челобитную «бойца» Максима Юрьева, доказавшую, что в Ярославле чеканили монеты [58, 99]. При чеканке серебряных копеек ярославского «Совета всей земли», как и в деятельности Денежного двора в Великом Новгороде, использовали старые образцы. Главным отличием оказывалось изменение монетной «стопы» и, вследствие этого, веса копеек. Удивляться здесь нечему, ведь прием девальвации денег тогда был уже известен.
В правительственной деятельности «Совета всей земли» в Ярославле нет признаков какой-то целенаправленной политики по выстраиванию полноценного приказного порядка с четким распределением дел по каждому ведомству. Даже такой внимательный исследователь истории нижегородского ополчения, как П. Г. Любомиров, вынужден был констатировать «крайнюю скудость материала», относящегося к «организации приказов». Из существовавших в Ярославле приказов известны Разрядный и Поместный, которые были и под Москвой. Более того, известны дьяки подмосковных полков, служившие в одном и том же приказе в обоих ополчениях: дьяк Андрей Вареев в Разрядном приказе; Федор Дмитриевич Шушерин, Петр Алексеевич Третьяков и Герасим Мартемьянов – в Поместном приказе [4, 453]. Такого досконального повторения приказной структуры подмосковных полков не понадобилось бы, если бы у ополчения князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина не было задачи поддерживать «земскую» часть полков, стоявших под Москвой. Логичнее было бы передать управление другим лицам, в противовес «дельцам», подчинявшимся врагам-казакам (мало ли еще какие обвинения можно было измыслить при желании обвинить участников Первого ополчения, но этого не происходило). Однако решения все равно принимались общие, по приговору «Совета всей земли». Точнее всего обозначил созданную структуру власти в нижегородском движении сам князь Дмитрий Пожарский на переговорах с новгородцами, говоря о том, что, соглашаясь на воеводство, он подчинился решению «бояр и всей земли».
Те, кто приезжал в Ярославль (особенно выборные представители в «земский совет»), били челом о своих нуждах, в ответ на эти челобитные следовало принятие земского приговора, по которому раздавались грамоты, проводились дозоры земель, назначения воевод, делались разные распоряжения. Земские приговоры были действительны только там, где признавалась власть ополчения князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина и не было никакой другой верховной власти.
Несколько месяцев, которые ополчение простояло в Ярославле, потребовалось еще и для того, чтоб подготовить достаточное количество пищалей, свинца и пороха.
Итогом знаменитого ярославского стояния стало формирование нового центра земской власти. Однако указы и приговоры ополчения признавались не повсеместно, а лишь на ограниченной территории Замосковного края, понизовых и поморских городов. В середине 1612 г. в украинных и северских городах и даже в некоторых замосковных, например в Арзамасе, по-прежнему исполнялись указы «бояр и воевод» князя Дмитрия Трубецкого и Ивана Заруцкого, псковского «царя Дмитрия Ивановича». В Переславле-Рязанском и Зарайске распоряжалась владычица коломенского двора Марина Мнишек. Нет свидетельств намеренного противостояния или столкновения по земским делам в тех городах и уездах, которые не признавали ярославского «Совета всей земли». Все ограничилось обвинениями казаков Ивана Заруцкого и противодействием им в деле принятия кандидатуры «Маринкина сына» на русский престол.
Ополчение, пришедшее в Ярославль, утверждало систему двоевластия. Нижегородское ополчение изначально декларировало, что собирается «для московского очищенья». Но князю Дмитрию Пожарскому и Кузьме Минину приходилось считаться с тем, что под Москвой уже действует земское правительство «Московского государства бояр и воевод» – князя Дмитрия Трубецкого и Ивана Заруцкого. Они тоже раздавали грамоты «по Совету всее земли»,[18] а их заслуги в борьбе с польско-литовским гарнизоном, окруженным в Москве, были значительно весомее.
Чем дальше, тем больше ярославское ополчение приближалось к тому земскому «идеалу», который виделся при создании Первого ополчения. В Ярославль также приехали служить бывшие тушинцы и бывшие сторонники царя Василия Шуйского, дворяне и казаки. Но дело было поставлено основательней и без спешки и порыва, столь характерных для главного воеводы подмосковных полков Прокофия Ляпунова. Ополчение князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина тверже держалось принятых решений о кандидатуре нового царя, продолжив переговоры с Великим Новгородом, которыми пренебрегли в подмосковных полках.
Когда земское ополчение перешло из Ярославля под Москву, ему пришлось доказывать, что его поддержка действительно была нужна тем, кто «другой год» воевал под Москвой. Случилось же это только под воздействием критической ситуации, грозившей тем, что разногласия между «земцами» и «казаками» окончатся прорывом в Москву гетмана Ходкевича.
Освобождение Москвы
«Богати пришли из Ярославля, и сами одни отстоятся от етмана» [37, 124] – такими словами встретили казаки ополчение князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, пришедшее под Москву 20 августа 1612 г. Самой главной задачей для земского войска в это время стало не допустить прохода в Москву свежих польско-литовских сил. Из Троице-Сергиева монастыря давно твердили князю Дмитрию Пожарскому: «Аще прежде вашего пришествия к Москве гетман Хоткеевичь приидет со множеством войска и з запасы, то уже всуе труд вашь будет и тще ваше собрание» [54, 220]. В Ярославле хорошо это понимали и, едва получив первые достоверные сведения о подходе гетмана Ходкевича к Москве из обращения воевод и ратных людей подмосковных полков («Новый летописец» не мог скрыть, что оно шло не только от князя Дмитрия Трубецкого, но и «от Заруцково»), немедленно стали готовиться в поход под столицу. Первым был выслан передовой отряд во главе с воеводами Михаилом Самсоновичем Дмитриевым и арзамасцем Федором Васильевичем Левашевым. Однако князь Дмитрий Пожарский продолжал соблюдать крайнюю осторожность: посланным «на спех» воеводам было заказано входить в «таборы», они должны были поставить свой острожек у Петровских ворот. Следующий отряд во главе с князем Дмитрием Петровичем Лопатой-Пожарским и дьяком Семейкой Самсоновым (он возвращался под Москву, так как ранее служил в подмосковных полках) встали также отдельно у Тверских ворот.
Вскоре к Москве подошли и основные силы ополчения во главе с князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым. Они встали у Арбатских ворот и тоже не поддались ни на какие уговоры князя Дмитрия Трубецкого, звавшего земское войско «к себе стояти в табары». С самого начала, таким образом, между двумя земскими силами – подмосковной и ярославской – воцарилась «нелюбовь».
Твердое решение «с казаками не стаивать» едва не стало роковым во время решающих боев с войском гетмана Ходкевича, состоявшихся 21–24 августа 1612 г. и вошедших в историю Смуты как «Хоткеев бой». Гетман Ходкевич со своим отрядом наступал со стороны Донского монастыря и дошел почти до стен Кремля. Иосиф Будило, сидевший в столице в осаде, вспоминал в своих записках, как «…удалившись за реку, русские опустили руки и смотрели, скоро ли гетман введет в крепость продовольствие» [51, 322]. Гетман же «рад бы был птицей перелететь в крепость с продовольствием» [51, 323]. Но в Кремль ему пробиться не удалось…
Главный бой пришелся на 24 августа, совпав с днем памяти Петра Митрополита, что для людей, служивших в ополчении, присягавших в том, что они воюют за освобождение Москвы – «дома московских чудотворцев», – не могло не быть символичным. В этот день, согласно грамоте ополчения, объединившегося под командованием князя Дмитрия Трубецкого и князя Дмитрия Пожарского, произошло следующее:
«…гетман Хаткеев и Наливайко со всеми людми по за Москве реке пошли прямо к городу, жестоким обычаем, надеясь на множество людей… а московские сиделцы вышли из города на вылазку: и мы бояря и всяких чинов люди, видя такое их свирепство и напрасное нашествие полских и литовских людей, выходили против их со всеми людми и бились с ними с первого часу дни до другого часу ночи, и милостию Божиею и Пречистыя его Богоматери и Петра Митрополита и всех святых молитвами, многих у них побили и живых взяли, и знамена и литавры поимали, и убили у них болши пятисот человек, а с досталными людми гетман пошел от Москвы к Можайску, а из Можайску в Полшу с великим страхованием» [1, 272].
Грамота не сообщает, что исход боев все равно решили казаки, слишком это расходилось с предшествующим стремлением представить казачьи станицы как безусловных врагов земских сил. Предводители казаков не послушались воеводу князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого и вступили в бой. «Новый летописец» оставил описание этого самого драматичного момента в истории боев с гетманом Ходкевичем под Москвой:
«Етману же наступающу всеми людми, князю же Дмитрею и всем воеводам, кои с ним пришли с ратными людми, не могущу противу етмана стояти конными людьми, и повеле всей рати сойти с коней, и начаша битися пешие: едва руками не ималися меж себя, едва против их стояша. Головы де те, кои посланы ко князю Дмитрею Трубецкому (от князя Дмитрия Пожарского. – в. к.), видя неизможение своим полком, а от нево никоторые помочи нету, и поидоша от нево ис полку бес повеления скорым делом. Он же не похоте их пустить. Они же ево не послушаша, поидоша в свои полки и многую помочь учиниша. Атаманы ж Трубецково полку: Филат Межаков, Офонасей Коломна, Дружина Романов, Макар Козлов поидоша самовольством на помощь и глаголаху князю Дмитрею Трубецкому, что «в вашей нелюбви Московскому государству и ратным людем пагуба становитца». И придоша на помочь ко князю Дмитрею в полки и по милости всещадраго Бога етмана отбиша и многих литовских людей побиша» [37, 124–125].
Автор «Повести о победах Московского государства» писал, что «русские люди» из «боярского полка князя Дмитрея Тимофеевича» откликнулись на призыв Кузьмы Минина вмешаться в бой и помочь своим соотечественникам, которых уже превозмогали иноземцы. Он сравнил речь Минина, обращенную к служилым людям князя Дмитрия Трубецкого, – «ныне бо от единоверных отлучаетеся, впредь к кому прибегнете и от кого себе помощи чаете» – со свечой, внезапно зажженной в кромешной тьме: «…аки не в светимой тме светлу свещу возже». И здесь автору «Повести о победах Московского государства» приходилось «снижать» роль казаков полка князя Дмитрия Трубецкого, поэтому о них сказано только то, что в захваченном обозе гетмана Ходкевича они сразу «нападоша» на «множество винных бочек и на многое полское питие». Если бы не вмешательство воеводы князя Дмитрия Трубецкого, велевшего «бочки литовския растаскати и бити, чтобы воинству от пития пакости не учинихомся» [45, 34], то казаки, скорее всего, не закончили бы пировать и исход боя вполне мог бы быть другим (косвенно это только подтверждает, что без участия казаков не могли справиться с войском гетмана Ходкевича). Сам Кузьма Минин, поддавшись эйфории боя, ходил во главе дворянских сотен на литовские роты у «Крымского двора» за Москвою-рекою. Удара полков князя Дмитрия Трубецкого и князя Дмитрия Пожарского, объединившихся на время битвы, отряды гетмана Ходкевича не выдержали. Так еще один несостоявшийся московский правитель удовольствовался только ее видом с Поклонной горы, куда вынужден был отойти после неудачных московских боев, обрекая осажденный польско-литовский гарнизон на медленную смерть от голода.
Как бы ни страдал сидевший в осаде польско-литовский гарнизон, потерявший надежду на то, что «рыцарство» выручит его в ближайшее время, он не сдавался. Некоторое время спустя после победы над гетманом Ходкевичем и его войском князь Дмитрий Михайлович Пожарский обратился с письмом к полякам и литовцам, которые сидели в осаде, убеждая их сдаться. Текст этого обращения сохранился в дневнике Иосифа Будилы: «Ваши головы и жизнь будут сохранены вам. Я возьму это на свою душу и упрошу всех ратных людей» [51, 329] (что и случилось потом, когда Москва была освобождена). В ответ же был получен надменный отказ «рыцарства», продолжавшего твердить, что оно воюет со «шпынями» и «блинниками» ради интересов «светлейшего царя Владислава Сигизмундовича»: «Письму твоему, Пожарский, которое мало достойно того, чтобы его слушали наши шляхетские уши, мы не удивились… Лучше ты, Пожарский, отпусти к сохам своих людей. Пусть холоп по-прежнему возделывает землю, поп пусть знает церковь, Кузьмы пусть занимаются своей торговлей, – царству тогда лучше будет, нежели теперь при твоем управлении, которое ты направляешь к последней гибели царства» [51, 332–337].
Пока осажденным в Москве дело виделось так, что всем в государстве стал управлять князь Дмитрий Пожарский, самому земскому воеводе пришлось столкнуться с серьезными проблемами. После ухода литовского гетмана Ходкевича из-под Москвы вражда с подмосковными полками не исчезла. По сообщению грамоты ополчения князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина вологодскому епископу Сильвестру, с приездом 5 сентября в полки братьев Ивана и Василия Шереметевых образовалась некая «тушинская партия». Туда вошли такие знаменитые приверженцы самозваного «царя Дмитрия», как князь Григорий Шаховской, Иван Плещеев и князь Иван Засекин. Все вместе они стали агитировать казаков убить князя Дмитрия Пожарского и, разогнав земские полки, пойти грабить Ярославль и Вологду. То ли все дело объяснялось встречей старых друзей после разлуки, не обошедшейся без разгульных пиров и невоздержанных речей, то ли на самом деле все было так серьезно. На всякий случай князь Дмитрий Пожарский уже 9 сентября известил вологодские власти об угрозах прежних «тушинцев», которые хотели, «чтоб литва в Москве сидели, а им бы по своему таборскому воровскому начинанию вся совершати и государство разоряти и православных християн побивати» [3, 601]. Дело неблагонадежного Ивана Шереметева, со времен стояния нижегородского ополчения в Костроме препятствовавшего земскому движению (а может быть, и раньше, так как его еще обвиняли в смерти Прокофия Ляпунова), могло быть использовано князем Дмитрием Пожарским для оправдания своих решений.
Земский полк первым делом занял и укрепил свои позиции у Арбатских ворот, построив острожек и выкопав ров. С самого начала князь Дмитрий Пожарский не хотел объединяться с полками князя Дмитрия Трубецкого, располагавшимися у Яузских ворот, на тех условиях, которые ему предлагались. «Новый летописец» содержит статью «о съезде бояр и воевод» с собственной версией мотивов затянувшегося объединения:
«Начальники же начаша меж себя быти не в совете для тово, что князь Дмитрею Трубецкому хотящу тово, чтобы князь Дмитрей Пожарской и Кузма ездили к нему в табары. Они же к нему не ездяху в табары не для того, что к нему ездити, но для ради казачья убойства. И приговориша всею ратью съезжатися на Неглинне. И туто же начаша съезжатися и земским делом начаша промышляти» [37, 126].
Условие, поставленное князем Дмитрием Трубецким, легко прочитывается здесь между строк. Воевода Первого ополчения, руководствуясь соображениями местнической чести, хотел заставить менее родовитого князя Пожарского выполнять свои указы. Князь Дмитрий Пожарский соглашался на роль второго воеводы, потому что в земских ополчениях все были «без мест». Но он не мог согласиться с тем, что собранная в Ярославле земская сила и созданные там приказы полностью растворятся в войске князя Трубецкого. У князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина не было никакой гарантии, что бывшие «тушинцы» и казаки не повернут оружие против них, поэтому они сохраняли осторожность.
Компромисс был достигнут в самых последних числах сентября 1612 г. «Бояре и воеводы» князь Дмитрий Трубецкой и князь Дмитрий Пожарский (их имена стали писать в таком порядке в документах ополчения) согласились на уговоры, обращенные к ним со всех сторон. Более того, в грамоте объединенного ополчения говорилось, что, кроме челобитных, был принят «Приговор всех чинов людей», согласно которому воеводы и «стали во единачестве». Сохранилась и особая роль «выборного человека» Кузьмы Минина, чье имя упоминалось рядом с главными боярами объединенного ополчения. Дублировавшие друг друга приказы, в первую очередь Разрядный, были объединены и сведены в новое место так, чтобы не было обидно ни князю Дмитрию Трубецкому, ни князю Дмитрию Пожарскому. Главная цель объединенного ополчения формулировалась хотя и расплывчато, но не содержала призыва к мести: «Московского государства доступать и Росийскому государству во всем добра хотеть безо всякия хитрости» [1, 373].
В октябре 1612 г. осажденный польско-литовский гарнизон, «безпрестанно» обстреливаемый из «наряду» с башен («тур»), поставленных у Пушечного двора, и в Егорьевском девичьем монастыре, и у Всех Святых на Кулишках, переживал агонию. Как лаконично, но определенно выразился Иосиф Будило по поводу проявившегося каннибализма: «…кто кого мог, кто был здоровее другого, тот того и ел» [51, 348]. Не было тайной положение внутри осажденных стен Китай-города и Кремля для «бояр и воевод», писавших по городам о скором взятии столицы: «… и из города из Москвы выходят к нам выходцы, руские и литовские и немецкие люди, а сказывают, что в городе московских сиделцов из наряду побивает и со всякия тесноты и с голоду помирают, а едят де литовские люди человечину, а хлеба и иных никаких запасов ни у кого ничего не осталось: и мы, уповая на Бога, начаемся Москвы доступити вскоре» [1, 373].
B ожидании сдачи города начались первые переговоры, когда в дело вмешался лучший помощник истории – случай. 22 октября 1612 г. стороны обменивались полагавшимися «закладами», т. е. заложниками, и вырабатывали договоренности об условиях будущей сдачи. В этот момент казаки полка князя Дмитрия Трубецкого неожиданно пошли на приступ, неся с собой лестницы, по которым взобрались на неприступные стены Китай-города. «Пискаревский летописец» точно сообщил место, где была прервана долговременная оборона Москвы: «с Кулишек от Всех Святых с Ыванова лушку» [39, 218], т. е. с того самого места, где стояла одна из «тур» объединенного ополчения, ведшая обстрел города. Следом за первым приступом ополченцев, случилось так называемое китайское взятье, т. е. полное освобождение стен Китай-города от оборонявшего их польско-литовского гарнизона, затворившегося в Кремле.
У польско-литовского гарнизона были все основания считать, что его обманули, но остановить противника они уже были не в силах. Оставшиеся в Кремле русские люди видели, как «рыцарство» во главе со своим начальником полковником Струсем решало вопрос о сдаче. Они не могли не отдать должное последнему мужеству своих врагов: «И тако снидошася вкупе на площед вся воинство, посреди ж их стоит началной воевода пан Струс, муж великий храбрости и многово рассужения и рече: воини Полского народу полковникам и ротмистрам и все рыцерство! Весте сами настоящую сию беду нашу, юже наша кончина приходит; слаткий убо свет минуетца, а горшая тма покрывает и посекаемый меч уже готов бысть. Подайте ми совет благ, да како избыти можем от немилостивого сего меча враг наших» [53, 616]. Совет был один: отправлять послов «к воеводам московского воинства» и просить о сдаче.
Сдача Москвы растянулась на несколько дней. Иосиф Будило говорил, что первый приступ, пришедшийся на 25 октября (4 ноября) был отбит, а сдались осажденные только 27 октября, выговорив себе сохранение жизни. 28 октября, по словам Будилы, «русские вошли в крепость», что является самой поздней из известных дат. Напротив, архиепископ Арсений Елассонский, также до конца остававшийся в осажденной Москве, определенно указывает на более раннее время сдачи польско-литовского гарнизона. Он писал в мемуарах, что «срединная крепость» (т. е. Китай-город) была взята войсками ополчения «на рассвете дня, в четверг, в шестом часу того дня», т. е. 22 октября (1 ноября), после чего, договорившись со старостой Николаем Струсем о сдаче, «оба великие боярина с русскими солдатами вошли внутрь центральной крепости и в царские палаты» [16, 198]. Символично, что именно из этого бывшего двора царя Бориса Годунова в Кремле, где сначала остановился на постой главный распорядитель русских дел в столице велижский староста Александр Госевский, выйдет сдаваться ополчению Кузьмы Минина и князя Дмитрия Михайловича Пожарского в октябре 1612 г. и последний глава польского гарнизона – староста Николай Струсь.
Во время сдачи города люди стали стихийно покидать его, после того как польско-литовский гарнизон уже был не в силах сопротивляться уходу из Москвы никого из осадных сидельцев: ни своих, ни чужих. Под охраной, на положении заложников оставались только московские бояре во главе с князем Федором Ивановичем Мстиславским. В обмен на их жизни начальники польско-литовского гарнизона выговорили сохранение своих жизней. Об этом говорилось в грамоте из самого ополчения, приурочившей окончательную сдачу города к 27 октября (6 ноября) 1612 г.: «Почали выбегать из Кремля сидельцы русские и литовские люди, а в роспросах сказывали, что бояр князя Федора Ивановича Мстиславского с товарыщи литовские люди роздали за крепкие приставы» [36, 96].
Боярин князь Федор Иванович Мстиславский даже поучаствовал в переговорах с главными воеводами земского ополчения, которые вел староста Николай Струсь. Переговоры велись в «застенке», в небольшом пространстве, отделявшем крепостную стену от вала, где глава московской Боярской думы бил челом «всей земле», что было необходимым подтверждением верховенства власти земского совета объединенного ополчения. «И мы, бояре и воеводы, и вся земля, – писали в грамоте на Белоозеро 6 ноября 1612 г., – город Кремль у литовских людей приняли и их бояр и литовских людей не побили, потому что они бояре посяместа были все в неволе, а иные за приставы» [36, 97]. Еще позднее об этом вспоминали как о чудесном освобождении, «что из адовых жилищ» всех «бедствующих и до конца погибающих» в Москве [25, 257].
Оказалось, что когда дело было сделано, главным воеводам земского войска постоянно приходилось удерживать его, чтобы оно не впало, по образцу плохих армий, в банальное мародерство и убийство пленных. Самую большую опасность представляли бывшие друзья-казаки, которые снова стали опаснее недавних врагов – литовских людей. Автор «Нового летописца» вспоминал, что когда из осажденного города первым выпустили самых слабых – женщин и детей, казаки были готовы убить князя Дмитрия Пожарского, «что грабить не дал боярынь». В статье «Нового летописца» «о выводе боярском и о здаче Кремля города» описывалось, как полк князя Дмитрия Михайловича Пожарского едва не вступил в бой с казаками, когда земское ополчение собралось со знаменами и орудиями на Каменном мосту, чтобы встретить выходившую из Москвы Боярскую думу. На следующий же день, когда дело дошло до выхода из стен Кремля последних воинов польско-литовского гарнизона, казаки взяли-таки реванш у князя Пожарского и расправились, вопреки договору, с теми, кто на свое несчастье был отведен в плен в «таборы».
Память о московской победе 1612 г. сохранила разные даты освобождения столицы. Между тем доверять нужно, как это делал П. Г. Любомиров, грамоте руководителей ополчения на Белоозеро, отправленной 27 октября (6 ноября по новому стилю) 1612 г. Там определенно говорилось, что 26 октября (5 ноября) из Москвы вышли бояре, а 27 октября состоялся вход ополчения в столицу. День взятия Москвы 26 октября, связанный с памятью Дмитрия Солунского, упоминает также автор «Повести о победах Московского государства» [45, 34–35]. В ближайшее воскресенье, 1 ноября, «…состоялся торжественный крестный ход с благодарственным за освобождение Москвы богослужением» перед Владимирской иконой Богоматери [29, 155]. Позднее освобождение Москвы оказалось связано в народной памяти с празднованием дня Казанской иконы Богоматери.[19]
После реформы отечественного календаря в 1918 г. даты всех церковных праздников были передвинуты на 13 дней вперед. Однако если буквально следовать исторической хронологии, то для перевода даты XVII в. на новый стиль нужно прибавлять 10 дней. Связано это с тем, что при введении григорианского календаря в 1582 г. его разница с юлианским составляла 10, а не 13 дней (в дальнейшем за столетие накапливалась хронологическая погрешность примерно в одни сутки). Дата нового государственного праздника – 4 ноября, вольно или невольно, взята современными законодателями из церковного календаря, поэтому она оказалась связанной с началом штурма Китай-города, а не с его взятием [32, 220–238]. Окончательное очищение Москвы от гарнизона польско-литовских войск произошло 26–27 октября по старому стилю, или 5–6 ноября по новому стилю [33].
Однако список этой иконы попал еще в Первое ополчение летом 1611 г., а значит, она не может вполне считаться покровительницей одного ополчения – Кузьмы Минина и князя Дмитрия Михайловича Пожарского. По преданию же, князь Дмитрий Михайлович Пожарский заказал для себя список Казанской иконы Богоматери, когда находился с нижегородским ополчением в Ярославле в 1612 г. Когда в 1636 г. на Красной площади в память о событиях, предшествовавших избранию на царство Михаила Федоровича, открывался Казанский собор, то все детали появления чудотворной иконы в полках под Москвой были уже не столь существенны. Главное, что список этой иконы действительно был в земском ополчении и именно с ней «вся земля» связала свою победу.
«Совет всея земли»
Четыре месяца – с 26 октября 1612 г. по 25 февраля 1613 г. – власть в Москве оставалась в руках земского правительства во главе с князьями Дмитрием Тимофеевичем Трубецким и Дмитрием Михайловичем Пожарским. Это был переходный период, главным содержанием которого стали выборы нового царя. В те дни, когда действовавший в ополчении «Совет всей земли» получил власть в Москве,[20] в Речи Посполитой «дозрели» до того, чтобы наконец-то представить юного самодержца Владислава Московскому государству.
Сейчас ноябрьский 1612 г. поход короля Сигизмунда III вместе с королевичем Владиславом к Смоленску и далее, к Москве, выглядит малообъяснимым. Хотя для едва народившегося земского правительства грядущее столкновение с польско-литовскими отрядами, возглавлявшимися полковниками Александром Зборовским и Андреем Млоцким, не сулило ничего хорошего. Король же действовал так, словно не было более чем двухлетнего промедления с исполнением договора с гетманом Станиславом Жолкевским о призвании королевича Владислава, а польско-литовский гарнизон по-прежнему удерживал в своих руках столицу. Сигизмунд III слал впереди себя послов – объявить Боярской думе свой приход. Но он опоздал и только зря потратил казну. Дальше Волока королевскому войску двинуться уже не пришлось, несостоявшийся претендент на русский трон вынужден был вернуться домой в Речь Посполитую. Что же заставило короля Сигизмунда III так быстро смириться с потерей выскользнувшей из его рук московской короны?
«Новый летописец» сообщает детали тех событий, как под столицу приехали Адам Жолкевский, князь Данила Мезецкий и Иван Грамотин «зговаривати Москвы, чтобы приняли королевича на царство». О серьезности угрозы свидетельствует описание реакции «всех начальников», которые «быша в великой ужасти». В начавшихся боевых стычках польско-литовским отрядом был захвачен «в языках» «смольнянин» Иван Философов. Он якобы очень удачно дезинформировал противника: «Москва людна и хлебна, и на то все обещахомся, что всем померети за православную веру, а королевича на царство не имати» [37, 128]. То же самое Философов потом подтвердил и перед самим королем Сигизмундом III в его походной ставке. Это и стало, по мнению летописца, главным аргументом для отмены дальнейшего похода.
Позднее обнаружились фрагменты делопроизводства королевского похода, не подтверждающие эту приукрашенную версию. Иван Философов действительно попал в плен и дал подробные сведения о том, что происходило в Москве после занятия ее войсками земского ополчения. Этот рассказ убеждал не ловкой ложью, а, наоборот, правдивостью. Польско-литовские полковники плохо понимали, почему посылавшиеся ими в Москву гонцы не возвращались, а русские люди вместо того, чтобы начинать переговоры, вступали в бой. При этом они не нашли ничего лучшего, как расположиться в шатрах в знакомых местах в Тушино. Пленник Иван Философов объяснил тем, кто пришел в ноябре 1612 г. от короля Сигизмунда III под самую Москву, что у королевича Владислава больше нет шансов на престол. Но лишь по той причине, что его сторонников из числа бояр в столице больше не слушают.
Из того, что было сказано сыном боярским Иваном Философовым, со всей очевидностью следовало, что король Сигизмунд III безнадежно опоздал. У него не осталось сторонников, сидевшие в осаде бояре во главе с князем Федором Ивановичем Мстиславским были изгнаны, им даже не давали пройти в Кремль и «вся земля» советовалась «пускать их в Думу или нет». Другие, более одиозные лица, как Федор Андронов, Бажен Замочников, вовсе были взяты под арест, их с пристрастием расспрашивали «на пытце» о расхищенной казне. Самым неприятным для короля должно было стать то, что «польских де людей розослали по городом, а на Москве оставили лутчих полковников и ротмистров чоловек с тридцать, пана Струса и инных» [42, 152]. Становилось очевидным, что королю Сигизмунду III нечего будет сказать родственникам тех, кто сидел в польско-литовском гарнизоне в Кремле и умолял о спасении.
Известие о храбрых речах Философова, повлиявшего на отход от Москвы королевского войска (на самом деле он не отрицал существование в Москве сторонников кандидатуры королевича Владислава), распространялось самим «земским советом» и содержалось в грамоте, отправленной из Москвы в Новгород с дворянином Богданом Дубровским в середине декабря 1612 г. В ней, судя по переводу Юхана Видекинда, говорилось, что «поляки захватили несколько человек наших, от одного смоленского боярина Ивана Философова услышали о нашем союзе, об отказе от общения с поляками и готовности вечной ненавистью преследовать их и литовцев, что, узнав об этой враждебности, он ушел в Польшу на сейм (король, видя, что ничего не может сделать, пошел со всем своим войском обратно)» [11, 268–269]. Следовательно, главные воеводы земского правительства первым делом обозначили свой полный отказ от принятия польско-литовского ставленника на русский трон.
Нельзя сказать, чтобы король Сигизмунд III принял такой отказ. Он решил продолжать войну, его войско на обратном пути шло через Можайск и захватило главную городскую святыню – деревянную скульптуру Николы Можайского. Королевские отряды оставались в Смоленске и Вязьме. Но главную угрозу земскому правительству создали «черкасы» – запорожские казаки, отосланные королем Сигизмундом III воевать на севере Русского государства, до того времени бывшего главной опорой земщины, откуда шли основные доходы, посошная рать и другая подмога.
С казачьим походом могла быть связана история Ивана Сусанина, которая после включения ее в многочисленные литературные памятники Нового времени и в оперу М. И. Глинки «Жизнь за царя» приобрела иной смысл. В середине XIX в. два уважаемых историка – Н. И. Костомаров и С. М. Соловьев – даже вступили в научный диспут о том, был ли вообще Иван Сусанин. Скептики прежде всего сомневаются в том, откуда в костромской земле, далеко отстоявшей от западных рубежей Московского государства, оказались поляки и почему они уверенно искали именно Михаила Романова. Дополнительным основанием для сомнений является то, что обельная грамота, освобождавшая от податей потомков Ивана Сусанина, была дана только в 1619 г. и в ней, за давностью лет, уже не были раскрыты подробности «подвига Ивана Сусанина». Остается неизвестным, в каком месяце происходили те события, а подлинник грамоты вообще утерян. Между тем «черкасы», которые легко в народном восприятии могли превратиться сначала в «литву», а затем в «поляков», действительно в конце 1612 – начале 1613 г. прошли по землям, достаточно близко располагавшимся от Костромского уезда. Северные города обычно были местом ссылки, поэтому «черкасы» и прошли маршем по Русскому Северу в поисках оказавшихся в плену поляков и литовцев, недавних хозяев Московского кремля.
Согласно расспросным речам двух купцов, в Новгороде в феврале 1613 г. численность этого отряда была около 6000 человек и они «пошли к Белоозеру, Каргополю и Вологде и там вокруг взяли нижеследующие маленькие замки:
Тотьму, Сольвычегодск, Солигалич, Унжу, лежащие между Вологдой и Холмогорами, которые они чрезвычайно разорили и причинили много другого вреда здесь в местах, куда они проникли. И они освободили много поляков, взятых в плен в Москве…» [7, 20–22].
Сведения о взятии городов «черкаскими казаками» и о возвращении пленных в этом рассказе явно преувеличены, однако места, где проходили такие, называвшиеся «загонными», казачьи отряды, указаны точно. Более того, по одному позднему свидетельству, Михаил Романов «егда крыяся от безбожных ляхов в пределех костромских», молился в Макарьево-Унженском монастыре [36, 62]. Одному из казачьих отрядов ничего не стоило сделать крюк и после Унжи оказаться в окрестностях села Домнино и Исуповского болота, по сей день смущающего добравшегося туда приезжего человека своим таинственным видом. Кстати, в памяти прямых потомков Ивана Сусанина его смерть связана отнюдь не с болотом, а с селом Исупово, где деревенского старосту пытали, а потом, посадив на «столб», т. е. на кол, изрубили саблями.
Причиной пыток и казни, согласно грамоте, выданной Богдану Собинину 30 ноября 1619 г., был отказ Ивана Сусанина указать местонахождение Михаила Романова:
«Как мы, великий государь… в прошлом во 121 году были на Костроме и в те поры приходили в Костромской уезд польские и литовские люди, а тестя его Богдашкова Ивана Сусанина в те поры литовские люди изымали и его пытали великими немерными муками, а пытали у него, где в те поры мы, великий государь… были, и он Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти» [52, 214–215].
Напомним, что подходившим к Москве польско-литовским отрядам в ноябре 1612 г. было известно, что кандидатуру Михаила Романова уже называли в качестве одного из возможных претендентов на трон. Это означает, что вся история Ивана Сусанина, если снять с нее оперный костюм, действительно выглядит рядовым событием, долгое время известным лишь в своей округе и только позднее возвышенным в исторической памяти как один из подвигов времен Смуты.
Московские правители не могли справиться с «черкасами» на севере государства и войском Ивана Заруцкого, обосновавшегося с верными ему казаками в рязанских и тульских местах в конце 1612 г. Обе эти силы представляли тех кандидатов на русский престол, от которых объединенное земское ополчение уже отказалось: запорожские казаки – королевича Владислава, а донцы и «вольные казаки» Заруцкого – царевича Ивана Дмитриевича, сына Лжедмитрия II и Марины Мнишек. Вошедшее в Москву войско отказывалось воевать до тех пор, пока не будет решена проблема царского избрания. Прямо об этом говорилось в грамоте, отосланной казанским властям в связи с избранием Михаила Федоровича: «… а без государя ратные люди, дворяня и дети боярские, и атаманы, и казаки, и всякие разные люди на черкас и на Ивашка Заруцкого идти не хотели» [25, 254].
К двум названным выше прибавлялась еще кандидатура шведского королевича Карла-Филиппа, поддержанная ополчением князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. В ноябре 1612 г. посланцы из Новгорода оказались в столице Московского государства, и у них сложилось впечатление, что бояре поддерживают кандидатуру иноземного государя, а казаки ее отвергают и требуют царя из русских родов. Споры должны были затронуть само руководство «Совета всей земли», потому что одним из тех русских бояр, кто уже стал обозначать свои претензии на трон захватом Ваги и расположением на старом дворе царя Бориса Годунова, был боярин князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой.
Становилось очевидно, что дело царского избрания должно было опереться не на волю какой-то отдельной боярской партии – это было бы повторением ошибок в избрании царя Василия Шуйского. Как сказано в «Новом летописце», на Московском государстве ожидали государя «праведна, чтоб дан был от Бога, а не от человек» [37, 128]. Наиболее полно мнение «всей земли» мог выразить только Земский собор, и решение о его созыве было принято уже в первые дни после освобождения Москвы. Самая ранняя из известных грамот о созыве Земского собора, направленная в Сольвычегодск, датируется 11 ноября 1612 г. Первыми, кому писали руководители ополчения, извещая в одной грамоте и о взятии Москвы, и о вызове представителей на собор для «земского совета», были Строгановы. Был назначен и срок приезда: «на Николин день осенной нынешнего 121 году», т. е. 6 декабря 1612 г. С отправкой письма Строгановым так спешили, что даже не указали прямо, что Собор созывается для избрания нового государя.
Понять это можно только из контекста, потому что общие земские дела должны были продолжаться, «покаместа нам всем Бог даст на Московское государьство государя по совету всей земли» [29, 238–239]. Зато не забыли еще одну просьбу – о присылке денежной казны.
В грамотах, отправленных несколько дней спустя – 15 ноября в Новгород и 19 ноября на Белоозеро, – о цели созываемого Земского собора говорилось уже более определенно со ссылкой на непрестанные требования «всяких чинов людей», желавших избрать царя. Тогда и было принято общее решение «Совета всей земли», чтобы «всем сослатця во все городы… и обрати б на Владимирское и на Московское государство и на все великие государства Российского царствия государя царя и великого князя» [10, 99]. Нормы представительства тоже были скорректированы, на Собор в Москву требовалось прислать «изо всяких чинов люди, по десяти человек из городов для государственных и земских дел» [13, 294]. Общий смысл всех призывов, рассылавшихся из Москвы в первое время после ее освобождения, сформулировали в следующих словах: «…царский престол вдовеет, а без государя нам всем ни малое время быти не мощно» [21, 188–192].
Главное дело – выборы нового царя – едва не расстроилось из-за того, что выборные с мест просто не могли быстро организоваться и приехать в Москву по первому зимнему пути. Точно не известно, сколько человек успели собраться в Москве к Николину дню, 6 декабря, однако сколько бы их ни было, они еще не могли составить избирательный собор, поэтому срок начала соборных заседаний перенесли на месяц и отослали новые грамоты с напоминанием о присылке выборных. Срок был сдвинут на день Богоявления – 6 января 1613 г. Представительство на Соборе было значительно увеличено, видимо, из расчета созвать необходимое число членов Собора с мест: «И мы ныне общим великим советом приговорили для великого земсково совету и государсково обиранья ехать к нам, к Москве из духовново чину пяти человеком, ис посадцких и уездных людей двадцати человеком, ис стрельцов пять человек» [21, 188]. Но с рассылкой грамот опять опаздывали, и грамоту на далекую Двину отправили только 31 декабря. Ясно, что она была доставлена после нового назначенного срока съезда выборных в Москву.
«Совет» из Двины был важен, но еще важнее был приезд представителей из Новгорода и Казани, которые так и не прибыли в Москву до начала соборных заседаний. Самым сложным было созвать Освященный собор, но новгородский и казанский митрополиты – первые по степени в церковной иерархии – на нем так и не присутствовали.
Грамота о вызове 10 человек, «уполномоченных для поставления великого князя», известная в пересказе Юхана Видекинда, достигла Новгорода только 1 февраля. Шведская администрация Новгорода из-за отсутствия в грамоте упоминания имени Карла-Филиппа подозрительно отнеслась к этому документу и сочла необходимым переслать его в королевскую канцелярию в Стокгольм (там его несколько десятилетий спустя, вероятно, и нашел Видекинд). Права действовать самостоятельно, без разрешения воеводы Якоба Делагарди, новгородский митрополит Исидор был уже лишен.
«Многажды» писали о приезде в Москву и «великому господину Ефрему митрополиту» в Казань. Последняя из таких грамот была написана во время действия избирательного Земского собора. Ее отправили от имени Освященного собора, Боярской думы и «всего Московскаго государства всяких чинов людей» 25 января 1613 г. Казанского митрополита Ефрема и хозяина Казанского государства «Никанора Михайловича» (дьяка Шульгина) просили, «чтоб ему, великому господину Ефрему митрополиту, для государского обиранья, взяв с собою духовных из всяких чинов выборных, крепких и разумных и постоятельных людей, сколько человек пригоже, ехати к Москве наспех» [25, 252]. Для подкрепления соборного обращения было отправлено отдельное посольство во главе с архимандритом Ипатьевского монастыря в Костроме Кириллом. Вряд ли тогда уже было понятно, какую роль сыграет в недалеком будущем Ипатьевский монастырь в избрании Михаила Романова. Хотя на пути из Москвы в Казань архимандрит Кирилл мог рассказать о ходе царского избрания инокине Марфе Ивановне и ее сыну, если они в тот момент находились в Костроме (о чем тоже точно не известно). Последнее обращение в Казань снова оказалось безрезультатным, в Москве до последнего ожидали приезда митрополита Ефрема, но потом все равно вынуждены были известить казанские власти об уже состоявшемся решении.
Во главе Освященного собора оказался ростовский и ярославский митрополит Кирилл (Завидов). Кирилл был архимандритом Троице-Сергиевого монастыря в царствование Федора Ивановича и Бориса Годунова в 1594–1605 гг., а с ростовской кафедры был смещен Лжедмитрием I. После этого он находился на покое в Троице. Сменивший Кирилла новый глава Ростовского митрополичьего дома митрополит Филарет – отец Михаила Романова – оставался в польско-литовском плену. Поэтому Кирилл был снова призван к церковному (и не только) служению в прежнем сане митрополита Ростовского и Ярославского. Митрополит Кирилл хорошо знал многих знатных паломников в Троице-Сергиев монастырь, входивших в Боярскую думу. Его почтенный возраст и преемственность личных связей с деятелями времен последних «прирожденных» государей оказалась востребованной. В возвращении митрополита Кирилла был еще один дополнительный смысл, так как на митрополита Филарета после смерти патриарха Гермогена смотрели как на местоблюстителя патриаршего престола. В отсутствие же Филарета делами церкви распоряжался митрополит Сарский и Подонский (Крутицкий) Иона (Архангельский). У митрополита Кирилла останется первенство в Освященном соборе, и он будет первым упоминаться в переписке «Совета всей земли» вплоть до прихода в Москву нового избранного царя Михаила Федоровича.
Избирательный Земский собор 1613 года
Избрание на царство Михаила Романова сегодня, издалека, кажется единственно верным решением. Другого отношения к началу романовской династии и не может быть, учитывая ее почтенный возраст. Но для современников выбор на трон одного из Романовых отнюдь не казался самым лучшим. Все политические страсти, обычно сопровождающие выборы, присутствовали в 1613 г. в полной мере.
Достаточно сказать, что в числе претендентов на русский трон оказался представитель иноземного королевского двора и несколько своих бояр, в том числе руководители московской Боярской думы в 1610–1612 гг. князь Федор Иванович Мстиславский и князь Иван Михайлович Воротынский, а также главные воеводы ополчения, недавно освободившего Москву, – князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой и князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Романовский круг если чем и выделялся на этом фоне, то обилием предложенных кандидатов, в число которых входили Иван Никитич Романов (дядя Михаила Романова), князь Иван Борисович Черкасский и Федор Иванович Шереметев. К этим семи претендентам, по словам «Повести о Земском соборе 1613 года» [44], был еще «осьмый причитаючи» князь Петр Иванович Пронский, ставший заметным благодаря своей службе в земском ополчении. Это был такой же молодой и родовитый стольник, как и Михаил Романов, только княжеского происхождения. В ходе обсуждений на избирательном Соборе и вокруг него звучали еще имена находившегося в польско-литовском плену князя Ивана Ивановича Шуйского, князя Ивана Васильевича Голицына и князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского.
Открытие Собора все откладывалось и откладывалось, потому что Москва оказалась во власти казаков, потому что не приезжало достаточное количество выборных, потому что не было казанского митрополита Ефрема и потому что не было главы Боярской думы – боярина князя Федора Ивановича Мстиславского, удалившегося в свои вотчины после освобождения столицы. Слишком много было причин, по которым Собор не хотел или не мог взять на себя всю ответственность. Вероятно, из-за этого избрание царя поначалу напоминало вечевые собрания, где свое мнение могли выразить и недавние герои боев под Москвой, и приехавшие с мест выборщики, а также обыкновенные жители столицы, толпившиеся вокруг Кремля. Проводилась и предвыборная агитация, принимавшая, правда, соответствующие своей эпохе формы пиров, которые устраивали кандидаты.
Основная предвыборная интрига состояла в том, чтобы согласовать противоположные позиции боярской курии на Соборе и казаков в избрании нового царя. Казалось бы, искушенные в хитросплетениях дворцовой политики бояре имели здесь преимущество, но и казаки продолжали представлять значительную силу, не считаться с которой было нельзя.
Еще летом 1612 г., когда князь Дмитрий Михайлович Пожарский договаривался об избрании на русский престол герцога Карла-Филиппа, он «доверительно» сообщал Якобу Делагарди, что все «знатнейшие бояре» объединились вокруг этой кандидатуры. Противниками же избрания иноземного государя была «часть простой и неразумной толпы, особенно отчаянные и беспокойные казаки» [7, 15]. Якоб Делагарди передал своему королю слова князя Дмитрия Пожарского о казаках, которые «не желают никакого определенного правительства, но хотят избрать такого правителя, при котором они могли бы и впредь свободно грабить и нападать, как было до сих пор» [7, 15].
Боярские представления о казаках вряд ли могли быстро измениться после освобождения Москвы. Осенью 1612 г., по показаниям Ивана Философова, в Москве находилось четыре с половиной тысячи казаков и «во всем-де казаки бояром и дворяном сильны, делают, что хотят, а дворяне де, и дети боярские разъехались по поместьям» [42, 152]. Сходным образом описывал ситуацию в столице в ноябре – начале декабря 1612 г. новгородец Богдан Дубровский. По его оценке, в Москве было 11 тысяч отобранных на разборе «лучших и старших казаков» [55, 81–82]. Несмотря на проведенный разбор, призванный разделить казаков, они продолжали действовать заодно и в итоге смогли не только объединиться вокруг одной кандидатуры, но и настоять на ее избрании. Они отнюдь не разъезжались из Москвы, как того хотели бояре, а дожидались того момента, когда прозвучат все имена возможных претендентов, чтобы предложить своего кандидата. Именно такая версия событий содержится в «Повести о Земском соборе 1613 года».
Точное время начала соборных заседаний так и остается неизвестным. Скорее всего, официальное открытие Собора не состоялось, иначе известие об этом должно было попасть в «Утвержденную грамоту об избрании царя Михаила Федоровича». После 6 января 1613 г. начались бесконечные обсуждения, о которых сообщают современники. «И мы, со всего Собору и всяких чинов выборные люди, о государьском обираньи многое время говорили и мыслили…» – так писали в первых грамотах об избрании Михаила Федоровича, описывая ход избирательного Собора [21, 188]. Первый вывод, устроивший большинство, состоял в отказе от всех иноземных кандидатур: «…чтобы литовского и свейского короля и их детей, и иных немецких вер и некоторых государств иноязычных не христьянской веры греческого закона на Владимирское и на Московское государство не обирати и Маринки и сына ее на государство не хотети» [21, 190]. Это означало крах многих политических надежд и пристрастий. Проигрывали те, кто входил в Боярскую думу, заключавшую договор о призвании королевича Владислава, не было больше перспектив у притязаний бывших тушинцев, особенно казаков Ивана Заруцкого, продолжавших свою войну за малолетнего претендента царевича Ивана Дмитриевича. Но чувствительное поражение потерпел и организатор земского ополчения князь Дмитрий Михайлович Пожарский, последовательно придерживавшийся кандидатуры шведского королевича Карла-Филиппа. На Соборе возобладала другая точка зрения, опыт Смуты научил не доверять никому со стороны: «…потому что полсково и немецково короля видели к себе неправду и крестное преступление и мирное нарушение, как литовской король Московское государство разорил, а свейской король Великий Новгород взял оманом за крестным же целованьем» [21, 192]. Договорившись о том, кого «вся земля» не хотела видеть на троне (тут не было особенных неожиданностей), выборные приняли еще одно важнейшее общее решение: «А обирати на Владимерское и на Московское государство и на все великие государства Росийсково царствия государя из московских родов, ково Бог даст» [21, 192].
Все возвращалось «на круги своя», повторялась ситуация, возникшая в момент пресечения династии Рюриковичей в 1598 г., но не было такого деятеля, как Борис Годунов. Какие бы кандидаты в цари ни назывались, у каждого из них чего-то не хватало для настоятельно ощущавшегося всеми объединения перед лицом внешней угрозы, продолжавшей исходить от Речи Посполитой и Швеции. Что нужно было придумать для того, чтобы новый царь сумел справиться с налаживанием внутреннего управления и устранил казацкие своеволия и грабежи? Все претенденты принадлежали к знатным княжеским и боярским родам, но как отдать предпочтение одному из них, без того чтобы немедленно не возникла междоусобная борьба и местнические споры? Все эти трудноразрешимые противоречия завели членов избирательного Собора в тупик.
Ближе всех к «венцу Мономаха», казалось, был князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, его поддерживали до какого-то времени и казаки подмосковных полков, которыми он командовал. В январе 1613 г. ему была выдана жалованная грамота на Вагу, которой до него владели Борис Годунов и князья Шуйские, что означало преемственность идущей от них властной традиции. Но ближе казакам оказались Романовы: сыграли свою роль отголоски воспоминаний о деятельности Никиты Романовича Юрьева, нанимавшего казаков на службу при устроении южной границы государства еще при царе Иване Грозном. Имела значение и мученическая судьба Романовых при царе Борисе Годунове, и пребывание митрополита Филарета (Романова) в тушинском стане в качестве нареченного патриарха. Из-за отсутствия в Москве плененного Филарета вспомнили о его единственном сыне – стольнике Михаиле Романове. Ему едва исполнилось 16 лет, т. е. он вступил в тот возраст, с которого обычно начиналась служба дворянина. В царствование Василия Шуйского он был еще мал и не получал никаких служебных назначений, а потом, оказавшись в осаде в Москве, он уже и не мог выйти на службу, находясь все время вместе со своей матерью инокиней Марфой Ивановной. Таким образом, в случае избрания Михаила Романова никто не мог сказать, что когда-то командовал царем или исполнял такую же службу, как и он. Но главным преимуществом кандидата из рода Романовых было его родство с пресекшейся династией. Как известно, Михаил Романов приходился племянником царю Федору Ивановичу (их отцы были двоюродными братьями). Это обстоятельство в итоге пересилило все другие аргументы «за» или «против».
7 февраля 1613 г., примерно месяц спустя после начала соборных заседаний, было принято решение о двухнедельном перерыве. В «Утвержденной грамоте» писали, что избрание царя «для большого укрепления отложили февраля з 7-го числа февраля по 21 число» [61, 43]. В города были разосланы тайные посланники «во всяких людех мысли их про государское обиранье проведывати». Известие «Утвержденной грамоты» дало основание говорить о «предъизбрании» на русский престол стольника Михаила Романова уже 7 февраля. Однако если к этой дате уже все согласились с кандидатурой Михаила Романова, то какое еще «укрепленье» ожидалось? Скорее всего, за решением о перерыве в соборных заседаниях скрывалось прежнее желание дождаться присутствия на соборе казанского митрополита Ефрема, главы Боярской думы князя Федора Ивановича Мстиславского и неуверенность из-за неполного представительства городов на Соборе. Две недели – совсем небольшой срок, чтобы узнать, о чем думали люди Московского государства, в разные концы которого в то время можно было ехать месяцами, а то и годами (как, например, в Сибирь). К кому должны были стекаться собранные в стране сведения, кто занимался их сводкой, оглашались ли эти «мнения» на Соборе? Обо всем этом тоже должны были позаботиться при правильной организации Собора. Но собиравшийся в чрезвычайных условиях избирательный Земский собор сам устанавливал правила своей работы.
В середине февраля 1613 г. некоторые выборные действительно разъехались из столицы (посоветоваться со своими избирателями?). Известие об этом сохранилось случайно, потому что несколько торопецких депутатов были захвачены Александром Госевским, исполнявшим к тому времени должность литовского референдария, но продолжавшего не только пристально следить за московскими делами, но даже, как видим, вмешиваться в них. Он сообщал князю Христофору Радзивиллу, что «торопецкие послы», ездившие в столицу для выборов царя, возвратились ни с чем и, будучи схвачены на обратной дороге, поведали ему, что новые выборы были назначены на 21 февраля. Есть также упоминания о поездке в Кострому перед окончательным избранием Михаила Романова братьев Бориса Михайловича и Михаила Михайловича Салтыковых, родственников матери царя Марфы Ивановны, пытавшихся узнать их мнение по поводу соборного решения. Вопрос, в какой мере избрание Михаила Романова было предрешено 7 февраля, остается открытым. Самым правдоподобным объяснением перерыва является его совпадение с Масленицей и последовавшим за ней Великим постом. В такое же время, 15 лет назад, избирали царя Бориса Годунова. Выборы же нового царя были назначены на первое воскресение Великого поста – 21 февраля.
Об обстоятельствах двухнедельного перерыва перед избранием Михаила Романова писали также в грамоте в Казань митрополиту Ефрему 22–24 февраля 1613 г., извещавшей о состоявшемся выборе. В ней тоже говорилось о тайном сборе сведений по поводу будущей кандидатуры царя:
«… и до его государского обиранья посылали мы Московского государства во всех городех и в уездех тех городов во всяких людех тайно проведывати верными людми, ково чаяти государем царем на Московское государство, и во всех городех и уездех от мала и до велика та же одна мысль, что быти на Московском государстве государем царем Михаилу Федоровичу Романову Юрьева» [25, 254].
О «предъизбрании» Михаила Романова Собором 7 февраля ничего не говорилось. Из-за «замотчанья», связанного с отсутствием выборных людей от Казанского царства, и продолжающегося разорения государства на Соборе решили «упросити сроку в государском обираньи до зборнаго воскресения сто двадесят перваго году февруария до двадесят перваго числа» [25, 254]. Во всех храмах государства шли молебны о даровании «на Московское государство царя из русских людей». Скорее всего, это и было официальное решение, достигнутое Собором 7 февраля, а настроение первой, одной из самых строгих недель Великого поста, когда мирские страсти были неуместны, должно было помочь сделать верный выбор из всех претендентов на трон.
Собравшийся заново к намеченному сроку «на Зборное воскресенье», 21 февраля 1613 г., Земский собор принял историческое решение об избрании Михаила Федоровича на царство. В грамоте в Казань к митрополиту Ефрему писали, как «на упросный срок» 21 февраля сначала состоялся молебен, а потом возобновились заседания Земского собора:
«…был у нас в царствующем граде Москве всяких чинов с выборными людми изо всех городов и царствующего града Москвы со всякими жилецкими людьми и говорили и советовали все общим советом, ково на Московское государство обрати государем царем, и говорили о том многое время, и приговорив и усоветовав все единым и невозвратным советом и с совету своего всего Московского государства всяких чинов люди принесли к нам митрополиту, и архиепископом, и епископом и ко всему Освященному собору, и к нам бояром и ко окольничим и всяких чинов людем, мысль свою порознь» [25, 254].
Это и есть описание того самого Собора, изменившего русскую историю. Понять суть происходившего можно, лишь раскрыв, что стоит за каждой из этикетных формул текста грамоты. Очевидно только, что Собор продолжался долго, разные чины – московские и городовые дворяне, гости, посадские люди и казаки – должны были сформулировать свое единое мнение, т. е. «мысль». Такая практика соответствовала порядку заседаний Земских соборов позднейших десятилетий. Важной, но не раскрытой до конца, является ссылка на то, что решение принималось «со всякими жилецкими людми» из Москвы. Отдельно упомянутое участие московского «мира» в событиях отнюдь не случайно и является дополнительным свидетельством его «вторжения» в дела царского избрания. Подтверждение этому содержится в расспросных речах стольника Ивана Ивановича Чепчугова (и еще двух московских дворян) в Новгороде в 1614 г. По словам Ивана Чепчугова, который воевал в земском ополчении и как стольник должен был участвовать в деятельности Земского собора, казаки и чернь «с большим шумом ворвались в Кремль» и стали обвинять бояр, что они «не выбирают в государи никого из здешних господ, чтобы самим править и одним пользоваться доходами страны» [7, 30]. Сторонники Михаила Романова так и не отошли от Кремля, пока «Дума и земские чины» не присягнули новому царю.
Еще один рассказ о царском выборе содержит «Повесть о Земском соборе 1613 года». Согласно этому источнику, 21 февраля бояре придумали выбирать царя из нескольких кандидатов, по жребию (заимствованная из церковного права процедура выбора, по которой в XVII в. избрали одного из московских патриархов). Все планы смешали приглашенные на Собор казачьи атаманы, обвинившие высшие государственные чины в стремлении узурпировать власть. Имя нового царя Михаила Федоровича на Соборе тоже было произнесено в тот день казачьими атаманами, верившими в историю с передачей царского посоха по наследству от царя Федора Ивановича «князю» (так!) Федору Никитичу Романову: «И тот ныне в Литве полонен, и от благодобраго корени и отрасль добрая, и есть сын его князь Михайло Федорович. Да подобает по Божии воли тому державствовать». Ораторы из казаков очень быстро перешли от слов к делу и тут же возгласили имя нового царя и «многолетствовали ему»: «По Божии воли на царствующем граде Москве и всеа Росии да будет царь государь и великий князь Михайло Федорович и всеа Росии!» [44, 458].
Хотя имя Михаила Романова как претендента на царский престол обсуждалось давно, призыв казачьих атаманов на Соборе, поддержанный рядовыми казаками и московским «миром», собравшимися на кремлевских площадях, застал бояр врасплох.
«Повесть о Земском соборе 1613 года» сообщает очень правдивые детали о реакции членов Боярской думы, считавших, что имя Михаила Романова не будет серьезно рассматриваться на Соборе. Не приходится сомневаться, что автор «Повести» если сам не был очевидцем, то записал все со слов очень информированного человека. Во всяком случае, у читателя этого рассказа возникает «эффект присутствия»: «Боляра же в то время страхом одержими и трепетни трясущеся, и лица их кровию пременяющеся, и ни един никто же може что изрещи, но токмо един Иван Никитич Романов проглагола: «Тот есть князь Михайло Федорович еще млад и не в полне разуме»».
Неловкая фраза, выдающая волнение боярина Ивана Романова. Стремясь сказать, что его племянник не столь еще опытен в делах, он вовсе обвинил Михаила в отсутствии ума. Далее последовал примечательный по-своему ответ казачьих атаманов, превративших эту оговорку в шутку: «Но ты, Иван Никитич, стар верстой, в полне разуме, а ему, государю, ты по плоти дядюшка прирожденный, и ты ему крепкий потпор будеши» [44, 457–458]. После этого «боляра же разыдошася вси восвояси».
Но главный удар получил князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой (обвинения в стремлении к «самовластию» во многом были обращены именно к нему как руководителю правительства «всея земли», по-прежнему решавшему все дела в стране). «Князь же Дмитрей Трубецкой, – пишет о нем автор «Повести о Земском соборе 1613 года», – лице у него ту и почерне, и паде в недуг, и лежа много дней, не выходя из двора своего с кручины, что казны изтощил казаком и позна их лестны в словесех и обман» [44, 457–458]. Теперь становится понятным, почему подписи князя Дмитрия Трубецкого нет на грамотах, извещавших города о состоявшемся избрании нового царя.
Таким образом, соборное заседание 21 февраля 1613 г. завершилось тем, что все чины сошлись на кандидатуре Михаила Романова и «приговор на том написали и руки свои на том приложили». Решающим обстоятельством стало все-таки родство будущего царя с прежней династией. Извещая об этом митрополита Ефрема, не удержались от «подправления» генеалогических аргументов:
«И по милости Божией и Пречистыя Богородицы и всех святых молитвами совет наш и всяких чинов людей во едину мысль и во едино согласие учинилась на том, чтоб быти на Московском государстве государем царем и великим князем всеа Росии благословенной отрасли блаженныя памяти великого государя царя и великого князя Иоанна Васильевича все России самодержца и великие государыни царицы и великие княгини Анастасии Романовны внуку, а великого государя царя и великого князя Федора Ивановича всеа Росии по материю сродству племяннику Михаилу Федоровичу Романову Юрьева» [52, 11–14].
Легкое расхождение с действительностью степени родства Михаила Романова с царями Иваном Грозным и Федором Ивановичем было уже несущественным. Нужнее оказалась объединяющая идея, связанная с возвратом к именам прежних правителей. Юноша Михаил Романов в 1613 г. все равно мог лишь символически объединять прошлое с настоящим в сознании современников Смутного времени. Главное было обозначить другое, о чем сообщалось в первых грамотах об избрании на царство Михаила Федоровича: «…ни по чьему заводу и кромоле Бог его, государя, на такой великой царский престол изобрал, мимо всех людей» [52, 14].
Одного соборного «приговора», принятого 21 февраля 1613 г., было еще недостаточно для того, чтобы сразу передать власть новому царю, к тому же отсутствовавшему в столице и не знавшему о состоявшемся избрании. Правительство «Совета всей земли» продолжало действовать и принимать решения и выдавать грамоты от имени бояр князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого и князя Дмитрия Михайловича Пожарского вплоть до 25 февраля. Только с 26 февраля, по наблюдению Л. М. Сухотина, раздачи поместий и назначения окладов служилым людям стали производиться «по государеву указу» [59, XXV]. Основанием для такого перехода власти было еще одно соборное решение 24 февраля о посылке к Михаилу Федоровичу «на Кострому в вотчину его царского величества» представителей «всей земли» и принятии присяги новому государю. Об этом рассказывала грамота казанскому митрополиту Ефрему, подготовленная 22 февраля, а отправленная после 25 февраля. События в Москве сменялись буквально по часам, и постановление о присяге было принято в тот момент, когда готовилось другое посольство членов Собора «к великому господину к Ефрему митрополиту и ко всем людям Казанского государства». В казанской грамоте, написанной в дни избирательного Собора, его состав перечислен самым полным образом, в отличие от источников более позднего времени, когда «волостные крестьяне» и другие категории выборных скрывались под общим названием «всяких чинов люди»:
«И в те поры пришли к нам, ко властем, на Собор, бояре, и околничие, и чашники, и столники, и стряпчие, и дворяне болшие, и дворяне думные, и приказные люди, и дворяне из городов, и жильцы, и дети боярские, и головы стрелецкие, и гости торговые, и атаманы, и казаки, и стрельцы, и пушкари, и затинщики, и всякие служилые и жилецкие люди, и всего Московского государства и из городов всяких чинов люди, и волостные крестьяня от литовские, и от крымские, и от немецкие украины, заволских и поморских и северных всех городов, московские жильцы, черные всякие люди с женами и с детьми и с сущими младенцы и били челом, чтобы нам послати к нему, великому государю, вскоре и молити его, великого государя, чтобы он, великий государь, подвиг свой учинил в царствующий град Москву на свой данный ему от Бога царский престол, а без него бы ему, великому государю, крест целовати» [25, 256].
24 февраля снова повторилось то же, что было три года назад, когда казаки и московский «мир», вмешались в ход соборных заседаний. Отражением этого является упоминание в «Повести о Земском соборе 1613 года» о том, что казаки едва ли не силой заставили бояр целовать крест Михаилу Федоровичу. Именно казаки оказались больше всего заинтересованными, чтобы уже не случилось никакого поворота и произошло воцарение Михаила Романова, на выборе которого они так настаивали:
«Боляра же умыслиша казаком за государя крест целовать, из Москвы бы им вон выехать, а самим креста при казаках не целовать. Казаки же ведающе их умышление и принудиша им, боляром, крест целовать. И целоваша боляра крест. Также потом казаки вынесоша на Лобное место шесть крестов, и целоваша казаки крест, и прославиша Бога вси» [44, 459].
В официальных документах, выпущенных от имени Собора, конечно, о принудительной присяге бояр не говорилось ни слова. Наоборот, в грамоте в Казань и в другие города подчеркивалось, что целованье креста совершается «по общему всемирному совету» и «всею землею». Однако острое неприятие некоторыми боярами и участниками избирательного Собора (в том числе временными управителями государства князем Дмитрием Трубецким и князем Дмитрием Пожарским) кандидатуры Михаила Романова было известно современникам. В начале 1614 г. в Новгороде сын боярский Никита Калитин рассказывал о расстановке сил при избрании царя Михаила Федоровича:
«Некоторые князья, бояре и казаки, как и простые люди, знатнейшие из них – князь Иван Никитьевич Юрьев, дядя выбранного теперь великого князя, князь Иван Голицын, князь Борис Лыков и Борис Салтыков, сын Михаила Салтыкова, подали свои голоса за Феодорова сына и выбрали и поставили его своим великим князем; они теперь очень держатся за него и присягнули; но князь Дмитрий Пожарский, князь Дмитрий Трубецкой, князь Иван Куракин, князь Федор Мстиславский, как и князь Василий Борисович Черкасский, твердо стояли против и не хотели соглашаться ни на что, что другие так сделали. Особенно князь Дмитрий Пожарский открыто говорил в Москве боярам, казакам и земским чинам и не хотел одобрить выбора сына Феодора, утверждая, что как только они примут его своим великим князем, недолго сможет продолжаться порядок, но им лучше бы стоять на том, что все они постановили раньше, именно не выбирать в великие князья никого из своих одноплеменников» [7, 25–27].
Позиция князя Дмитрия Пожарского была понятна, он должен был продолжать придерживаться договоренностей своего земского правительства о призвании королевича Карла-Филиппа. Сейчас уже трудно определенно сказать, когда наступил поворот в воззрениях князя Пожарского, но бесспорно, что кандидатура Михаила Романова утверждалась в острейшей политической борьбе.
Присяга царю Михаилу Федоровичу началась с 25 февраля, и с этого времени происходит смена власти. В города были направлены первые грамоты, сообщавшие об избрании Михаила Федоровича, а к ним прилагались крестоцеловальные записи. В текст присяги включили отказ от всех других возможных претендентов, обязывая всех служить «государю своему, и прямить и добра хотеть во всем безо всякие хитрости».[21]
Грамота московского Земского собора рассылалась от имени Освященного собора во главе с митрополитом Кириллом, состоявшего из епархиальных и монастырских властей и «великих обителей честных монастырей старцев, которые собраны для царского обиранья к Москве».
Все остальные чины были лишь перечислены по порядку. И это не случайно. Строго говоря, в те дни только Освященный собор мог восприниматься как созванный с достаточно полным представительством (за исключением митрополита Ефрема). Все другие депутаты, а также просто оказавшиеся в Москве люди обращались именно к этому церковному собору, освящавшему подобные общие сборы людей, собравшихся для выборов царя. Грамоты в города отправляли, обращаясь прежде всего тоже к местному Освященному собору, а потом к воеводам, уездным дворянам и детям боярским, стрельцам, казакам, гостям, посадским и уездным «всяким людям великого Московского государства».
Из Москвы напоминали о «пресечении царского корени» и о времени, наступившем после низложения царя Василия Шуйского: «…по общему земскому греху, а по зависти дияволи, многие люди его государя возненавидели, и от него отстали; и учинилась в Московском государстве рознь» [52, 11]. Далее, коротко напоминая о договоре с гетманом Жолкевским, об «очищении» Москвы от польских и литовских людей приходили к главному – царскому выбору. Здесь в грамотах могли быть нюансы, так как некоторые города, несмотря на все просьбы, так и не прислали своих представителей «для государского обиранья». Теперь им напоминали об этом и сообщали повсюду о том, что «выборные люди» из замосковных, поморских и украинных городов уже давно съехались и живут в Москве «долгое время». Сложилось общее мнение, что «без государя Московское государство ничем не строитца, и воровскими заводы на многие части разделяетца, и воровство многое множитца». Описывая перечень кандидатур, обсуждавшихся на Земском соборе, выборные объясняли, почему отказались от «литовского и свийского короля и их детей», сообщали о том, что «Маринки и сына ея на государство не хотети». Так – по принципу отрицания – родилось решение выбрать «государя из московских родов, кого Бог даст». По общему мнению, такой кандидатурой и был Михаил Федорович, избрание которого на русский престол состоялось 21 февраля. Новому царю целовали крест, обещая ему «служити и прямити и с недруги его государьскими и с неприятели государства Московского с полскими и с литовскими и с неметцкими людми, и с татары, и с ызменники, которые ему государю служити не учнут, битися до смерти». В конце грамоты об избрании Михаила Федоровича призывали петь многолетие и проводить «молебны з звоном» о здоровье нового царя и об успокоении в стране: «… и християнское бы государство мирно и в тишине и во благоденьствии устроил» [52, 11–14].
Однако в Московском государстве оставалось еще немало мест, где не признавали решения избирательного Земского собора об избрании на царство Михаила Федоровича. Самая большая опасность продолжала исходить от еще одного казачьего претендента – сына Марины Мнишек царевича Ивана Дмитриевича. В это время он и его мать находились в руках у Ивана Заруцкого, обосновавшегося в Епифани, в верховьях Дона. Сразу после избрания Михаила «земский совет» направил туда с грамотами трех казаков из полка князя Дмитрия Трубецкого – Ваську Медведя, Тимошку Иванова и Богдашку Твердикова. Что из этого получилось, они рассказали сами в своей челобитной:
«Как, государь, всею землею, и все ратные люди целовали крест на Москве тобе государю, посылоны мы с Москвы от твоих государевых бояр и ото всей земли к Заруцкому. И как мы холопи твои приехали на Епифань к Заруцкому з боярскими и з земскими грамотами, и Заруцкой нас холопей твоих подавал за крепких приставов и переграбил донага, лошеди и ружье и платье и деньженка все пограбил. И из-за приставов, государь, нас холопей твоих переграбленных душею да телом отпустил з грамотами к Москве к твоим государевым бояром и ко всей земле» [58, 6].
О содержании и стиле переписки «Совета всей земли» с мятежным казачьим атаманом можно только догадываться, судя по всему, ему было предложено (как это будет еще раз сделано в 1614 г., когда Заруцкий окажется в Астрахани) отказаться от поддержки претензий Марины Мнишек на царские регалии для своего сына. Однако Иван Заруцкий уже перешел грань, отделяющую борца за «правильного» претендента от обыкновенного грабителя, что вскоре и докажет своим походом на тульские и орловские города – Крапивну, Чернь, Мценск, Новосиль, Ливны, – сжигая крепости, «высекая» людей и с особым ожесточением разоряя поместья выборных представителей, находившихся в Москве при избрании Михаила Федоровича.
Присяга царю Михаилу Федоровичу началась в то время, когда еще не было получено его согласие занять престол. Что же должен был чувствовать находившийся в Костроме, в Ипатьевском монастыре, юноша Михаил Романов, на которого пала эта участь?
Костромское посольство
После 25 февраля 1613 г. из Москвы собиралось новое посольство – просить о принятии царского престола. Только на этот раз оно ехало не на запад – в Смоленск, а в глубь Русского государства – в Кострому. Не случайно направление дороги, приводившей к концу Смуты. Вместе с именем Романовых люди выбирали возвращение к временам прежних царей, и только будущее могло показать, ошибались они в своих намерениях или нет. Посольство составилось в несколько дней, его возглавили члены Освященного собора, Боярской думы, а в состав вошли члены Государева двора и выборные люди разных чинов «по списком», выданным боярам. Во главе посольства стояли рязанский архиепископ Феодорит, бояре Федор Иванович Шереметев, князь Владимир Иванович Бахтеяров-Ростовский и окольничий Федор Васильевич Головин. В наказе от избирательного Земского собора, выданном послам 2 марта 1613 г., говорилось о том, чтобы ехать им «в Ярославль, или где он, государь будет». Как ясно из доверительной переписки с казанским митрополитом Ефремом, в Москве были хорошо осведомлены, что Михаил Романов находился в тот момент в Костроме. Однако по каким-то причинам указали только приблизительное направление похода.
Посольский наказ давал подробные инструкции боярину Федору Ивановичу Шереметеву и другим членам посольства, как они должны приветствовать царя Михаила Федоровича (о «многолетном здоровии спросить») и мать царя инокиню Марфу Ивановну. Архиепископ Рязанский Феодорит должен был произнести речь, которая дословно повторяла текст, содержавшийся в грамотах об избрании Михаила Федоровича, отправлявшихся в города 25 февраля.
В речи архиепископа [14, 1045–1050] снова ссылались на пресечение «царского корени» и «общий земский грех», сделавший возможным обстоятельства, наступившие после низложения царя Василия Шуйского. Впрочем, в ней были небольшие, но важные нюансы. Так, про короля Сигизмунда III сказано, что он не просто «обманом завладел Московским государством», а «преступя крестное целованье». Самому Михаилу Романову, когда-то стольником целовавшему крест королевичу Владиславу, теперь, принимая русский престол, легче было отказаться от своей прежней присяги, так как раньше аналогичную запись нарушила польско-литовская сторона. Еще одно добавление в речи архиепископа Феодорита – о том, как «полских и литовских людей в Москву ввели обманом», тоже напрямую касалось Михаила Федоровича. Конечно, у многих оставался вопрос о поведении царского стольника и других высших чинов Государева двора и Боярской думы в те годы, когда в столице распоряжались чиновники Речи Посполитой. Поэтому архиепископ Феодорит напоминал, что польско-литовские люди «бояр захватили в Москве силно и иных держали за приставы». Участь пленника миновала стольника Михаила Романова, и напоминание об этом снимало неуместные вопросы о том, кто и где был, когда освобождали Москву.
Речь архиепископа Феодорита сообщает новые сведения о порядке созыва Земского собора и его цели «обрать» царя «кого Бог даст и кого всею землею оберут». Для этого из городов звали «лутчих людей», которые должны были приехать в Москву, «взяв у всяких людей о государском обиранье полные договоры». Далее «из городов власти и выборные лутчие люди к Москве съехалися, и о государском обиранье мыслили многое время», в результате чего было принято решение, «чтоб на Московское государство обрати государя из московских родов». Если в грамотах об избрании Михаила Федоровича говорилось: «…многие соборы у нас были», – то для речи, обращенной к царю, поправили с другим смыслом: «… и о государеве обиранье Бога молили в соборне по многие дни». 21 февраля состоялось решение об избрании «праведного корени блаженные памяти великого государя царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии племянника, тебя государя Михаила Федоровича».
Послы Земского собора, приехавшие в Кострому, в своих речах, обращенных к царю, приглашали его приехать в Москву и рассказывали о начавшейся присяге, которую уже приняли «на Москве бояре, и околничие и всяких чинов люди». Послы сообщали также, что «изо многих городов» уже писали о том, что присяга проходит вполне успешно, но это было все-таки преувеличение. Когда 2 марта они выезжали из Москвы, сведения о ходе присяги новому царю в городах просто не успели дойти до столицы. Одно из первых свидетельств было прислано в Москву только 4 марта из Переславля-Рязанского, где воевода Мирон Вельяминов привел к крестному целованью местных дворян и жителей города, а также свияжских детей боярских и несколько тысяч казанских служилых татар, воевавших под его началом против Ивана Заруцкого. Правительство Земского собора во главе с митрополитом Кириллом поспешило отправить известие об этом в Кострому вместе с подлинником грамоты царю Михаилу Федоровичу, но это уже было после отъезда посольства к царю.
Дорога от Москвы до Костромы заняла у послов Земского собора больше десяти дней, и они оказались там «в вечерню» 13 марта. Крестный ход к Михаилу Романову, находившемуся в Ипатьевском монастыре, был назначен на 14 марта. Еще только светало, когда все собрались на костромскую соборную площадь. После молебна в Успенском соборе Костромы участники Земского собора взяли принесенные из Москвы образы московских чудотворцев Петра, Алексея и Ионы, а костромичи вынесли самый чтимый ими чудотворный образ иконы Федоровской Божьей Матери. Процессия двинулась крестным ходом через весь город в Ипатьевский монастырь.
«С третьяго часа дни и до девятого часа неумолчно и неотходно» молили послы и все собравшиеся люди Михаила Романова и инокиню Марфу Ивановну, чтобы они согласились принять царский престол. Отказываясь «с великим гневом и со слезами» от такой участи, будущий царь ждал того же, что и собравшиеся вокруг него – подтверждения своей «богоизбранности». Михаил Романов уже никак не мог следовать собственным желаниям, видя перед собой множество коленопреклоненных людей, но он должен был убедиться, что все происходившее было не обычным человеческим выбором. Позднее, когда царь Михаил Федорович впервые обратится в Москву к Земскому собору и боярам, он напишет об этих решающих часах:
«И мы, для чюдотворных образов пречистыя Богородицы и московских чюдотворцов Петра и Алексея и Ионы, за многим молением и челобитием всего Московского государства всех чинов людей пожаловали, положилися на волю Божию и на вас, и учинилися государем царем и великим князем всеа Русии, на Владимерском и на Московском государстве и на всех великих государствах Росийскаго царствия, и благословение от Феодорита архиепископа Резанского и Муромскаго и ото всего Освященнаго собора и посох приняли. А сделалося то волею Божиею и Московского государства всех вас и всяких чинов людей хотением, а нашего на то произволения и хотения не было» [14, 77].
Костромское посольство исполнило свою миссию и немедленно составило грамоту в Москву, где извещало митрополита Кирилла и весь Земский собор о согласии царя Михаила Федоровича принять царский престол. Грамоту от послов боярина Федора Ивановича Шереметева и архиепископа Феодорита поручили отвезти дворянину Ивану Васильевичу Усову и зарайскому протопопу Дмитрию. В руках этих гонцов на короткое время оказалась не просто грамота, они должны были известить столицу об окончании Смуты.
В Москве целый месяц с 24 февраля, когда было принято решение об отправке посольства в Кострому, и до 24 марта, когда было объявлено об успехе земского посольства, ничего не знали о будущем приезде царя Михаила Федоровича. Совпадение приезда гонцов с навечерием праздника Благовещения было воспринято как еще один важный знак. По словам «Утвержденной грамоты об избрании царя Михаила Федоровича», собравшиеся в тот момент в Успенском соборе в Московском кремле, «руце на небо воздев», вознесли благодарную молитву, «яко едиными усты».
Венчание на царство Михаила Романова
Оставалось дождаться приезда в столицу избранного на Соборе царя Михаила Романова. Сделать это новому самодержцу было непросто по прозаической причине весенней распутицы. Поэтому ожидание царя растянулось еще на полтора месяца. Сначала было решено перевезти юного царя Михаила Федоровича в Ярославль, куда царский поезд выехал из Костромы уже 19 марта. Две последние недели Великого поста царь Михаил Федорович провел в стенах Ярославского Спасского монастыря, под защитой более укрепленного и населенного посада, в городе, где формировался «Совет всей земли», избравший нового царя. 4 апреля царь Михаил Федорович праздновал в Ярославле Пасху, после которой состоялся поход к столице.
Дальнейшее уже хорошо известно из сохранившейся переписки Боярской думы с царем Михаилом Федоровичем о подготовке царской встречи. Вспомним внешнюю хронологическую канву событий: в самой середине апреля царский поезд двинулся в Москву, провожаемый жителями города и начинавшими съезжаться отовсюду челобитчиками. 17–18 апреля царь Михаил Федорович останавливался в Ростове, 22–23 апреля «стан» был в Переславле-Залес-ском, а 26 апреля нового царя встречали в Троице-Сергиевом монастыре. Троицкая остановка была самой важной перед торжественным вступлением царя Михаила Федоровича в Москву, состоявшимся 2 мая 1613 г.
События, происходившие в Московском государстве, показывали, что Смута не завершилась окончательно. Между Думой и окружением царя Михаила Федоровича оставалась напряженность и возникали споры, хотя они и были глубоко скрыты за этикетными фразами царских грамот и отписок Боярской думы. Находясь на пути в Москву, царь Михаил Федорович внимательно следил за тем, как воюют с Иваном Заруцким в рязанских и тульских землях. А глава нового правительства боярин князь Федор Иванович Мстиславский торопился обнадежить нового самодержца вестями об успехах войска, преследовавшего казачьего атамана и удерживаемых им Марину Мнишек с «царевичем» Иваном Дмитриевичем – претендентом на русский престол.
Другая напасть – продолжение казачьих разбоев и грабежей. На продолжавших «ворововать» казаков жаловались многие дворяне, добиравшиеся из Москвы и в Кострому, и в Ярославль, повсюду, где царь делал остановки на своем пути в столицу. Уже в Троице-Сергиевом монастыре были получены верные сведения, что казаки «переимали» дороги «на Мытищах и на Клязьме», напали на Дмитровский посад, т. е. грабили и воевали именно на тех подмосковных дорогах, которыми предстояло идти в Москву царю Михаилу Федоровичу.
Инокиня Марфа Ивановна не случайно «учинилась в великом сумненьи» и говорила «с гневом и со слезами» на соборе, устроенном в Троице-Сергиевом монастыре, с казанским митрополитом Ефремом и членами костромского посольства 26 апреля 1613 г. Царь Михаил Федорович и его мать отказались двигаться дальше от монастыря. Там они чувствовали себя, конечно, более защищенными, чем где бы то ни было, не исключая недавно освобожденного Московского кремля. Новое боярское правительство даже не смогло обещать, что успеет приготовить к царскому приходу Золотую палату, «что была царицы Ирины» (Ирины Годуновой, жены царя Федора Ивановича).
Интересно, что снова, как и в Ипатьевском монастыре, Романовы утверждались там, где были Годуновы. И это было связано не с желанием задним числом отомстить повергнутому сопернику, а, скорее, с признанием Бориса Годунова законно избранным царем, несмотря ни на какие обвинения его противников.
Именно здесь мы видим также впервые некую интригу, связанную со стремлением отделить нового царя Михаила от влияния его матери, мешавшего Боярской думе. С одной стороны, назначенное правительством князя Федора Мстиславского пребывание «великой старицы иноки Марфы Ивановны» в Вознесенском монастыре вполне соответствовало ее царскому чину. Но жить ей предлагалось в «хоромах, что бывали царицы иноки Марфы»! Можно представить, с какими бы чувствами новый царь Михаил ездил в те же самые покои, где, как всем было известно, Лжедмитрий I любил беседовать со своей «матерью». Поэтому для инокини Марфы Ивановны потребовали приготовить «хоромы деревянные царя Васильевы и царицы Марьи». Тем самым Романовы признавали законным статус и другого избранного предшественника на троне – царя Василия Ивановича. Жить на царицыном дворе времен царя Василия Шуйского было более почетно и правильно, чем входить в комнаты, оскверненные присутствием участников истории с самозваным царем. Царь Михаил Федорович и его мать сумели настоять на своем. Был издан указ, не подлежавший обсуждению: «…а велели вам те полаты нам и хоромы нашей великой старице иноке Марфе Ивановне устроить, чтоб были к нашему приходу готовы» [14, 1980].
От этой маленькой и досадной истории легко перекинуть мостик к более серьезному вопросу, веками смущающему тех, кто знакомится с деталями избрания Михаила Федоровича на царский трон в 1613 г. Речь идет о знаменитой «ограничительной записи», которой якобы сопровождалось его венчание на царство. Если бы существование такой записи, выданной царем Михаилом Федоровичем, удалось доказать, то тогда существуют все основания признать, что самодержавная царская власть зиждилась на своеобразном договоре со своими подданными. Текст «ограничительной записи» отсутствует, нет достоверных свидетельств о времени и обстоятельствах ее принятия. Но и при таких шатких основаниях разговоры об ограничении иногда становятся предметом научного или даже публицистического обсуждения между сторонниками ограничения самодержавия и последовательными монархистами.
Достоверно же известно о существовании другого документа, ставшего своеобразной конституцией новой, романовской, династии, – «Утвержденной грамоты» об избрании царя Михаила Федоровича, составленной от имени сословий Московского государства в мае 1613 г. [61]. Там, естественно, нет никаких упоминаний об «ограничительной записи». Прецедент создания «Утвержденной грамоты» был еще в начале царствования Бориса Годунова в 1598 г. Более того, многие положения той ранней годуновской грамоты, тоже отразившей соборные постановления, дословно, без каких-либо изменений, перекочевали в документ об избрании на царство, выданный подданными Михаилу Федоровичу.
Окончательно легитимация власти царя Михаила Романова завершилась с его торжественным венчанием на царство в Успенском соборе Московского кремля 11 июля 1613 г. В сохранившихся описаниях царского «поставления» нет ни намека на какое-либо ограничение власти самодержца, избранного на Земском соборе. Казанский митрополит Ефрем, главные воеводы земских ополчений князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой и князь Дмитрий Михайлович Пожарский участвовали во всей этой церемонии на почетных местах. Но при царском венчании не было никакого явного или тайного намека на ограничение власти царя Михаила Романова. Само царское избрание понималось как проявление Божьей воли, поэтому вторжение мирских страстей в эту сферу было недопустимым. Только церковь могла обратиться к царю Михаилу Федоровичу с просьбой следовать нравственным правилам справедливого правления. Поэтому особенный смысл заключался в поучении казанского митрополита Ефрема царю:
«Боляр же своих, о благочестивый, боголюбивый царю, и вельмож жалуй и береги по их отечеству, ко всем же князьям и княжатам и детям боярским и ко всему христолюбивому воинству буди приступен и милостив и приветен, по царскому своему чину и сану; всех же православных крестьян блюди и жалуй, и попечение имей о них ото всего сердца, за обидимых же стой царски и мужески, не попускай и не давай обидети не по суду и не по правде» [24, 50–52].
Заметим, что в поучении казанского митрополита Ефрема бояре действительно упоминаются на первом месте, среди тех, кого царь должен был «жаловать». Но в этом упоминании содержится всего лишь желание возвратиться к понятному порядку награды за родословное «отечество», а не признание какого-то исключительного положения бояр, которым было позволено ограничивать царя. В словах проповеди казанского митрополита Ефрема заключалась общая нравственная программа любого царствования, из которой за годы правления Ивана Грозного и последовавшей Смуты делали громадные исключения в Московском государстве. И теперь снова должно было состояться возвращение к прежнему «порядку».
Споры по поводу так называемой ограничительной записи Михаила Романова уже могут изучаться как самостоятельная историографическая проблема. Безусловно или с оговорками ее существование признали многие ученые: С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, А. И. Маркевич, Ф. В. Тарановский, П. Н. Милюков, Л. М. Сухотин, а в советской исторической науке – Л. В. Черепнин. Правда, среди них не было единства, кто-то высказывался осторожно, видя в такой записи всего лишь «негласную придворную сделку» (В. О. Ключевский), другие же, напротив, считали ограничение царской власти важным элементом политической системы первых лет царствования Михаила Федоровича. Например, Л. М. Сухотин писал, что «подобная запись была желательна не только сходившим со сцены правителям, долгое время упорствовавшим против избрания Михаила, но и многим членам Думы, весьма влиятельным в своей среде, таким как князья Мстиславский, Голицын, И. С. Куракин, тоже бывшим противниками избрания Михаила.
Среди тех историков, кто отрицал существование «ограничительной записи» Михаила Романова, оказался такой прекрасный знаток Смуты, как С. Ф. Платонов. В 1913 г. он специально изучал к юбилейным торжествам династии Романовых всю русскую историческую литературу по этому вопросу. Вывод С. Ф. Платонова однозначен: формальное ограничение власти царя Михаила Романова представлялось ему «недостоверным». Автор знаменитых «Очерков по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв.» справедливо замечал, что сама Боярская дума в момент избрания Михаила, можно сказать, не существовала и ограничивать в свою пользу никого не могла» [40, 368].
П. Г. Любомиров пытался выстроить «третий путь», видя в упоминаниях об «ограничительной записи» какую-то «основу», может быть, даже некогда существовавшее «соборное челобитье». Но он признавал, что дальше предположений в этом вопросе, при существующем состоянии источников, двинуться невозможно. При этом П. Г. Любомиров приводил аргументы, которых бы вполне могло хватить, чтобы устранить все доводы сторонников ограничения. В частности, историк упоминал резкий тон шедших от царя боярам приказов еще до приезда его в столицу и «малую самостоятельность бояр в управлении» и подчеркивал, что все официальные источники, включая «Утвержденную грамоту», молчат об «ограничительной записи»! [29, 229].
Вопрос об «ограничении» власти первого царя из династии Романовых остался исторической тайной и дал простор для различных, более или менее правдоподобных построений на эту тему. Разобраться в них можно, лишь оставаясь на почве профессионального исследовательского поиска, подразумевающего прежде всего разбор сохранившихся источников об «ограничительной записи» царя Михаила Федоровича.
Лучше всего избирательный Собор 1613 г. характеризует рассказ автора продолжения Псковской летописи, куда вставлена повесть «О бедах, и скорбех, и напастех, иже бысть в Велицеи Росии Божиим наказанием». В этой повести упоминаются известные исторические факты, начиная с царствования Федора Ивановича и до середины 1620-х годов.[22] Повесть написана, конечно, одним из тех людей, кто пережил Смуту. Обращение к своему читателю («братие», «зрите же, братие») и общий апокалиптический настрой его сочинения позволяют видеть в сочинителе псковской повести «О бедах, и скорбех, и напастех…» [48, 122–131] монаха, жившего в одном из монастырей Пскова или Новгорода Великого. Необычно встречающееся в повести имя «Велицей Росии» и центральное место, которое автор отводил Новгороду Великому. Этот город – «глава всем и начало князем и мати градовом» (в официальных документах Смуты чаще писалось о Московском и Новгородском государствах).
Интересно не только само свидетельство о «роте» (присяге) царя Михаила Федоровича, но и тот контекст, в котором оно приводится. Автор повести осуждает всех царей Смутного времени, которые были до Михаила Федоровича. Бориса Годунова он обвиняет не только в смерти царевича Дмитрия, но и в отравлении благочестивого царя Федора Ивановича. Лжедмитрий, или Гришка Отрепьев, для него «предотеча антихристов». Царь Василий Шуйский виновен в поспешном избрании «единым Московским государством, а не всею землею». Историю второго «ложного царя» Дмитрия он знает лишь в самых общих чертах и больше пишет о князе Михаиле Скопине-Шуйском, который, по его словам, «княжил тогда» в Новгороде. В повести рассказывается об отравлении князя Михаила Скопина-Шуйского его дядьями князьями Шуйскими, наказанными за этот грех сведением с престола царя Василия Шуйского.
Далее говорится о попытке избрания на русский престол иноземных претендентов: «Но более же всех возненавидеша его (Василия Шуйского. – В. К.) от болярска роду, овии же восхотеша на царство неметцкого королевича, инии же литовского» [48, 126]. С этого момента автор повести последовательно подчеркивает преступления боярских советников. Это они «от княжеска и болярская роду» приходили к патриарху Гермогену и говорили ему «не хощем своего брата слушати, ратнии людие рускаго царя не боятся, его и не слушают, и не служат ему». Рассказывая о земских ополчениях, освобождении Москвы и, наконец, об избрании на царство Михаила Федоровича, летописец с гневом порицал бояр, стремившихся к самовластию и «мздоиманию»: «Сицево бо попечение боярско о земли Руской».
На этом фоне рассказ о присяге царя Михаила Федоровича в тексте повести выглядит много понятнее, так как для ее автора это еще одно свидетельство преступного поведения бояр в Смуту:
«…А царя нивочто же вмениша, и небоящеся его, поне же детеск сыи. Еще же и лестию уловивше: первие, егда его на царьство посадиша и к роте приведоша, еже от их вельможска роду и болярска, аще и вина будет преступлению их, не казнити их, но разсылати в затоки. Сице окаяннии умыслиша, а в затоце коему случится быти, и оне друг о друге ходатайствуют ко царю, и увещают и на милость паки обратитися» [48, 131].
Здесь обычно завершают цитату, прямо упоминающую о некоем обещании (неясно, впрочем, письменном или устном), данном царем Михаилом Федоровичем не казнить бояр за преступления, а рассылать их в заточение. Однако полезно продолжить цитирование текста и дальше, чтобы понять, с чем еще автор повести связывает «роту» царя Михаила Романова:
«Сего ради и всю землю Рускую разделивше по своей воли, яко и его царьская села себе поимаша, иже бе преже у царей, и оне же неведомо бе царю, яко земские книги преписания в разорение погибоша; а на царскую потребу и розходы собираху со всей земли Рустеи оброки и дани и пятую часть имения у тяглях людей, а ис протчих царьских доходов их же государь царь оброки жаловаше» [48, 131].
Все это, как видно, продолжает обвинения боярам, извлекавшим личную выгоду из дворцовых имений. Правда, автор повести не совсем отчетливо представлял себе цели сбора пятинных денег, думая, что они все должны были идти на обеспечение царя, в то время как пятины в первые годы царствования Михаила Федоровича являлись чрезвычайным налоговым инструментом для решения самых насущных финансовых нужд.
Следовательно, свидетельство о присяге Михаила Федоровича, прозвучавшее одиноко в ряду множества других повестей и сказаний о Смутном времени, следует читать как публицистический аргумент, обвинение в «мятеже» бояр и вельмож, продолжавших «мздоимание». Стремясь подчеркнуть невиновность царя Михаила Федоровича, автор повести говорит о боярском обмане («лести»), а не о каком-то юридически оформленном действии, сопровождавшем избрание Михаила Федоровича на царство.
Следующим, кто написал о присяге московских царей, был беглый подьячий Посольского приказа Григорий Котошихин, создавший в Швеции сочинение, получившее название «О России в царствование Алексея Михайловича». Этот любопытный памятник содержит подробное описание политического и административного устройства, а также обычаев Московского государства. Сочинение Котошихина создавалось по приказу шведских властей, желавших получить от беглеца информацию о соседнем государстве. Текст Котошихина является не простым канцелярским отчетом, в нем заметен авторский стиль человека, хорошо владевшего пером и умевшего не только переписывать посольские документы, но и вникать в разные детали государственной жизни. Казалось бы, Григорий Котошихин, находясь в условиях относительной свободы, должен писать открыто и обо всем, что ему было известно. Впрочем, вряд ли к этому сочинению применимы такие прямолинейные характеристики. Какая-то часть сведений, сообщавшихся Котошихиным, должна была подчеркнуть его значение в качестве информатора шведских властей. Особенно это касалось известий о закрытых для иностранцев обстоятельствах жизни царских теремов и о том, как происходила смена царей в Московском государстве. Именно в связи с этим рассказом Григорий Котошихин упомянул о Михаиле Федоровиче:
«…прежние цари после Ивана Васильевича обираны на царство; и на них были иманы писма, что им быть не жестоким и непалчивым, без суда и без вины никого не казнити ни за что, и мыслити о всяких делах з бояры и з думными людми сопча, а без ведомости их тайно и явно никаких дел не делати». Поэтому и царь Михаил Федорович «хотя, самодержцем писался, однако без боярского совету не мог делать ничего» [27, 141–142].
Попытаемся вспомнить, кто выдал «писмо» своим подданным после смерти Грозного царя из «обиранных» на царство самодержцев? Борис Годунов? Лжедмитрий? Конечно, ни тот и ни другой. Единственный прецедент с царскими обещаниями не казнить никого без суда и не наказывать родственников опальных людей был в начале царствования Василия Шуйского. Но бояре, напротив, уговаривали царя Василия Ивановича, чтобы он не нарушал традиции и не принимал на себя никаких односторонних обязательств. Не говоря уж о том, что действительность сама отменила эти, оставшиеся нереализованными декларации Василия Шуйского. Другим «обиранным» царем, если не считать польского королевича Владислава, до коронации которого дело не дошло, был уже царь Михаил Федорович. Но даже самый последовательный сторонник принятия первым царем из династии Романовых «ограничительной записи» не возьмет на себя смелость утверждать, что началом конституционной монархии в России был 1613 год.
Московское царство при царе Михаиле Федоровиче возвращалось к порядку «как при прежних прирожденных государях бывало». А в этой системе самодержавия, утвержденной больше всего опричниной Ивана Грозного, не осталось места для чужого, боярского самовластья. Да и Боярская дума не представляла из себя какую-то единую корпорацию с общими политическими интересами. Напротив, чины, оклады, служебные назначения, богатство и сама жизнь, все в этой системе имело источником царскую власть. И преимущество было у тех, кто ближе всего стоял к трону, особенно если он при этом был связан родством с царской семьей. Начала такого порядка, когда трон молодого царя Михаила Романова обступили плотной толпой царские родственники, относятся уже к первым годам его правления. Среди них выделялись царский дядя Иван Никитич Романов, двоюродный брат царя князь Иван Борисович Черкасский, родственники царицы Марфы Ивановны братья Борис и Михаил Салтыковы. И далее эта система родственной клиентелы только совершенствовалась в Московском царстве, выводя наверх временщиков и фаворитов, что было уже хорошо известно во времена Григория Котошихина. Скорее всего, это и повлияло на его представление о том, что московские цари ничего не делали «без боярского совета» и даже выдавали какие-то ограничительные «писма». Но выстраивать на таком шатком основании серьезную политическую конструкцию нового государственного устройства России в XVII в. было бы опрометчиво.
Еще один источник, который обязательно учитывается в полемике об «ограничительной записи», – сочинение шведского офицера Филиппа Иоганна Страленберга, попавшего в плен после Полтавского сражения. Прожив много лет в ссылке в Сибири, Страленберг написал сочинение под названием «Северная и восточная часть Европы и Азии», впервые опубликованное в Стокгольме на немецком языке в 1730 г. [20]. Современный перевод этого сочинения был представлен В. Н. Татищевым в Академию наук в 1747 г. Начнем с того, что хронологически сочинение Страленберга отстоит от описываемых событий ровно настолько, насколько от нас сегодня – коронация последнего царя из рода Романовых – Николая II. Это сравнение уже достаточно иллюстрирует приблизительный характер известий шведского капитана об обстоятельствах вступления на престол деда Петра Великого – царя Михаила Романова.
Например, Страленберг пишет о том, что посольство Земского собора было направлено к избранному царю в Углич, а не в Кострому. Возможно, это мелочь, но для историка такое отношение к деталям в позднем историко-географическом сочинении подобно приговору автору и его тексту. Очевидно, что Страленберг был плохо подготовлен для роли историографа в теме избрания Михаила Федоровича на царство, но все же необходимо разобраться, почему на его известие обращается столь пристальное внимание. Рассказывая о посольстве «сенаторов и депутатов со многими придворными служительми и богатою свитою», Филипп Иоганн Страленберг имел в виду, конечно, спроецированный на прошлое церемониальный порядок, свидетелем которого он мог быть сам в Швеции или при российском дворе.
Реалии эпохи русской Смуты начала XVII в. давались Страленбергу с большим трудом. Так, например, он описывал переговоры сенаторов (надо понимать, бояр. – В. К.) с матерью царя Михаила, которую не знал по имени и ошибочно считал ее сестрой боярина Федора Ивановича Шереметева. Рассказ о предыстории коронации Михаила Федоровича дополнен известием о боярской клятве «пред олтарем» и подписании неких «пунктов», содержавших обязательства нового царя:
«Прежде ж венчания обнадежены и подписаны были рукою его следуюсчия пункты: 1) обязался он содержателем и засчитником веры быть; 2) все, что отцу его не случилося, предать забвению и ни над кем, кто б какого звания ни был, партикулярной своей вражды не памятовать; 3) никаких новых законов не чинить, ниже старыя отменять, вышния и важнейшия дела по законом також и не одному собою, но чрез порядочное произвождение суда определять; 4) войны и мира точию для себе самого с соседами своими не чинить и 5) все свое имение для оказания правосудия и для уничтожения всяких тяжеб с партикулярными людми, или своей фамилии уступить или соединить оное з государственным» [20, 81–82].
Единственное, что можно сказать об этом перечне всерьез, что в известии Страленберга отдаленным эхом отразились условия, обсуждавшиеся при избрании на московский престол королевича Владислава в 1610 г. Как в статьях, обсуждавшихся тушинскими боярами с королем Речи Посполитой Сигизмундом III под Смоленском 14 февраля 1610 г., так и в августовском договоре московской Боярской думы об избрании королевича Владислава первым пунктом стояло сохранение «светой православной веры греческаго закона». Приписывать такой пункт Михаилу Романову – сыну митрополита Филарета – было, по меньшей мере, излишне. Другие пункты о порядке принятия новых законов и объявлении войны тоже могут быть соотнесены с документами об избрании королевича Владислава, но никакого текстуального заимствования из них у Страленберга нет. Представление о существовании письма с подробным перечнем разных обязательств русских самодержцев было экстраполировано Страленбергом и на сына Михаила Романова – царя Алексея Михайловича. Якобы его короновали на царство «без избрания, однако со обнадеживанием выше изображенных кондицеи, которыми он с клятвою пред олтарем учиненною обязался». Григорий Котошихин, напротив, писал про царя Алексея Михайловича: «А нынешнего царя обрали на царство, а писма он на себя не дал никакого, что прежние цари давывали» [20, 86].
Не случайно, что В. Н. Татищев не удержался и оставил примечательную пометку на полях рукописного перевода сочинения Страленберга: «О кондициях с клятвою сусчия враки» [60, 148]. Исчерпывающая характеристика первого русского историка, к которой нечего добавить… Правда, в своих более ранних публичных выступлениях В. Н. Татищев признавал существование «ограничительной записи» царя Михаила Федоровича.
В своем сочинении «Произвольное и согласное разсуждение и мнение собравшегося шляхетства руского о правлении государственном», вызванном к жизни обстоятельствами воцарения Анны Иоановны в 1730 г., Татищев писал: «Царя Михаила Федоровича хотя избрание было порядочно всенародное, да с такою же записью, чрез что он не мог ничего учинить, но рад был покою» [60, 148].
Василию Татищеву, отстаивавшему самодержавный порядок правления в России от притязаний аристократов, сведения об «ограничительной записи» родоначальника романовской династии царя Михаила Федоровича только мешали. Но он не покривил душой и воспроизвел те представления, которые существовали у многих его современников, ставивших свои подписи под «Произвольным и согласным рассуждением и мнением…» шляхетства о будущем образе правления в Российской империи. Хотя позже, как свидетельствует пометка на страницах перевода сочинения Страленберга, историк, а не политик Татищев полностью отказался от того, чтобы признавать за историей с «кондициями» Михаила Федоровича хоть какое-то значение.
Осталось упомянуть еще об одном иностранном сочинении – Иоганна-Готгильфа Фоккеродта, служившего секретарем прусской миссии в России, – «Россия при Петре Великом». Работа Фоккеродта – это практически служебный отчет, содержавший общий обзор преобразований Петровской эпохи, свидетелем которых был автор. Она была завершена в сентябре 1737 г., по окончании службы Фоккеродта, и представлена прусскому двору. Один из разделов «России при Петре Великом» посвящен ответу на вопрос: «Какую перемену сделал Петр I в образе правления Русского царства?» Для этого Фоккеродт обращается к изучению исторической традиции и справедливо пишет, что впервые вопрос об ограничении царской власти возник при избрании царя Василия Шуйского и по его инициативе, причем «все боярское сословие умоляло его с земными поклонами не выпускать столь легко из рук такого драгоценного алмаза и украшения русского скипетра, каким было самодержавие». Фоккеродт упоминает о влиянии на русских бояр и будущего патриарха Филарета, «который еще не мог предполагать, что выбор падет на его сына», неких «республиканских правил». А дальше говорит об избирательном Земском соборе, на котором «многими из самых знатных лиц» были предварительно выработаны положения, которые должен был принять будущий русский царь:
«Они составили между собою род сената, который назвали Собором: не только бояре, но и все другие, находившиеся в высшей государственной службе, имели там место и голос и единодушно решились не выбирать себе в цари никого, кроме того, который под присягой обещается предоставить полный ход правосудию по старинным земским законам, не судить никого государскою властью, не вводить новых законов без согласия Собора, а тем менее отягощать подданных новыми налогами или решать что бы то ни было в делах войны и мира. А чтобы тем крепче связать нового государя этим условиями, они положили еще между собой не выбирать в цари такого, у которого сильное родство и сильные приверженцы, так как с помощью их в состоянии он будет нарушить предписанные ему законы и присвоить опять себе самодержавную власть» [63, 27–28].
Этот подробный рассказ был бы неоценимым источником, вводящим нас в атмосферу предвыборных обсуждений на Земском соборе 1613 г., если бы он опять, как и в случае с сочинением Филиппа Иоганна Страленберга, не отстоял более чем на сто двадцать лет от самих событий или хотя бы не принадлежал перу иностранца, явно знакомившегося с далекой русской историей не по источникам, а по рассказам разных лиц. Нет никаких доказательств того, что «царь Михаил не колеблясь принял и подписал вышеупомянутые условия», которые соблюдал до возвращения из польского плена своего отца патриарха Филарета, сумевшего воспользоваться противоречиями между «низшим дворянством» и «властолюбивым боярством», чтобы поломать установившийся порядок и одному опекать сына [63, 29]. Все, что пишет об этом Фоккеродт, приходится принимать на веру, что и делалось в примечаниях Э. Миниха (сына) к публикации записок К. Г. Майнштейна о России, а затем в «Материалах по русской истории» К. Шмидта-Физельдека (гувернера в семье Миниха-сына), изданных в Риге в 1784 г. Следовательно, записка Фоккеродта «Россия при Петре Великом» является лишь дополнительным свидетельством того простого вывода, что в домах знати любили обсуждать начало романовской династии и, возможно, с окончанием петровского времени, искали там исторические аналогии.
В вопросе об ограничении самодержавия царя Михаила Романова очень заметно стремление притянуть дела прошедшего века к актуальным государственным вопросам. Скажется это и позднее, уже в научной полемике, когда признание или непризнание «ограничительной записи» станет ярким индикатором либерального или консервативного правосознания. У ученых существует справедливое желание противостоять одиозным крайностям монархистов и показных патриотов, не желающих даже слышать о возможном ограничении самодержавия в России в 1613 г. Такое вторжение политики в современность обычно ни к чему хорошему не приводит. Задача историка не в том, чтобы выбрать более близкую ему идеологическую традицию, а в том, чтобы исследовать сохранившиеся источники или объяснить их отсутствие, на чем и держится научная, а не публицистическая интерпретация исторических фактов. А они определенно свидетельствуют, что поиск «ограничительных» документов царя Михаила Федоровича является тупиковым и лишь отвлекает от изучения обстоятельств сложного пути выхода Русского государства из тяжелого Смутного времени начала XVII в.
Источники и литература
1. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи археографической экспедицией императорской Академии наук. СПб., 1836. Т. 2.
2. Акты исторические, собранные и изданные археографической комиссией. СПб., 1841. Т. 2.
3. Акты, относящиеся до юридического быта древней России / Под ред. Н. В. Калачева, СПб., 1864. Т. 2.
4. Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века: Сб. документов / Сост. А. В. Антонов. М., 2002. Т. 3.
5. Аракчеев В. Средневековый Псков: власть, общество, повседневная жизнь в XV–XVII веках. Псков, 2004.
6. Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов / Собрал и ред. С. Б. Веселовский. М., 1915.
7. Арсеньевские шведские бумаги. 1611–1615 гг. // Сборник Новгородского общества любителей древности. Новгород, 1911. Вып. 5.
8. Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время (7113–7121). М., 1907.
9. Бельский летописец // Полн. собр. русских летописей. М., 1978. Т. 34.
10. Веселовский С. Б. Акты подмосковных ополчений и Земского собора. 1611–1613. Пг., 1911.
11. Видекинд Ю. И. История шведско-московской войны XVII века. М., 2000.
12. Грамоты и отписки Курмышскому воеводе Елагину // Летопись занятий археографической комиссии за 1861 г. СПб.,1862. Вып. 1. Отд. 2.
13. Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографической комиссией: В 12 т. СПб., 1846–1875. Т. 1.
14. Дворцовые разряды XVII в., по высочайшему повелению изданные. СПб., 1850. Т. 1.
15. Долинин Н. П. Подмосковные полки («казацкие таборы») в национально-освободительном движении 1611–1612 гг. Харьков, 1958.
16. Елассонский А. Мемуары из русской истории // Хроники Смутного времени. М., 1998.
17. Житие архимандрита Троице-Сергиева монастыря Дионисия // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2006. Т. 14.
18. Забелин И. Е. Минин и Пожарский: Прямые и кривые в Смутное время. М., 1883.
19. Замятин Г. А. К истории Земского собора 1613 г. // Труды Воронежского гос. университета. Воронеж, 1926. Вып. 3.
20. Записки капитана Филиппа Иоганна Страленберга об истории и географии Российской империи Петра Великого. Северная и восточная часть Европы и Азии / Сост. Е. А. Савельева, Ю. Н. Беспятых, В. Е. Возгрин. М.; Л., 1985.
21. Зимин А. А. Акты Земского собора. 1612–1613 гг. // Записки отдела рукописей ГБЛ. М., 1957. Вып. 19.
22. Кобзарева Е. И. Шведская оккупация Новгорода в период Смуты XVII века. М., 2005.
23. Козляков В. Н. Марина Мнишек. М., 2005.
24. Козляков В. Н. Михаил Федорович. М., 2004.
25. Корецкий В. И., Лукичев М. П., Станиславский А. Л. Документы о национально-освободительной борьбе в России в 1612–1613 гг. // Источниковедение отечественной истории. 1989. М., 1989.
26. Корецкий В. И. Послание патриарха Гермогена // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. 1975. М., 1976.
27. Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1884.
28. Летопись занятий археографической комиссии за 1861 г. СПб., 1862. Вып. 1.
29. Любомиров П. Г. Очерки истории нижегородского ополчения. 1611–1613. М., 1939.
30. Мархоцкий Н. История Московской войны / Подг. текста Е. Куксина. М., 2000.
31. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. М., 1995. Т. 3.
32. Морозова Л. Е. Россия на пути из Смуты. Избрание на царство Михаила Федоровича. М., 2005.
33. Назаров В. Д. Что мы празднуем 4 ноября? // Мининские чтения: Труды науч. конф. Н. Новгород, 2007.
34. Народное движение в России в эпоху Смуты в начале XVII века. 1601–1608: Сб. документов. М., 2003.
35. Новосельский А. А. Исследования по истории эпохи феодализма. М., 1994.
36. Новые акты Смутного времени: Акты подмосковных ополчений и Земского собора. 1611–1613 гг. / Собрал и ред. С. Б. Веселовский. М., 1911.
37. Новый летописец // Полн. собр. русских летописей. М., 1910. Репр. изд. 1965. Т. 14.
38. Памятники дипломатических сношений России с державами иностранными. СПб., 1852. Т. 2.
39. Пискаревский летописец // Полн. собр. русских летописей. М., 1978. Т. 34.
40. Платонов С. Ф. Московское правительство при первых Романовых // Он же. Статьи по русской истории. М., 1912.
41. Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1937.
42. Платонов С. Ф. Социальный кризис Смутного времени. М.,1924.
43. Повесть князя Ивана Михайловича Катырева-Ростовского // Русская историческая библиотека. СПб., 1909. Т. 13.
44. Повесть о Земском соборе 1613 года // Хроники Смутного времени. М., 1998. Приложения.
45. Повесть о победах Московского государства / Изд. подг. Г. П. Енин. Л., 1982.
46. Понырко Н. В. Обновление Макарьева Желтоводского монастыря и новые люди XVII в. – ревнители благочестия // Труды отдела древнерусской литературы Ин-та русской литературы. М.; Л., 1990. Т. 43.
47. Попов А. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М., 1869.
48. Псковские летописи. М.; Л., 1941. Вып. 1.
49. Речь профессора С. Ф. Платонова на торжественном заседании Нижегородской ученой архивной комиссии 25 августа 1911 года / Публ. подгот. Е. Б. Мараханова // Мининские чтения: Материалы науч. конф. Н. Новгород, 2005.
50. Родословная роспись дворян Палицыных / Публ. С. П. Мордовиной, А. Л. Станиславского // Археографический ежегодник за 1989 г. М., 1990.
51. Русская историческая библиотека. М., 1872. Т. 1.
52. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. М., 1822.Т. 3.
53. Сборник русского исторического общества. М., 1913. Т. 142.
54. Сказание Авраамия Палицына // Русская историческая библиотека. СПб., 1909. Т. 13.
55. Станиславский А. Л. Гражданская война в России XVII в.: (Казачество на переломе истории). М., 1990.
56. Станиславский А. Л. Первая крестьянская война в России и правительственная политика по отношению к вольному казачеству // Проблемы социально-экономической истории феодальной России: к 100-летию со дня рождения чл. – корр. АН СССР С. В. Бахрушина. М., 1984.
57. Сухотин Л. К вопросу о причастности патриарха Гермогена и князя Пожарского к делу Первого ополчения // Сборник статей в честь Матвея Кузьмича Любавского. Пг., 1917.
58. Сухотин Л. Первые месяцы царствования Михаила Федоровича: (Столбцы Печатного приказа). М., 1915.
59. Сухотин Л. М. Четвертчики Смутного времени (1604–1617 гг.).М., 1912.
60. Татищев В. Н. Избранные произведения. Л., 1979.
61. Утвержденная грамота об избрании на Московское государство Михаила Федоровича Романова / Предисл. С. А. Белокурова. М., 1906.
62. Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005.
63. Фоккеродт И. – Г. Неистовый реформатор. М., 2000.
64. Челобитная Вельяминовых – источник по истории России начала XVII в. / Публ. А. Л. Станиславского // Советские архивы. 1983. № 2.
65. Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства XVI–XVII вв. М., 1978.
ОПЫТ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ БОЯРИНА КНЯЗЯ КОЗЬМЫ-ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ПОЖАРСКОГО (Ю. Эскин)
Приступая к рассказу о каком-либо историческом деятеле, в особенности допетровского периода, автор, как правило, сбивается на описание эпохи, исторических событий и пр., и происходит это обычно оттого, что сведений о личной жизни героя сохранилось очень мало и есть только два пути – описание того немногого, что точно известно, на широком и ярком историко-бытовом полотне (на котором неминуемо теряются крупицы истинных сведений о человеке) или – увы, домысливание, превращающее научное повествование в литературное (качество которого зависит от таланта автора). В предлагаемом жизнеописании Пожарского автор по мере сил пытался избегнуть данных крайностей, и особенно – домыслов и легенд, даже очень раннего времени, чуть ли не современных герою.[23]
Род и предки. Юность
В III в. нашей эры жили на Ближнем Востоке, далекой окраине великой Римской империи, в городе Феремане в Месопотамии, два брата-христианина, Козьма и Дамиан, сыновья добродетельной вдовы Феодотии. Были они лекари, лечили бесплатно и проповедовали христианство. Умерли братья как всеми уважаемые люди, так как не испытывали гонений, и со временем были причислены к лику святых. День почитания их – 1 ноября.[24] Спустя более чем 1300 лет в далекой России, в конце правления грозного царя Ивана Васильевича в некоем добродетельном семействе 1 ноября родился мальчик, и его по святцам окрестили Козьмой, и суждено ему было стать «мужем совета и меча», «неколебимым во бранех», чести и твердости духа, и в 1612 г. совершить подвиги, нанесшие раздиравшей его Родину гражданской войне практически смертельный удар, ощутимый и опрометчиво вмешавшимся в нее с интервенцией соседям. И помог этот Козьма заложить фундамент державы – 300-летней монархии Романовых. Ну конечно, скажет любой читатель. Это Кузьма Минин! Так-то, да не совсем. Ибо не один герой по имени Козьма (Кузьма) участвовал в подвиге, а два. Соратником Минина был князь Пожарский. И в конце XVI столетия у разных родителей в разных местах России родились два мальчика, и обоих окрестили Козьмами. И это были два освободителя Москвы, памятник которым стоит на ее главной площади.
Время и место рождения Минина установить почти невозможно, поскольку он был из простой посадской, хотя и состоятельной семьи, а церковные записные книги еще не велись. Но князь Пожарский родился (или был крещен) 1 ноября 1578 г., что давно известно по записям во вкладных и кормовых книгах монастырей, куда родственники знатных и богатых людей давали вклады «по душе» и «корм» – деньги на трапезу монахам, обязанным служить молебен и заупокойную службу в день ангела этого человека. Поэтому еще в XIX в. было известно, что за упокой души Д. М. Пожарского служили 1 ноября, а это день святых Козьмы и Дамиана Месопотамских, лекарей бессребреников. Имя Козьма давно фигурирует рядом с именем князя Дмитрия Пожарского, встречаясь в синодиках, что и породило красивую легенду о том, что князь, принимая перед смертью схиму (а монаху-схимнику, считалось, отпускаются все грехи), взял себе имя «Козьма» в честь покойного соратника – Минина, что абсолютно не соответствовало реальности [169, 143–144, 147–148]. Действительность оказалась красивее легенды. В найденной в 1999 г. духовной грамоте князя он сам пишет: «Се яз, раб Божий многогрешный боярин князь Козьма, прозвище князь Дмитрей Михайлович Пожарской, пишу свою духовную своим целым умом и разумом» [169, 150].
Пожарские были князьями-Рюриковичами, одной из старших ветвей рода Стародубских удельных князей, властителей маленького Стародубского княжества в бассейне рек Клязьмы, Мстеры и Луха. Их родоначальник – князь Василий Андреевич Пожарский, сын участника Куликовской битвы князя Андрея Федоровича Стародубского. Судьбы у ветвей рода были разные: князья Ряполовские, Палецкие, Ромодановские, Осиповские и другие, довольно рано приняли участие в общерусской политике, пошли на службу к великим московским князьям или хотя бы к их родне, стали их служилыми князьями или членами их дум. Тогда-то и появились по большей части их родовые прозвания; при больших дворах надо было различать аристократов, и назывались они по своим уделам – селам Ромоданову, Палеху, Ряполову, Осипову. Пожара как населенного пункта не существует уже несколько столетий, но в XV в. он располагался на юго-запад от Стародуба-Ряполовского, близ села Осипова [65, 261]. Где-то между 1437 и 1445 гг. князь Данило Васильевич Пожарский променял Пожар, родовое гнездо, у родственника, князя Дмитрия Ивановича Ряполовского, на село Мугреево с деревнями. Оно в начале XVII в. было большим и богатым селом с деревнями на восточной окраине бывшего Стародубского удела, Пожара же к тому времени уже не было; однако за 150 лет многое могло измениться. Пожар, видимо, стоил очень дорого – Д.И.Ряполовский, помимо села Мугреева, доплатил за Пожар родственнику 150 рублей – гигантскую по тем временам сумму – и добавил еще коня и кунью шубу за 20 рублей [72, 10, 15–16].[25] Это было примерно, если считать тогдашний вес деньги-копейки – в 0,72 (или 0,73) г серебра, а рубль – в 100 денег [56, 138–139] – 12 кг 240 г серебра, сумма очень большая, особенно если учитывать высокую покупательную способность золота и серебра в России, не имевшей до конца XVII в. собственных источников их пополнения. Пожарские в то время были весьма крупными землевладельцами. Еще весь XVI в. они продают, покупают, завещают, жертвуют монастырям, дают в приданое множество сел и деревень [143, 14–23]. Будучи вполне обеспеченными людьми, они упустили удобные моменты для поступления на службу, не распознав, видимо, вовремя возвышение Москвы, не спеша к ее двору, как многие более бедные удельные князья. И в то время когда другие Рюриковичи уже к концу XIV в. стали московскими служилыми князьями, а с понижением своего статуса принялись теснить в Думе старомосковское боярство, Пожарские продолжали сидеть в своих обширных вотчинах и лишь к началу XVI в. начали упоминаться на великокняжеской службе, однако на вполне рядовых местах.
С 1515 по 1555 г. пять Пожарских, в том числе прадед Дмитрия, служили наместниками и волостелями, управляя волостями (и только двое – городом Переславлем), получая с них доходы, так называемые кормления. После отмены кормлений в начале 1550-х годов Пожарские вместе со всей корпорацией стародубских княжат записаны были в «Тысячную книгу», согласно которой они должны были служить за выделяемые близ Москвы поместья (историки не единодушны в том, было ли это на самом деле) как «дети боярские III статьи» [143, 14–23]. Затем многих княжат выслали на службу в присоединенное Казанское ханство, а часть их вотчин забрали «на государя», что следует рассматривать как опалу. Пошло туда около 23 семей стародубских князей, в том числе четверо Пожарских. В 1550–1557 гг. городничим в Свияжске служил дед князя Дмитрия князь Федор Иванович Третьяк, а его брат Иван Иванович в 1557–1558 гг. – городничим в Казани. Это были низкие административные должности, чем Пожарских позднее попрекали. Но спустя 5–6 лет большинство вернулось домой и даже, судя по землевладельческим документам, распоряжалось частью родовых вотчин. Поэтому объяснения Д. М. Пожарского и его родственников спустя 50 лет своей «захудалости» опалой были натяжкой: ни до, ни после Казани Пожарские до воеводских или придворных чинов не добирались. В разрядах упомянуты два троюродных дяди Дмитрия Михайловича: князь Федор Иванович – среди голов дворянских сотен в разряде 1575 г., а князь Петр Тимофеевич Щепа поднялся до московской службы – не слишком высокой, но весьма доходной, исполняя инспекторскую пожарно-полицейскую должность объезжего головы в Белом и Китай-городе в Москве в 1597–1599 гг., а потом был воеводой в Уржуме [143, 16–19, 21].
Co стороны матери родня была несколько иного покроя. Берсеневы-Беклемишевы были старомосковским боярским родом, дед матери Дмитрия Михайловича был знаменитый Иван Никитич Берсень Беклемишев. Придворный еще Ивана III, Иван Берсень входил в кружок книгочеев, сформировавшийся вокруг Максима Грека, ученого греческого монаха, приглашенного с Афона для перевода и исправления духовных книг, некогда учившегося в Париже и Флоренции и даже последователя Савонаролы, а затем вернувшегося в православие. В ходе борьбы дворцовых группировок при дворе Василия III группа эта стала жертвой придворных интриг. Берсень Беклемишев, уже немолодой человек, видный дипломат, к мнению которого прислушивался еще Иван III, резко высказывался о тяге Василия III к самовластию, о его пренебрежении к мнению Боярской думы, заявляя в частных беседах, что государь упрям и не терпит «встречу», т. е. иное, отличное от его собственного, мнение, в то время как его отец «встречу» выслушивал и уважал. «Ныне деи государь наш запершися сам-третей у постели всякие дела делает», – говорил он, т. е. решает важнейшие вопросы в своих личных аппартаментах («постель») во дворце с 1–2 советниками, не вынося вопрос на обсуждение Думы. Берсень был казнен в 1525 г. не только за эти резкие высказывания (само его прозвище «берсень» означает колючий кустарник, крыжовник, шиповник) [26, 37]. Существует версия, что он осуждал развод великого князя с Соломонидой Сабуровой как неканонический и противился его второму браку с княжной Еленой Глинской [50, 284–288, 293–296]. Спустя 10 лет, в 1535 г., на другом конце Европы другим стремившимся к самовластию государем был также обезглавлен государственный деятель, книжник и философ, и тоже за независимость суждений и несогласие с разводом и повторным браком своего монарха. Звали его Томас Мор… [82].
В начале 1570-х гг. соединился отчасти опальный старомосковский род с захудавшими Рюриковичами. Князь Федор Иванович Третьяков-Пожарский примерно в 1570/ 71 г. женил сына Михаила на Ефросинье-Марии Федоровне Берсеневой-Беклемишевой; сохранились сведения об их рядной записи, по которой в приданое мужу она принесла село Берсенево,[26] судя по названию, принадлежавшее именно ее деду [28, 100–101]. Отец Ефросиньи умер вскоре после ее замужества – уже в 1572/73 г., а свекор, князь Ф. И. Третьяков-Пожарский, дал в Троице-Сергиев монастырь по душе Федора Берсенева (а в дальнейшем и по себе и своем сыне Михаиле) большое село Калмань в Юрьев-Польском уезде, причем монахи, обязуясь за этот вклад молиться за упокой и их душ, вернули часть стоимости села – 400 рублей [28, 100].
Отец князя Дмитрия Михаил Федорович Глухой Пожарский служил, видимо недолго, не достигнув разрядных чинов, нигде не отмечен (возможно, был болен или контужен, если так понимать прозвище «Глухой»), хотя и имел поместья, так, 13 февраля 1586 г. он получил ввозную грамоту на поместье – пустошь Суток в Серпейском уезде [8, 189–190]. Умер он 23 августа 1587 г. [169, 148].[27] Княгиня Ефросинья осталась молодой вдовой (замуж она вышла не позднее 1570/71 г.), с четырьмя детьми – дочерью и тремя сыновьями. Старшей дочери Дарье было уже 14–15 лет; по тем временам девица на выданье, она вскоре стала женой князя Никиты Андреевича Хованского.
В год смерти отца впервые узнаем и о его сыне. Козьма-Дмитрий был вторым, младшие – Василий и Юрий, умерли, видимо, в юном возрасте. В ввозной грамоте, выданной вдове княгине Марии Пожарской за ее несовершеннолетних детей на поместья мужа сельца Нестерово в Мещовском и Буканово в Серпейском уездах от 28 февраля 1588 г., значатся только два ее сына, недоросли «князь Дмитрей десяти лет, да князь Василей трех лет, да дочь княжна Дарья» [8, 190], «и нам бы тем поместьем их пожаловать, детей его князь Дмитрея да князь Василья, а оне как к нашей службе поспеют и будет в петнатцать лет, с того отца своего поместья учнут нашу службу служить и мать свою княгиню Марью до ее живота и сестру свою замуж выдадут» [8, 190–191]. Брат Дмитрия Михайловича Василий, видимо, прожил недолго, далее он не упоминается, а по его душе, уже как «инока Вассиана», в 1611 г. князь дал паникадило в Спасо-Евфимьев монастырь [143, 27]. В том же 1588 г. молодой князь совершает свою первую публично-правовую операцию – жертвует по душе отца Спасо-Евфимьеву монастырю часть родовой вотчины – деревню Три Дворища в Стародуб-Ряполовском уезде, которую его отец 17 лет назад, в 1571 г., купил у своего дяди Петра Тимофеевича Пожарского [143, 22]. На грамоте князь сделал запись, благодаря чему мы знаем, что к своим 10 годам он бегло и довольно грамотно писал, что в его кругу было редкостью.[28]
Молодой придворный при царе Борисе и Лжедмитрии I
Возможно, спустя какое-то время после смерти мужа княгиня начала искать место при дворе для себя и своих подрастающих сыновей. «Вакансии» открываются со сменой династии. Борис Годунов, воцарившись, стал привлекать ко двору молодых представителей знатных, но не обласканных прежней династией родов. Численность стольников за время его правления возросла с 47 до 70 [83, 109, 110, 132]. В 1598 г. 20-летний князь оказывается в числе чинов Государева двора, подписавших так называемое «Соборное определение об избрании на престол Бориса Годунова». У Пожарского в это время невысокий чин стряпчего с платьем [4, 44], да и среди своих коллег он записан последним. Но в то время никто из Пожарских вообще не имел придворных чинов. Четвероюродный брат князя Дмитрия И. П. Пожарский известен как стольник с 16 мая 1604 г. [98, 72]
Чин стряпчего с платьем ниже стольника, это придворные, которые участвовали в подготовке разных дворцовых церемоний, подавали во время них царю разные элементы его облачения. Возглавлял их стряпчий с ключом, отвечавший за гардероб царя.[29] Вероятно, добилась этого назначения княгиня Е. Ф. Пожарская, действуя, возможно, через связи своей родни – Беклемишевых, а может быть, и какими-то нам неведомыми путями. В недавнее время обнаружилась связь Пожарских с известным семейством влиятельных в конце XVI в. дьяков Щелкаловых. Об этом свидетельствуют более поздние документы. Уже после Смуты Дмитрий Пожарский, используя право родственного выкупа у монастыря отданных за долги или вложенных вотчин, выкупал у Троице-Сергиева монастыря вотчины Щелкаловых. В духовной Ивана, сына думного дьяка Василия Щелкалова, в 1620 г. Д. М. Пожарский упомянут как родственник и сосед по городским усадьбам в Москве, на Сретенке, которому Дмитрий Михайлович даже помогал в военной экипировке [149, 108–111]. Энергичная вдова-княгиня, видимо, понравилась царю Борису, который назначил ее верховой боярыней при царевне Ксении. Может быть, сыграли роль воспоминания о ее казненном деде, защищавшем представительницу его рода, Сабуровых-Годуновых. Похоже, правда, княгиня первоначально при дворе совершила какие-то неловкие шаги, потому что известны глухие упоминания ее сына о кратковременной опале на них около 1600 г. Возможно, с этими событиями связан документ 1600/01 г., сохранявшийся уже в ветхом состоянии в 1626 г. в архиве Посольского приказа. Когда по делу Романовых в 1600 г. был арестован, насильственно пострижен и сослан князь И. В. Сицкий, зять Никиты Романовича, его вотчины и имущество «отписывали» (конфисковывали) и, видимо, распределяли, выплачивая долги по искам, причем ведавшие этим делом князья И. Деев и Н. Р. Трубецкой, дьяк И. Евский чуть позднее обвинены были в крупном взяточничестве и наказаны: выяснилось, в частности, что они «доправили без государева указу» у «человека» князя Сицкого И. Алексеева (видимо, его приказчика-управляющего) огромную сумму в 930 рублей по иску Д. М. Пожарского – «и те деньги у князь Дмитрея взяты назад» [80, 261–262]. Действительно, трудно представить, что Пожарские когда-либо давали столь огромную сумму в долг, к тому же одному из первейших вельмож; скорее, это могла быть компенсация, потребованная за какую-нибудь их вотчину, перешедшую в руки князей Сицких, которая в результате была признана незаконной. Возможна и другая версия. Попавший в опалу, опасаясь конфискации имущества семьи, бывало, писал на себя фальшивые долговые обязательства, чтобы его собственность перешла временно в руки лиц, которым он доверял, и тем сохранилась; роль одного из таких подставных «заимодавцев» должен был сыграть Д. М. Пожарский, однако правительство, наверное, раскусило эту нехитрую комбинацию – уж больно неправдоподобна была сумма долга. В таком случае его отношения с романовской группировкой были не так уж плохи. Случившееся могло в то же время вызвать неудовольствие царя Бориса. Вскоре, наоборот, Пожарским даже вернули вотчину деда, Ф. И. Берсенева-Беклемишева, умершего около 1573 г., и перешедшую в дворцовые владения еще в 1577 г., село Марчуки Коломенского уезда; переданы ему были поместья в Московском, Мещовском, Рязанском и Серпейском уездах (или подтверждены на них отцовские права), а также подмосковное село Медведево, пожалованное в 1599/1600 г. [83, 166].
В позднейших писцовых книгах о некоторых из этих владений указано, что они переданы «по ввозной грамоте царя Бориса 108 году» [137]. Не княгиня ли Пожарская, сменившая при дворе свое имя Ефросинья на соименное царице Марии Григорьевне имя Мария, выхлопотала эту вотчину?
Можно только догадываться о причинах и последствиях этой странной опалы, однако есть все основания предположить, что имела место попытка воспользоваться громким процессом против Романовых, проходившим в это время. Немало придворных жаждали занять места опальных, их родни и друзей, проходивших по делу. То, что это как-то связано, доказывает известное, но несколько странное местническое дело, доселе сохранившееся. В 1602 г. Д. М. Пожарский бил челом на князя Б. М. Лыкова. Мать последнего получила пост верховой боярыни при царице Марии Григорьевне, а мать Пожарского – пост верховой боярыни при царевне Ксении Борисовне. Верховые боярыни – главные статс-дамы – обычно выбирались из знатных почтенных вдов. Пожарский, явно по наущению матери, требовал назначения ее к царице, что считалось «выше». Он заявлял, что ряд его предков занимал более высокие места, чем предки Б. М. Лыкова-Оболенского, однако это было большим «допущением» – Оболенские давно сидели в Думе, а знатные и чиновные однородцы Пожарских – Ромодановские, Ряполовские, Палецкие, Татевы, Тулуповы и др. – действительно «по лествице»[30] формально были младше Пожарских, но являлись им слишком отдаленной родней. Дело это сохранилось в записи 1609 г., когда возобновилось при царе Василии Шуйском. Похоже, конфликт в 1602 г. был «срежиссирован» царем Борисом. Опала на Романовых, начавшаяся в октябре 1600 г., шла в это время на убыль; после первых жестокостей, обвинений в колдовстве и «умысле на государево здоровье», большой, популярный и могущественный клан Никитичей разослали по далеким ссылкам и монастырям. В результате многие из них погибли и царь пошел на попятный, начал возвращать их в вотчины поближе к Москве. Лыковы-Оболенские были близки к Романовым и находились в свойстве с ними через Курлятевых-Оболенских. Б. М. Лыков в 1609 г. рассказывал, что в юности «жил[31] у Никиты Романовича, а сей государь был ему свой по Иване Курлятеве» [66, 17– 18]. Чуть позднее Борис Лыков женился на сестре Филарета Никитича, вероятно, уже в Москве – в сентябре 1602 г. «Федорова сестра Романова девка Настасья» еще была с семьей в ссылке, но вскоре им начали возвращать вотчины и разрешать жить в столице [36, 431–433].
Годунову, видимо, не хотелось иметь подле своей семьи людей, близких к Романовым и, возможно, не вполне лояльных. По крайней мере, Лыков в 1609 г. рассказывал любившему всякие доносы, сплетни и прочие «ушничества» царю Василию, что якобы за 7 лет до того князь Дмитрий Пожарский «доводил» на него, Лыкова, царю Борису «многие затейные доводы» о том, что он, «сходясь с князьями В. В. Голицыным и Б. П. Татевым, про нево Бориса разсуждает и умышляет всякое зло».[32] В. В. Голицын, сам впоследствии претендовавший на трон, как известно, изменил под Кромами Борису Годунову, перейдя к Лжедмитрию [83, 77]. Однако донос – это акция, которая как-то плохо сочетается со всем, что мы знаем о Д. М. Пожарском. Лыков в своей «информации» не учел, что его соперник поостерегся бы, например, замешивать в число «заговорщиков» своего однородца, князя Татева. Лыков поведал также, что и мать Пожарского «доводила» царице Марии (к слову, дочери Малюты Скуратова) о том, что его мать, княгиня Лыкова, в гостях у княгини Алены Скопиной-Шуйской (матери будущего героя Смуты и жертвы собственной семьи князя Михаила Васильевича Скопина) «…буттося рассуждала про нее и про царевну злыми словесы» [141, 268; 46, 163–164]. Лыков и Пожарский не дождались конца процесса. Дело не было «вершено». Лыков тоже заявлял, что попал тогда с матерью в (кратковременную, судя по всему) опалу.
Похоже, царь Борис благоволил молодому неглупому придворному. 15 апреля 1604 г. Дмитрий Михайлович получает жалованье из кормовой книги Галицкой четверти (части членов Государева двора царским указом назначалось персональное жалованье из кассы одного из ведомств, собиравших налоги, – четвертей или четей). Годунову, возможно, импонировала и образованность сына верховой боярыни (известно, что Борис, не получивший хорошего образования, очень уважал ученость, стремился учить не только сына, но и дочь, и первым из царей послал русских студентов в иностранные университеты). А грамотеев при его дворе явно не хватало. В упомянутой книге Пожарский расписался в получении оклада за 8 своих неграмотных товарищей – И. А. Давыдова, князей С. Ю. Вяземского, Ю. Г. Мещерского, Г. М. и М. М. Шаховских, Н. А. Хованского, В.Г.Щербатова [162, XVII]. Заметим, что почти все они – члены родов, давших спустя двести с небольшим лет видных литераторов.[33]
Тогда же из причитавшихся Пожарскому 20 рублей 12 было вычтено за купленного в Конюшенном приказе (где разводились породистые лошади) боевого коня [162, 14, 41 ]. Далее имя Пожарского на два года исчезает из источников. Возможно, тянулась рутинная придворная служба, заключавшаяся в подготовке царских церемониальных одежд и регалий, отдельных посылках с поручениями к полковым и городовым воеводам. Вновь его имя, уже с чином стольника, промелькнуло только в мае 1606 г., когда на торжественном обеде в честь прибытия на свадьбу Лжедмитрия I и Марины Мнишек ее отца, Юрия Мнишка, воеводы Сандомирского, Пожарский выполнял довольно важное поручение – «за ествою сидел» [15, 77, 137], т. е. потчевал царского тестя, а на свадебном пиру потчевал королевских послов.[34]
Ничего не известно об отношении Дмитрия Михайловича к событиям 1604–1606 гг. Никогда позднее он о них не высказывался. В боевых действиях против самозванца в должности воеводы или хотя бы головы он, видимо, не участвовал, возможно, оставаясь при дворе, в противном случае его имя попало бы в разрядные записи. На основании такой записи о посылке против Лжедмитрия I 1 января 1605 г. князя В. И. Шуйского, а с ним «стольников и дворян московских» иногда делается вывод, что Пожарский участвовал в бою при Добрыничах [15, 197; 148], но нигде не указано, что туда были мобилизованы все чины двора. Не повредила ему, судя по всему, и его определенная близость к Годуновым, ведь мы не знаем, занимала ли его мать еще пост верховой боярыни при царице или царевне во время кровавых событий июня 1605 г. Впрочем, его прежний соперник князь Б. М. Лыков возвысился несравнимо. Как свойственник Романовых, «родственников», обласканных новым царем, он сначала был назначен кравчим,[35] а затем, вынужденный уступить этот пост интимному фавориту Лжедмитрия, князю А. И. Хворостинину, утешен был боярским чином [15, 78]. Лыков пытался сопротивляться, на что «юный наглец», как описывали Хворостинина современники, тут же (в сентябре 1605 г.) указал ему, что его дело 1602 г. с князем Дмитрием не было «вершено», т. е. Лыков его не выиграл [15, 30–31]. Косвенно это указывает на присутствие Пожарского при дворе.
Индивидуальность Пожарского в эти первые годы службы никак еще не прослеживается; он не выделяется из толпы придворных, а если и действует, то лишь как член своего клана, по указке старших, исключительно с целью наверстать упущенное предками положение в верхах служилой элиты. Но Пожарский, заметим, не был за последующие 9 лет повышен, оставаясь стольником, ни одним из «монархов», что можно рассматривать как одно из доказательств его моральных качеств.
Первые сражения
После 1604 г. история страны как бы «убыстряется», события развиваются с большой скоростью. Поход Лжедмитрия I на Москву, неожиданная смерть 53-летнего Бориса Годунова, год правления «Расстриги», переворот 17 мая 1606 г. и воцарение Шуйского – все это сопровождается бурными волнениями в Москве и других городах, формированием вольных полуразбойных казачьих отрядов, объединившихся в конце концов с аналогичными отрядами литовской шляхты под знаменами нового самозванца – Лжедмитрия II, чья власть была признана всеми противниками Шуйского, покусившегося на «законного государя», и распространилась на значительную территорию страны. Ничто не указывает на участие князя Д. М. Пожарского в политической жизни времени Василия Шуйского. Но именно в начале правления этого хитрого подслеповатого государя исчезает Пожарский-придворный и появляется Пожарский-воин.
Шуйский, по сути, контролировал лишь часть страны. Дворцовым переворотом нельзя было покончить с «мнением народным», с бродившей в массах идеей «законного государя», который вот-вот объявится и расправится с ненавистными боярами и вообще наведет порядок. Пока в южных пределах России остатки сторонников Отрепьева искали ему замену, от Путивля к Москве уже двинулось войско «законного государя» во главе с его «воеводой» И. И. Болотниковым. Казацко-крестьянские отряды соединяются в сентябре с ополчением южных дворян во главе с Прокофием Ляпуновым и Истомой Пашковым и начинают осаду столицы. Генеральное сражение произошло в ноябре—декабре 1606 г. близ Данилова монастыря, у деревни Котлы под Москвой. В Боярском списке этого времени среди чинов Государева двора, назначенных в полки, значится и «князь Дмитрей княж Михайлов сын Пожарской».[36]
Командовал правительственными войсками совсем молодой князь М. В. Скопин-Шуйский, вместе с воеводами князьями А. В. Голицыным и Б. П. Татевым; согласно разрядным книгам, «с ворами бои были ежеденные под Даниловским и под Яузою», «а головы были у князь Михаила Васильевича… князь Дмитрей Пожарской» [99, 237]. Он значится среди голов – начальников дворянских отрядов – сотен, как участник сражения. Вероятно, хорошо зарекомендовавший себя сотенный голова обратил на себя внимание. Ничего не известно о дальнейшем участии Пожарского в боях под Калугой и Тулой и вообще в 1607 г.
Тем временем сформировалось войско Лжедмитрия II, к которому стекались отряды разбитых болотниковцев, казаков, провинциальных дворян и шляхтичей. Победы над Болотниковым обернулись серией поражений правительственных сил в следующем году, и вскоре, в начале июня 1608 г., войско Лжедмитрия II подошло к Москве. Здесь сформировалась вторая столица государства – село Тушино. Множество городов присягнуло воскресшему «Дмитрию Ивановичу», в Тушине собралась своя Боярская дума, приказы, царь раздавал чины, поместья, вотчины, там появился и свой глава церкви – царский «родственник» митрополит Ростовский Филарет Никитич. Неясно, по своей ли воле он был туда доставлен, однако титуловали его там патриархом. Множество молодых товарищей Пожарского по Государеву двору, да и вельмож постарше, садились на коней и перебирались в Тушино. Это приносило ощутимую выгоду. Правда, приходилось сидеть в Думе и за царским столом с выскочками – бывшими казаками типа И. М. Заруцкого, купцами, не слишком знатными шляхтичами. Но зато можно было, как князь Д. Т. Трубецкой, стать боярином, получить огромные пожалования. Тогда многие часто меняли правила игры, с выгодой переходя из стана в стан, хотя имелся риск запутаться, потерять карьеру и даже жизнь. Пожарский не мог не видеть всего этого, кроме того, он не мог не понимать, что царь Василий – интриган и неоднократный клятвопреступник. Однако, похоже, Дмитрий Михайлович уже выработал тогда свои принципы, которые помогали ему сохранять достоинство в это путаное время, и заключались они, насколько можно представить, в следующем: Шуйские по родству – что называется «принцы крови», из старейших ветвей Рюриковичей,[37] Богом данной России династии, с которой и Пожарский ощущал кровное родство. Поскольку старшая ветвь ее волею Божьею угасла, Собором была избрана следующая по старшинству (родовому и чиновному) ветвь рода; царь венчан шапкой Мономаха, ему вручены все регалии государственной власти, над ним осуществлено священное миропомазание, и Пожарский присягнул ему, целовал крест. А значит, выхода для принципиального человека нет, служить можно только законному царю.
Вражеское кольцо вокруг Москвы сужалось. Войска литовского гетмана Я. К. Сапеги осаждали Троице-Сергиев монастырь, требуя признать «Тушинского» царя. Именно в это несчастное царствование, когда страну дочиста разоряли отряды объявивших себя вольными «казаками» бывших боевых боярских холопов, а также настоящих запорожских и донских казаков, примкнувших к ним литовских шляхтичей, иностранных наемников, обнищавших городовых служилых людей и прочих «воров», и началась боевая слава Пожарского. Сведения о его победах не попали в разрядные книги, но были зафиксированы позднее на страницах официального «Нового летописца» [76, 33—156], созданного в конце 1620-х годов, когда правительство Романовых стремилось выстроить свою историческую схему преемственности, в которой царствование Шуйского почиталось законным, а защита его – верной службой государству.
Тушинцы постоянно пытались блокировать столицу. В этот период еще служил Лжедмитрию II польский полковник А. – Й. Лисовский – создавший отряды так называемых лисовчиков, наемных воинов разного происхождения (туда могли входить все вышеперечисленные категории); набирались они, однако, только по одному принципу – высочайшего воинского профессионализма, отличались дисциплинированностью и беспрекословным подчинением своему вождю. «Лисовчики» были в основном легкими кавалеристами, они умели скрытно подойти к какому-нибудь городу или укрепленному военному лагерю, перебить охрану, закидать тучей стрел и пуль, разграбить его и раствориться, чтобы, покрыв за кратчайшее время большое расстояние, оказаться под стенами уже другого города. Лисовский в составе войск Яна Сапеги не только участвовал в безуспешной осаде Троице-Сергиева монастыря, но и разграбил ряд замосковных городов, не признававших Тушинского вора.
«Грех ради наших, – сообщал летописец, – все города Московского государства от Москвы отступились, в твердости же остались Великий и Нижний Новгороды, Рязань, Казань, Сибирь» – и, добавим, недавно вернувшаяся под власть Шуйского Коломна. Однако от Владимира к ней двинулись тушинские отряды, возможно «лисовчиков», о чем обеспокоенно писали в Москву коломенские воеводы. И в конце декабря 1608 – январе 1609 г. Пожарскому впервые предоставилась возможность самостоятельных действий. Получив в Москве отряд, он скрытно вышел к Коломне, разослав вперед «вестовщиков» – разведку. Выяснилось, что «литовские люди» после длительного перехода отдыхают в селе Высоцком в 30 верстах от Коломны. На утренней заре войска Пожарского ворвались в село, «и побил их наголову, и языков многих захватил, и многую у них казну и запасы отнял. Остальные же… побежали во Владимир» [77, 326].
События эти, может быть, не столь заметны были на фоне других, глобальных. Шуйский в январе 1608 г. женился на княжне Марии Буйносовой-Ростовской (ему, рано овдовевшему и бездетному, Годунов жениться запрещал, опасаясь усиления его претензий на престол) [1, 149]. В церемонии почетные роли играли князь Н. А. Хованский (первый дружка со стороны царицы) и его жена Дарья (вторая из двух «больших свах») – сестра Дмитрия Михайловича [15, 120, 160, 270]. Возможно, это укрепило его положение при дворе. Летом 1608 г. царь заключил мирный договор почти на 4 года с королем Сигизмундом III на условиях отказа Марины от титула царицы, а также возвращения на родину захваченных во время переворота поляков, в том числе задержанных послов к Лжедмитрию I и Марины Мнишек с отцом, и оставления польскими отрядами Тушинского вора. Но выполнение его проходило не гладко. Польско-литовские вельможи уехали на родину, однако Тушинский вор и его польско-литовские союзники не подчинились королю и продолжали успешную борьбу с Шуйским, Марина тоже объявилась там как царица, вернувшаяся к «мужу».
В этих условиях царь Василий решил заключить союз с непримиримым врагом польского короля, его дядей – шведским королем Карлом IX. Швеция предоставляла пятитысячное войско с командующим графом Я. Делагарди за уступку ряда территорий. В начале 1609 г. договор был подписан. К августу объединенные русско-шведские силы разгромили тушинцев на севере и северо-западе страны. Тем временем тушинцы под угрозой мощного удара спешили блокировать столицу и при удаче овладеть Москвой.
В ней временами начинался настоящий голод, выливавшийся в недовольство царем. Продовольствие доставлялось в основном по Коломенской дороге, которую тушинцы блокировали.
Особенно успешно действовал крестьянско-казачий отряд бывшего крестьянина дворцовой Хатунской волости И. Салькова. Хатунская волость относилась к Конюшенному приказу, и ее жители были, видимо, неплохими наездниками. Сальков перерезал дорогу и не дал отряду князя В. Ф. Масальского провезти провиант в голодавшую и неспокойную Москву. Отряд Салькова дошел до Николо-Угрешского монастыря. Брошенный Шуйским против него в октябре—ноябре 1609 г. отряд В. Б. Сукина И. Сальков отразил совместно с польским полковником А. Млоцким [140, 142]. Тогда царь Василий направил против них Пожарского. Его разведка в январе 1610 г. обнаружила тушинцев на Владимирской дороге у реки Пехорки. Неожиданным ударом они были разгромлены наголову и обратились в бегство. В конце концов Сальков обнаружил, что у него осталось только 30 человек; поразмыслив, он собрал их и явился в Москву с повинной,[38] а Млоцкий снял осаду Коломны и вернулся к Серпухову. Однако, узнав о победе правительственных войск, против него восстали и серпуховичи; вместе с бывшим тушинцем, соратником И. Салькова, Ю. Беззубцевым они перебили отряд А. Млоцкого, которому с трудом удалось уйти [77, 337; 140, 142]. Дорога к Москве была очищена.
Эта победа значительно повысила авторитет Пожарского в глазах царя Василия, ибо нечасто возвращались к нему из Тушина, скорее наоборот. С февраля 1609 г. Пожарский – уже воевода в небольшом, но стратегически очень важном городе, возникшем вокруг Николо-Зарайского собора. Здесь имелась редкая в то время для России каменная крепость, поскольку Зарайск являлся важным узлом обороны южных рубежей страны.
Тем временем шансы правительства Шуйского на выживание росли. Еще в конце февраля царь едва справился с очередной попыткой переворота, когда группа заговорщиков ворвалась в Думу и к патриарху, требуя его отставки. Тогда его, по сути, спас патриарх Гермоген, не поддержавший их и полагавший, что лучше такой царь, чем никакого. Но вот князь М. В. Скопин-Шуйский и граф Я. Делагарди, громя тушинцев и их польско-литовских союзников, победоносно подошли к столице. По пути вчерашние враги Шуйских приветствовали Скопина-Шуйского, видя в молодом, талантливом, богатырских статей 23-летнем князе реального претендента на престол. В Александрову Слободу, где его армия стояла перед входом в столицу, лидер рязанского дворянства П. П. Ляпунов прислал письмо с открытым предложением сместить дядю и занять престол, на что, правда, князь Михаил ответил отказом, но не сообщил о письме царю.
Тем временем Тушинский лагерь распался, Лжедмитрий II бежал в Калугу. Часть бояр-тушинцев открыто перешла на сторону Сигизмунда III и начала переговоры о приглашении на русский престол его сына Владислава. В марте 1610 г. князь М. В. Скопин-Шуйский торжественно вступил в Москву, хотя его и отговаривали ближайшие родственники и Делагарди, опасаясь интриг со стороны царя. К сожалению, худшие подозрения матери князя Михаила Васильевича и его соратников оправдались. В череде бесконечных пиров он попал и на крестины к князю Долгорукому, где, по слухам, ходившим по Москве, жена Дмитрия Шуйского, злобного и бездарного царского брата, считавшего себя первым претендентом на престол, Екатерина, тоже, как и жена Бориса Годунова, дочь Малюты Скуратова, поднесла ему отравленное вино.
Гибель нового лидера нанесла сокрушительный удар по династии Шуйских. Дворянство множества уездов, в частности Рязанщины, руководимое энергичным П. П. Ляпуновым, просто перестало признавать Василия Шуйского царем. Вероятно, в мае 1610 г. Прокофий Петрович прислал в Зарайск к Пожарскому со своим племянником Федором грамоту с рассказом об убийстве М. В. Скопина-Шуй-ского и с предложением присоединиться к нему, взяв во временные союзники воспрянувшего духом Тушинского вора. Однако князь отклонил предложение, отпустив посланного с миром и, видимо, посоветовав Ляпунову не впутываться в столь грязные дела; притом, верный долгу, он сообщил об опасности царю, получив от него подкрепление [77, 336, 341, 382–383]. Узнав о твердости Пожарского, Ляпунов проявил осторожность и «с вором перестал ссылаться» [77, 383]. Но отдельные акты верности не спасли Василия от потери короны.
24 июня произошла битва с войсками Сигизмунда III под Клушином; большой русско-шведской армией командовал бездарный и жадный Д. И. Шуйский, а меньшей, но более подготовленной польско-литовской армией – гетман С. Жолкевский, один из лучших полководцев тогдашней Восточной Европы. Поражение было сокрушительным. Князь Дмитрий потерял всю армию, иностранные наемники Якоба Делагарди, раздраженные задержкой жалованья, частью перешли к противнику, а частью отошли на север, к Новгороду. Горе-полководец бежал лесами и болотами чуть ли не босой и оборванный и спустя несколько дней объявился в Москве. Чаша терпения москвичей переполнилась. Обосновавшийся на юге, в Николо-Угрешском монастыре, самозванец предлагал свою кандидатуру; гетман С. Жолкевский двигался на столицу с запада, засыпая ее воззваниями, призывавшими признать царем Владислава.
Вскоре после этих событий Пожарскому пришлось пережить в Зарайске настоящий мятеж. Окрестные южные города (Кашира, Тула и др.) вследствие бессилия правительства Шуйских опять перешли к тушинцам. Клушинская битва лишила царя дворянского войска, практически все дворяне просто разбежались по своим поместьям. Влиятельные члены Боярской думы, в том числе такие, как князь В. В. Голицын, перебравшийся в Москву митрополит («почти патриарх») Филарет Романов, а также действовавший из Рязани П. П. Ляпунов, готовили низложение царя Василия. В этой ситуации гарнизон и посад Коломны опять целовали крест Лжедмитрию II, и их представители агитировали зарайцев последовать этому примеру. В городе начался бунт. Дмитрий Михайлович знал, что воеводу соседней Каширы, его дальнего родственника князя Г. Г. Ромодановского, жители чуть не убили за отказ присягнуть «вору». Но Пожарский не собирался подчиняться черни и нарушать данную клятву. Посоветовавшись с единомышленником, протоиереем очень почитаемого в тех краях собора Николы Зарайского Димитрием Леонтьевым,[39] князь собрал верных ему людей и неожиданно для горожан заперся в каменном городском кремле, взяв под прицел пушек и пищалей деревянный посад. Горожане, за несколько последних лет казалось бы привыкшие ко всему, а тем паче к постоянным сменам власти, любая из которых прежде всего начинала выколачивать из них налоги, съестные припасы и пр., призадумались. Большинство их, конечно, не понимало принципов, отстаивавшихся воеводой, наверняка не разбиралось в генеалогии, никогда не читало родословных книг (и вообще книг) и недоумевало, зачем воеводе защищать этого неудачливого монарха. Но зато они прекрасно знакомы были с волей Пожарского, его боевым духом и не сомневались, что твердокаменный князь запросто спалит их дома артиллерией. А главное – на случай частых в то время осад жители сносили все ценное имущество и съестные припасы в кремль, где у многих имелись запасные, так называемые осадные дворы. Оказалось, что не они ставят воеводе ультиматум, а он им! Вдобавок зарайцы узнали, что на стороне воеводы – его тезка, протопоп[40] Димитрий, которого они глубоко почитали. Зарайск возник вокруг знаменитой православной святыни, собора Св. Николы Зарайского, где хранилась известная икона, объект поклонения, куда стекались паломники. Цари были покровителями собора, и его настоятель традиционно считался первым лицом.[41] Протопоп Димитрий был активным политиком, чуть не погиб в тушинском плену, а в 1613 г. являлся депутатом от города на Земский собор, избравший Михаила Романова, и ездил в составе делегации к Михаилу в Кострому [2, 15–17].
Вскоре жители города поняли, что князь не жаждет их крови. Депутация почтенных служилых и посадских людей направилась к воеводе и предложила такую компромиссную формулировку: «Кто будет на Московском государстве царь, тому и служить». Однако верный присяге князь внес свои изменения, и в окончательном варианте сошлись на следующем: «…будет на Московском государстве по-прежнему царь Василий, ему и служить, а будет кто иной – и тому также служить» [77, 345], что и подтвердили крестным целованием. После этого городовые дворяне и посадские люди даже встали под знамена Пожарского и совершили рейд на Коломну, заставив ее опять признать царя Василия. Но дни его царствования были сочтены. Логика Пожарского была недоступна не только простолюдинам, но и большинству аристократов, с их придворно-холуйской и стяжательской психологией, намеренно державших одних членов семьи в Тушине, а других – в Москве (а иногда и третьих – в лагере Сигизмунда) и везде выпрашивавших чины и владения. В конце концов московская оппозиция Шуйскому договорилась с тушинцами, решив одновременно избавиться от обоих хозяев.
17 июля группа заговорщиков (князь И. М. Воротынский, брат Прокофия Ляпунова Захарий и др.) организовали переворот. О свержении Василия было объявлено на Лобном месте на Красной площади, однако на следующий день выяснилось, что тушинский «царик» удержал власть. Патриарх Гермоген потребовал выпустить сидевшего под домашним арестом царя. В этих условиях заговорщики применили испытанный прием – они организовали его насильственное пострижение, приведя монахов из Чудова монастыря, но Шуйский отказался произносить слова обета, как того требовал обряд. Возмущенный богохульством Гермоген объявил, что монахом стал тот, кто произносил за упорно молчавшего Шуйского обеты – князь Тюфякин, а не царь Василий [77, 238–239].
В августе к столице подошли войска С. Жолкевского. 27 августа замещавшее «вакантный» престол правительство из членов Боярской думы заключило с гетманом договор о приглашении на царство королевича Владислава. В конце сентября польско-литовские войска вступили в Москву. Режим обосновавшегося в подмосковном Николо-Угрешском монастыре Тушинского вора рухнул, большая часть еще остававшихся у него польско-литовских отрядов покинула его. Многие, как Лисовский, небезосновательно рассчитывали на прощение короля. «Царик» с Мариной бежали в еще верную им Калугу. Москва замерла в ожидании прихода «царя Владислава Сигизмундовича».
Множество городов и уездов, не признававших Лжедмитрия II, с облегчением восприняло весть о выборе представителя хотя и иноземного, но все-таки «государского корени» и даже (через свою бабушку, члена рода Ягеллонов) отдаленного родственника угасшей династии. Новому царю везде начали целовать крест. Однако не было идейного единства в правящих кругах, казалось, достигшей неслыханного военного и политического успеха «Речи Посполитой обоих народов». Наиболее прагматичная часть магнатов и шляхты, таких как Жолкевский, не видела большого вреда в принятии королевичем православия. Многие знатнейшие роды Украины и Белоруссии еще сохраняли веру и язык отцов, у самого Жолкевского были православные родственники – вельможи. Тонкий политик, он стремился посадить сына своего короля на престол, понимая притом, что царь-католик в России невозможен [167, 126, 210–211]. Король же Сигизмунд III, выходец из протестантской династии Ваза, но воспитанный польской матерью Екатериной Ягеллонкой, убежденной католичкой, в детстве много претерпел от своих лютеранских родственников (свергнувших с престола его отца и продержавших его семью долгие годы в замке под арестом), был ярым сторонником Контрреформации и не мог и помыслить о принятии сыном православия. Кроме того, он явно побаивался отправлять 15-летнего мальчика в охваченную гражданской войной страну, в которой за последние 20 лет чуть ли не все монархи и претенденты на престол были либо свергнуты, либо убиты.[42]
Группировка, близкая к королю, плохо разбиралась в русских делах и строила фантастические планы завоевания и окатоличивания всей России [167, 78–80]. Для Станислава Жолкевского и его единомышленников главной целью было создание мощной федерации – Речи Посполитой в составе Польского королевства, Российского царства и Великого княжества Литовского, части которой были бы равноправны, но этого не поддерживало окружение короля [167, 80,170–171].[43]
В Москве сторонники приглашения на престол Владислава организовали посольство в королевский лагерь под Смоленском. Туда включены были видные тогдашние политические фигуры – митрополит Ростовский Филарет Романов, боярин князь В. В. Голицын (их удаляли из столицы как возможных претендентов на престол), окольничий князь Д. И. Мезецкий, а также несколько десятков представителей от всех чинов государства, в том числе стольников, стряпчих, московских дворян, провинциальных дворян, купцов и ремесленников. Посольство должно было официально, от лица всего государства, предложить шапку Мономаха королевичу. Однако Сигизмунд был недоволен заключенным С. Жолкевским с боярами договором,[44] он потребовал присоединения к Речи Посполитой Смоленщины и признания Владислава царем без перекрещивания. На таких условиях посольство не могло продолжать переговоры, и послы вскоре были интернированы и сосланы (правда, важнейшие подолгу жили в домах у вельмож, например, Филарет – у канцлера Льва Сапеги). Среди населения России росло разочарование – обещанный царь не появлялся.
В Первом ополчении
Тем временем в государстве Московском возникла новая общественно-политическая ситуация. Жители множества городов – и посадское торгово-ремесленное население, и дворяне-помещики окружавших города уездов – давно уже перестали надеяться на верховную власть, коей и вовсе уже не существовало; воеводами в городах (которые раньше всегда присылались Разрядным приказом и часто не знали местной специфики) стали избираться наиболее влиятельные местные дворяне (как Ляпунов в Рязани), посадские и городовые дети боярские собирали местные ополчения, защищая свою жизнь и имущество от разбойных «воровских» казачьих и наемничьих отрядов, лишившихся, в свою очередь, части своих предводителей.[45]
Примером творившегося хаоса и ужаса могут быть события 1608–1609 гг. в богатой Костроме, присягнувшей Лжедмитрию II в октябре 1608 г. Тушинские власти учинили там повальный грабеж, возмутивший даже офицеров Яна Сапеги, в результате чего в декабре горожане восстали, перебив гарнизон и казнив воеводу князя Д. В. Горбатого-Масальского. Но в декабре—январе восстание подавили А. Лисовский и Э. Стравинский, причем местные дворяне помогли им захватить и жестоко разгромить город. Спустя месяц костромичи им страшно отомстили – около 200 дворян с семьями было утоплено в Волге, а остатки тушинцев осаждены в Ипатьевском монастыре.
До июля 1609 г. город еще несколько раз захватывался тушинцами, но вскоре освобождался с помощью ополчений из Ярославля и других городов; в конечном итоге после разгрома ополченцами «лисовчиков» у Решмы, близ Волги, в августе 1609 г. Кострома и Ярославль полностью освободились [140, 166–170]. Одни тушинцы продолжали разорять страну, но другие стали прислушиваться к агитации П. П. Ляпунова, рассылавшего прокламации по городам, начинавшим собираться в единое ополчение.
В этот момент над инициатором нового объединения нависла опасность. Пока в Калуге бывшие тушинские «бояре» князь Д. Т. Трубецкой и И. М. Заруцкий собирали остатки армии рухнувшего «государства» и налаживали связи как с отрядами «вольных казаков» братьев Просовецких, так и знатных дворян А. В. Измайлова, князей Ф. Ф. Волконского и В. М. Масальского, московское боярское правительство попыталось захватить самого Ляпунова. Прокофий Петрович находился в Пронске, откуда он только что выбил отряд запорожцев («черкас»), однако там его осадил принявший сторону Владислава бывший тушинец, опытный воин Исак Сунбулов. Ляпунов отправил гонца ко все еще находившемуся в Зарайске Пожарскому. Дмитрий Михайлович быстро организовал солидный отряд из рязанских и коломенских служилых людей и двинулся на помощь. Узнав об этом, Сунбулов, не ввязываясь в бой, снял осаду и отступил к Михайлову, а Ляпунов вернулся в Рязань. 1 декабря 1610 г. Сунбулов, рассчитав, что Пожарский, вероятно, ушел из Зарайска с большей частью гарнизона, ночью попытался с отрядом запорожцев взять полупустой город. Но разгадавший его маневр князь обогнал противника. Он успел скрытно зайти в кремль раньше, и когда тушинцы с запорожцами увязли в посаде, где был небольшой острог, примериваясь к захвату каменного кремля, ворота его неожиданно открылись: Пожарский «…вышел из города с небольшим отрядом, и черкас из острога выбил вон, и их побил» [77, 353–354].
Так окончательно определилась позиция зарайского воеводы. Возможно, он целовал крест Владиславу, но на условиях, которые отказался принять Сигизмунд. А значит, царя на Руси по-прежнему нет, и правительство, сидящее в Московском кремле, никого не представляет, поскольку сам же своим зарайцам обязался служить только тому, кто «на Москве будет царствовать». После этих событий московское правительство стало считать князя Дмитрия «изменником». Помета «в Зараском» при его имени в боярском списке рубежа 1610–1611 гг. зачеркнута и переставлена к имени боярина Н. Д. Вельяминова, т. е. Пожарского тогда официально сместили.
Тем временем ополчение, которое принято называть Первым, под началом Ляпунова, Трубецкого и Заруцкого к рубежу 1610–1611 гг. сформировалось в Рязанщине в значительную силу и в начале марта 1611 г. выступило в поход. Задачей его, по мысли вождей, было «очистить» Москву от польско-литовского гарнизона, «выручить» боярское правительство, которое в официальной пропаганде ополчения (рассылавшихся по городам грамотах) объявлялось не изменническим, а «плененным», и избрать нового царя.
Здесь начинается одна историческая загадка. Связана она с восстанием в Москве 18–19 марта 1611 г. Согласно свидетельствам русских летописцев, польских и других иноземных мемуаристов, в оккупированном городе ситуация все время обострялась, жители открыто ждали прихода ополчения, и польское руководство гарнизона решило укрепить стены, поместить на них больше артиллерии, установить комендантский час, разместить на площадях отряды кавалерии, конфисковать у жителей оружие и все то, что могло им служить, например длинные ножи. Бояр, которые подозревались в участии в заговоре, посадили под домашний арест. В Кремле решено было собрать с квартир наемных солдат и поляков, в том числе мушкетеров и пикинеров Я. Маржерета и К. Буссова. Передовые отряды ополчения уже подошли к Москве, но до подхода основных сил было еще далеко. И в этой ситуации произошел стихийный взрыв. Началось все дракой польских солдат и московских извозчиков, которые отказались возить пушки на стены Китай-города, где-то в районе нынешней Лубянской площади. Драка переросла в вооруженную стычку, вскоре волнение охватило весь город.
Извилистые улицы с высокими заборами-частоколами покрылись баррикадами из лавок, саней, возов и пр. И вот здесь неожиданно появляется Пожарский. Что он делал в Москве, где, в сущности, судя по сложившимся отношениям с правительством, мог находиться только на «нелегальном положении»? Может быть, в преддверии осады он собирался вывезти семью, если она еще находилась в обширной родовой усадьбе на Сретенке (теперь – начало Лубянки)? На так называемом «Сигизмундовом плане» Москвы, снятом польскими картографами в 1610 г., в начале Сретенки справа (если стоять спиной к Китай-городу и Кремлю) виднеется в окружении мелких построек довольно большое деревянное двухэтажное здание с башенкой посередине. На противоположной стороне улицы показаны Пушечный двор, прямо через дорогу – чей-то дворец с причудливыми бочкообразными крышами теремов и башен, а далее – приходская церковь Введения [87, 17, 200–201, 220–222]. Можно предположить, что первый из описанных домов и есть усадьба Пожарского (сейчас примерно на этом месте находится каменное здание XVII–XIX вв., изначально принадлежавшее ему).
На мысль о «частном» приезде князя наводит тот факт, что он принял участие в боях прямо на Сретенке, буквально выйдя из собственного дома. Однако возможна и иная версия. Судя по «Новому летописцу», на Сретенке «соединясь с пушкарями» (рядом находился Пушечный двор, где, конечно, были и недавно отлитые и, возможно, привезенные в починку орудия, а те, кто их делал, умел и стрелять; ныне там улица, названная в начале XX в. Пушечной в память о нем), бился Пожарский, у Яузских ворот – И. М. Бутурлин, за Москвой-рекой – Иван Колтовский [77, 355, 356]. Похоже, что несколько опытных воевод заранее проникли в город и начали восстание по плану. Однако какую цель они преследовали? Все трое принадлежали к среде Государева двора. Еще один человек их круга, И. В. Плещеев, прибыл с отрядом от Ляпунова наутро следующего дня. Заметим, что ни одного воеводы из выдвинувшихся в Тушине или ранее простолюдинов во главе восстания не было. Во время боев по наущению русских сторонников Владислава явный враг их, князь А. В. Голицын, казалось бы, мирно проживавший в своем дворе, был убит. Не следует ли из этих фактов, что дворянская часть ополчения во главе с Ляпуновым в союзе с московскими аристократами попыталась упредить события и установить контроль над городом до прихода основных сил – казаков Трубецкого и Заруцкого, от которых ничего, кроме хаоса и кровопролития, не ждали?
Но вернемся к событиям, разворачивавшимся в Москве. Пожарский увидел, как солдаты гарнизона, преимущественно немецкие, французские и другие наемники, стреляя из мушкетов, продвигаются по Никольской улице. Сначала они отступили, поскольку конный польский отряд наткнулся на баррикады, заранее заготовленные – во многих дворах стояли сани, высоко загруженные поленьями, ими можно было быстро и просто перегородить улицу. Сильный огонь из-за баррикад нанес кавалерии урон, и она отступила. Тогда три роты профессиональной и прекрасно обученной наемной пехоты, в составе примерно 400 солдат и офицеров, применив правильную тактику того времени, начали методичное наступление – под прикрытием огня со стен Кремля они двигались, расчищая дорогу мушкетными залпами и ударами длинных рапир, которых не было у русских, при поддержке пеших копейщиков. Так, разобрав баррикады, они продвинулись по Никитской, а затем по Никольской и вытеснили русских до Сретенки.
Конрад Буссов вспоминал: «…с добрый час был слышен ужасающий гул от московитского боевого клича, от гудения сотен колоколов, а также от грохота и треска мушкетов… Солдаты кололи их рапирами, как собак, и так как больше не было слышно мушкетных выстрелов, то в Кремле другие немцы и поляки подумали, что эти три роты совсем уничтожены, и сильный страх напал на них. Но те вернулись, похожие на мясников, рапиры, руки, одежда были в крови, и весь вид у них был устрашающий» [24, 151].
Но вокруг своих владений и церкви Введения на Лубянке Пожарский построил импровизированный острог, куда собрал бегущих повстанцев, и, возможно, установил артиллерию с Пушечного двора. Залпы ее повергли наступавших в смятение. Пожарский, расчистив путь, контратаковал и «втоптал» их в ворота Китай-города [24, 151–152; 72, 354–356]. Сильные бои шли и в районе Чертольских ворот, где уже почти подошедших к Кремлю повстанцев отбросил зашедший к ним в тыл по еще крепкому льду Москвы-реки отряд Маржерета. Тем не менее к вечеру москвичи контролировали Земляной и Белый город, враг оказался запертым за стенами Кремля и Китай-города [172, 117–118], хотя основные силы Первого ополчения еще не подошли. Тогда «зачинатель злу», по выражению летописцев, М. Г. Салтыков в отчаянье предложил испытанный, хотя и очень опасный метод – огонь. Он даже первым вышел и запалил собственный двор. А. Госевский собрал полковников, которые выделили отряды со смоляными факелами; сначала дело не ладилось, и москвичи метко стреляли по поджигателям, но затем, как вспоминал польский офицер Мархоцкий, им Бог помог – ветер переменился в сторону от Кремля, огонь запылал и понесся на повстанцев, а «за огнем продвигались мы» [172, 118]. Белый город запылал первоначально от Кулишек до Покровки.
Весь следующий день до вечера люди Пожарского еще удерживали позиции, но деревянные баррикады, несмотря на мороз, горели. Когда оставшиеся в живых защитники покинули Введенский острожек, Дмитрия Михайловича, несколько раз раненного, а возможно и обожженного, в санях вывезли в Троице-Сергиев монастырь, где он несколько пришел в себя (больницы в монастырях были издавна, а за время долгой обороны монахи, несомненно, приобрели большой опыт в лечении ран). Затем Пожарский, скорее всего, уехал в свою дальнюю вотчину – село Мугреево, некогда стоявшее на самом востоке прежнего Стародубского княжества.
Через несколько дней подошедшие к Москве основные силы Первого ополчения обнаружили гигантское затухающее пожарище, заваленные обгорелыми бревнами улицы и сотни трупов. К этому времени город был уже основательно разграблен.
Старый ландскнехт[46] хозяйственный немец Конрад Буссов возмущенно вспоминал, что две недели, до прихода Ляпуновского войска, солдаты «только и делали, что искали добычу. Одежду, олово, латунь… медь… утварь они ни во что не ставили. …Брали только бархат, шелк, парчу, золото, серебро, драгоценные каменья и жемчуг. В церквах они снимали со святых позолоченные серебряные ризы… Многим польским солдатам досталось по 10, 15, 25 фунтов серебра… На пиво и мед… не смотрели, а отдавали предпочтение вину, которого несказанно много было в московитских погребах – французскому, венгерскому и мальвазии. Из спеси солдаты заряжали свои мушкеты жемчужинами величиной в боб и стреляли в русских, проигрывали в карты детей знатных бояр и богатых купцов, а затем силою навсегда отнимали их от отцов и отсылали к их врагам, своим родственникам. Тогда никто или мало кто из солдат думал… о таком провианте, как сало, масло, сыр, всякие рыбные припасы, рожь, солод, хмель, мед и прочее, все это, имевшееся в изобилии, было умышленно сожжено поляками, тогда как все войско несколько лет могло бы этим кормиться с избытком. <…> Через два или три месяца нельзя было получить за деньги ни хлеба, ни пива…» [24, 154–155].
Неизбежные в таком случае эпидемии предотвратили, скорее всего, сильные морозы. Казаки быстро выбили отряды мародеров из Белого города, собрав оставшийся провиант, на что, писал Буссов, из осажденного Кремля оставалось только «облизываться», и крепко блокировали город, не спеша его штурмовать. В лагере Трубецкого и Заруцкого постепенно наладилась привычная бывшим тушинцам жизнь. Появилось нечто вроде Боярской думы, приказы с дьяками и подьячими – бюрократия восстала как феникс из пепла столицы. Волею «бояр и воевод» начали рассылаться указы, в города назначались воеводы, дворянам и казакам раздавались поместья, в том числе отбиравшиеся у «изменников» – тех, кто еще сохранял присягу Владиславу. В свою очередь из осажденного Кремля шли противоположные указы. В частности, некий Григорий Орлов 17 августа 1611 г. получил от имени царя «Владислава Сигизмундовича» грамоту на вотчину Д. М. Пожарского, село Нижний Ландех, как подлежащее конфискации имущество изменника [46, 317, 154]. Вообще вопрос о том, кто, когда и как присягал Владиславу довольно запутан, ввиду царившего на территории страны хаоса. Например, воевода Смоленска М. Б. Шеин признавал Владислава, но отказывался сдать город, до последней крайности обороняя его от отца своего «царя», считая возможным подчиниться ему только после прибытия в Москву и коронации. В результате Смоленск был взят кровопролитным штурмом как вражеский город.
Осада Кремля и Китай-города шла вяло. Мощные стены и хорошо обученный гарнизон, с одной стороны, и неумение брать крепости, отсутствие осадной артиллерии – с другой, вынуждали вождей Первого ополчения действовать «измором». Способствовала этой вынужденной тактике разоренность Подмосковья – даже осаждавшие с трудом находили пропитание, мало помогали и так называемые приставства – раздававшиеся подмосковным правительством казачьим отрядам права на доход от выделенной им территории, по которым они имели законное право обирать до нитки население определенной им волости или села. Еще хуже обстояли дела у осажденных. Часть шляхтичей считала, что уже выслужила свой срок и требовала жалованья и отправки домой до 6 января 1612 г. Прибывшее подкрепление – полк Н. Струся – увеличило количество голодных ртов. Представитель короля в Москве и командующий войсками А. Госевский во многом был не согласен со своим правительством (в частности, он считал, что королевич должен незамедлительно прибыть в Москву) и в конце концов уехал. В сентябре в Кремле неожиданно умер один из талантливейших военачальников и двоюродный брат канцлера Я. П. Сапега (ранее П. П. Ляпунов вел с ним переговоры, призывая его перейти в свой лагерь – литовско-белорусские аристократы Сапеги еще в предыдущем поколении были православными, и гетман подумывал, к кому примкнуть: к сторонникам Владислава или к своим бывшим соратникам по Тушину, однако все-таки переехал в Кремль, где неожиданно после скоротечной «горячки» умер в несчастливом доме – палатах Шуйских). Двигавшийся из Лифляндии[47] на помощь осажденным литовский гетман Я. – К. Ходкевич по пути растерял часть войска (в марте—апреле 1611 г. он долго и безуспешно осаждал Псково-Печорский монастырь), всячески мешал ему и его враг – назначенный в захваченный Смоленск воеводой Яков Потоцкий, возбуждавший вражду между поляками и литвинами в войске литовского гетмана [156, 634–635]. Таким образом, отряды противника не причиняли подмосковному правительству больших хлопот.
В конце июня 1611 г. созвано было даже некое подобие Земского собора, принявшего «Приговор 30 июня». Он уравнивал в правах тушинцев и их противников, тех, кто получал вотчины и поместья «за царево Васильево осадное сиденье». Служилым людям, согнанным с поместий правительством Сигизмунда, решено было предоставить новые, а главное, вернуть «на пашню» их крестьян. Но многие крестьяне, уже ставшие «вольными казаками», восприняли эту программу с возмущением. Возглавивший их И. М. Заруцкий использовал эти настроения для расправы с конкурентом, дворянским лидером П. П. Ляпуновым. Последний, экономя средства ополчения, урезал денежные и поместные оклады, возбудив недовольство своей опоры – служилых людей. Командир дворянского отряда М. Плещеев поймал нескольких казаков-мародеров и велел утопить без суда. Подоспевшие их товарищи вытащили «посаженных в воду» и привезли в лагерь, а тем временем в Кремле, в канцелярии А. Госевского, сфабриковали письма, якобы от лица Ляпунова, явно враждебные казакам. Вызванный на «казачий круг» на Воронцовом поле, Ляпунов был там не судим, а зверски зарублен. После этой провокации отряды городовых дворян и посадских людей, в том числе нижегородцы, стали покидать ополчение, опасаясь удара в спину. В провинции же «земство» – местные общества – стали еще увереннее осознавать себя независимой силой.
Второе ополчение
Нижегородчина всегда оставалась территорией, свободной от тушинской власти, ее жители успешно отбивались от воровских шаек и даже крупных вражеских отрядов, например, летом 1609 г. они не дали А. Лисовскому перейти через Волгу и вторгнуться в их пределы [181, 38–39; 174, 15]. Не раз ополчение нижегородцев под командованием воеводы А. С. Алябьева разбивало отряды тушинцев, в том числе под Ворсмой, Павловым Посадом, Шуей, окончательно укрепившись после прихода с низовьев Волги Ф.И.Шереметева с солидным войском [141, 147–149]. Торгово-ремесленное население центров северо-востока (Костромы, Ярославля и пр.) уже созрело для взятия на себя ответственности за восстановление государственного порядка. В приказных и земских избах этих и других городов читались и сочувственно воспринимались грамоты патриарха Гермогена и Троице-Сергиева монастыря, призывавшие к единению и изгнанию интервентов и «русских воров».
Инициатором сбора средств на принципиально новое ополчение стал один из посадских Нижнего, вероятный лидер средних слоев посада, земский староста Козьма Минин. Известно о нем, как и о любом другом человеке того времени, не служившем «государеву службу» в военной или приказной сфере, крайне мало. Он занимался торговлей мясом и хотя не нажил большого богатства, но, видимо, приобрел авторитет, достаточный для избрания его земским старостой, а это означало, что горожане доверяли ему решать споры посадских людей и следить за порядком в городе. Может быть, хотя это и не доказано, он участвовал в составе нижегородского отряда в Первом ополчении. Во всяком случае, его дальнейшая судьба показывает, что он был не чужд военному делу. В Нижний Новгород, как и в другие города, доходили агитационные грамоты, но для нижегородского купца, ремесленника, уездного дворянина они служили скорее подтверждением, а не побуждением их настроений.
Подавляющее большинство нижегородских дворян, костяк местной военной силы, составляли незнатные и мелкопоместные, в уезде было около 400 помещиков, из которых только двух-трех можно причислить к аристократии, многие были потомками переведенных после разгрома Новгорода и из крещеных татар. Они составляли достаточно монолитный и демократичный блок с торговыми и посадскими людьми и с крестьянами (в большинстве зажиточными) местных дворцовых сел [70, 28–30].
Впоследствии историографы Смуты – неизвестные авторы «Нового летописца» и иноки Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын и Симон Азарьин – пытались связать начало деятельности Минина с получением монастырской грамоты, однако свидетельства эти противоречат друг другу [70, 48–50]. Сам Минин полагал, что побудительным мотивом стало избрание его, не принадлежавшего к городской верхушке и не очень богатого, земским старостой. Выборы городских властей, как и назначения воевод, проходили с начала года по тогдашнему календарю, т. е. 1 сентября [70, 52].[48] Минин, вероятно, вскоре после избрания объявил в Земской избе, что надо начинать сбор средств для нового ополчения.
Незаурядный оратор, он, видимо, умело воздействовал на слушателей, объясняя, что пока они здесь богаты и не разорены, но их благосостояние возбудит зависть у «поганых», которые в конце концов соберут большие силы и все заберут. Его поддержали наиболее влиятельные нижегородцы, в том числе соборный протопоп Савва Евфимьев. Скорее всего, здесь и начали собирать средства, Минина же, как инициатора и честнейшего человека, уполномочили руководить сбором. Надо было организовать не просто ополчение, а воинскую силу, способную выстоять и против лихих казаков, и против «кованой рати» ландскнехтов, и против хорошо обученной польско-литовской конницы и пехоты. Главное – войско не должно было возбуждать против себя население, не кормиться за его счет, как делали тогда почти все армии в мире. На собранные средства начали нанимать опытных воинов – служилых людей, стрельцов, казаков. Сбором были обложены не только купцы и ремесленники, но и монастыри, нет сведений о сборах с помещиков, но они должны были платить своей саблей и кровью. Заручившись поддержкой большинства, Козьма определил масштаб пожертвования в «пятую деньгу» с имущества и жестко спрашивал с неплательщиков.
Естественно, возник вопрос о том, кто сформирует и поведет ополчение. Местный воевода, князь В. А. Звенигородский, только что прибыл, тогда же, когда избрали Минина, его в городе никто не знал, а то, что он получил чин окольничего от правительства короля Сигизмунда, не придавало ему популярности. Второй воевода, честный и доблестный А. С. Алябьев, не раз водил нижегородцев в бой, но Минин понимал, что возглавить новое ополчение, собираемое с важными политическими, всероссийскими целями должна фигура позаметнее. Как торговец мясом, он, естественно, разъезжал по своему и соседним уездам. Наверное, он уже был знаком с большинством крупных и средних землевладельцев – товарный скот могли поставлять только солидные хозяйства. Не лишено вероятия, что Минин вел торговые дела и с князем Д. М. Пожарским, крупным вотчинником соседних Городецкого и Стародубского уездов. Пожарский в это время, согласно летописцам, находился в своем селе Мугрееве [25],[49] где оправлялся от ран после Московского восстания. Нижегородцам, вероятно, было известно о его удачных военных операциях в 1608–1610 гг., может быть, кое-кто сражался рядом с ним и в недавние мартовские дни. Поэтому кандидатура будущего воеводы вызвала сомнение только в том смысле, согласится ли он возглавить и организовать войско. По предложению Минина в Мугреево направилась депутация уважаемых дворян и купцов во главе с архимандритом Нижегородского Печерского монастыря Феодосием и выборным дворянином[50] Ж. П. Болтиным.
Пожарский, согласно этикету, сразу не согласился возглавить ополчение, но дал себя уговорить. Во время переговоров он заявил, что ему необходим в помощь выборный из посада человек, «кому быть у такова великова дела и казну збирати». Депутация так же этикетно вопросила князя, кто этот человек, они-де не знают. Тогда Пожарский и предложил кандидатуру Минина. На самом деле, вероятно, переговоры шли не один день, и делегаты, и Минин несколько раз приезжали к еще не вполне выздоровевшему князю, обсуждая разные детали. Возможно, Минин побывал у своего крестильного тезки еще до первой депутации. Думается, Пожарский мог воспринять как знак свыше то, что с предложением столь «великого дела» явился человек, у которого был общий с ним святой покровитель.
Когда делегаты вернулись в Нижний и официально предложили Козьме возглавить финансовую часть ополчения, он сложил с себя должность земского старосты [70, 60–62]. Минин, получив полномочия, добился от нижегородцев особого документа – приговора о беспрекословном выполнении решения об окладе – «во всем быти послушливым и покорливым» и «ратным людем давати деньги».
Опасаясь переменчивости в настроениях посада, Минин тут же отправил документ Пожарскому [72, 63].[51]
Крупные займы были сделаны у представителей торгового дома Строгановых, у богатейших ярославских купцов Г. Никитникова, В. Чистого, Лыткиных. Можно было собирать войско. И в этот момент ополчение сразу приобрело ценный воинский отряд – из-под Арзамаса в Нижний явилось более тысячи дворян из Смоленского уезда, не присягнувших оккупировавшему их край Сигизмунду и, естественно, изгнанных из своих поместий. От Первого ополчения они получили замену поместий в дворцовых землях Арзамасского уезда, но крестьяне, чувствовавшие себя, конечно, более свободными под ведением приказа Большого дворца, им не подчинились. Представители смолян прибыли в Нижний, а их отослали к Пожарскому, который принял весь отряд на службу. В конце октября он и сам тронулся в путь. По дороге в Нижний к нему присоединились отряды таких же безземельных дворян вязмичей и дорогобужан, их из дворцовых волостей выбили казаки Заруцкого. Таким образом, костяк Второго ополчения составили около 2 тысяч опытных воинов из западных областей России и примерно тысяча нижегородцев. Канцелярией ополчения поставили ведать опытного и честного дьяка Василия Юдина.
Все ополченцы были разбиты по четырем «статьям» сообразно с их прежними окладами, что имело и психологическое значение возвращения к исконному порядку, «чину». Отнесенные к первой статье должны было получать 50 рублей в год, ко второй – 45, к третьей – 40, к четвертой – 30 рублей. Реально они, видимо, получали меньше, однако в спокойное время их денежное жалованье (правда, при наличии поместного оклада) не превышало 14 рублей. Поэтому, пока невозможно было давать поместья, компенсировали деньгами [70, 67]. Смолянам, например, единовременно выдано было по 15 рублей.
В Нижний стали стекаться прослышавшие о хорошем окладе бродившие по всей Руси толпы «воинских людей», но отбор, производившийся Пожарским и Мининым, был жесток. Немногочисленная, но умелая и дисциплинированная армия во всех отношениях превосходила стоявшее под Москвой расхлябанное, голодное воинство. Из Нижнего ополчение медленно продвигалось Северным Поволжьем, беря под контроль местную администрацию, поставленную как боярским правительством, так и Первым ополчением. Местные «миры» в основном приветствовали нижегородцев, и богатый Север страны вплоть до Архангельска подчинился Минину и Пожарскому.
Не везде переход власти к администрации Пожарского, как уже говорилось, проходил мирно, Так, костромской воевода И. В. Шереметев заигрывал и с кремлевскими сидельцами, и с Первым ополчением и вознамерился не пустить Пожарского в богатый город. Узнав об этом, костромичи восстали, арестовали воеводу и только прибытие Дмитрия Михайловича спасло Шереметева от самосуда. Нечто похожее произошло в Суздале. Жители города узнали о приближении к ним казачьего отряда Просовецких и, опасаясь мародерства, сообщили об этом Пожарскому. Отправленный в город отряд стрельцов князя Д. П. Лопаты-Пожарского вошел в Суздаль, а братья-атаманы без стычки вернулись к Москве [70, 92–93].
Наиболее дальновидные воеводы и атаманы подмосковных «таборов» начинали понимать, куда переходит центр тяжести в освободительном движении, о чем свидетельствуют обстоятельства занятия Ярославля. В феврале 1612 г. Атаман А. Просовецкий, направленный в Ярославский уезд для борьбы с литовскими отрядами, подойдя к городу, узнал, что воевода Второго ополчения князь Д. П. Лопата-Пожарский опередил его и арестовал там администрацию, поставленную Первым ополчением, а некоторых казаков даже казнил (вообще этот дальний родственник Дмитрия Михайловича был неплохим воеводой, но отличался жестокостью и лихоимством). Просовецкий решил не вмешиваться и отошел от города. Первоначальным планом похода было быстрое продвижение к Москве. Однако в дальнейшем Пожарский и его соратники решили повременить – они узнали об усилении кремлевского гарнизона полком И. Будилы, хотели уточнить судьбу войска умершего Сапеги, а также обстановку в армии гетмана Ходкевича в связи с его конфликтом со смоленским комендантом Я. Потоцким. Ожидались и подкрепления, слишком медленно подходившие из верхневолжских, поволжских и замосковных городов.
Власти Троице-Сергиева монастыря пытались примирить «двух князей Димитриев», как писалось в их посланиях, но подчинить Пожарского Трубецкому не удалось. Троицкий келарь[52] Авраамий Палицын, еще недавно под Смоленском верноподданно выпрашивавший у своего «законного государя» короля Сигизмунда грамоты на монастырские владения, слал в Ярославль призывы немедленно соединяться под Москвой с Трубецким и Заруцким, а позднее в своем известном сочинении даже обвинял вождей Второго ополчения в «нерадении» и «бражничестве», которым они якобы там предавались.
На самом деле задержка на столь долгое время была обусловлена, помимо вышеуказанных, политическими и стратегическими соображениями. Взаимная вражда казачьих и дворянских отрядов под Москвой не утихала. Последние уходили к Пожарскому, более того, посещавшие Ярославль казачьи депутации, вернувшись, с похвалой отзывались о тамошних порядках, были довольны пожалованными им подарками и уважительным отношением принимавшего их князя. Блокированный Кремль слабел от голода сам по себе – все же Первое ополчение, несмотря на свои недостатки, стерегло его зорко. Время работало на Козьму-князя и Козьму-купца.
Еще в Решме, не доходя до Ярославля, Минин и Пожарский получили грамоту от владимирского воеводы, окольничего А. В. Измайлова, перешедшего к сторонникам Второго ополчения: он сообщил, что Трубецкой и Заруцкий выдвинули новую кандидатуру на престол – они собираются целовать крест третьему Лжедмитрию, объявившемуся во Пскове. Это весьма раздражило уже собравшийся в Ярославле «Совет всей земли», в который вошли примкнувшие к Пожарскому съехавшиеся туда представители знати, городового дворянства и купечества, не признававшие Владислава и Сигизмунда. Есть версия, что это собрание уже готово было считать себя Земским собором и не исключало возможности полного отстранения сидевшего в Кремле правительства (официальной версией отношения к Семибоярщине в пропаганде Второго ополчения было то, что бояре находятся «в плену») и законного избрания царя в Ярославле, не дожидаясь полного очищения Москвы [70, 84–85].
В то же время бояре из Кремля стремились спровоцировать столкновение ополчений, посылая грамоты, в которых Заруцкий изображался едва ли не новым Болотниковым и уверявшие, что Владислав вот-вот прибудет. Однако и сохранение союза Первого и Второго ополчений, и легитимность нового государя, долженствовавшего быть венчанным в Москве, для Пожарского были вопросами принципа – и он удержал дворянство, видевшее в подмосковных «таборах» лишь взбунтовавшихся холопов. Вскоре Трубецкой и Заруцкий, поняв, что присягой третьему самозванцу они не только не перехватили политическую инициативу, но и нанесли удар по своему авторитету в стране, прислали покаянное послание, сообщив, что дезавуировали крестоцелование псковскому «вору Сидорке».
Тем временем «Совет всей земли» в Ярославле, по сути, сформировал правительство, законность которого подкреплялась участием в нем ряда членов Боярской думы. От имени этого правительства велась переписка с городами, рассылались указы, в которых имя Пожарского, всего лишь стольника, стояло строго по местническим правилам на 10-м месте. (Ранее, как глава ополчения, Пожарский подписывался первым.) А на 15-м месте – еще раз: «в выборного человека всею землею в Козьмино место Минина князь Дмитрей Пожарской руку приложил» [35, 163–167]. Минин, видимо, не умел писать, зато очень хорошо считал.
Четырехмесячное «стояние» ополчения в Ярославле вызывало недовольство и вопросы многих, от современников событий до историков ХХ в. Но, как уже говорилось, причин хватало. Не для эффектных баталий отдавали «свои кровные» жители Ярославля, Вологды, Костромы, Балахны, Суздаля и других мест, а для очищения земли от грабительских шаек, захват Кремля, куда недавно явился еще и полковник Струсь «с 3000 голодного войска», считали делом второстепенным.
Несмотря на трудности, заработали ведомства по сбору налогов – четверти или чети (Галицкая, Костромская). Восстановленный Поместный приказ даже начал проводить «дозоры» – учеты поместных земель – и стал наделять ими ополченцев [70, 121–123]. Охранялись дороги, оживала торговля в городах. Отменены были земельные пожалования, выпрошенные некоторыми «перелетами» уже у Сигизмунда. При этом сам Дмитрий Михайлович решительно отказался от грамоты на огромную вотчину – село Воронино в Костромском уезде, «пожалованное» ему предводителями Первого ополчения 17 июня 1611 г. [70, 123; 9], что было, конечно, актом явной конфронтации, но не выходившим за политические рамки.
В Ярославле началась и внешнеполитическая деятельность правительства «всей земли». Располагая более чем 10-тысячным надежным, хорошо вооруженным и сытым войском, можно было приступать и к таким проблемам. Утвердили здесь и свою печать – эмблему.
Она сохранилась на нескольких выданных Поместным приказом Второго ополчения документах и представляет собою, видимо, перстневую печать Пожарского. Человек образованный, князь Дмитрий не мог не знать о значении геральдики в Западной Европе, где по символике определяли знатность и могущественность обладателя герба. Поэтому он пользовался перстневой печатью с гербом, с которой скопировали и изготовили печать побольше, для заверения внутренних документов, а также большую, по типу государственных, видимо, для внешних сношений. Пользоваться царским «двуглавым орлом» в «безгосударное время» «Совет всей земли» считал, видимо, невозможным, это означало бы претензии на вакантный, по его мнению, царский титул. Недаром после убийства Лжедмитрия I его сообщник М. Молчанов, бежав из Москвы и задумав новую самозванческую авантюру, прихватил и государственную печать. Член Семибоярщины князь Мстиславский на договоре с Жолкевским о призвании Владислава ставил свою личную печать с геральдическим львом. В Первом ополчении сочинили свою эмблему: на его печатях – одноглавый орел или сокол с открытым клювом в полоборота, стоящий на ветви и с надписью по всему полю «Земская печать Московского государства». На принятой Вторым ополчением эмблеме Пожарского изображение совершенно иное: в центре – орел или сокол, клюющий отрубленную голову; с двух сторон его охраняют стоящие на задних лапах львы [145, 7–9, 139]. (Этой печатью, как мы укажем ниже, заверена была грамота «Совета всей земли» к императору Священной Римской империи.[53]) Князь Дмитрий подписывался в документах «Совета» хотя и после бояр, но особым титулом: «По избранию всее земли Московского государства всяких чинов людей у ратных и у земских дел стольник и воевода князь Дмитрей Михайлович Пожарской» [70, 124]. П. Г. Любомиров справедливо отмечал, что авторитет Пожарского зиждился на том, что он зарекомендовал себя проводником земской политики, принимал меры к собиранию выборных от всей земли «для совету». Ему были чужды диктаторские замашки Ляпунова, кроме того импонировало его явно отрицательное отношение к Трубецкому и Заруцкому с их политическими метаниями и внутренним соперничеством. Пожарский, стоявший как бы над «Советом», почти слился с ним, вызывая доверие и обеспечивая «конституционные гарантии» для земщины; он был первым среди равных, что, правда, затрудняет выяснение его личной политической роли [70, 126].
В Ярославль, как мы уже отмечали, приехали некоторые бояре (но они потеряли авторитет у масс, были в их глазах «кривителями и изменниками», присягавшими Владиславу), а также нечто вроде Освященного собора во главе которого по рангу своему оказался старший иерарх на освобожденных территориях – ростовский митрополит Кирилл [70, 127]. Именно в Ярославль, а не под Москву прибыло в июне 1612 г. посольство из Новгорода, оккупированного Швецией, но находившегося на вассальных правах, с русской администрацией во главе с воеводой боярином князем Н. И. Большим Одоевским.
Вступивший на престол в 1611 г. новый шведский король Густав II Адольф оказался перед дилеммой: с одной стороны, он должен был осуществить на практике прежние договоренности (еще Я. Делагарди с П. П. Ляпуновым) о принятии на русский престол его младшего брата, Карла-Филиппа, но с другой – его отношения с братом были настолько враждебны, что он отнюдь не приветствовал не только возникновение Новгородского полузависимого государства во главе с Карлом-Филиппом, но, тем более, и грядущую возможность его избрания на царский престол [55, 210]. При этом не исключено, что князь Дмитрий, трезво оценивая грызню в московских боярских группировках, не возражал бы против кандидатуры «со стороны», не связанной с ними, и в то же время «прирожденного государского сына».
Еще с весны 1612 г. началась переписка ярославского и новгородского правительств. 12 мая Пожарский написал письмо к Делагарди с предложением совместной борьбы с «литовскими людьми», а 19 мая в Новгород было отправлено посольство «Совета всей земли» во главе с С. Л. Татищевым, состоящее из представителей всех городов, участвующих во Втором ополчении, чтобы прощупать истинные намерения шведов относительно прибытия королевича. Пожарский в дальнейшей переписке с Делагарди и его послы в Новгороде на словах заверили, что как только королевич приедет, его встретит делегация [55, 211–213].
Делагарди слал в Стокгольм письмо за письмом, торопя приезд Карла-Филиппа. В свою очередь Пожарский, после того как из подмосковных «таборов» прислано было посольство с известием о ликвидации присяги «псковскому вору», разослал по городам грамоты, в которых извещал о подготовке выборов царя и предлагал в качестве одной из кандидатур шведского принца [55, 215–216]. Посольство из Новгорода в Ярославль возглавили игумен Николо-Вяжицкого монастыря Геннадий и князь Ф. Т. Черного Оболенский [70, 142–144].
На переговорах 24–29 июня послы, обрисовав несчастное положение государства с начала Смуты и обвинив в вероломстве польского «Жигимонта» (кстати, кузена их кандидата), агитировали за Карла-Филиппа. Документы, возможно, отчасти сохранили прямую речь Пожарского: «…мы все всяких чинов люди Московского государства, о том… Бога… просим, чтоб нам… государство в соединении видеть… а кровопролитие бы в христианстве перестало, а видети б покой и тишину, как доселе было». Князь с горькой иронией добавил, что «при прежних великих государях послы и посланники прихаживали из иных государств, а ныне из Великого Новгорода вы послы!» [4, 269]. Никогда, продолжал Пожарский, Новгород не отторгался от России, и мы бы ради увидеть его вместе с нами – «только уж мы в том искусились», не повторилась бы польская история с кандидатом в цари, хотя под актом избрания целовал крест гетман С. Жолкевский, а король подписал и скрепил договор печатью; однако «манил с год, да не дал», а что в стране учинило его воинство, то сами видите. (Справедливости ради, следует отметить, что современные польские историки обнаружили ряд документов, из которых следует, что, помимо политического интриганства, королем двигало и вполне естественное чувство страха за 15-летнего сына, который должен был ехать в охваченную гражданской войной страну [178]).
Пожарский напомнил, что и Карл-Филипп давно должен был бы прибыть, «да по ся места уже близко году, королевич в Новгороде не бывал» [4, 269]. Посол князь Оболенский оправдывал претендента малолетством (он был только чуть старше Владислава),[54] неотложными делами, похоронами короля-отца, коронацией брата, войной с Данией, заявляя, что сейчас он уже в Выборге, на полпути в Россию.
Пожарский отвечал: «А как королевич придет в Новгород, и будет в нашей православной вере греческого закона, и мы тотчас ото всего Росийского государства с радостию выбрав честных людей, которые к этому великому делу будут годны, и дадим им полный наказ… как государствам быти в соединенье» [4, 270]. Послам твердо дали понять, что никаких религиозных уступок королевичу не будет, и попрекнули их подчинением неправославному государю. Игумен Геннадий с Оболенским стали испуганно уверять, что «мы от истинные православные веры не отпали, а королевичу Карлу-Филиппу о том будем бить челом и просить, чтоб он был в нашей православной вере», а если уговорить не удастся, то «не нашия не греческия веры на государство не хотим» [4, 269]. Послов в Швецию «Совет всей земли» отправить отказался, приведя в пример судьбу послов к Сигизмунду, который, вопреки правилам, задержал в плену часть политической элиты России, в частности князя В. В. Голицына. Послы возразили – разве вы не справились и сами? «И ныне без них вы… не в собранье ли против врагов наших, польских и литовских людей, не стоите ль?» [4, 269].
Ответ Пожарского хорошо известен, он дышит скромностью и величием: «Надобны были такие люди в нынешнее время. Только б ныне такой столп, князь Василей Васильевич, был здесь, и об нем бы все держались; и яз к такому великому делу мимо его не принялся, а то ныне меня к такому великому делу бояре и вся земля силою приневолили» [4, 269]. Для того чтобы понять, что хотел выразить Пожарский, надо, как мы уже ранее замечали, учитывать, что его принципы выработались в стереотипах незыблемой местнической иерархии. Истинный порядок, достойный «чин» может дать государству только увенчание его истинным же государем, который был бы старшим членом наиболее знатного рода. В плену находятся все три члена наизнатнейшей ветви Рюриковичей: Василий, Дмитрий и Иван Шуйские. Значит, первенство должно было перейти к старшему из Гедиминовичей – В. В. Голицыну, но он тоже исключен из политической жизни.
В июне 1612 г. в окружной грамоте из Ярославля во все российские города Дмитрий Михаилович, вкратце поведав о Первом ополчении и о его расколе после убийства П. П. Ляпунова, так рассказывает о своем решении возглавить ополчение:
«И в Нижнем Новгороде гости и посадские люди и выборный человек Косма Минин, ревнуя пользе, не пощадя своего имения, учали ратных людей сподоблять денежным жалованьем, и присылали по меня, князя Дмитрия, из Нижнего многажды, чтоб мне ехать в Нижний для земского совета; и я по их прошению приехал к ним в Нижний и учали ко мне в Нижний приезжати бояре и воеводы и стольники… и дворяне и дети боярские вязьмичи, дорогобужане и смоляне и иных розных городов; и я, прося у Бога милости, учал с ними со всеми и с выборным человеком с Космою Мининым и с посадскими людьми советовать, чтоб нам против врагов и разорителей веры християнския польских и литовских людей за Московское государство стояти всем единомысленно… а государя выбрати всею землею, кого милосердный Бог даст; а советовав, дали мы в том Богу души свои, а ратным всяким людем денежное жалованье дали неоскудно» [35, 183–184].
Выбор государя из иноземного, но бесспорного «государского корня» возможен и даже желателен, но православной Россией может править только православный государь. Смена веры? Но в 1593 г. во Франции Генрих IV счел, что «Париж стоит обедни». Смена конфессий в эпоху Реформации, Контрреформации, унии[55] была достаточно распространена. Перешедший в католичество из православия отец Я. П. Сапеги при этом завещал похоронить себя в семейном склепе, естественно, в православной церкви. Призывая всех, кто присягнул в это время «псковскому вору» или еще сохраняет верность «царице Марине и «воренку», Пожарский увещевал:
«Молим вас, господа, и просим со слезами единородную братью свою… пощадите сами себя и свои души, отступите от такого злопагубного начинания, и отстаньте от вора и от Марины… да писали к нам из Великого Новгорода митрополит… и воевода… и всяких чинов люди… что у них… от немецких людей православной… вере порухи и православным христианом разоренья нет, и живут в Новгороде все православные христиане безо всякие скорби… А свийского короля Арцы-Карла не стало… а другой его сын Карлус Филип будет в Новгород на государство вскоре, и дается на всю волю Новгородского государства людей, и хочет креститься в нашу православную веру греческого закона, о том мы вам пишем по христианскому своему обету неложно, по их письму» [35, 185].
Пока решался вопрос о возможности принятия протестанта Карла-Филиппа, ярославское правительство принимало меры к обороне северо-западных рубежей, чтобы помешать дальнейшему продвижению шведов, уже рассматривавших регион от Новгорода до Тихвина как свою провинцию.
Тем временем вхождение правительства Пожарского и Минина в большую международную политику продолжалось. Через Ярославль возвращалось на родину из Персии посольство Священной Римской империи.[56]
«Совет всей земли» принял послов и вручил им для передачи императору грамоту, в которой просил содействия и посредничества в заключении мира с Речью Посполитой. Грамота эта была не столь посланием к императору, сколь документом «контрпропаганды», явно рассчитанным на оглашение при императорском дворе, а значит, и во всей Европе. В ней подробно излагалась вся история Смуты, о которой в мире ходили самые фантастические слухи и истории,[57] и вмешательства в нее Сигизмунда III, сообщалось о его не подобающем монарху, да еще родственнику (король был дважды женат на принцессах из Габсбургского дома), нарушении крестного целования (приписали ему, правда, и действия, совершавшиеся помимо его воли, например помощь Лжедмитрию II) [70, 114]. «И как вы, великий государь, сию нашу грамоту милостивно выслушаете, и можете рассудить, пригожее ль то дело Жигимонт король делает, что преступив крестное целованье, такое великое хрестьянское государство разорил и до конца разоряет, и годитца ли так делать хрестьянскому государю?» [36, 200].
Вопреки сложившемуся позднее мнению, ни о каком предложении престола австрийскому принцу написано не было, но на словах Пожарский в переговорах с дипломатами Й. Грегори и Е. Вестерманом осторожно намекнул на возможность кандидатуры «цесарева брата Максимилиана», дабы более заинтересовать венский двор в мирном посредничестве. Грамота эта, доселе хранящаяся в Венском государственном и дворцовом архиве, заверена единственной сохранившейся «большой» печатью Второго ополчения. Это та же печать Пожарского, но увеличенная и переработанная в духе классической геральдики. Ворон, клюющий отрубленную голову, помещен на фигурный щит в стиле барокко, поддерживаемый двумя львами. Под щитом – поверженный дракон. По краю печати – надпись: «Стольник и воевода и князь Дмитрий Михайловичь Пожарсково Стародубсково» [145; 152, 90]. Титул показывал австрийским герольдмейстерам, что глава нового временного правительства России – не случайная, выброшенная наверх волнами Смуты личность, не какой-нибудь загадочный «Болотникофф» или «Ляпунофф», не самозванец из «заквашенных в России и выпеченных в Польше», по замечанию В. О. Ключевского, а природный князь, герцог, принц, исконный суверен на своих родовых землях, родня угасшей династии, имеющий все юридические и моральные права участвовать в решении судеб своего государства, с представителями которого не зазорно вести переговоры. Забегая вперед, отметим, что имперское правительство, заинтересовавшись предложениями, действительно надавило на Речь Посполитую, порекомендовав прекратить кровопролитие [70, 115].
Заруцкий ощущал уход почвы из-под своих ног. Авторитет его падал, особенно, вероятно, после того, как он окончательно сблизился с Мариной Мнишек и сделался сторонником кандидатуры на престол ее сына, младенца «Ивана Дмитриевича», названного в честь «деда» Ивана Грозного, но которого в окружных грамотах Второго ополчения называли «воренком». Метод политического убийства показался ему надежным. В истекшие годы таким образом погибли (относительно некоторых, правда, имеются сомнения) царевич Дмитрий, сын Грозного, царевич Федор, сын Годунова и его мать, Лжедмитрии I, II, III, М. В. Скопин-Шуйский, П. П. Ляпунов. Иван Мартынович решил обратиться к опытным профессионалам. В Ярославль он послал двух казаков, Обрезка и Стеньку, там они связались с группой смолян, среди которых были дворянин И. Доводчиков и стрелец Г. Шанда, есть версия, что последние входили в число предателей, с помощью которых был взят Смоленск. На свою сторону заговорщики переманили одного из слуг Пожарского, рязанца Стеньку Жвалова. Однако заговоры подобная «массовость» губит, а их было не менее 9 человек. Слуга пытался зарезать Пожарского во время сна, но, видимо, князя хорошо охраняли. Тогда решено было убить его, подобравшись в толпе – «в тесноте». В конце июня 1612 г. Дмитрий Михайлович вышел из приказной избы для осмотра «наряда» – артиллерии. В дверях его, возможно еще не вполне окрепшего, поддерживал другой слуга, казак Роман. Кругом было много народу. Присланный Заруцким казак Стенька протиснулся в толпе и попытался нанести удар ножом, но попал по ноге Романа. Неизвестно, было ли это случайностью или слуга, надежный воин, успел среагировать на выпад. Пожарский сначала даже решил, что Роман чем-то случайно поранился и собрался продолжать смотр, но собравшаяся толпа закричала: «Тебя хотели зарезать!» Стеньке не дали уйти, а тогдашние методы застенка живо развязали ему язык. Пожарский не позволил толпе растерзать приведенных к нему предателей и разослал их по тюрьмам, главных же не велел казнить, а взял их с собой для давления на Заруцкого [70, 105; 77].
Тогда Заруцкий с верными ему атаманами (некоторые, как Иван Чика или Пантелеймон Матерый, служили еще у Болотникова) решился на полностью самостоятельную игру, козырем в которой была Марина, продолжавшая считать себя законной царицей, поскольку она была первой в России женой царя, которую, так же как мужа, короновали и помазали на царство [57, 297]. 28 июля он ушел из-под Москвы в Коломну, где находилась Марина с верными ей людьми и маленьким сыном – претендентом на престол, – которого злые языки называли сыном Заруцкого [159, 35]. С ним ушло не менее 2500 казаков, чуть ли не половина подмосковного ополчения. Все вместе они, предварительно разграбив город, двинулись на юг. Однако наиболее дальновидные атаманы, например известный Афанасий Коломна, служивший к 1613 г. государеву службу уже 25 лет, остались [160, 51]. Они знали, что Минин и Пожарский в Ярославле уже начали наделять переходящих на их сторону атаманов не только деньгами, но и поместьями по 25–30 крестьянских дворов [159, 49]. Эти казаки вынесли на себе всю тяжесть блокирования Кремля, отбивали пытавшиеся провести туда обозы отряды из войск Ходкевича и Струся, сами голодали в разоренном Подмосковье и не собирались поддерживать новую авантюру, понимая, что такого очередного «наследника престола» не признает никто.
Продвигаясь к Москве, 30 июня Пожарский, сдав командование К. Минину и князю Н. А. Хованскому, на сутки отьехал в Суздаль, помолиться в Спасо-Евфимьев монастырь [77, 372]. Обитель эта была давним «богомольцем» его рода, там были похоронены некоторые его предки, в том числе отец, князь Михаил, а также породнившиеся с Пожарскими князья Хованские (оба рода имели общий склеп, в монастыре до сих пор хранятся некоторые вклады семьи Пожарских [165, 28; 63]). Рядом с монастырем находилась и почитавшаяся князем церковь Козьмы и Дамиана в селе Коровниках, одного из святых князь, видимо, считал своим патроном и упомянул церковь в своем завещании [169, 152]. По возвращении Пожарского ждали в Ярославле не вполне приятные гости. К «Совету всей земли» прибыл отряд иностранных наемников под командой шотландца по имени Яков Шав (т. е. Джеймс Шоу). Ушедшие из России после службы самозванцам, Сигизмунду, Шуйскому из-за прекращения выплат жалованья, они, видимо, прослышали о хорошем денежном и поместном окладе и вернулись из Европы, предлагая свои услуги. Ярославское правительство им вежливо, но твердо отказало. В ополчении было немало честных, надежных служилых иноземцев, не говоря уже о целых отрядах служилых татар, мордвин, марийцев, возглавляли отряды и входили в правительство северокавказские князья Черкасские, и какого-либо предубеждения не было (под Москвой присоединился даже один польско-литовский отряд). Но здесь Пожарский и его соратники узнали некоторых из тех, кто предавал законное правительство под Клушиным, а особенно возмутило Пожарского возвращение с ними в Россию капитана Жака Маржерета, с отрядом которого он еще недавно насмерть рубился на пылающих улицах Москвы во время мартовского восстания. Ландскнехты, способные перейти к неприятелю из-за не выданного вовремя жалованья или просто сторговавшись с ним, были опасны. Их велено было выдворить через Архангельск, а тамошнего городового воеводу понизили в должности, от более строгого наказания его спасла только молодость и неопытность.
27 июня в Московском кремле сменился гарнизон. А. Госевский увел свои полки, на смену пришло 13 хоругвей Н. Струся и 4 сотни запорожцев, что составляло 2500–3000 солдат [19, 74]. В начале июля, узнав об усилении войска гетмана Ходкевича, Пожарский начал высылать к Москве передовые отряды. Ходкевич стал лагерем близ Поклонной горы. По русским подсчетам, у него было около 8000 воинов. Современный польский историк Т. Богун подсчитал, что гетман располагал тремя отрядами отборной пехоты – венгерской Неверовского (800), польской Граевского (200) и немецкой Млоцкого (200 человек). Личный полк Ходкевича, ветеранов, пришедших с ним из Лифляндии, в составе которого были и тяжеловооруженные гусары, насчитывал 11 хоругвей,[58] каждая, правда, не дотягивала до сотни; еще 2 хоругви по 100 всадников и около 3000 конных казаков-запорожцев, всего около 6000. По иным подсчетам, общее число разной кавалерии приближалось к 7–8 тысячам, и около 1700–1800 пехоты [172, 156, 190–192]. Все это представляло сравнительно небольшую, но грозную силу в руках одного из лучших полководцев тогдашней Восточной Европы. Снижали маневренность армии громоздкие купеческие обозы (более 400 возов), которые гетману надо было доставить в Кремль. 24 июля к Москве подошли передовые отряды Второго ополчения под командованием Ф. Левашова и М. Дмитриева, 2 августа – князя Д. П. Лопаты-Пожарского. Вместе этот авангард насчитывал 1100 человек. Они укрепились у Тверских и Петровских ворот столицы и, выполняя приказ Пожарского, отказались соединиться с Трубецким.
Второе ополчение насчитывало, по новейшим подсчетам, около 7–8 тыс. дворянских отрядов из Нижнего Новгорода, Смоленска, Ярославля и других районов Северо-Востока, и около 3 тысяч казаков [19, 76–77]. Оценивая численность противостоявших армий, надо не забывать о неточностях подсчетов всех историков, которые базируются на источниках, учитывавших только полноправных воинов (дворян, стрельцов и казаков, получавших оклады, или гусар, пехотинцев, гайдуков по спискам и мемуарам). Но у каждого мало-мальски состоятельного воина были слуги – боевые холопы у русских, нахолки у польско-литовских воинов. Поэтому численность войск с обеих сторон надо увеличить не менее чем на треть.
В ночь на 20 августа Минин и Пожарский уже стояли у стен Москвы. Они нарушили планы Ходкевича, который сначала полагал, что передовые отряды Левашова, Дмитриева и др. начнут блокировать подходы к Кремлю через Арбат и Воздвиженку к воротам Кутафьи-башни (т. е. Троицким). Пожарский отклонил предложение Трубецкого стать одним лагерем, предвидя неминуемые раздоры между его войском и казаками и не собираясь, согласно местническим нормам, оказаться у него в подчинении. В это время Пожарский усилил полуразрушенные укрепления Земляного города близ Смоленской и Можайской башен, именно там, где, переправившись через Москву-реку, регулярная конница Ходкевича могла нанести главный удар. Гетман слишком поздно понял, что к планируемой им атаке на юг противник уже подготовился [172, 196].
Заняв позиции по стенам Белого города, от Арбатских до Чертольских ворот, Пречистенки и Остоженки, т. е. до самого речного берега, Пожарский справа и слева от центра, где находился сам, поставил войска А. В. Измайлова и князя В. Туренина, блокировав основные дороги к Боровицким воротам Кремля, на юго-восток от реки, и мог контролировать Крымский брод, поскольку Ходкевич выдвигался с другого берега, от своей основной ставки – Донского монастыря. Гетману надо было любой ценой преодолеть примерно 2 километра, чтобы провести в Кремль обозы по Чертольской (позднее Пречистенской) улице или по Остоженке, до Чертольской башни Белого города, а затем до Боровицкой башни Кремля.
Сражение началось утром 22 августа. Венгерская пехота и польская конница стали сильно теснить войска ополчения. Однако Пожарский находился в первых рядах, организовав мощный узел обороны и приказав конным воинам спешиться, поскольку биться надо было на улицах. Ходкевич пытался пробиться через обороняемые насыпи Скородома, он скакал от роты к роте, «рыкая, аки лев», по словам русского летописца, бросая своих людей в атаки. Кровопролитная битва длилась примерно до 8 вечера («шестого часу пополудни»). По русским источникам, часть русских полков была сброшена в реку, но центр с Пожарским устоял [77, 375–376; 19, 81].[59] Лагерь же Трубецкого, расположенный неподалеку, в Лужниках, не подавал признаков жизни. Отказавшись объединиться под его началом, Пожарский, несмотря на то, что формально они составляли единый фронт, должен был рассчитывать на собственные силы. На призывы о помощи, посылавшиеся в лагерь Трубецкого, казаки, завидовавшие окладам Второго ополчения, отвечали: «Богати пришли от Нижняго, и сами одни отстоятся от етмана».
Под конец дня, пытаясь развить успех, Ходкевич бросил на прорыв центра обороны около 2 тысяч регулярной венгерской пехоты и не менее 3000–3500 запорожских казаков под командой атамана Андрия Наливайко [172, 207]. С этим ударом была скоординирована вылазка из Боровицких и Тайницких ворот Кремля отряда осажденных, посланных И. Будилой и Н. Струсем для удара в тыл русским. Однако московские стрельцы с башен Белого города метко перестреляли нескольких ведших роты офицеров, солдаты же, по словам современника, буквально шатались под ветром от голода, и вылазка, на которую так рассчитывал гетман, захлебнулась [172, 209]. В то же время войска ополчения, зажатые между рекой и стеной Белого города, близ церкви Ильи Обыденного и у Крымского брода, отбивались из последних сил. Накануне Трубецкой попросил у Пожарского пять лучших дворянских конных сотен. Их решительно не хватало в этот момент. Однако Трубецкой не спешил с помощью. Бой уже превратился в кровавую рукопашную схватку: все сошли с коней и дрались, «яшася за руки», а тушинский боярин спокойно наблюдал, как стороны выматывают друг друга, вспоминая, вероятно, свои посылавшиеся в Ярославль мольбы о скорейшей помощи. Однако спасло положение отсутствие реальной дисциплины в его воинстве. Командиры пяти конных сотен, видя резню, не дождались приказа и двинулись на помощь своим. За ними последовали и четыре казачьих атамана во главе с А. Коломной, на ходу бросив Трубецкому, что «от раздоров воевод гибель Московскому государству происходит» [172, 211; 77, 374–375].
Поражение обернулось победой: значительная часть пехоты была перебита, даже взяли пленных и знамена. Ходкевич просчитался, понадеявшись на обострение конфликта Пожарского с Трубецким. Т. Богун полагает, что если бы сам гетман углубился с войсками в сечу, то неминуемо попал бы в плен, поскольку бегущие казаки и пехота не смогли бы его выручить [172, 213]. К ночи бой, длившийся 13 часов, затих. Потери обеих сторон были велики, но ощутимее – у поляков, как атаковавших. Тысячи погибших солдат Речи Посполитой были наутро захоронены в ямах. Одна из целей Пожарского была достигнута. Кремль не получил никакой помощи, оккупанты после вылазки еще больше ослабели. Правда, ночью Г. Орлов провел в Китай-город 600 венгерских гайдуков Ф. Неверовского, что укрепило военную силу осажденных, но только ухудшило их положение с провиантом [172, 215; 72, 374–375].
На следующее утро, 24 августа, Ходкевич решил отбросить проникшие в Замоскворечье войска Пожарского и попытаться прорваться к Кремлю с юга. Ночью его отряды заняли Большую Ордынку до наплавного Москворецкого моста. Трубецкой, понимая опасность, выслал туда отряд казаков, которые создали острожек – опорный пункт вокруг церкви Св. Климента между Большой Ордынкой и Пятницкой улицами, препятствовавший продвижению поляков к реке – казаки стрельбой из полевых пушек и пищалей остановили обозы. «Климентовский острожек» в дальнейшем несколько раз переходил из рук в руки.
25 августа ополчение Трубецкого (у него тогда было примерно 2500–3000 человек, в основном казаков и небольшое количество стрельцов и дворян), скоординировавшего на этот раз действия с Пожарским, залегло на валах Земляного города, обороняя Серпуховские и Калужские ворота, растянув линию обороны примерно на 2 километра [172, 221 ]. Ходкевич лично повел свои основные силы на линии Пожарского. Ударным кулаком были панцырные гусары князя Корецкого, Г. Глебовича и др. (не менее 800), их подкрепляла наемная пехота, уцелевшая после первого дня сражения, и спешенные гусары (около 700), с левого крыла наступали легкая польская конница К. Конецпольского и запорожцы атамана М. Серого (А. Наливайко ушел или был ранен). Они пытались продвинуть к Кремлю возы, построенные для защиты «табором». В ходе отчаянного утреннего сражения Пожарский, находившийся, вероятно, в первых рядах, был ранен (по польским источникам, пулей в руку). Его отряды начали медленно отходить к Москве-реке. Тогда казаки Трубецкого оставили позиции и вернулись в свой лагерь.
К 12 часам, заняв Серпуховские ворота, поляки стали продвигаться с обозами по Ордынке. Однако им надо было снова занять «Климентовский острожек». Венгерско-запорожская пехота начала выбивать оттуда ополченцев, боевой дух которых упал из-за преувеличенных слухов о ранении и чуть ли не гибели Пожарского. В этот момент казаки Трубецкого, увидев над церковью знамена противника, бросились к ним на выручку (Авраамий Палицын в своем сочинении приписывал это своим уговорам и обещаниям уплаты из монастырской казны) и отбили острог [172, 225]. На «Климентовский острожек» брошены были отряды из лагерей Пожарского и Трубецкого и из опорного пункта близ церкви Георгия на Яндове [19, 83]. Сеча была кровопролитной, пленных не брали, «одних венгорей перебили 700 человек» [77, 375–376]. По сути, там погиб костяк пехоты противника [19, 83]. Однако основным силам Минина и Пожарского приходилось тяжело. Вытесненные за реку, они не могли развернуться для новой атаки на Замоскворечье. Дальнейшую помощь им казаков Палицын приписывал своей агитации, возможно, отчасти так и было. Келарь, как правило, быстро находил общий язык с нужными ему людьми. Он в дальнейшем писал, что заклинал казаков помочь Второму ополчению, вспоминая их подвиги во время обороны Троице-Сергиева монастыря (хотя его аудитория состояла из «молодцов», воевавших в те времена по обеим сторонам стен), что Пожарский чуть ли не со слезами просил его воздействовать на казаков, во что верится с трудом, и что, услышав о жалованье от монастыря на земле и в случае гибели рае на небе, казаки бросились в бой с кличем «Сергиев!».
Надо заметить, что казаков привлекла, скорее, доставленная информация (не келарем ли?) о богатых возах, медленно продвигавшихся по той же Ордынке, перекопанной рвами. Автор «Повести о победах Московского государства», явный участник боев (возможно, это был один из командиров смолян А. Л. Варишкин), описывавший подвиги своего смоленского отряда, правда, о келаре ничего не знает, зато колоритно описал, как казаков уговорил «добросмысленный Козьма Минин»; по его словам, Козьма закричал им: «Вы, праздны стояще, кую честь себе обрящете… помощь учинити не хощете и вражде-злобе работаете?» Именно Козьма «своими доброумными словесы» убедил их, и казаки «яко от тьмы во свет уклонишася, всю вражию злобу забывше и чрез Москву-реку вброд поидоша, хотяше князь Дмитрееву полку… помощь учинити…» [92, 24]. В то же время в шатер Пожарского, располагавшийся в районе церкви Ильи Обыденного (сейчас это Обыденский переулок около Берсеневской набережной), явился Козьма Минин и предложил ему свой план – отбить переправу на Крымском броде. Раненый князь одобрил план и сказал: «Бери кого хочешь!» Минин отобрал три лучшие дворянские конные сотни и роту польского ротмистра П. Хмелевского, уже давно взявшего сторону Второго ополчения, и в середине дня 25 августа выбил пехотную и конную роты гетмана, заняв переправу. Вскоре отряды обоих ополчений начали переправляться через реку; после «Климентовского острожка» казаки взяли и острожек у церкви Св. Екатерины,[60] где ранее была полевая ставка гетмана. Ходкевич, бросив там палатки и обозы, ускакал к Донскому монастырю. Оставшиеся оборонять его острожек запорожцы, обычно не страшившиеся рукопашной, на этот раз бежали за валы Земляного города.
Победа была полная. Ополченцы захватили 400 возов с продовольствием, оружием и боеприпасами [60, 747]. Пожарский (видимо, несколько оправившийся), по воспоминаниям наблюдательного смолянина, заметил, что, взяв обоз, «казаки же на множество винных бочек и на многое польское питье нападоша»; тогда князь «повеле бочки… растаскати и бити, чтобы воинству от пития пакости не учинихомся. Людие же, наипаче на бой устремишася, множество полских людей побиша» [93, 34]. Они уже поняли, что явно перехватили инициативу, и бросились было за противником, перебравшись через валы и рвы, за пределы города. Однако Пожарский и Трубецкой запретили преследование, указав своим воинам, что двух побед в один день не бывает («двух радостей в один день не бывает, как бы после радостей горя не отведать!») [60, 747]. Время показало, что это было верное решение.
После 8 вечера (бои продолжались «с утра до шестого часу пополудни») в разоренном освобожденном городе загремела канонада. Воинство Трубецкого бурно праздновало, паля в воздух. За три дня боев доныне непобедимый гетман потерял не менее 1500 убитыми, ранеными, пленными и понял, что надо уходить. Собрав остатки войска у Донского монастыря, а это было около 400 кавалеристов и немного пехоты (запорожцы, видимо, ушли), он вернулся к Поклонной горе, где, ничего не предпринимая, стоял еще 2 дня, возможно потому, что не мог прийти в себя, испытав шок от поражения и потерь [19, 84]. Получив паническое письмо от Будилы из Кремля, он ответил, что не может продолжать боевые действия, и 28 августа снял лагерь и ушел к Можайску и Смоленску [172, 242]. Попытавшись затем пополнить войско, он наткнулся на противодействие давних недругов Потоцких и уехал к своей жене в Шклов [19, 245].
Решительным переломом в московских боях надо, видимо, считать организованную, скорее всего Пожарским, синхронную атаку из трех мест, уничтожившую большую часть польско-литовской пехоты в острожках, вследствие чего гетман остался без войска, а кремлевский гарнизон был окончательно заблокирован.
Победа и получение огромных запасов продовольствия и снаряжения в трофейных обозах улучшили взаимоотношения двух ополчений. Известия о конфликтах между ними распространялись по стране, отнюдь не укрепляя общий авторитет и мешая посылке под Москву подкреплений и в целом – консолидации провинциальных обществ. Поэтому после победы вожди ополчений пришли к выводу о необходимости объединиться и оповестить об этом страну. Были разосланы по городам грамоты, в которых писалось:
«Как Божиею милостию… гетмана Хоткеева побили… и запасов в Москву… не пропустили… а у бояр и воевод у князя Дмитрея Тимофеевича Трубецкого да у столника и у воеводы князя Дмитрея Михайловича Пожарсково разряды были розные, а ныне по милости Божьей и по челобитью и по приговору всех нас, стали они в единачестве и укрепилися на том, что им, да с ними выборному человеку Кузьме Минину, Московского государства доступать и Российскому государству добра хотеть во всем безо всякия хитрости, и розряд и всякие приказы поставили на Неглимне, на Трубе, и сидят в одном месте и всякие дела делают заодно… И вам бы, господа, – призывал «Совет всей земли», – во всяких делех слушати боярина и воеводы князя Дмитрея Тимофеевича Трубецкого да столника и воеводы князя Дмитрея Михайловича Пожарсково грамот и писать о всех делах к ним к обоим, а кто из них учнет писать к вам о каких делех-нибудь грамоты, а имя будет в грамотах одного из них, кого-нибудь, и вам бы, господа, тем грамотам не верить» [35, 230–231].
Так «Совет» поставил своих полководцев в определенные рамки. Теперь Пожарский и Трубецкой сосредоточились на осаде Китай-города и Кремля. Батареи, установленные на берегах реки Неглинной, в Охотном ряду, на Варварке и Сретенке, били по стенам и постройкам. В Кремле царил голод. «Теснота московским сидельцам чинится великая», писали в грамотах из правительства объединенных ополчений [35, 231]. Не озаботившись собрать продовольствие в разгромленном городе в марте, после восстания, осажденные теперь съели кошек, собак, крыс, ворон. Богачи, вроде московских бояр, еще могли купить что-нибудь за сумасшедшие цены. По ночам со стен порой спускались корзины с деньгами, драгоценностями, мехами и поднимались с крупой, мукой и пр. Вожди Второго ополчения ловили и казнили торговавших с врагом [70, 154]. Пережившие осаду украинский купец Божко Балыка, полковник Будило и другие вспоминали, что коровья шкура стоила 5 злотых, ворона – 2 злотых и полфунта пороха, собака – 15 злотых, мышь – 1 злотый. Солдаты съели кожаные пояса, лошадиную сбрую и, увы, пергаменные книги, возможно и из царской библиотеки. Дошло и до людоедства. Начали с заключенных по каким-либо причинам в тюрьмы, а затем наступил черед убитых в бою однополчан. Причем преимущественное право съедения распространялось на солдат одной с ним роты, по этому поводу даже проходили суды. Половина человечьей ноги стоила 2 злотых…. Жертвами становились и казаки Трубецкого, ночью неосторожно приближавшиеся к стенам – венгерские гайдуки их ловили и съедали [172, 252].[61]
Пожарский 10–11 сентября отправил осажденным ультиматум, сообщая, что надежды на подход короля несбыточны: он даже не знает об их положении, а если и знает, то бросил на произвол судьбы. Дмитрий Михайлович призывал не верить московским изменникам типа Ф. Андронова и М. Г. Кривого Салтыкова, лгущим о скором приходе короля, а не мешкая сдаваться, гарантировал спасение «головы и жизни», награды тем, кто захочет остаться на русской службе, свободный проход на родину остальным. В ответ вожди ополчения получили набор гордых и хвастливых фраз:
«Письму твоему, Пожарский, которое мало достойно, чтобы его слушали наши шляхетские уши, мы не удивились… Ты, сделавшись изменником своему государю светлейшему царю Владиславу Сигизмундовичу, которому целовал крест, восстал против него, и не только ты, человек невысокого звания и рождения, но и вся земля изменила ему, восстала против него… Мы не умрем с голоду, дожидаясь счастливого прибытия нашего государя… Пусть каждый из вас, старших, ждет над собой большой казни от бога… Под ваши сабли, которые вы острите на нас, будут подставлены ваши шеи. Впредь не пишите нам ваших московских сумасбродств; мы их уже хорошо знаем… Мы не закрываем от вас стен: добывайте, если они вам нужны, а напрасно царской земли шпынями и блинниками не пустошите; лучше ты, Пожарский, отпусти к сохам своих людей. Пусть холоп по-прежнему возделывает землю, пусть поп знает церковь, Кузьмы пусть занимаются своей торговлей – царству тогда лучше будет, нежели теперь, при твоем управлении, которое ты направляешь к последней гибели царства… Не пиши к нам лукавых басен, не распускай вестей, потому что мы лучше тебя знаем, что делается в нашей земле. Король польский хорошо обдумал с сенатом и Речью Посполитою, как начать ему войну и как усмирить тебя, архимятежника» [39, 349—3500].
Поскольку это послание Будилы дошло до нас только в его записках, являвшихся как бы отчетом перед королем, вполне вероятно, что полковник его приукрасил, демонстрируя свое молодечество и верноподданность (ведь все-таки сдался), а подлинный ответ мог быть много учтивее. В действительности у Сигизмунда не было ни верной информации о положении в Кремле, ни сил идти им на выручку.
С нарывом в центре страны следовало кончать. Еще в сентябре поляки выпустили, не желая иметь лишние рты, семьи сидевших с ними бояр, в том числе и юного Михаила Романова с матерью. Пожарский оговорил с парламентерами их выход через Боровицкие ворота сразу под свою охрану, чтобы защитить от казаков, грозившихся за это убить князя, впрочем, их дочиста ограбили еще внутри Кремля. Интересно, что многочисленная московская знать не стала жертвой людоедства. Видимо, их спасли надежды на прибытие короля, которому Н. Струсь и И. Будило обязаны были предъявить «русское правительство» в целости. В противном случае и Михаила Романова ожидал бы не трон, а желудок гусара или гайдука… Заметим, что в то время еще ни у той, ни у другой стороны не возникала мысль о его кандидатуре, иначе осажденные имели бы в руках сильный козырь. Но 13 сентября осажденные еще отбивались, а ополченцы ждали, когда они доедят последнюю осеннюю траву в Кремле [70, 155] и запросят переговоров. 22 октября на одной стороне Китай-города представители сторон обсуждали условия мира, в то время как с другой – казаки и ополченцы уже внедрились в него и дошли до кремлевских стен.
26 октября был скреплен крестным целованием договор, гарантировавший гарнизону жизнь, и, что характерно, изъятие коронных регалий и драгоценностей у расхитителей – сидевших с ним бояр. В архиве Разрядного приказа, по крайней мере до середины XVII в., хранился этот договор: «Приговор боярской, как литовские люди город Кремль здали, 121-го году» (Опись 1626 г.); «Тут же записка как город Китай взяли, 121-го году…» (Опись 1649–1652 гг.) [79, 37, 83]. Тогда же злополучное «правительство» выпущено было на сторону, контролируемую Пожарским и Мининым; они поставили крепкие заслоны против казаков, которые собирались с ними расправиться. Дело чуть не дошло до вооруженного столкновения.
Спасенные Пожарским от растерзания бывшие правители поспешили прочь из Москвы, по официальной версии «на богомолье» (замаливать явно надо было многое). Задержали только казначеев, которые должны были отчитаться в растрате. 27 октября вышли и поляки. Пожарский был не всесилен и не мог спасти всех пленных. Полк Струся, на свою беду, вышел на контролируемую казаками территорию и чуть ли не поголовно был изрублен; спаслись немногие – сам полковник и капитан, которых арестовал лично Трубецкой и спрятал от собственных воинов одного в Кремле, на бывшем дворе Годунова, а другого в Чудовом монастыре [172, 269]. Повезло как раз Будиле, полк которого вышел на сторону Пожарского, и «архимятежник» не дал его перебить (хотя отдельные жертвы и были). Вскоре пленников разослали по тюрьмам многих городов, где с ними обошлись много хуже. По иронии судьбы, Иосиф Будила с другими пленными оказался в нижегородской тюрьме, и некоторые местные жители решили с ними расправиться. Спасла их княгиня Ефросинья-Мария Федоровна Пожарская, мать князя Дмитрия. На время кампании он, видимо, перевез семью в город, где мать главного воеводы Второго ополчения, занимавшая к тому же в свое время высокое положение при дворе, бесспорно, была «первой дамой». Она предотвратила самосуд, по словам Будилы, «упросила хлопство» не нарушать слово, данное ее сыном. И «хлопство», не отличившееся в походе, но сразу вспомнившее поротыми спинами аристократическую, простреленную, но тяжелую руку князя и мощный мясницкий кулак его соратника, быстро успокоилось.
Вступившие в Кремль начали очищать храмы и дворцы, приводить в порядок дворцовое хозяйство. С доверенными лицами Сигизмунда разбирались по-средневековому тщательно. Под пытками казначей Ф. Андронов, ловчий И. Безобразов и думный дьяк И. Чичерин выдали тайники с коронными драгоценностями. (Ф. Андронов потом бежал, был пойман и казнен). Нужда в средствах была огромной. Ополченцы-дворяне и часть казаков, получившие от «Совета всей земли» поместья, сочтя свою миссию выполненной, заспешили домой, вступать в свои новые владения, начинать восстанавливать хозяйство, невзирая на то, что отряды Сигизмунда стояли уже близ Вязьмы. Справедливости ради заметим, что король не представлял особой опасности: шляхтичи после взятия Смоленска разъехались и у него к тому времени осталось два отряда немецких наемников и остатки разбитой армии Ходкевича.
В Москве остались в основном казаки, требовавшие жалованья. Из найденных средств им удалось заплатить, кроме того, атаманам продолжали давать поместья, казакам разрешили на 2 года беспошлинно строить дома в столице (т. е. они получили земельные участки в городе).
Сигизмунд, взявший с собой сына, попытался продолжать поход к Москве, но не смог взять даже крохотного острога Погорелое Городище, со стен которого местный воевода ему предложил сначала взять Москву, а уж потом он ему, может, и присягнет. Другой отряд, под командой сторонников Владислава, бывшего посла князя Д. И. Мезецкого и дьяка И. Т. Грамотина, отбитый от Волоколамска, подступил к стенам Москвы. В стычке попал в плен смоленский дворянин И. Философов, раскрывший им глаза – казаки, которых в Москве большинство, и слышать не хотят о Владиславе, а гарнизон в ней больше всего королевского войска (5000 казаков, 2000 дворян и 1000 стрельцов). После таких сведений Сигизмунд повернул в Польшу [70, 157]. Король «опоздал» политически и стратегически. Русские уже не желали наконец прибывшего Владислава и остались равнодушны к его агитации и к присутствию в его свите известных церковных иерархов и бояр. Силой же взять Москву даже увеличенной до 15–20 тысяч армией не представлялось возможным.
В освобожденной Москве. Избирательный собор
Начинался новый, относительно мирный этап «земского» строительства. Пока освобожденными территориями правили «бояре и воеводы» и «Совет всей земли», однако они сами поставили цель, достижения которой ждало все общество – избрание государя. После разъезда ополченцев осмелели оставшиеся казаки. Местные жители испуганно жались по краям, когда бравая и не вполне трезвая ватага, бряцая саблями, разгуливала по улицам и базарам. Некоторые опять сбивались в отряды и уходили из Москвы за новой добычей, грабя села и города. Местное население начало снова собираться для самообороны, ему помогали московские воеводы, высылавшие в помощь надежные отряды. Однако много присылать не могли, опасаясь нового похода короля. Зато в руках «Совета всей земли» оказался весь государственный аппарат, все приказы и дворцовое хозяйство, приносившее определенные доходы. Благодаря этому удалось осуществить задуманное – собрать Земский собор. Из городов начали съезжаться представители «всех чинов» – дворян, посадских людей, духовенства, свободных крестьян. Москва рассылала призывы о сборе депутатов; они стали прибывать в столицу в начале декабря 1612 – январе 1613 г. Это был самый многолюдный Собор в истории России. Участвовали в нем представители 46 городов и уездов, практически со всей европейской части страны, Сибирь, правда, была представлена только воинами-тюменцами из отряда сибирского царевича Араслана. К началу 1613 г. вернулась с «богомолья» и часть скомпрометировавших себя бояр (по официальной версии, они были не предателями, а «пленниками»), которые побаивались презиравших их казаков и горожан.
Из Новгорода опять поступали предложения избрать Карла-Филиппа. Столь большое собрание неминуемо распалось на группировки. Посадские люди и городовые дворяне боялись избрания кого-либо из не раз предававших их олигархов из громких родов, опасались они, впрочем, и царя-чужеземца, что могло повлечь новую смуту. О том, какова была позиция Пожарского, и вообще, что он делал во время Собора, никаких сведений не сохранилось. Он продолжал быть одним из первых лиц правительства, так же как и князь Д. Т. Трубецкой. Однако его опора – дворянское ополчение в основном разъехалось, а Трубецкой не имел особого авторитета у своих же казаков.
По Москве ходили слухи, что в группу кандидатов на престол входят боярин князь Ф. И. Мстиславский, И.Н. Романов, брат Филарета, князья И. В. Голицын, Д. Т. Трубецкой, Д. М. Пожарский, включали в нее и князей И. М. Воротынского, И. Б. Черкасского, боярина Ф. И. Шереметева [91, 457]. Рассматривалась вначале и кандидатура Карла-Филиппа [55, 237–240]. Возможно, Пожарский считал последнего наименьшим злом (при выполнении указанных условий о принятии православия и пр.), особенно в ситуации, когда в Москве преобладало множество политически непостоянных и становящихся опасными казаков [55, 238; 160, 91; 48, 41]. Однако заметим, что главы враждующих ветвей династии Ваза вели себя сходно – Сигизмунд не присылал Владислава, не желал его перекрещивания и не отдавал Смоленск; Густав II Адольф препятствовал приезду Карла-Филиппа, не реагировал на условия о православии и не хотел отдавать Новгород не только России, но даже брату.
Позиция Пожарского, возможно, была такой: молодой, не связанный с разными местными группировками и принявший православие принц предпочтительнее ставленника одной из боярских групп. Известно, что Делагарди бомбардировал короля призывами отправить брата в Россию, этого ультимативно потребовал Пожарский. Информаторы Делагарди сообщали: Дмитрий Михайлович на Соборе говорил, что лучше не выбирать никого из своих, ибо с ними за последние десятилетия «не было никакого счастья и удачи», а отвергнув шведского королевича, правители и избиратели «получат себе на шею шведов», помимо поляков, а на два фронта Московское царство сейчас бороться не может [70, 214]. Но король считал, что Делагарди будет при юном царе иметь «проконсульскую власть», благо «Яков Понтусович» имеет давние и широкие политические связи в России, и они выйдут из-под его контроля. Однако в результате, вероятно, давления казаков первым же решением Собора стало: «литовского и свейского королей и их детей за их многие неправды и иных некоторых земель людей на Московское государство не обирать… ли Маринки с сыном не хотеть» [70, 215].
Наступили дни бурной агитации за представителя того или другого русского рода. Наизнатнейший – князь Ф. И. Мстиславский, глава Боярской думы, был скомпрометирован тесными связями с Сигизмундом III. Князь И. В. Голицын не пользовался популярностью у городового дворянства. Современные исследователи считают, что в Боярской думе был достигнут определенный компромисс: избирать «из природных московских бояр», – однако рядовые члены Собора относились одинаково критически и к бывшим членам Семибоярщины, и к Д. Т. Трубецкому. Есть версия, что он добился своего выдвижения как кандидат от «Совета всей земли» [164, 74–77].
Как уже говорилось, дворянские массы, опора ополчения, в основном разъехались, поэтому Д. Т. Трубецкой развил бешеную деятельность среди казаков. Он ежедневно устраивал шумные многолюдные пиршества для них; неизвестный московский мемуарист того времени подсчитал, что он кормил и поил чуть не 40 тысяч казаков (явное преувеличение) «по вся дни … зазывая толпами себе на двор… моля их, чтобы быти ему на России царем» [91, 457–458]. Казаки же, с удовольствием пируя, не относились к нему всерьез, как пишет тот же москвич, в глаза хвалили его, а уйдя с пира, насмехались. Таким образом, предвыборная политика ополчения провалилась.
В среде казаков пользовался популярностью пленный в то время «их патриарх», тушинец Филарет. Это использовала заново сбившаяся новая группировка – родственников и свойственников Романовых [164, 74–77] – Шереметевы, князья Черкасские, Сицкие, Троекуровы, Лыковы, Салтыковы и пр. Активно распространялась легенда о завещании престола Федором Иоанновичем Ф. Н. Романову, подчеркивалось их близкое родство с угасшей династией. Бурную деятельность в пользу Романовых развил, в частности, давний знакомец Пожарского, зарайский протопоп Димитрий Леонтьев, прибывший в качестве депутата от своего города: он и подписал грамоту об избрании, и ездил в составе делегации в Кострому, и привозил оттуда в Москву грамоту о согласии Михаила и его матери принять царство [2].
В конечном итоге более 500 казаков осадили двор крутицкого митрополита, где заседали бояре, высшая курия Земского собора, и потребовали скорейшего решения. Растерявшиеся бояре предложили определить кандидата жребием (это тогда не выглядело легкомысленно – таким образом, например, многие века избирали новгородского архиепископа). Но атаманы воспротивились, заявив: «Князи и бояря и вси московские вельможи, но не по Божией воле, но по самовластию и по своей воле вы избираете самодержавно». Согласно Божьей воле и по благословению государя Федора Иоанновича царский посох должен был быть передан Федору Никитичу Романову – но он в плену, однако есть его «отрасль добра» – «Михайло Федорович», и тут же «возопили» и провозгласили ему многолетие. Ошеломленная и испуганная Дума тряслась от страха, и только Иван Никитич Романов, дядя, пытался урезонить казаков, объясняя, что Михаил Федорович еще «млад и не в полне разуме». Возможно, он рассчитывал на собственное избрание. Однако казаки отвечали ему (похоже, со скрытой иронией): «Но ты, Иван Никитич, стар верстой (т. е. многоопытен), в полне разуме, а ему по плоти дядюшка прирожденной, и ты ему крепкой потпор будеши». Бояре еще пытались организовать какую-то интригу с задержкой целования крестов, однако казаки вынудили их присягнуть тут же, а потом вынесли 6 крестов на Лобное место, где их целовали, видимо не воспротивившиеся такому решению, остальные депутаты Собора и москвичи [91, 458–459].
Узнав об этом, князь Трубецкой (не присутствовавший на заседании, вероятно уверенный в победе своей кандидатуры) был ошеломлен и, возможно, перенес тяжелый сердечный приступ: «Лице у него ту и почерне, и паде в недуг, и лежа много дней, не выходя с двора своего с кручины», – сообщает тот же мемуарист, простодушно добавляя, «что казны истощил казаками и позна их лестны в слове и обман».
Пожарский, скорее всего, устранился от участия после того, как стало ясно, что кандидатуры шведского принца и Трубецкого терпят крах. О какой-либо его деятельности или высказываниях (помимо вышеприведенных, сведениям о которых и сами шведы не вполне доверяли[62]) во время Собора вообще ничего не известно. Кроме того, он формально, возможно, и не принимал участия в заседании Боярской думы, будучи по чину всего лишь стольником, и продолжал, в меру возможностей, исполнять обязанности одного из глав временного правительства. Может быть, он был нездоров, рука, простреленная совсем недавно, не первая и не последняя его рана, могла еще давать о себе знать. Позднейший рассказ так называемого «Хронографа кн. М. А. Оболенского» о его поведении на Соборе, весьма красив, но явно легендарен, когда якобы он чуть ли не руководил Собором и требовал скорейшего решения:
«И начаша между собою совет творити, со всем Освященным собором… князи и бояре и всяких чинов множество людей, князь Дмитрей Михайловичь Пожарской со всеми чины. А вопрошает их на искус, кий ему ответ подадут, и говорит: «Днесь у нас в царствующем граде Москве благодать Божия воссия, мир и тишину Господь Бог дарова. Станем у всещедраго Бога просить, дабы нам дал самодержателя всей Русии. Подайте нам совет. Есть ли у нас царское порождение». И тако вси умолчаша. И начаша власти глаголати: «Государь Дмитрей Михайловичь! Мы станем соборне милости у Бога просить. Дай нам до утрия срока»» [35, 449].
И наутро некие галицкий дворянин и казачий атаман внесли предложение о Романовых и представили их родословные с родством с царским домом.
Итак, 21 февраля Михаил Романов был избран, а 2–3 марта прекратились полномочия правительства «Совета всей земли» [70, 231]. Пожарский не вошел в состав депутации в Кострому.
Принятая на Соборе «Утвержденная грамота» об избрании Михаила Романова сохранилась в двух экземплярах. Оба они с оборота подписаны – сначала членами Освященного собора, т. е. высшими духовными иерархами, затем боярами, окольничими и т. д., вплоть до городовых дворян, служилых татар и выборных посадских людей. Подписи, как считают исследователи, собирались не менее двух лет. Так, Пожарский подписался уже как боярин, хотя в момент Собора, пока царя не было, никто еще не мог быть пожалован чином. Он был 41-м по общему списку (32 духовных иерарха, затем 16 бояр, где он – 9-й). А подписи «выборного человека ото всей земли» Козьмы Минина на грамоте нет вовсе [70, 188].[63] Как не прислушаться к жесткому и меткому слову И. Е. Забелина, которого вряд ли кто-либо может заподозрить в недостатке патриотизма: «Земский совет нижегородцев на некоторое время стал руководителем государственного устройства… Но, конечно, матерые жернова старого порядка смололи и это доброе зерно – оно не дало никакого роста… ничего нет удивительного, что, сослужив народную службу по избранию всей Земли, он, с избранием царя, с установлением старого царского порядка службы, очутился снова рядовым стольником, а потом и рядовым боярином, и из Дмитрия перед народным собранием и советом стал холопом Митькою перед царем… Если б Смута была… переделкою государства, тогда явились бы и новые места для людей, в числе которых одно из главных мест принадлежало бы Пожарскому. Тогда с ним, как и с Мининым, никто и спорить не стал бы из-за места. Но так как все дело заключалось в восстановлении старых порядков… то наши герои и предводители тотчас попали в рядовые, какими были прежде. Ни для кого из современников это не было удивительно. С избранием царя потянулся в царстве-государстве прежний царский порядок и жизни, и отношений, и службы» [46, 154–157]. Собственно за возвращение этой, всегда считавшейся идеалом «старины» герои ополчения и боролись …
Пожарский после победы
Напомним читателю, что задача наша – история жизни Пожарского, а не история Смутного времени. Поэтому мы можем опустить описание событий, в которых он явно не принимал участия. Вновь сведения о нем появляются уже в возобновленных разрядах – хроникальных записях назначений, церемониалов, военных действий и пр. Он подает вместе с Трубецким челобитную новоизбранному царю о том, где государь позволит им выехать и видеть его «пресветлые очи» [46, 155].
Новый царь (а точнее, его взрослая родня от его имени) начал раздавать пожалования в высокие чины. Первым получил боярский чин двоюродный брат царя князь И. Б. Черкасский. Далее по чиновности и знатности должны были следовать другие лица романовского круга, однако – и это было явной уступкой народному мнению – вторым (11 июня, в день коронации) был пожалован боярством Д. М. Пожарский. На следующий день при пожаловании в думные дворяне третьим в списке стоял Козьма Минин.
Оба случая были, конечно, нарушением местнических норм. Пожарский действительно получил максимум того, что могло ему дать восстановленное в прежних принципах государство – стольник, минуя два чина (думный дворянин и окольничий), получил высший в государстве чин боярина. А простой посадский человек, даже не купец гостиной сотни и не гость (высшие ранги торговых людей), – стал членом Боярской думы, получив третий по рангу чин в государстве – думного дворянина.
Авторитет и слава Пожарского росли, принимая порой странные формы. Спустя два года в Рязанский уезд в марте 1615 г. послан был дворянин С. Унковский для сбора налогов (казна опустела настолько, что когда царский кортеж ехал из Костромы в Москву и остановился в Сольвычегодске, там новое правительство заняло три тысячи рублей у Строгановых). Унковский жаловался в Москву, что «человек Пожарского» (возможно, приказчик какой-то его вотчины) Михалко по прозвищу Злой воспрепятствовал сбору четвертных доходов с крестьян Спасо-Зарецкого монастыря, заявив, что они – закладчики его хозяина, князя Пожарского, и говорил ему: «…государь де наш князь Дмитрий Пожарский указывает на Москве государю, и везде он, князь Дмитрий Пожарский» [58, 47], что, конечно, было фантазией, затем отобрал деньги и отбил крестьян, даже поколотив приставов и стрельцов, обругав Унковского «неподобною лаею», «ты, де, страдник, послан не от государя с наказом и росписью, послан ты от князя Дмитрея Пожарского» [150, 156].
У нас нет сведений о реальном участии Пожарского в правительстве после 3 марта. До коронации жизнь как бы замерла, притихла и столица, ожидая вестей с севера, из Костромы, и с юга, из Воронежа, где шли военные действия посланных туда войск князя И. Н. Одоевского против отрядов еще очень сильного И. М. Заруцкого. Наконец, прискакали радостные «сеунчи» (гонцы), сообщившие, что в упорной битве, с 29 июня по 3 июля, Заруцкий потерпел поражение и отступил далеко на юг [58, 50].
11 июля началась церемония венчания нового царя на царство. Роль предводителей ополчения была, надо отметить, здесь особо заметна. Дмитрий Михайлович с ночи 10 июля находился при «бережении» регалий – шапки Мономаха и барм – на Казенном дворе (государственном хранилище ценностей, месте их постоянного пребывания). Затем он вместе с казначеем Н. В. Траханиотовым торжественно препроводил регалии в Царскую палату и передал шапку Мономаха старшему в роду Романовых – царскому дяде Ивану Никитичу. Началось торжественное шествие в Успенский собор, его возглавлял боярин В. П. Морозов, вельможи несли шапку, державу и другие регалии, причем скипетр нес Пожарский. Во время церемонии помазания на царство у всех регалий, разложенных в соборе, стоял, «оберегая» их, опять Пожарский, а шапку держал Иван Никитич. При акте коронации Пожарский взял в руки державу [46, 159–160] и передал ее князю Б. М. Лыкову, ныне боярину и царскому дяде (мужу тетки), былому своему недругу. Д. Т. Трубецкой также играл видную роль в действе – его полученное в Тушине боярство было признано, во время коронации он держал в руках скипетр [60, 52; 15, 110–111 ], князь, вероятно, уже оправился от болезни, вызванной крахом его честолюбивых планов. Он даже пытался местничать[64] во время церемонии, что говорит о том, что он полностью смирился с ситуацией, правда, тогда было объявлено безместие.[65]
Вскоре новые люди сформировали правительство – это были родственники матери Михаила Федоровича и члены «проромановского» круга. И героям ополчения было указано на их место – нет, далеко не позорное, не опальное, а именно «свое» – точно определенное «по старине», по восстановленным иерархическим нормам, за которые они и боролись. Дмитрию Михайловичу, выдвинувшемуся в бояре сразу из стольников, чьи предки никогда не занимали сколько-нибудь заметных должностей, записанных в разрядные книги, всегда, по сути, не на что было опереться в традиционных местнических расчетах. Должности эпохи «безгосударного времени» для всех, видимо с целью достижения общего спокойствия, молчаливо решено было в расчет не принимать. В противном случае местнические отношения, привычным порядком организовывавшие и регулировавшие правящие круги, запутались бы и развалились: например, Пожарский возглавлял армию, и его приказы выполняли члены значительно более знатных родов – Черкасские, Плещеевы и пр. А если посмотреть чуть в глубь времени, когда вся аристократия служила как государю простому дворянину Юрию Богданову сыну Отрепьеву? А князья А. А. Телятевский и Г. П. Шаховской, принявшие командование бывшего боевого холопа из мелких дворян И. И. Болотникова? А все те аристократы, кто служил безродному Лжедмитрию II, но получил от него боярские и другие чины и даже патриарший сан?.. Недаром позднее был издан специальный указ о непринятии в местнических расчетах служб этого времени. Признавались только назначения при законно коронованных государях: Василии Шуйском и отчасти Лжедмитрии I (поскольку он обманул «всех»). «Как только восстановлен был царский порядок службы, тотчас возникли счеты о местах, ибо по существу дела здесь опять возвратилась служба холопей государю и государству, а не свободных сирот[66] своей земле» [46, 165].
И. Е. Забелин справедливо замечал, что земское уважение к личным достоинствам и заслугам здесь не играло ни малейшей роли. В любой системе есть элементы абсурда, но это была все же определенная система. Да и сам князь Дмитрий Михайлович был плоть от плоти ее, был в ней воспитан. Во всех биографических очерках о нем упоминается факт выдачи его, проигравшего местнический спор, в декабре 1613 г. Б. М. Салтыкову. Князь не захотел «сказывать боярство» (т. е. присутствовать при церемонии пожалования чина) царскому родственнику, чьи предки по разрядам, бесспорно, стояли много выше предков Пожарского. Естественно, он дело проиграл; но боярство велено было «сказывать» не ему, а думному дьяку, князь же уехал домой. Боярская дума и, возможно, молодой царь, скорее всего, попытались замять некрасивое дело, Пожарский был популярен, хотя и не прав по местническим нормам. На наш взгляд, отказ Пожарского был просто нервным всплеском – он в наступившей после Собора и царского венчания «тишине» оказался в вакууме – только, вероятно, как и все бояре, старые и «новые», ежедневно ездил на заседания Думы, где не получал никаких назначений, наблюдая, как царские родственники и свойственники делят важные посты.
Однако вернемся к этому местничеству. Вообще вопрос о том, кто должен быть «выше» по «чести» – тот, кто «сказывает» новый чин, или тот, кому «сказывают» дьяки Разрядного приказа, в то время был дискуссионным. Иногда разрядные дьяки утверждали, что как раз выше должен быть тот, кто «сказывает», но господствовало убеждение в обратном, так считали и Пожарский, и Салтыков. Последний, чувствуя силу своей родни при дворе, закусил удила. Очевидцы свидетельствовали, что Борис тогда верховодил в Думе. Он дважды бил челом царю о своем «бесчестье», прося «об оборони»,[67] и добился максимального триумфа – «выдачи соперника головой». Это наказание заключалось в подконвойном сопровождении проигравшего на двор победителя, произнесении каких-то этикетных слов о признании вины и прощении с обеих сторон. Подобной процедуре подвергались и фигуры много знатнее Пожарского, пришлось пройти через нее и ему. Однако вряд ли она на него сильно психологически подействовала – как мы уже писали, и споры, и суд, и наказание были рутинным процессом, сродни нынешнему наказанию за нарушение правил уличного движения.
Но авторитет князя был настолько высок, что, несмотря на то, что он в последующие годы участвовал в местнических спорах еще 12 раз, Пожарскому никогда более не пришлось переживать подобного. Почему ему приходилось местничать? Конфликты эти диктовались незыблемыми законами существования русского аристократического рода. Как только один из его представителей выбивался хотя бы чуть выше других родственников, он пытался закрепить для всего рода эту, по тогдашней терминологии, «находку»: никто из Пожарских ранее не был ни воеводой, ни боярином, надо было доказать, что это теперь возможно и для прочих Пожарских. Правда, Дмитрий Михайлович никогда не был задиристым склочником, подобно членам таких родов, как Бутурлины, Пушкины, Татищевы. Дело обычно возбуждали его противники, а в таком случае суд, как правило, бывал на стороне ответчика, поскольку оспаривалось обычно назначение, которое являлось «государевой волей», и истцы выигрывали вообще редко.
Весь 1614 г. князь, согласно Дворцовым разрядам, практически не появлялся при дворе. Опрометчиво было бы объяснять это опалой и интригами окружавшей молодого царя камарильи. Возможно, Пожарский долечивался, отстраивал разоренный свой двор на Сретенке, занимался восстановлением хозяйства в своих дальних и ближних вотчинах, поместьях, промыслах. От нового правительства им вместе с боярским чином была получена большая вотчина – село Ильинское с деревнями в Ростовском уезде. Надо было приглашать крестьян, разбежавшихся за эти страшные годы, давать им ссуды на строительство домов, на посевы и инвентарь, отстраивать господские дворы и церкви – и в подмосковном Медведеве, и в отдаленных Мугрееве, Ландехе, Пурехе. Малы были еще и дети – сыновья Петр, Федор и Иван. В мае 1618 г. Петр упоминается впервые, когда на Д. М. Пожарского, посланного в район боевых действий в Калугу, бил челом назначенный к нему вторым воеводой И. А. Колтовский, а «об оборони», дабы показать, насколько Колтовский ниже Пожарского, бил челом (возможно, формально, если был еще мал) сын его Петр Дмитриевич [42, 327]; стольниками он и его брат Федор впервые упоминаются в 1624 г. [40, 604, 633], а поместным окладом как стольники братья поверстаны были в 1628/29 г. [20, 28].
Происхождение жены князя Прасковьи Варфоломеевны неизвестно. Ее девичья фамилия или родовое прозвание нигде не упоминается, неясно, когда он на ней женился (к 1613 г. его сыновьям не было еще 14–15 лет, иначе они начали бы службу и получили бы чин стольника). В завещании князя 1642 г. нет упоминаний ни о ее (умершей в 1635 г.) родственниках, ни о ее приданом в виде земельных владений, обычном для невесты из феодальной среды, а только о ее личных вещах – столовом серебре, драгоценностях и пр. Странно и нехарактерное для аристократической среды имя ее отца – Варфоломей. Возможно, княгиня Пожарская происходила из иной социальной группы – из дьячества (не случайно обнаружились, но пока точно не установлены какие-то его родственные связи со Щелкаловыми), а может, и купечества. Заметим, что такие мезальянсы не отражались на местническом положении, поскольку родня со стороны матери в подобных расчетах не учитывалась и незнатной матерью или женой попрекать смысла не было. Недаром в свое время первый аристократ, красавец и щеголь Москвы Федор Никитич (будущий патриарх Филарет) женился, видимо, по любви на девице не особо богатой и знатной Ксении Ивановне Шестовой, жившей чуть ли не в компаньонках у его родственницы, княгини Черкасской.
Не участвовал Д. М. Пожарский и в бурных событиях 1614 г., когда правительство Романовых столкнулось с теми, кто привел их к трону, – казаками. Их голосами и угрозами на Соборе Михаил получил шапку Мономаха, часть казаков получила поместное и денежное жалованье, но далеко не все. Пришедшие к власти правители рассматривали их как своих беглых холопов и крестьян и считали, что они должны вернуться к прежним хозяевам. С этой целью проводились по казачьим отрядам «разборы», где одних записывали в служилое сословие, а других лишали всех прав.
Опять казаки стали собираться в разбойные ватаги. Князя Д. Т. Трубецкого новое правительство побаивалось и отправило с войском в заведомо безнадежный поход – отвоевывать у шведов Новгород. Большинство казаков ушло от него, попутно грабя всех подряд и разоряя поместья. Переговоры представителей Земского собора в Ярославле с этими казаками не дали результатов, к Трубецкому вернулась только часть их. А к марту 1615 г. под Москвой собралось лагерем 18–20 тысяч казаков во главе с атаманом М. И. Баловневым [159, 136–139]. Правительству пришлось, с одной стороны, создать «Приказ сбора казачьих кормов» и пообещать справедливый «разбор», т. е. включение в войско и выплату жалованья, а с другой – собирать дворянское ополчение для своей защиты, поскольку не собиралось признавать казачьи права за всеми.
Погубила казачье движение плохая дисциплина и доверчивость. 22 июля лидеров их – М. И. Баловнева, Е. Терентьева и Р. Карташева с большой делегацией пригласили в Москву, якобы для получения жалованья, где арестовали. А ночью 23 июля спавший казачий лагерь окружили и разгромили дворянский отряд князя Б. М. Лыкова и иностранные наемники А. В. Измайлова. У Даниловой слободы не менее 4 тысяч попало в плен, Баловнев, его соратники и много казаков были казнены или сосланы, многие бежали на юг. Однако без казачьей силы правительство еще не могло обойтись, поэтому часть повстанцев, «принеся свои вины», зачислена была в войско [159, 142–148]. А с весны 1615 г. сабля Пожарского опять понадобилась.
Новая встреча с «лисовчиками»
Для правительства Речи Посполитой не были секретом ни неудачи под Новгородом, ни кровавый конфликт с казаками под Москвой, ни отъезд большинства дворян по домам. В этих условиях канцлер Сапега и гетман Ходкевич задумали прощупать прочность новой власти с помощью военного рейда в Россию [175, 17]. Осуществил его с весны 1615 г. полковник Лисовский, вновь поступивший после Тушина на королевскую службу и собравший свое отборное войско разноплеменных (от французов до татар).
«Лисовчиков», как они себя сами называли и спустя много лет после смерти своего предводителя, объединял строгий отбор командира – каждый должен был мастерски владеть любым оружием, включая лук, чекан, саблю, быть отличным наездником, обладать выносливостью, позволявшей преодолевать в быстром кавалерийском марше большие расстояния и беспрекословно подчиняться начальству, несмотря на то что жили они грабежом.
С марта до июля 1615 г. Лисовский быстро вклинился в Северские земли, осадил Брянск и сжег Карачев, захватив и отослав к Ходкевичу воеводу, двинулся к Орлу. Навстречу ему и велено было двинуться Пожарскому со вторым воеводой С. И. Исленьевым и дьяком Семым Заборовским с отрядом, значительным по численности, но не по «качеству». Прошло время, когда князь мог сам набирать себе людей. Известный в дальнейшем и вечно полуопальный писатель князь С. И. Харя-Шаховской тогда был еще молодым служилым человеком, он вспоминал: «В 123 году послали нас с Пожарским на Северу против Лисовского, и мы о том били челом, что заволочены со службы на службу, и за то челобитье мимо нашей братьи меня сослали…» – слова эти приводит И. Е. Забелин, объясняя, каково было ленивое, нищее, но обязанное под угрозой лишения поместий идти в поход воинство, выделенное Пожарскому [46, 169–170]. Отчасти подкрепили его отряд те самые «воровские казаки»); они, узнав, что командование поручено Пожарскому, никогда их не обманывавшему, присоединились к нему близ Белева [77, 388–389].
О бое под Орлом, где Пожарский и Лисовский встретились 30 августа, обычно пишут по рассказу из «Нового летописца», восходящему к официальным отпискам из отряда Пожарского в Разрядный приказ и, возможно, рассказам его или кого-то из его окружения. Но существует и не менее интересный рассказ с другой стороны – реляция Лисовского канцлеру Сапеге.
Согласно русским источникам, «Лисовский… пошел верхней дорогой к Орлу. Князь Дмитрий Михайлович, услышав про то, пошел наспех, чтобы занять вперед них Орловское городище. В воскресный день с утра пришли они оба вдруг. Впереди же шел в ертоуле[68] И. Г. Пушкин, и начал с ними биться. Люди же ратные, видя бой, дрогнули и побежали назад, так, что и сам воевода Степан Исленьев и дьяк Семой с ним бежали. Боярин же князь Д. М. Пожарский с небольшим отрядом с ними бился много часов, едва за руки не взявшись бились. Видя свое изнеможение, загородились телегами и сидели в обозе. Лисовский же, с литовскими людьми, видя их крепость и мужество великое, а того не ведая, что люди побежали от них, отошел и встал в двух верстах. Ратные люди стали говорить [Пожарскому], что надо отойти к Болхову. Он же им отказал, говоря, что им помереть на сем месте. Такую в тот день храбрость московские люди показали – литовских людей было в ту пору 2000, с боярином же осталось 600, и большой урон литовским людям нанесли… в плен взяли 300 шляхтичей… Воевода же С. Исленьев и дьяк воротились назад вечером, а ратные люди начали съезжаться той ночью. Тем же беглецам было тут наказание. Боярин же Дмитрий Михайлович пошел на Лисовского, который видя, что идут на него, отошел быстро и стал под Кромами. Лисовский же, услышав о походе за ним, отошел от Кром к Болхову…» [77, 388–389].
Что же писал сам Лисовский по окончании своего набега? Современный польский исследователь отмечает лихой и несколько хвастливый стиль полковника, сравнивая его с известным героем трилогии Г. Сенкевича паном Онуфрием Заглобой [175, 17], однако от последнего Лисовский все же отличался полководческими талантами (которых хитрый и храбрый Заглоба, волею его автора, начисто лишен).
«Послали против меня Пожарского, – пишет Лисовский, – с 10 000 войска, с таким наказом, чтобы меня разбив, он на Мстислав шел, а далее нашей землей к Смоленску. Только ему не так птицы полетели, как он сам того желал. Полагая, что я еще в Карачеве, Пожарский шел туда. Я же, имея известие об этом, хотел его в пути поприветствовать; выступили мы из Карачева, но разминулся я с ним, а лошади и люди мои устали; он же, узнав обо мне и идя без отдыха, упредил меня и, не теряя времени, 30 августа ворвался отчаянно в лагерь мой и обрушился на обессилевших людей, застав меня отчасти врасплох, ибо некоторые из моих людей до рубашек уже разделись, однако мы, не видя никакой возможности спастись бегством, а лишь при милости Божией мужеством от неприятеля защититься, кто как мог, иные в одних рубашках почти ощупью на расседланных коней вскочив, ударили на них и из лагеря прямо в поле выбили. Но Пожарский, полагаясь на силу или, скорее, на численность войска своего, трижды людей против нас в поле выводил, каждый раз с большими потерями отступать был вынужден, пока не дошло до того, что он, увидев, что много людей убыло – убито, ранено, другие разбежались – от тех 10 тысяч едва пол трети[69] осталась, отступил и стал в поле за бором… в те дни с 30 августа, и до среды мы между собой так были – Пожарский в своем лагере, я в своем…» [175, 23].
Итак, два описания с двух сторон. По нашей гипотезе, произошло не совсем то, что рисуют оба источника. Обычным тактическим приемом Пожарского при полупартизанских действиях, что мы видели и ранее, было следующее – его хорошо налаженная разведка уточняла местонахождение противника, князь дожидался, когда он будет слабее (например, остановится на привал и заснет), скрытно подходил и, сконцентрировав силы, быстрым ударом его уничтожал. Так должно было произойти и на этот раз. Разведка точно определила лагерь Лисовского и то, что его войско отдыхает. Туда был брошен авангард под командой И. Г. Пушкина, который должен был начать разгром лагеря до подхода основных сил. Но похоже, горе-вояки вместо выполнения плана своего воеводы начали грабеж лагеря. «Лисовчики», видимо, были просто ошеломлены, поскольку они, обычно сами жившие грабежом, проснулись не просто от грома боя, но и начисто обворованными, многие в одних рубахах, без седел на конях. Однако Лисовский в условиях дикого хаоса все же сумел собрать своих солдат, построить в конные порядки и вытеснить русских из лагеря. Каково, вероятно, было удивление Пожарского, шедшего с основными силами к лагерю противника, когда ему навстречу в дымке рассвета побежали беспорядочной конно-пешей толпой служилые люди и казаки И. Г. Пушкина, а за ними – бешено орущие привидения в белых рубахах и на расседланных конях. Князь понял, что операция сорвана недисциплинированностью войска и младших воевод. К тому же бегущие увлекли за собой и значительную часть его собственного отряда во главе со вторым воеводой С. Исленьевым и дьяком С. Заборовским, решившими, видимо, что противник значительно сильнее и многочисленнее, чем на самом деле. Впрочем, не знавший о столь повальном бегстве Лисовский то же думал о Пожарском.
«Лисовчики», решив подороже продать свою жизнь, несколько раз бросались в атаку – так считали в лагере князя Дмитрия Михайловича; по мнению же пана Александра, возможно впервые в жизни испытавшего на себе, что значит быть ограбленным, атаки приходилось отбивать ему самому. Пожарский в этой сумятице с трудом удержал около 600 человек, видимо беззаветно ему доверявших («жилецкая сотня, да дворянская, да дворян из городов не помногу, да человек с 40 стрельцов») [42, 181–182], быстро окопался и огородился возами, ожидая следующего «хода» противника. Однако тот сделал то же самое, укрепившись в 6,5 км от него. К вечеру беглецы, включая и воевод, начали возвращаться, возможно где-нибудь припрятав «трофеи». Князь, вероятно, был взбешен, недаром летописцы чуть ли не единственный раз в текстах, связанных с ним, упомянули о наказаниях. Три дня два укрепленных лагеря стояли друг против друга. В перестрелке Лисовский был ранен в ногу стрелой и с трудом сидел на лошади, опасаясь, что это заметят в лагере противника.
Обе стороны преувеличивали силы друг друга. Лисовский в реляции своей описывает деталь, характеризующую отношение простых воинов к Пожарскому: казаки-донцы, успевшие послужить в свое время и у него, а теперь воевавшие на московской стороне, подъезжали в моменты затишья к его лагерю и вели с ним разговоры. «Среди прочего говорили мне, чтобы я не надеялся, что мне выпадет счастье их побить, своего Пожарского они высоко ставят, дескать, что перед Пожарским гетман ваш не выстоял, сам король не устоял, а ты, говорили, чего здесь ищешь?» В ответ «Александр Иванович», как его звали в России, отругивался: чего, мол, вы ищете моря, коли в луже потонуть можете, а наш де король вас бы конскими копытами с землей смешал и т. д. [175, 23]. Тем не менее он понял, что здесь ему не пройти, снялся с лагеря и скорым маршем ушел к северу, пройдя Кромы и взяв Перемышль.
Нагнав Лисовского к 4 сентября под Перемышлем, Пожарский, укрепившись в Лихвине, провел переговоры с ним об обмене пленными, потребовав за одного «лисовчика» трех детей боярских. Но хитроумный Лисовский предложил менять «голову на голову», а тем временем, как сам признавался, посадил пленников в Перемышле в теснейшую тюрьму, вероятно в башне, и сообщил об этом их друзьям и родственникам, которые, как он писал, «на Пожарского надавили»; князь вынужден был согласиться на указанные условия. О переписке их мы можем судить только по той же реляции Лисовского, который в одном из писем язвительно укорял Пожарского – «ты-де приказ своего царя, «поповича» (как звали тогда противники Михаила Романова), не выполнил, велено меня целым к нему привести, а ты мне ногу прострелил» [180, 252–253]. Новый же рейд Лисовского продолжался на Северских землях. Он взял и запалил несколько городов, быстро обходя оказывавшие активное сопротивление, часть воевод бежала, оставив врагу фураж и провиант, в лучшем случае (как в Перемышле) спрятав в реке или лесу пушки [53, 105]. Немало воевод было наказано, а князь М. П. Барятинский даже публично высечен и приговорен к смерти (правда, помилован) [53, 91; 77, 388–389].
Еще в начале сентября в Белеве Лисовский взял в плен местного состоятельного дворянина В. Н. Лодыженского и спросил, не обменяют ли на него его брата, находившегося в русском плену, но Лодыженский его разочаровал, сказав, что он «человек сельской». Тогда полковник удовлетворился простым выкупом – куньей шубой и несколькими жемчужными украшениями. Разоткровенничавшись, он высказал свое мнение Лодыженскому, что «людей деи у Пожарскова перед ним втрое, да только де худы люди, а Пожарский де отимаетца от него таборами» [53, 112].
Разменяв пленных и спалив у них на глазах укрепления Перемышля, Лисовский ушел на север, пожег посады Торжка, Кашина и Углича и дошел до Галича, а затем повернул на юг, пройдя меж Костромой и Ярославлем до Мурома. Тем временем Пожарский, надежно блокировав дороги к Москве (поскольку тогда не знали, не авангард ли это более крупных польско-литовских сил), счел основную свою задачу выполненной и уехал в столицу. Возможно, он понял цели «загонов», гоняться же за столь быстрой кавалерией князю было просто не с кем. Лисовский, выполнив свою миссию, вернулся в Варшаву, где было решено набег повторить. Его рейд, в целом достигший успеха, создал ему популярность и открыл кассу канцлера. На эти деньги были наняты отборные вояки, в его отряды входила теперь даже хоругвь тяжелых панцырных гусар, и осенью полковник опять оказался в пределах России [175, 17]. Тут к нему присоединились не смирившиеся казаки разгромленного движения М. И. Баловнева. Очевидец рассказывал, что казаки, приехав, величали Лисовского «батькой», а он потчевал их вином [53, 111].
Последняя «встреча» Пожарского с ним состоялась в районе Калуги. Лисовский к тому времени разгромил 7-тысячный отряд молодого князя Куракина и иностранных наемников под командой английского барона Астона. Пожарский командовал тогда солидным отрядом, но состав его был разношерстный – городовые дворяне, казаки, служилые татары, мордва и марийцы, неохотно покинувшие свое Поволжье. Обещанные Пожарскому казаки не являлись или дезертировали; не доверяя воеводам, они сбивались в разбойные отряды и грабили почище «лисовчиков». Так, ушедший от Пожарского отряд атамана А. Кумы в 500 сабель разграбил и пожег ряд уездов на юго-западе от Москвы – Боровска, Рузы, Вереи, Медыни. Когда к ноябрю 1615 г. с ним удалось справиться и Кума был арестован, сам Пожарский заявил, «что он такова вора не видал» и вопреки своему обыкновению потребовал смертной казни [159, 155].
Под Лихвином 22–24 декабря давние противники сошлись, но сражение не произошло. Лисовский ушел, а Пожарский, чьи войска таяли (уходили служилые татары и мордва, казаки, которым задерживалось жалованье), не мог с оставшимися силами (а, по известиям литовских шпионов, у него в конце концов оставалось не более 3000 войска) преследовать его, как ему было предписано из Москвы. Подтверждает это и летопись: «Боярин же с ратными людьми пришел и стал в Лихвине, а сражаться с Лисовским не с кем» [68, 389]. Опытный полководец и не видел в этом нужды – Пожарский понимал, что полковник, не ввязываясь в крупные сражения (это и не было его задачей), уже уходит на запад, к Смоленску. Кроме того, Пожарский заболел – время от времени у Дмитрия Михайловича случались приступы «черной немочи» – неясно, что это была за болезнь, возможно нервная,[70] и он был увезен в столицу.
Командование принял князь Д. П. Лопата-Пожарский, однако казаки знали его как своего недруга, лихоимца и довольно жестокого человека и не доверяли ему. Он пытался преследовать «загонщиков» до Волока Ламского, но не преуспел в этом. Тем временем Пожарский лежал больной в Москве. В феврале 1616 г. в уже цитировавшейся реляции Лисовский сообщал Сапеге слухи о Пожарском от своих агентов из Москвы: «Приехав в столицу, он объявил себя больным, причем договорился с женой и друзьями своими, что заявит о своем желании постричься в монахи, а жена и друзья будут его отговаривать; царь же, заподозрив хитрость, пригрозил ему лишением имений и боярства, бросив обвинение в том, что «ты изменой то творил, что не догнал Лисовского, имея столь великое войско»». На что он в оправдание себе сказал – причиной того, что я не мог Лисовского разбить, был не недостаток сил, но пошлите какого угодно воеводу и увидите, сможет ли он достать его. Не только вряд ли кто мог бы догнать в столь обширной стране Лисовского, но даже если бы кто и схватил его и посадил на кол, да еще кто-нибудь его толкачами вбивал, то и тут бы в него не попал» [175, 25]. Трудно сказать, насколько верны эти собранные в Москве и переданные сплетни и толки, сомнительна история с лицемерным желанием постричься в монахи – такие мысли болевшему человеку вполне могли прийти в голову,[71] но они рисуют явно натянутые отношения князя с двором в этот период и его своеобразный сарказм по отношению к тогдашним правителям, достаточно некомпетентным, чтобы, не справившись с внутренними неурядицами, начать заведомо проигрышную одновременную борьбу за отвоевание Смоленска и Новгорода. Возможно, этот ответ ходил по Москве и вряд ли прибавил любви окружавшей юного Михаила Федоровича камарильи к Пожарскому.
«Королевичев приход»
В этот тяжелый период страну, наверное, спасло от раскола наводившее постепенно на местах порядок земство, неколебимость таких людей, как Дмитрий Михайлович, а также противоречия между польской и шведской ветвями династии Ваза и внутри шведской королевской семьи. Однако если шведский претендент Карл-Филипп испытывал активное противодействие своего собственного брата, то королевич Владислав подрос и весной 1617 г. добился от Сената ассигнований на отвоевание своего престола. Первые столкновения с ним русских войск были для них удачны, воеводам даже присылали награды, однако князья Г. В. Тюфякин, П. И. Прозоровский и Н. И. Барятинский скоро увязли в местнических конфликтах [42, 274–277] и неохотно помогали друг другу. В октябре 10-тысячное[72] войско Владислава (фактически операцию возглавлял многоопытный гетман Ходкевич, у которого были постоянные конфликты с окружавшей королевича лихой, но неопытной компанией его любимцев) подошло к Дорогобужу, чей воевода И. Адодуров ему присягнул как царю.
Множество казаков – и составлявшие гарнизоны окрестных городов, и донцы, бежавшие от репрессий после баловневского движения, даже освобожденные из тюрем в давно взятом Смоленске (т. е., может быть, и уголовники), вступали в его отряды. Князья П. Пронский и М. Белосельский, высланные к Вязьме с отрядами, бежали вослед своему войску, даже «не дождався приходу литовских людей», за что впоследствии были арестованы [177, 300–301, 157, 98]. Пожарский в этой ситуации был снова призван на службу. Под угрозой «лисовчиков» во главе с С. Чаплинским (Лисовский незадолго до этого неожиданно умер) оказался южный путь к Москве. Чаплинский уже разорил Мещовск,[73] Козельск и стоял под Калугой. Гарнизон ее состоял в значительной степени из казаков, которые давно не получали жалованья и вполне могли перейти на сторону Владислава. Но все же они направили в Москву депутацию, «чтобы государь Калуги не выдал… а били челом, чтобы государь послал именно боярина своего князя Дмитрия Михайловича Пожарского» [77, 395].
Просьба была удовлетворена – в сентябре Пожарский прибыл в город, навел порядок – в том числе выплатил жалованье (ему была выдана из казны огромная сумма в 5000 рублей). А в окрестностях Калуги «воровали», не решив еще, чью сторону взять, его старые «знакомцы» – казаки, отколовшиеся от разбитого войска Заруцкого. Узнав о приходе Пожарского, они поспешили встать под его знамена (тем более, что в окончательном разгроме Заруцкого он не принимал участия). Тем временем посланный Ходкевичем отряд П. Опалинского поставил укрепленный лагерь под селом Товарковым, откуда сильно беспокоил Серпухов и Оболенск. Собрав достаточную военную силу (по польским данным, возможно преувеличенным, у него собралось около 6000, из них примерно 1200 стрельцов и 3000 казаков), Пожарский выдержал в декабре тяжелый бой с Чаплинским у стен Лаврентьевского монастыря (любопытно, что в составе неприятельской армии была рейтарская хоругвь некоего Потемкина [177, 112, 205]; этот тогда еще ничем не знаменитый смоленский дворянский род активно служил обеим сторонам), потеряв много убитыми и ранеными. В плен попал, по некоторым данным, его племянник [151, 104].
В январе же 1618 г. Дмитрий Михайлович выслал Романа Бегичева с отрядом в 800 конных и 400 пеших, чтобы построить острожек между Боровском и Калугой, против острожка поляков, которые попытались помешать, бросив на них пехоту и тяжеловооруженных гусар. В кровопролитном бою, в котором погибли русский воевода и командир польской пехоты, неприятель был отбит и острожек построен [177, 112].
Спустя некоторое время командир «лисовчиков» Чаплинский получил от бывших казаков Заруцкого, сидевших в Калуге, известие, что они хотят перейти на его сторону. Для этого они предложили ему завязать бой, чтобы Пожарский их выпустил «на вылазку», а они перейдут к «лисовчикам». В это время осаждавшие Калугу польско-литовские войска получили подкрепление (отряд панцырных гусар П. Опалинского) и решили, надеясь на помощь осажденных, начать штурм ночью. Что произошло далее? Польские источники сухо сообщают о неудаче операции и ничего о переходе к ним, как они их называли, «зарудчиков» (русские источники тоже не сообщают об измене). Пожарский, видимо имея данные разведки, решил применить тот же прием, что и когда-то у Зарайска. Получив сведения от караулов и застав о ночном движении противника к первой линии укреплений – надолбам, князь велел его пропустить и, зажав «литовских людей» между надолбами и стенами, вывел гарнизон на вылазку. Нападавшие были разгромлены. Не лишено вероятности, что предложение казаков было просто военной хитростью или же князь Дмитрий их крепко «прижал».
Однако в конце апреля Калужской армии предстоял новый тяжелый бой. Пожарский опять был нездоров и оставался в городе. Когда же часть его войск вышла за стены с целью разгромить базу Опалинского, в кровопролитной стычке поляки ее разбили, правда, ценой гибели одного из своих командиров. В мае Опалинский опять попытался ворваться в Калугу, его гусарские хоругви пробились в посад, попытались поджечь город, но были отогнаны. В ответ Пожарский напал на новый острожек Опалинского в 8 км от села Товаркова, где собраны были его основные запасы, и, применив свой привычный маневр, застал охрану неподготовленной и разгромил, захватив или уничтожив много провианта, оружия и боеприпасов [177, 106, 113].[74]
В начале июля Б. М. Лыков, державший оборону под Можайском и жестоко потрепанный в неудачных боях, запросил Москву о помощи. Тогда князю Д. М. Черкасскому велено было идти от Волока Ламского к Рузе, а Пожарскому – двигаться от Калуги к Боровску; его передовой отряд должен был построить острожек у Пафнутьева Боровского монастыря. Однако из-за несогласованности действий посланного Пожарским князя В. П. Ахамашукова-Черкасско-го с другими воеводами польская армия нанесла ему сокрушительное поражение, буквально втоптав Черкасского в монастырь и разрушив недостроенный острожек [159, 178–179]. Основные силы Пожарского дошли до монастыря к концу сражения. Укрепив монастырь и приняв подкрепление из стрельцов и астраханских татар, Дмитрий Михайлович получил приказ двигаться к Можайску, близ которого имелся каменный Лужецкий монастырь и другие укрепления. Город этот решено было сделать узлом обороны на подступах к Москве. Под Лужецким монастырем Пожарский построил острожек, чтобы охранять дорогу, связывавшую Можайск с Москвой [177, 134–136].
За рубежом, в Швеции, распространился слух о взятии Калуги и пленении Пожарского (может быть, распространяли «дезинформацию» из Речи Посполитой, а может быть, путали князя с его племянником). Слух обсуждался на проходивших в то время переговорах со шведами, и русской делегации приходилось его опровергать [69, 247].
В феврале 1617 г. был подписан Столбовский мирный договор со Швецией, признавшей нового русского царя за большие территориальные и финансовые уступки. Посредниками выступали голландские и английские дипломаты, особо важна была роль весьма уважаемого в России английского представителя Джона Вильяма Мерика (или, как его звали здесь, «князя Ивана Ульянова»). После заключения мира англичанина торжественно принимали в Кремле, по итогам договора беседу с ним вели князь Д. М. Пожарский с титулом «наместника Коломенского» и боярин Ф. И. Шереметев, а также дьяки Посольского приказа [42, 283; 95, 199]. Но армия Владислава явно перехватила инициативу, к 30 июля основные ее силы, фактически возглавляемые гетманом Ходкевичем, сконцентрировались у Можайска, немецкие саперы и артиллеристы стали методично подводить шанцы и громить крепость, переполненную людьми. Ходкевич, не имея мощной осадной артиллерии, рассчитывал взять город подрывами стен и измором. Был тяжело контужен князь Д. М. Черкасский [77, 402]. В условиях начинавшегося голода в блокированном гарнизоне основной армии надо было оставлять Можайск. Решение это Боярская дума приняла 22 июля.
Пожарский в это время стоял в Боровске, где поставил сильный острог у монастыря и беспокоил поляков частыми рейдами в тылы осаждавших [177, 137–138]. Со своим вторым воеводой князем Г. К. Волконским в начале августа он быстрым маршем оттянул часть войск Владислава на себя, позволив князю Б. М. Лыкову вывести из города основную часть армии и отойти к Москве [157, 100–102; 159, 178–179], оставив гарнизон с В. Ф. Волынским. По пути к Можайску к Пожарскому присоединился доблестный защитник Царева-Борисова К. Ивашкин, долго выдерживавший осаду в своей небольшой, но мощной каменной крепости. Он, видимо, решил, что подкреплений больше не будет, однако Пожарский отправил ему на смену свежие силы – астраханских стрельцов, которым удалось войти в крепость, опередив осаждавший ее польский отряд. Войдя позднее в Борисов и получив настоятельный приказ из Москвы отходить, князь забрал оттуда все продовольствие и боеприпасы, уничтожив то, что было взять нельзя, и в августе опять подошел к Боровску, собрал там около 3000 войска и соорудил острог [177, 138], где встретились с ним покинувшие Можайск воеводы. Черкасский и Лыков оттуда двинулись к готовившейся к обороне столице [159, 178–179].
В Москве возбужденный народ, особенно служилые люди, встретили их неласково, называя изменниками, толпа дворян и посадских во главе с Я. Тухачевским и Б. Тургеневым даже пыталась с ними расправиться [148, 333–334]. Пожарского же направили против армии запорожского гетмана П. Конашевича-Сагайдачного, шедшего с 20-тысячным войском маршрутом и в манере настоящего крымского набега, по пути предавая огню и мечу все южнорусские городки. Он взял уже Ливны, Лебедянь, Данков, Каширу и другие пункты защиты от крымцев, откуда были оттянуты основные силы на запад. Владислав послал ему награды – булаву, хоругвь[75] и пару котлов (которые, видимо, использовались и как сигнальные барабаны). Запорожцы разгромили отряд М. М. Бутурлина, а сам Сагайдачный хвалился, что в бою даже лично так заехал Бутурлину пожалованной булавой по голове, что тот упал с коня [177, 149] (впрочем, головы у членов этого рода всегда были крепкие). Пожарский с выделенным ему войском должен был блокировать переправы через Оку у хорошо известной ему Коломны, куда направлялись запорожцы, но здесь, по дороге к Серпухову, тяжелая болезнь опять дала о себе знать. Однако он не сразу, как обычно считается, был увезен в Москву. Князь еще некоторое время пытался превозмогать недуг. В Серпухове он оставался до начала сентября, куда к нему его второй воевода князь Г. К. Волконский посылал из Коломны (окруженной мощными каменными стенами и устоявшей от запорожцев) взятых языков и гонцов о передвижениях запорожцев. Сохранились сведения о присылках к нему за 17 и 27 августа и 2 сентября; 1 сентября он сам посылал своего лазутчика с вестями к Волконскому в Коломну, а 4 сентября получил он сведения о казачьем круге у Сагайдачного, на котором гетман огласил грамоты королевича [53, 85; 112].
В Москве первоначально надеялись, что удастся собрать войско, разбежавшееся, видимо, после начала болезни Пожарского. 25 августа Разрядный приказ велел провести в Коломне смотр, оказалось, что налицо в «естех» 285 дворян и 43 служилых немцев, литвы, татар. Остальные, «которые дворяня и дети боярские, пошли ис Колуги з боярином и воеводою со князем Дмитрием Михайловичем Пожарским, и были в Боровску, и по смотру июля в 28 день в естех, и тех ныне с окольничим со князем Григорьем Волконским нет ни одного человека». Всего из армии Пожарского, когда он начал болеть, ушло 1164 служилых человека; кроме того, Пожарский сообщал в Москву, что он послал в Коломну к Волконскому отряд в 1280 казаков, но Волконский «смотру не присылывал», т. е. неизвестно, дошли ли они до Коломны [111]. Только где-то в середине сентября князь Дмитрий, окончательно разболевшись, уже не мог координировать действия и покинул войско [149, 112].[76] Романовское правительство явно проигрывало кампанию. Надежда была только на крепкие стены столицы. Созвали Земский собор, принявший срочные меры к обороне. 9 сентября было объявлено полное безместие [61, 565–566].
Пожарский по этому разряду не значится, как многие другие бояре, ответственным за какую-либо часть города, вероятно, он был еще нездоров. Но мы видим его в числе 16 бояр, которым поручено «быти в Москве в осаде», т. е. руководить обороной [61, 564]. (Некоторых бояр, видимо не рассчитывая на их полководческие таланты и боясь их непопулярности у войска, услали из Москвы с поручениями, например, Б. М. Лыкова – собирать ратных людей в Нижний Новгород.) Москва, однако, хорошо подготовилась к осаде. После неудачных попыток штурма Белого города и боя у Арбатских ворот (которые не удалось полностью взорвать благодаря перебежчику – французскому саперу) королевич Владислав и командовавшие войсками гетманы – литовский Я. – К. Ходкевич и запорожский П. Конашевич-Сагайдачный – вынуждены были прекратить боевые действия.
В октябре 1618 г. начались переговоры с представителями Речи Посполитой. Наиболее дальновидные из них, такие, как канцлер Л. Сапега, А. Госевский и др., понимали бесперспективность похода, шляхетские и казачьи полки отказывались продолжать воевать «в долг», а канцлер и другие видели, что момент упущен, русское общество в целом уже не признает своим государем королевича. Ценой больших территориальных потерь (Смоленск, Чернигов и ряд других областей) западный сосед признал царем Михаила Романова и возвращал пленных, в том числе и Филарета Никитича.
Итак, нам не известно, какова была степень участия Пожарского в защите Москвы в «королевичев приход», за исключением памяти о его умелом маневрировании войсками при их отводе. За время кампании его дважды сваливала «черная немочь» – как мы уже писали, видимо, какое-то нервное заболевание. Да и прошли времена, когда взять всю полноту военной власти можно было, минуя все местнические рамки. Вряд ли следует буквально понимать слова жалованной грамоты 1619 г. Пожарскому за отражение «королевичева прихода»: «Стоял крепко и мужественно и на боех и на приступах бился, не щадя головы своей» [154], если вспомнить, что князь прибыл из Серпухова очень нездоровым. Это, скорее всего, просто часть формуляра грамот, выдававшихся всем награжденным (в данном случае князю Дмитрию Михайловичу на пожалованные ему вотчины села Ильинское в Ростовском и Вельяминово в Московском уездах с деревнями и пустошами в 379 четей), однако та часть формуляра, где говорится, что он «многую свою службу и правду к нам и ко всему Московскому государству показал» – реально соответствует действительности.
На службе у двух «великих государей»
1 июня 1619 г. из плена прибыл Филарет. Боярин князь Д. М. Пожарский участвовал в самой первой «встрече» его, вместе с рязанским архиепископом, в только недавно осаждавшемся врагом Можайске. «Встречи» приезжающих высоких персон разделялись по рангам. В зависимости от знатности, местнического положения и политического веса встречающих назначали в первую, вторую и последующие «встречи», причем самым почетным назначением была «встреча» не первая, а последняя, уже во дворце. Таким образом Пожарский в данной службе был на самом «низком» месте. Но здесь, еще вдалеке от московского двора, впервые за много лет встретились два столь разных человека.
Филарет, тонкий политик, когда-то один из первых вельмож двора Федора Ивановича (и его двоюродный брат) и Бориса Годунова, претендент на престол, которого Годунов «переиграл», а затем полностью вывел опалой из политики, насильственно постриженный узник, затем обласканный двумя самозванцами как живое свидетельство и доказательство их «родства», сделанный ими митрополитом и даже патриархом, любимец тушинской казачьей «вольницы», как свой духовный «батька», некогда первый щеголь и охотник в Москве и ценитель латинской образованности, а затем, наверное, частый собеседник умудренного опытом канцлера Сапеги, в чьем доме некоторое время жил в почетном плену, много передумал, готовясь к возвращению, просчитывая разные ходы, гадая о выдвинувшихся новых незнакомых ему деятелях, многого опасался и пытался нащупать почву в грядущей борьбе за власть. Он, наверное, внимательно всматривался в сорокалетнего воеводу, чья звезда взошла в его вынужденное отсутствие. Филарет помнил, может быть, князя молодым стольником, вроде бы противной, годуновской ориентации, и вроде бы даже врагом его шурина Б. М. Лыкова, но потом, кажется, встречавшегося ему при дворе Лжедмитрия I и Василия Шуйского, не слишком заметного, но неожиданно прогремевшего на всю Россию и Польшу – и как явный глава временного правительства, и как победитель самого Ходкевича, по сути, спасший его жену и сына. А теперь Пожарский вроде не принадлежит к какой-либо определенной группировке, что видно уже из того, в какую «встречу» его поставили.
Мог ли Филарет понять человека, чья сабля за время Смуты ни разу не подымалась против собственной совести, кто на Соборе вовсе не ратовал за избрание его сына и рода, но весь жизненный путь которого указывал на один железный принцип – единожды приняв решение, быть ему верным. Первая «встреча» не была, как мы уже указывали, самой почетной для встречающего, вероятно, и окружала обоих не столь многочисленная свита. И возможно, тогда боярину и митрополиту удалось поговорить и выяснить позиции. Известно, что у политика не может быть симпатий и антипатий, а бывают только интересы. По крайней мере два фактора для сближения имелись. Это – пресловутая неколебимость князя в принятом решении и общий с Филаретом недоброжелатель – придворная камарилья из числа родни матери юного царя. Может быть, Филарет, имевший возможность получать иногда письма из дома, был уже наслышан о князе, а может, и в доме Сапеги, а потом в Мальборкском замке обсуждали русских воевод, в том числе и одного, сравнивавшегося в Речи Посполитой с Фабием Кунктатором,[77] несколько медлительного, но стойкого в обороне и порою наносившего неожиданный тяжелый удар. Может, известно было и как особенно ему доверяют служилые люди и казаки не только за то, что, едва оправившись от болезненных приступов, он опять ведет их в бой, но и за то, что он не присваивает солдатское жалованье. Филарет понимал, что верность присяге и организаторские способности пригодятся и в военной, и в мирной службе.
И вскоре положение Пожарского несколько изменилось. В XVI в. приказы возглавляли в основном дьяки – канцелярская служба считалась не слишком почетной для аристократа, а значит, немного записей о подобных назначениях и в разрядных книгах. Но в Смуту, и особенно после 1613 г., происходили изменения, в ходе которых бюрократический аппарат рос и приобретал политический вес. Достаточно вспомнить, что на территории страны единовременно бывало по два, а то и по три полномасштабных правительства (например, в Москве у Шуйского, в Тушине и у Владислава), местные власти брали на себя функции потерявших с ними связь центральных ведомств. И везде требовались люди, умевшие писать и считать, «крапивное семя» – подьячие и дьяки, которые составляли и записывали указы и отписки, вели записные и приходо-расходные книги, умели выдать жалованье, рассчитать налоги и вымерить земельный участок.
«Перелетов» в их среде было едва ли не больше, чем в военно-служилой. После Смуты правительство столкнулось с ситуацией массового перехода движимой и недвижимой собственности в иные руки и к тому же неоднократного, с возникновением множества новых помещиков из казаков, с запутанными отношениями холопства и пр. Архивы этого времени изобилуют делами о закреплении за владельцами их поместий и вотчин, документы на которые погибли в «московское разорение», тяжбами лиц, получивших от разных правительств одно и то же владение, челобитьями состоятельных людей на казаков, записавшихся к ним в холопы и вскоре исчезавших, «снеся» деньги и имущество хозяев.
Административная «штатская» служба князя начинается вскоре после Смуты. Еще в апреле 1616 г. Земской собор постановил собрать второй чрезвычайный налог – «пятую деньгу». Приказ, или комиссию, по его сбору возглавили Д. М. Пожарский, князь-монах старец Дионисий Голицын и архимандрит Чудова монастыря Авраамий. Отчаянное финансовое положение стремились поправить с помощью популярности князя (и, вероятно, уважаемых духовных лиц). Деньги, собиравшиеся с богатых землевладельцев и горожан и с «оброчных статей» (принадлежавших государству и сдававшихся в аренду в городах и уездах торговых мест, бань, перевозов, пристаней, мостов, рыбных ловель, лесных и прочих угодий), за доходы с которых отвечали воеводы, удалось собрать, хотя и в меньшем, чем ожидалось, объеме и раздать на жалованье служилым людям. Возможно, эта временная комиссия функционировала на базе канцелярии уже давно сформировавшейся Галицкой чети – ведомства по сбору налогов с северных городов, четью этой Пожарский ведал с февраля 1617 г. [18, 40, 155]. Это были его первая и вторая, пока еще краткосрочные приказные службы.
Русский боярин, да и вельможа иных стран не имел «узкой специализации», направляясь то воевать, то вести переговоры или управлять провинцией или ведомством. Ныне приходилось поднимать из руин колоссальную державу, одни географические пространства которой превосходили всякое воображение (воевода, назначенный в отдаленный сибирский город, доезжал до места к половине определенного ему срока). Исконным, не преодоленным и по сей день бичом страны были пути сообщения, непорядок в которых за годы гражданской войны еще более обособил отдельные регионы. И с 1619 г. Пожарский назначается ведать Ямским приказом. Нужно было восстанавливать дороги, заново строить ямские станции, находить «ямских стройщиков», деловых людей, бравших подряды на то, чтобы организовывать слободы, куда приглашать на выгодных условиях налоговых и прочих льгот ямщиков – и таким образом укреплять это вечное «слабое место» России. Для учреждения ямов[78] через каждые 30–40 верст, а также поставки населением подвод, кормов, разведения лошадей требовалось много денег. И пришлось ввести специальный налог – от уплаты «ямских денег» не были избавлены даже влиятельнейшие вельможи [69, 249].
Вскоре Дмитрию Михайловичу пришлось выступить в защиту ямщиков. Многие «государевы гонцы», используя служебное положение, сверх меры нагружали выделенные им подводы личным имуществом – «тяжелою кладью… а положит не против государева указу», многие же требовали везти их за казенный счет «в сторону, мимо подорожной, в поместья или в вотчину», третьи пытались штрафовать ямщиков за якобы пропавшую поклажу. К главе приказа стекались жалобы на произвол. В 1620/21 г., вероятно под его руководством, было разработано целое «уложение» – свод из 17 указов, регламентирующих ямскую службу. Ямщики получили большие привилегии – их освободили от основных налогов, от таможенных пошлин, вывели из-под власти местных воевод, подчинив Ямскому приказу, наделили земельными угодьями, даже разрешили винокурение для себя, защитили от самодурства казенных гонцов [47, 105]. Через 9 лет (а Пожарский долго руководил приказом) Дума констатировала, что «ямская гоньба» много улучшилась [69, 248].
Рука об руку с ямским делом шло и ему смежное – борьба с преступностью, расцветавшей, как принято, на дорогах. И с 1621 г. Дмитрий Михайлович возглавляет одновременно и Разбойный приказ. Ведомство это имело свои особенности. В уездах из тех дворян, кто мог организовать боеспособный отряд, избирались губные старосты, которым следовало сыскивать и уничтожать банды разбойников. Согласно «Уставной книге Разбойного приказа», губные старосты подчинены были непосредственно ему, через головы воевод. Разбойный приказ был не только карательно-следственным, но и судебным органом. По инициативе Пожарского были внесены и приняты три новых закона, в том числе суровый – от 14 октября 1624 г., устанавливавший полную ответственность владельца холопа или другого зависимого человека за совершенные последними преступления, даже если преступника уже нет в живых. Пожарский, вероятно, был прекрасно осведомлен, что за грабительскими шайками на дорогах и улицах очень часто стоят их владельцы, респектабельные аристократы, которых, если их холоп-преступник мертв (или хозяин объявил его таковым), невозможно притянуть к ответу [47, 121–122]. Суров был и принятый Боярской думой по предложению Пожарского приговор от 17 февраля 1625 г. о возмещении владельцу убитого холопа. В случае неумышленного убийства (чаще всего в пьяной драке) виновного, холопа или крестьянина, велено было не казнить (в России казнили смертью или членовредительством вообще меньше, чем во многих странах Европы, поскольку рабочие руки, а после людских потерь в Смуту особенно, были дороги), а передавать владельцу убитого с женой, детьми и имуществом [47, 123]. Обратил внимание глава приказа и на перекупщиков краденого. По его предложению Дума под председательством патриарха Филарета 25 июня 1628 г. приговорила: тех, у кого найдут краденое, допрашивать и пытать, допрос под пыткой отныне грозил и перекупщикам «разбойного поличного» [47, 146]. Судопроизводство тоже было далеко от совершенства и нуждалось в упорядочении. По внесенному Пожарским в Думу предложению принят был приговор о порядке явки истцов в суд по данной или поручной записи; причем нарушителей следовало наказывать, в том числе и дворян, освобождавшихся на время государевой службы, но обязанных явиться, как только «с коня ссядут» [7, 303–304].
Деятельность Пожарского в этом ведомстве отразилась и в народном сознании – в 1624 г. в Москву в Разрядный приказ, куда стекались все доносы о каком-либо «умысле на государя», даже в виде простого бытового упоминания царя, пришло сообщение о разговоре крестьян Комарицкой волости: «Дай господи… государь здоров был, а нынче де смиряет воров боярин князь Дмитрий Михайлович Пожарской» [13, 99—100].
В 1630/31 – 1631/32 гг. Дмитрий Михайлович служил в одной из самых важных правительственных комиссий «Приказ, что на сильных бьют челом» [18, 132]. В него обращались мелкопоместные служилые люди, притеснявшиеся крупными землевладельцами. Служилые люди, имевшие маленькие поместья, которые часто давали на новоосваиваемых территориях, например на юге, за Рязанью, на пороге Дикого поля,[79] и обслуживавшие засечные черты (тогда в массовом порядке велись ремонты и строительство) от набегов крымцев, должны были по полгода проводить в седле на заставах, собираться в походы на войну, и все это – за счет своих крестьян, которых было очень мало. Соответственно, страдавшие от непомерных расходов крестьяне стремились уйти к хозяину побогаче, в огромных многолюдных латифундиях какого-нибудь боярина напряжение было меньше. Однако страна еще не могла обойтись без поместного войска, а судиться с «сильными людьми» простому дворянину было невозможно. Поэтому и создана была такая комиссия, существовавшая не постоянно, а спорадически, когда особо обострялись противоречия, вылившиеся позднее, в 1648 г., в социальный взрыв, приведший к Соборному уложению 1649 г., которое окончательно закрепило крестьян за землевладельцами и посадских людей за своими общинами. Приказ этот возглавлялся, как правило, влиятельными, богатыми и популярными деятелями – такими, как князь Д. М. Черкасский, бояре Ф. И. Шереметев, В. П. Морозов. Комиссия работала обычно на базе так называемого Приказа приказных дел, который был создан для борьбы (впрочем, практически безуспешной) со знаменитой бюрократической приказной «московской волокитой». Пожарский ведал его делами в 1630/31—1632 гг., затем последовало новое судебное назначение – с июля 1634 до 1638 г. и в 1639–1640 гг. он возглавляет Московский судный приказ – высшую инстанцию для судебных дел провинциального дворянства [18, 132].
Последним по времени «министерским» назначением Пожарского была организация в 1631 г. Приказа сбора ратных и даточных людей в преддверии готовившейся войны – реванша за Смоленск. В приказе этом набирались ратные люди, здесь их организовывали и обучали военному делу по современному западному образцу, кроме того, приказ отвечал и за сбор с помещиков, монастырей и других землевладельцев «даточных людей» [69, 250] – крестьян во вспомогательные части – обозы, перевозку орудий, строительство укреплений.
Филарет с 1619 г. постепенно забирал власть в свои руки. Медленно, осторожно он менял на ключевых должностях ставленников бывшей жены на верных ему и более дельных людей. С 1624 г. появилась никак не именовавшаяся должность главы одновременно трех особо важных приказов – Стрелецкого, Большой казны и Аптекарского (они контролировали московский гарнизон, государственные финансы и «государское здоровье»), которую стали занимать наиболее надежные и близкие к правящей династии лица – первым таким «премьер-министром» был князь И. Б. Черкасский, а после его смерти в начале апреля 1642 г. – Ф. И. Шереметев [149, 18]. Эти люди были верны и очень компетентны. Ф. И. Шереметев, возможно, тогда водил дружбу с Пожарским,[80] который, вероятно, оправдал его ожидания в деле руководства путями сообщения, борьбой с уголовщиной (некогда боярин Федор Никитич сам перед опалой ведал Разбойным приказом) [85, 195].
Быстрее всех, пожалуй, уже в 1620 г., был смещен начальник Стрелецкого и Панского приказов, т. е. командующий самой боеспособной и приближенной ко двору силой – московскими стрельцами, а также набором наемников – князь А. В. Лобанов-Ростовский, – он даже попал в опалу. По свидетельству одного иностранца, князю было поручено сопровождать Михаила Федоровича с отрядом стрельцов в Новодевичий монастырь, он был почему-то этим недоволен и вполголоса бранил царя, о чем тут же донесли, и князя сослали [103, 23]. В Тобольск поехал воеводой князь Д. Т. Трубецкой, неудачливый претендент на престол; он стал как бы «хозяином» богатейшей Сибири, но, конечно, это была почетная ссылка. А когда после заключения Столбовского мирного договора со Швецией Новгород опять отошел к России, в город, который в свое время безуспешно пытался отвоевать Д. Т. Трубецкой, воеводой вскоре поехал Пожарский.
Это был второй по экономическому и политическому весу центр страны, и назначение управлять им означало особое доверие. Недаром весь XVI в. шведские короли сносились с русскими царями только через новгородских наместников (традиция эта возникла из-за того, что Швеция несколько веков была зависима от Дании, и по рангу наместники датского короля общались с новгородскими наместниками, но и после того, как страна восстановила независимость, московское правительство долго не хотело менять «старину», пребывая в постоянном этикетном споре). Новгород оставался еще центром торговли через Балтику, имел и важное культурное значение. В частности, именно туда традиционно приезжали сыновья и служащие иноземных коммерсантов учиться русскому языку. Сохранились царские наказы Пожарскому о том, по каким правилам это разрешено – «немцы» – ученики должны были приезжать в сопровождении своих отцов или иных родственников, их распределяли на учебу в посад, к церковным дьячкам, которые, видимо, держали школы для прочих новгородцев. Однако запрещалось приезжать политически подозрительным, например перебежчикам или заподозренным в шпионаже. Полагалось также следить, чтобы протестанты не посещали православных богослужений, а если кто пожелает принять «греческую веру», то предупредить, что дорога домой будет закрыта, православный автоматически становился царским подданным. В то же время не возбранялось ездить за рубеж к родственникам – семьи часто разделялись границей [6; 69, 249–250]. У приезжих же русских следовало выяснять, «не пошатались ли они в вере», живя среди лютеран.
В Новгороде князь провел два года – с 1628 по 1630. Видимо, не случайно весьма информированный чиновник короля Сигизмунда секретарь Ян Гридич, «писарь руский» в канцелярии Великого княжества Литовского, отмечал в 1619 г., что патриарх весьма жалует Пожарского и сына Козьмы Минина – Нефеда. В 1622/23 —1629/30 гг. Дмитрий Михайлович не менее 37 раз приглашался к царскому столу, больше него приглашались только бояре М. Б. Шеин (47 раз) и князь Д. И. Мезецкий (45) [90, 227].
Филарет, как уже говорилось, изменения в аппарате производил постепенно, ликвидируя влияние прежнего окружения, от «великородных» до «худородных». В 1623 г. патриарх поднял дело царской невесты М. Г. Хлоповой, расследование вскрыло интригу родственников «великой старицы» Марфы – Салтыковых, сорвавших женитьбу юного царя на любимой девушке; их велено было лишить думных чинов и сослать, а в 1628 г., видимо тоже с опалой, лишился важного поста постельничего еще один дальний ее родственник, К. И. Михалков [20, 22].[81] Расколота романовская группировка, замечают современные исследователи, была тонко и умело: изгнанию подверглись те, кто явно злоупотреблял властью, служебным положением, был бездарен [96, 314–316]; добавим еще, и непопулярен в народе, так что опалы воспринимались массами без сожаления. И именно на время правления Филарета приходится наиболее интенсивная служба Пожарского в приказах.
В 1630-е годы князь исполнял и другие, обычные для боярина функции: проводил «разборы» служилых людей, проверял готовность городового дворянства к службе, здоровье, вооружение и материальные возможности служилых людей и определял им поместные оклады. Это было ему не в новинку. Во время Смуты, еще не имея большого канцелярского аппарата, князь многое вынужден был делать лично – например, 22 декабря 1617 г. казак И. Ларионов просил в Галицкой чети подтвердить свой оклад – «и сыскано в Розряде в столпе 121 году (т. е. 1612/13 г. – еще в период «Совета всей земли»)… Ивашку Ларионову помесной оклад учинено 250 чети, денег из чети 8 рублев, а на выписке ево помета боярина князя Дмитрея Михайловича Пожарсково» [162, 307].
Еще одним фактом, подтверждающим благоволение Филарета, было включение многих сведений о Пожарском в «Новый летописец» – книгу, которая создавалась в 1620– 1630-е годы в кругах, близких к Филарету, и, возможно, под его редакцией, которая должна была продолжить официальное летописание и создать «руководящую» версию событий Смутного времени. Летопись эта не была завершена, видимо, по причине уменьшения влияния престарелого Филарета в последние годы жизни [29, 376–379].
В книгу, в частности, вошли уникальные, более нигде не встречающиеся сведения о ранних победах Пожарского, источником здесь мог быть либо он сам, либо кто-то очень информированный из его окружения [29, 302–314]. Заметим, что большинство Салтыковых упомянуто в летописце в крайне негативном ключе [29, 297–302]. Некий шведский дипломат, побывавший в России в 1620-е годы и уехавший в 1624 г. (по современным данным, это был голландец И. Масса, автор известной книги о России), в своих донесениях давал характеристики виднейшим в то время лицам. Он, перечисляя, в частности, «наиболее знатных бояр, которых я знал в Москве», ставил Пожарского в списке на 13-е место и в таких выражениях – «князь Дмитрий Михайлович Пожарский, ему предано было все общество» [103, 19–20].[82]
Смоленская война
К началу 1630-х годов, казалось, могла сбыться заветная мечта правительства Филарета – возвращение Смоленска. Европа все крепче увязала в Тридцатилетней войне, деятельнейшим участником «протестантского» альянса выступал шведский король Густав-Адольф, со времени своих неудач под Псковом многому научившийся и ставший одним из лучших полководцев эпохи. Россия активно помогала ему хлебом и финансами, Швеция присылала новейшее оружие и военных специалистов. Речь Посполитая же была неявным, но деятельным помощником «католического» альянса. Наемные отряды знаменитых «лисовчиков» наводили ужас на всю Европу, проскакав Венгрию, Чехию, Австрию, Италию, Баден и германские земли до французских границ [173]. Смерть в апреле 1632 г. Сигизмунда III давала России шанс на открытие «восточного фронта» общеевропейской войны против ослабленной, как это бывало обычно в период «бескоролевья», Речи Посполитой.
Земский собор июня 1632 г. разорвал Деулинское перемирие и объявил войну. Но кампанию почти с самого начала стали преследовать неудачи. Назначенные первоначально воеводы – князья Д. М. Черкасский и Б. М. Лыков, оба состоявшие в родстве с Романовыми, видимо, недолюбливали друг друга и сразу разругались. Лыкова особо возмутило, что он стал вторым воеводой у весьма молодого по сравнению с ним человека. Он бросил Филарету, своему шурину, что-де уже стар подчиняться – более 30 лет ездит со своим набатом,[83] и вообще наговорил патриарху массу грубостей, после чего оба воеводы были отставлены [62, 374–377; 43, 269–270]. Тогда первым воеводой назначен был боярин М. Б. Шеин, известный своей героической обороной Смоленска 1611 г., а вторым к нему – князь Д. М. Пожарский. Во время «отпуска» воевод в Боярской думе в присутствии патриарха, видимо, была очень нервозная обстановка, происходили споры, о содержании которых нам неизвестно. Шеин зачем-то устроил скандал, оскорбляя бояр (однако, неясно, кого именно) намеками на их трусость и «вычитывая» свои былые подвиги, что выглядит на современный взгляд странно, если вспомнить, чем закончилась оборона Смоленска. Пожарский, как бы предчувствуя грядущую беду, заболел и был сменен А. В. Измайловым. Возможно, тогда ему дали другое задание – его авторитетом в который раз воспользовались для сбора средств на войну. В ноябре 1632 г. решением Земского собора Пожарский возглавил комиссию для очередного сбора «пятой деньги» вместе с уважаемым архимандритом московского Симонова монастыря Левкием и М. Ф. Глебовым [5].[84]
Долгие сборы поместного войска, неоконченная выучка полков «нового строя» и другие неурядицы не позволили использовать благоприятный политический момент. Если города на пути к Смоленску сразу сдавались и целовали крест царю Михаилу, то сам город, одна из мощнейших в Восточной Европе крепостей со стенами и башнями работы знаменитого Федора Коня, оставалась крепким орешком, и это несмотря на небольшой гарнизон и мощную осадную артиллерию, подвезенную Шеиным. Видимо, только теперь боярин понял, что оборонять крепость легче, чем ее штурмовать.
Когда период избрания нового короля в Польше закончился, молодой Владислав IV начал формировать армию, которая должна была снять осаду. Тем временем с юга на русские рубежи двинулись запорожцы, верные королю, они разорили ряд городов и разбили выставленный против них заслон; усилились и крымские набеги, что безусловно было искусно скоординировано новым польским правительством. Эти набеги имели еще одно негативное последствие: дворяне – помещики южных уездов побежали из армии спасать свои земли, семьи, имущество. М. Б. Шеин не проявлял особой активности, окружив свой лагерь укреплениями, он собирался взять город измором. Однако Владислав со своими полководцами успел собрать армию, которая осуществила тот маневр, который не удался Ходкевичу в 1612 г., – окружить осаждающих. Армия Шеина быстро таяла, из осаждающего он превратился в осажденного – а он был явно не Пожарский.
Неудачи, видимо, подкосили железное здоровье Филарета – более чем 80-летний старец, выдержавший аресты, ссылки, взлеты и падения, умер 1 ноября 1633 г. В помощь Шеину начали собирать вторую армию. Почувствовавший себя лучше Пожарский сначала опять поставлен был собирать «пятую деньгу» на нужды войска, а также летом 1633 г. дважды участвовал в сборе воинских сил «на берегу» для обороны от «прихода» крымцев [69, 251]. Шеин же проявлял крайнюю безынициативность. Даже блокированный, он находился в прекрасно укрепленном лагере и имел еще значительно больше войск, чем неприятель, но не попытался прорвать довольно тонкое окружение. Бездействие Шеина удивляло и соратников, и противников.
В октябре 1633 г. началась организация вспомогательного корпуса под командованием Д. М. Черкасского и Д. М. Пожарского [151, 122–123]. K ним в полк назначены были многочисленные чины Государева двора – стольники, стряпчие, московские дворяне и жильцы, а также городовые дворяне, а на жалованье собрана была огромная сумма – 50000 рублей [58, 213]. Однако было поздно. Полковой шатер (штаб) воевод должен был находиться в Можайске, там же планировали провести смотр войска. Служилые люди собирались крайне медленно. О качестве подобного войска позднее, в 1656 г., колоритно писал князь Н. И. Одоевский: «…городовые дворяня и дети боярские, которые написаны в списках… безконны и безодежны, в лаптях, и многие везут тележенка сами, а иные бредут пеши» [75, 195]. Пожарский и Черкасский, как могли, торопили неповоротливую дворянскую мобилизационную машину, но к январю 1634 г. у них было только 300 дворян, к марту прибыло два полка солдат в 3200 человек [114], а позднее собрали не более 4–5 тысяч. По данным польской разведки, собралось вообще не более 3000 [176, 197].
Неудивительно, что, проходя по своей стране, эти обнищавшие дворяне, силой вызванные на войну, порой устраивали настоящие погромы, в 1632 г. дети боярские брянчане, идя, видимо, к Смоленску, в селе Мокром Серпейского уезда «крестьян били и грабили, и всякими муками мучали, и животы все выграбили, и… лошеди, коровы и овцы – выгнали, и выграбя, те деревни пожгли» [75, 187]. Неудачей закончились и попытки привлечения на царскую службу казацко-крестьянских отрядов, под предводительством Ивана Балаша, в Можайск они не пришли. К тому же 18 марта в Можайске разразился большой пожар, уничтоживший имущество и припасы стоявших лагерем войск,[85] Дмитрий Михайлович писал в Москву: «…не токмо что рух-ледишко и запасенки, ничево не вынесли, все погорело, и ноне я… на твоей государевой службе и с людишки помираю голодною смертью – ни занять, ни купить… негде, вели государь мне… пожаловать из можайских из твоих государевых житниц взаймы запасу до просухи…» (из-за распутицы доставить новый провиант было невозможно) [114]. Просьбу удовлетворили, выдав из городских складов сухари и крупы.
Отряд Черкасского и Пожарского без особого успеха повоевал с передовыми частями польско-литовской армии, обошедшими Смоленск и продвигавшимися к центру страны, но натолкнувшимися на этот заслон и далее не пошедшими. Неизвестно, действительно ли войско Шеина ощущало крайнюю нехватку провианта и боеприпасов (ведь в Смуту бывало и похуже!) или это было только предлогом для капитуляции. И 26 февраля Шеин и Измайлов, не сделав ни одной попытки пойти на вылазку и очевидно полностью потеряв управление войском, сдались. Второй «смоленский триумф» широко праздновался в Речи Посполитой: на медали, выбитой по этому случаю в Гданьске, Шеин изображен на коленях перед восседающим на коне Владиславом, тот же сюжет запечатлен был в картинах маслом, украсивших королевские замки в Варшаве и Кракове, а также в широко опубликованной в Европе огромной карте – виде Смоленского сражения работы голландского гравера В. Гондиуса [73]. У Черкасского и Пожарского, как мы видели, не было достаточно сил для помощи Шеину, их отряд осуществлял скорее функции прикрытия путей в центральную часть страны и на Москву. О капитуляции Шеина Кремль известили Пожарский с Черкасским еще в конце февраля, и Михаила Федоровича особо возмутила ее крайне унизительная форма, бросающая тень и на царскую честь, чего Шеин мог бы и избежать. Пушки и знамена были оставлены неприятелю, воеводы публично били челом королю, а русские из Смоленска, перебежавшие в ходе осады к Шеину, были им выданы и казнены как изменники.
Шеин, трагичность судьбы которого, конечно, несомненна, был, наверное, единственным в военной истории полководцем, потерпевшим поражение и сдавшимся дважды в одном и том же месте и тому же самому противнику, правда, с промежутком в 22 года. Возможно, Филарет, благоволивший к Шеину, долгое время проведшему, как и он, в польском плену, поступил бы милостивее, но пришедшее к власти новое правительство, в котором влиятельны были вернувшиеся из ссылки Салтыковы и другие обиженные покойным Филаретом, жаждало найти и наказать виновных. В России, как правило, не наказывали за проигрыш боя и за сдачу в плен. За «полонное терпение» часто награждали. Но в данном случае Боярская дума, желая, видимо, оправдать тяжкое поражение, пошла на громкий процесс, и несчастные Шеин и Измайлов, обвиненные в измене, были приговорены к смерти вместе с находившимися при них в армии сыновьями [58, 217–219]. Припомнили Шеину и публичные оскорбления бояр, его «грубые и поносные слова», в том числе о том, что они, пока он воевал, «за печью сидели». Обвиняли его, правда без доказательств, и в том, что он, попав в первый раз в плен и присягнув Владиславу, якобы потом, после избрания Михаила Романова, оставался тайным «изменником», сторонником королевича, и сдался в этот раз, сохраняя прежнюю присягу (если бы это было правдой, он не вернулся бы на позор в Россию). Но, наряду с подобным абсурдом, на процессе вскрылось много действительно шокирующих обстоятельств. Например, сыновья Шеина и Измайлова в лагере вели разгульную жизнь (не следует забывать, что множество участников этой войны с обеих сторон со времен Смуты были близко знакомы, младший Шеин, например, провел детство в плену в Польше с отцом). Во время постоянных перемирий противники ездили из лагеря в лагерь в гости и бражничали. Особенной находкой для судей стал факт присутствия среди польских офицеров, веселившихся с сыновьями русских воевод, брата И. М. Заруцкого Захария, считавшегося, естественно, одним из главных врагов новой династии. Отметим, кстати, отличие Пожарского от Шеина, характеризующее обоих. Сыновья Дмитрия Михайловича никогда не позорили отца своим поведением, но в Можайске под его начало попал дальний родственник, князь Федор Пожарский. Сведений о его службе в разрядных записях и боярских книгах не имеется; пьяница и дебошир, он, видимо, никуда не назначался [146, 534; 151, 135][86] и, пользуясь своим громким именем, продолжал безобразничать в условиях войны. Дмитрий Михайлович пытался по-родственному урезонить его, но когда усилия оказались тщетными, не замял скандал (например, отправив его в деревню), а потребовал (вместе с родным дядей Федора князем Д. П. Лопатой-Пожарским) от Разрядного приказа примерно наказать родственника, который «на службе заворовался, пьет безпрестанно, ворует, по кабакам ходит, пропился донага и стал без ума, и дяди не слушает» [151, 135–136]. Козырем в руках обвинителей Шеина стали и события вокруг крепости Белой – после взятия Смоленска Владислав и гетман Я. Радзивилл решили двинуться к Москве – не за тем, чтобы взять ее, но для усиления своих позиций на переговорах. Обойдя Можайск, который не взяли и в 1618 г. и в котором ныне укрепился Пожарский, они подошли к маленькой крепости Белой, где у молодого воеводы князя Ф. Ф. Волконского было около 1000 человек гарнизона и всех вооруженных горожан, а у Владислава IV – от 7 до 8 тысяч; однако, имея 8-кратное преимущество, польско-литовское войско с конца марта по середину мая 1634 г. так и не смогло взять Белую, Волконский же не только отбился, но и в удачных вылазках взял пленных и знамена [176, 216–230; 30, 83].
Процесс над Шеиным и Измайловым при этом организовали и завершили в неприлично короткие сроки (2 марта – 28 апреля). Пожарский и Черкасский до июля оставались в Можайске [43, 374]. Казнили М. Б. Шеина и А. В. Измайлова с сыном, сына же Шеина помиловали, но он умер по пути в ссылку. Новые властные группировки, видимо, стремились успеть с расправой до того, пока не консолидируются силы их противников, ошеломленные смертью патриарха и военной катастрофой, постигшей их политический курс. Заметим, что Пожарский и прочие воеводы – участники кампании никак не пострадали. Правда, возможно, попытки дискредитировать его в этот момент и были. Именно в 1634 г. во время переговоров о размежевании границ с Литвой «заместничали» посланные на межевание границы межевые судьи: Л. Г. Сумин-Курдюков бил челом на князя В. Г. Ромодановского в отечестве, обвиняя его также в служебных злоупотреблениях, а последний «извещал» на Сумина, якобы в запальчивости кричавшего, что его однородец князь Д. М. Пожарский в 1613 г. «воцарялся и царства докупался, и стало это ему в 60 тысяч». Это послужило поводом для особого расследования, хотя всем и так было известно, что Пожарский, как и многие другие, рассматривался тогда общественным мнением как один из кандидатов, так же как и то, что он, в отличие от Трубецкого, не собирался «докупаться», да еще тратя какие-то астрономические суммы, коих у него никогда и не было (2–3 тысячи стоило тогда большое село с сотней дворов). Сумин испугался политического обвинения и на всякий случай все отрицал, заявив, что Ромодановский «извещал… затеяв по недружбе небылые речи». Дело рассматривалось в Посольском приказе и тянулось до 1639 г. уже как ссора [168, 122; 108], но мимо этого неосторожного словца или сплетни, ничем не подтвержденной, не прошел ни один историк Смуты с момента его публикации в середине XIX в. (а некоторые стали, к сожалению, рассматривать сплетню всерьез).
В том же году стряпчий И. А. Бутурлин, представитель одной из не самых знатных ветвей известного боярского рода, во время поездки посольства во главе с Ф. И. Шереметевым на мирные переговоры подал челобитную, в которой предложил ряд реформ, связанных с поражением в Смоленской войне. Он предлагал создать орган наподобие постоянно действующего Земского собора, реорганизовать дворянское ополчение по типу рейтарских полков, а кроме того, ограничить количество кабаков, принадлежавших частным лицам (право на их содержание было большой привилегией). В частности, И. А. Бутурлин указывал: «Да в Можайске ж многие кабаки, уйму от бояр нет, и у боярина князя Дмитрея Михайловича Пожарскова заведены своа кабаки во многих местех, и от того дешевова питья разошлися многие ратные люди и пешия, и конныя, пропився» [58, 225–226; 117]. Надо заметить, что князь держал кабаки не с целью наживы – на нем, как и на любом другом крупном вельможе того времени, лежали многочисленные обязанности по организации, снабжению и вооружению больших воинских отрядов из своих боевых холопов, посошных и даточных людей, бояре были обязаны бесплатно поставлять в армию провиант. Так, Пожарский финансировал в 1632 г. перевозку основной части хлебных запасов в войско Шеина (причем большую сумму выделил только царский дядя Иван Никитич), около 1633 г. князь за свой счет вооружал Спасо-Евфимьев монастырь, опасавшийся усилившихся в тот год крымских набегов, снабдив его 12 пушками [69, 256].
Последние службы
Смена правительства, обусловленная уходом государя-патриарха, вроде бы не сильно повлияла на судьбу Пожарского. Дмитрий Михайлович в 1634 г. был назначен в Московский судный приказ, где пробыл до 27 ноября 1640 г., он по-прежнему принят в Кремле (как за царским столом,[87] так и сопровождая Михаила Федоровича в традиционных царских поездках-паломничествах на богомолья в монастыри). На обеих царских свадьбах – с княжной М. В. Долгорукой в 1624 и с Е. Л. Стрешневой в 1626 г. – он исполняет почетную роль «второго дружки», а княгиня Прасковья Варфоломеевна – «свахи с государевой стороны» [42, 629–643, 762–787; 151, 129]. Пожарский – частый член боярских комиссий, оставлявшихся в Москве на время отсутствия государя, уезжавшего в «походы» в монастыри.[88]
Неизвестно, сохранил ли он позднее то положение, о котором писал упомянутый выше швед в 1624–1625 гг., называвший его имя среди 19 «знатнейших господ Боярской думы [Государственного совета] в Москве, которые там ежедневно бывают у великого князя» [103, 23]. В 1637 г. Пожарский участвовал в организации строительства Земляного города – новой линии укреплений вокруг Москвы («чертили Деревяной город, как делать», причем участок за Яузой «чертили» боярин князь Д. М. Пожарский, А. И. Загряжской и дьяк Ф. Кунаков; 27 сентября начали строительство: «А за Яузою вал земляной указал государь делать боярину князю Дмитрею Михайловичу Пожарскому…» [43, 555–556]), видимо, тогда возник Приказ городового дела, в 1630—1640-е годы ведавший этими строительными работами [69, 253].
После взятия в 1636 г. донскими казаками Азова и ответного набега брата крымского хана Сафат-Гирея 1637 г. Земский собор приговорил собрать средства на оборону. 5 (или 1) апреля 1638 г. Дмитрий Михайлович был назначен первым воеводой Рязанского разряда обороны от крымцев. Но в этот раз следовало провести проверку укреплений не только самого города, а всего Рязанского разряда, военно-территориального подразделения, включавшего весь край. Рязанщина была хорошо известна князю. У него были там поместья, он, наверное, вспоминал сражения, которые вел у Зарайска, и его там знали как соратника, а то и оппонента П. П. Ляпунова, лидера рязанцев в Смуту. Переславль-Рязанский являлся важным узлом обороны против набегов, и надо было обследовать все «перелазы» от устья Угры до Рязани, где тогда велось строительство новых городов и острожков (в 1635–1639 гг. – около десяти) [74, 293–295]. Требовалось восстановить земляные валы, «тянуть» линии засек и других укреплений. «… И в которых местех у засек… по их досмотру быти острогу или земляной крепости… и обослаться на Тулу… с… князем Иваном Борисовичем Черкасским [т. е. к главному воеводе]… в тех местех устроить острог деревянной или земляную крепость, а учинить вскоре, чтобы в тое крепости в приход крымского царя… ему боярину… со всеми служилыми людьми… быть безстрашну и надежну» [116], – предписывалось в наказе.
Еще 26 марта Пожарский уехал в Рязанский уезд проверять местные засеки и осмотрел их на 49 верст 500 сажен. Его «дозоры» отличались, судя по сохранившимся документам, особой тщательностью [23, 234–250]. «Досмотрев» укрепления до 1 июня, Пожарский запросил у Разрядного приказа 4400 человек на строительство [23, 187], но ему отказали, ответив, чтобы он обходился своими силами: «ту крепость… делать ратными людьми, которым указано быть с ними» [117], и укрепления были восстановлены силами уезда, возможно отчасти и на его личные средства [69, 253]. Князю в случае военной опасности велено было оборонять участок «от Осетра реки по Волчьи ворота, от Волчьих ворот по Дураковские ворота, от Дураковских ворот до Веденских ворот до Оки» [101, 136]. Здесь он познакомился и подружился с настоятелем рязанского кафедрального собора Успения Богородицы протопопом Симеоном, которому позднее завещал 5 рублей и собственные охабень[89] и ферязь[90] [169, 145].
Пожарский неоднократно участвовал в дипломатических переговорах. Первым опытом его были еще переговоры с новгородскими послами и шведскими властями Новгорода, а также с австрийскими дипломатами в бытность его во главе правительства в Ярославле в 1612 г., затем его известность и авторитет нередко использовались властями в международных делах. Недаром еще на переговорах под Смоленском в декабре 1615 г. послы Речи Посполитой, споря с русскими представителями о том, кто виноват в кровопролитиях в Москве в 1611–1612 гг., на русские обвинения, что «Литва поспольство (т. е. население) побила и казну разорили», отвечали, что «то не есть так, людей ратных, холопов боярских и стрельцов много в те поры в Москве было, и Пожарского, которого вы в больших богатырях считаете, первого дня на бою в Китае-городе и иных многих постреляно» [3, 94], отметим, что в польском языке слово «богатырь» имеет несколько иной смысл – оно означает не «силач и храбрец», а «герой» (соответственно, например, «богатерство» – героизм).
С польско-литовскими представителями Пожарский и лично не раз встречался за столом переговоров. Так, в феврале 1635 г. в Москву прибыло посольство короля Владислава для ратификации царем Михаилом заключенного 14 июня 1634 г. Поляновского мирного договора. В церемонии его встречи участвовал и сын Пожарского стольник Петр, командовавший одной из «сотен» почетного эскорта из 34 стольников [43, 414]. Преговоры с послом А. Песочинским «с товарищи» вела назначенная «в ответ» комиссия в составе бояр Ф. И. Шереметева и князя Д. М. Пожарского, окольничего князя Ф. Ф. Волконского и руководителей Посольского приказа думного дьяка И. Т. Грамотина и дьяка И. А. Гавренева. Переговоры по, казалось, уже заключенному соглашению продолжались из-за юридического и политического казуса – Россия хотя и проиграла Смоленскую войну и лишалась по договору солидных территорий, платила большую контрибуцию, но на условиях отказа Владислава от претензий на царский трон и возвращения грамоты о его избрании 1610 г. (утвержденной тогдашней Боярской думой, в том числе и Романовыми). Однако за прошедшие 25 лет этот важнейший документ был в Варшаве утерян (поиски в архивах и в домах канцлера Сапеги и подканцлера Крыйского, которые уже умерли, результатов не дали). В конце концов было договорено, что король и Сейм составят и подпишут специальный протокол об этой утере, подтверждающий отречение Владислава. 19 марта 1635 г. в Кремле Михаил Федорович утвердил мирный договор, поцеловав крест. При этой церемонии шапку Мономаха держал князь И. Б. Черкасский, тогдашний глава правительства, скипетр – Ф. И. Шереметев, крест же на блюде подносил царю Дмитрий Михайлович со своим дальним знатным родственником, боярином князем А. В. Хилковым; 21 марта Пожарский присутствовал на торжественном царском обеде в честь отпуска послов [100, 404–406; 69, 253]. Спустя два месяца король с 20 высшими сановниками – «панамирадой» подписал требуемый протокол, а через год такую же грамоту прислал и сейм за подписями 208 депутатов [95, 443–445]. Интересно, что вторым послом в Москве был Леон Казимир Сапега, сын покойного канцлера, а в 1642 г. среди ценных коней Пожарского числился один, который звался «жеребец гнед Сопегин сын» [100, 405].[91] Вероятно, он был подарен Пожарскому молодым Сапегой, наслышанным о князе от старших членов семьи (традиционный обмен подарками происходил не только между монархами, но и между послами). В апреле—мае 1640 г. князь вместе с боярином И. П. Шереметевым опять вел переговоры с польскими посланниками (в связи с восставшими запорожцами, укрывшимися в России) [44, 632, 635]; по русскому дипломатическому обычаю главам посольской делегации присваивался номинальный почетный титул царского «наместника» в каком-либо городе, дабы поднять его авторитет; Пожарский всегда выступал с титулом «наместника Коломенского».
24 июля 1633 г., когда Москва готовилась к обороне от очередного крымского набега, Пожарский назначен был на участок за Яузой с В. И. Толстым и дьяком Г. Волковым [43, 335], а спустя месяц встречал там же прибывшего на переговоры посла татарского царевича [43, 340]. В августе 1639 г. он участвовал вместе с князьями А. В. Хилковым и Ф. Ф. Волконским в переговорах с крымскими послами [69, 253; 43, 612, 613].
Летом 1633 г. в Москву прибыл шведский посланник Г. Беренсон, привезший грамоту от регентского совета при малолетней королеве Христине с просьбой продолжить союзнические отношения после гибели короля Густава-Адольфа. Принимавших его бояр озадачило странное оформление его грамоты – она была запечатана не королевской печатью, а двенадцатью печатями членов риксдага. Дабы не «умалить государевой чести», ответную грамоту тоже запечатали печатями членов Боярской думы, среди которой можно найти и печать, по изображениям своим (на щите птица, попирающая дракона, щит держат два льва), сходную с предыдущими двумя печатями Пожарского [170, 205, 223].
Часто входил Пожарский в боярские комиссии, остававшиеся на время выездов царя из Москвы на богомолье, только в последние годы (с 1635 по 1640 г.) он «ведал» Москву 7 раз [43, 409, 538, 539, 557, 620, 636, 637], причем 4 раза – вместе с Ф. И. Шереметевым и 3 раза – с И. П. Шереметевым. Участвовал Пожарский и в придворных церемониях, в свадьбах и похоронах членов царской семьи. Так, в 1637 г. он провожал из Москвы прах датского королевича Иоганна, жениха царевны Ксении Годуновой, которого он, будучи стольником при тогдашнем дворе, возможно, знал в юности [43, 530]. Пожарский постоянно приглашался к царскому столу: только с 1633 по 1641 г. он был «у государева стола» 30 раз [43, 326–671].
Местничества Пожарского
Дмитрию Михайловичу, чья карьера сделала большой чиновный скачок, приходилось часто отстаивать свое право на высокие ступени в иерархии, поэтому уже давно было отмечено, что он – когда невольный участник, а когда и инициатор местничеств, которых на его жизнь пришлось около 22. О первых конфликтах времени его молодости мы рассказывали, основная же часть падает на время его боярства, когда он в основном защищал себя и свой род, который было легко «утянуть» прежними низкими назначениями предков. Конфликты начались сразу с приходом к власти Романовых, впрочем, в условиях бережного восстановления старого иерархического порядка они возникли бы в любом случае. Уже в июле 1613 г. от «сказывания» ему боярского чина пытался отказаться Г. Г. Пушкин, и почти тогда же сам Пожарский пытался отказаться от «сказывания» боярства Б. М. Салтыкову, за что был жестоко наказан (Пушкина тоже заставили, но смягчили приговор объявлением безместия) [42, 330; 15, 65, 110, 208, 257–258]; есть сведения, что при венчании на царство казначей Н. В. Траханиотов, несший державу, бил челом на Пожарского, несшего скипетр [15, 258].[92] Защищая своего дальнего родственника, Пожарский в сентябре 1613 г. бил челом на И. Н. Чепчугова – последний, назначенный рындой[93] вместе с молодым князем В. Г. Ромодановским, пытался сделаться выше его.
Чепчуговы были тоже продуктами Смуты – незнатные дворяне, они, благодаря родственным связям с когда-то влиятельными дьяками Щелкаловыми, а потом с женой Василия Шуйского, пробились высоко, при Семибоярщине Никифор Чепчугов даже был ясельничим, т. е. возглавлял Конюшенный приказ, но вскоре поспешил в Ярославль ко Второму ополчению. Его сын Иван не обладал столь тонким политическим чутьем и поплатился карьерой – конфликт с Ромодановскими и Пожарскими привел его к приговору – бить батогами и выдать головой, более он на службе не появляется [70, 297; 42, 110–111]. Заметим, что правительство после декабрьского скандала с Салтыковыми, видимо, все же опасалось популярности князя и стремилось гасить придворные конфликты. Так, в том же декабре обиженный боярин В. Т. Долгорукий бил челом на Пожарского, поскольку в деле с Салтыковыми тот заявил, что некогда он, князь Владимир, был выдан головой его дяде, князю Петру Пожарскому (неясно, откуда у него оказались столь фантастические сведения и как он в них сам поверил),[94] но далее дело не пошло [42, 120, 121].
Нечто подобное произошло еще по меньшей мере два раза. Во время подготовки встречи Филарета в первую «встречу» сначала назначены были бояре – бывшие лидеры ополчения, но эту мемориально-политическую церемонию нарушил представитель одного из самых известных, в частности склонностью к местничеству, родов России – Ф. Л. Бутурлин. Он бил челом на Пожарского, так как должен был встречать царского отца во второй «встрече» вторым, тогда весь порядок переменили, обоих повысив – Пожарский в первой «встрече» стал первым с князем Г. К. Волконским, Бутурлин – вторым, но в самой почетной, третьей «встрече» [42, 394–395].[95]
В местнической системе главное было не родство, а интересы родства. Как помним, Пожарский защищал Ромодановских, но когда в 1622 г. на праздник Федоровской иконы Богородицы у государева стола, куда приглашен был патриарх Филарет, бояре князь Ю. Е. Сулешев и князь Д. М. Пожарский и окольничий князь Г. К. Волконский били челом о том, что на Сулешева, высокородного выходца из Крыма, ранее бил челом князь Г. П. Ромодановский, а последний «бил на него в бесчестье», однако им сказали, что сейчас у них нет совместной службы, а когда будет, «и тогда государев указ будет» [42, 498–500].
Во время ратификации Поляновского мира 20 марта 1635 г. Пожарский держал блюдо («мису») с крестом, а подносил к царю для целования крест и договор боярин князь А. В. Хилков, который бил челом на главу переговорной комиссии боярина Ф. И. Шереметева, державшего скипетр; Шереметев бил челом «об оборони», а Пожарский его поддержал и попросил записать, что он равен Хилкову; по местническим нормам это тоже было натяжкой, но просьбу выполнили [42, 435].
В июле 1637 г. Пожарский выступил в защиту своего сына Петра – на обеде в царском шатре во время «похода» в Новодевичий монастырь, куда Михаила Федоровича сопровождали Д. М. Пожарский и боярин И. П. Шереметев, стольник П. Д. Пожарский «смотрел в кривой стол», а князь Г. А. Хованский в «большой», что было почетнее, почему князь Дмитрий встал из-за стола и бил челом, что Хованские, конечно, знатнее Пожарских, но на них били челом Ромодановские, равные им, и просил это записать, государь сказал, что он то ведает и велел князю Дмитрию сесть [43, 543–544].
В период боевых действий, когда Пожарский был наиболее нужен, с его «местниками» расправлялись жестче. Во время «королевичева прихода» в Калугу к Пожарскому 25 мая послали И. А. Колтовского, на место прежнего второго воеводы А. Ф. Гагарина; Колтовский бил челом на Пожарского, а за князя «об оборони» бил челом его сын Петр. Всполошившееся правительство тут же приговорило Колтовского к тюрьме, послав его затем в Калугу, затем с «милостивым словом» туда же к Пожарскому велено было ехать Ю. И. Татищеву. Последний пытался местничать, а когда ему отказали и дьяк С. Васильев, «оставя его у преградных дверей… пошел государя известить», сбежал из Кремля и спрятался. После ареста его людей он явился, бояре приговорили его бить кнутом и отвести к Пожарскому головой, послали же князя С. Ф. Волконского, который тоже беспокоился из-за «невершенного» дела Пожарского с Г. Г. Пушкиным, но выполнил приказ; челобитье же его оставили без внимания [42, 328–330]. В начале Смоленской войны, 23 апреля 1632 г., когда по первому плану возглавить войско должны были Шеин и Пожарский, судье в иноземских полках В. В. Волынскому велено было подчиняться обоим воеводам, и он тут же потребовал подчинения первому воеводе, что удовлетворили. Пожарский, конечно, бил челом «о бесчестье», но вскоре заболел и сдал дела А. В. Измайлову, Волынский же продолжал местничать уже с Шеиным, и в конце концов был сослан в Казань [43, 272, 273]. Во время сбора войск Д. М. Черкасским и Д. М. Пожарским во Ржеве в декабре 1633 г. из Торопца велено было идти к ним в сход князю И. Ф. Большому Шаховскому, который «списков не взял для кн. Д. М. Пожарского», за что 25 декабря «государь велел его посадить в тюрьму» на один день и выслать на службу [43, 351; 113]. И наконец, во время стояния резервного войска их в Можайске, когда Шеин уже капитулировал, а в окрестностях еще блуждали вольные отряды «балашовцев», воеводам было велено послать от себя в Боровск к князю И. Н. Хованскому Б. Г. Пушкина с дворянскими сотнями против «воров, калужских казаков». Тогда его дядя Г. Г. Пушкин опять потребовал вершения дела 1613 г. и посылки племянника от одного Черкасского. Власти согласились грамоту «переменить» и подчинить Бориса первому воеводе, но «род Пушкиных мятежный» не удовлетворился этим и, приехав со службы, Б. Г. Пушкин бил челом, что якобы Дмитрий Михайлович «утаил» эту первую грамоту, которая действительно у него оставалась; боярская комиссия признала Пожарского невиновным и приговорила Пушкина к тюрьме. При этом ему объявили, что переменили тогда решение не «для Бориса Пушкина местничанья, а для государева дела»; в дальнейшем, правда, его дядя, видимо, выхлопотал эту грамоту, которую взяли у Пожарского, и Пушкины «на государевой милости били челом» [43, 373–379, 390, 454–456].
Семья
О семейной жизни Дмитрия Михайловича нам известно преимущественно то, что сохраняют родословные и документы на владение имуществом. У князя 7 апреля 1632 г. умерла мать, Евфросинья-Мария, уже давно, видимо, принявшая постриг под именем Евзникеи; она похоронена была в родовой усыпальнице в Спасо-Евфимьевом монастыре. Тогда же, возможно, на саркофаги ее и ее мужа сделаны были белокаменные доски с надписями и датами [63].[96]
Первая жена Прасковья Варфоломеевна прожила с Дмитрием Михайловичем большую часть жизни. Нераскрытой загадкой является ее происхождение. Никаких сведений о ее вотчинах (а в кругу, к которому принадлежали Пожарские, приданое обычно состояло из земельных владений), которые сразу же бы прояснили ее принадлежность к определенному роду, не имеется. Ничего не известно и о родственниках Пожарского по жене, а они бы неминуемо «проявились», когда 35-летний князь Дмитрий Михайлович стал большим вельможей, – как будто его жена была круглой сиротой. У них было, точнее выжило (тогда смерть в младенчестве была обычным явлением), трое сыновей и трое дочерей.
Старшей была, вероятно, дочь Ксения. Она умерла еще в 1625 г., уже монахиней Капитолиной, будучи вдовой князя В. С. Куракина [143, 30]. Следующим по возрасту был, наверное, сын Петр, он, видимо, не достиг еще 15 лет к 1618 г. и не значится в разряде обороны Москвы. В 1621 г. он был стольником, имя его часто мелькает в описаниях дворцовых церемоний – он служит рындой на приемах послов и пр., затем – участник как воевода ряда кампаний [143, 29–30]. 29 августа 1635 г. «государь велел взять з Дедилова ис передовова полку воеводу князя Петра Пожарсково для того, что у нево мать умерла» [100, 408, 411], – так мы узнаем дату смерти Прасковьи Варфоломеевны. Средний сын Федор тоже известен как стольник (с 1626 г.) и часто в 1629–1631 гг. исполнял обязанности рынды при дворе [143, 30]. Он умер молодым, 27 декабря 1633 г. [63],[97] отец, видимо, очень переживал его смерть, в своем завещании князь Дмитрий просил похоронить его «в головах у света моево у князя Федора Дмитриевича» [169, 146] и дал «по его душе» часть большого села Берсенева в Спасо-Евфимьев монастырь.
Дочь Анастасия была замужем за князем И. П. Пронским, в дальнейшем боярином. Похоже, князь благоволил к этому своему зятю, ему с дочерью он завещал передать имущество своей второй жены, после ее смерти или пострижения, кроме того, у них была дочь, его внучка Авдотья, о грядущем приданом которой дед тоже позаботился, так же как о приданом другой внучки, Анны, дочери сына Петра [169, 151]. Младшая, видимо, дочь Елена была замужем за князем И. Ф. Лыковым, троюродным братом князя Бориса Михайловича, с которым у Пожарского, возможно, оставались неважные отношения, и в завещании он упомянут значительно скромнее (ему причитался только «жеребец гнед молодой с седлом», тогда как Пронскому, помимо вышеуказанного, – икона Пречистой Богородицы, деревня на Истре и ценный литовский конь с серебряной золоченой уздой). Младший сын Иван (умер 15 февраля 1668 г.) к моменту составления отцом завещания (1642 г.) был еще совсем юн, только через два года после смерти отца он начинает упоминаться как рында при дворе, но в дальнейшем делает хорошую карьеру – назначается воеводой в ряд городов, ведает Челобитным и Московским судным приказами, единственный из потомков Дмитрия Михайловича достигает думного чина – в 1657-м или начале 1658 г. становится окольничим [143, 30; 21, 5, 19, 24; 18, 186].
Пожарский спустя какое-то время после смерти жены женился второй раз, теперь ему, как боярину и человеку немолодому, требовалась жена равного статуса. Новой княгиней Пожарской во второй половине 1630-х годов стала княжна Феодора Андреевна Голицына. Но детей, которые были бы одновременно рюриковичами и гедиминовичами, у них уже не было. Своему младшему сыну Ивану Пожарский завещал почитать ее как мать, а ей – опеку над несовершеннолетним сыном. Впрочем, надежды на молодую жену не вполне оправдались – она после смерти мужа пыталась опротестовать духовную, якобы подчищенную, видимо считая себя обделенной, и потребовала проверки ее подлинности; по ее челобитной был проведен сыск у патриарха Иосифа, составители духовной подьячий И. Нефедьев и духовник князя, протопоп собора Святого князя Михаила Черниговского Михаил подлинность ее подтвердили, и мачеха с пасынками подписали мировую [136].
Боярин Пожарский в своих владениях
Пожарские и до Смуты были не бедны, а после 1613 г. Дмитрий Михайлович стал очень богатым землевладельцем. Ему принадлежал ряд родовых сел на территории некогда существовавшего Стародубского княжества его предков, в том числе известное Мугреево – большое село с множеством приселков и деревень, полученное в XV в. его предком князем Данилой за родовое гнездо Пожар. В Московском уезде ему принадлежало село Медведево (теперь район Медведково в Москве), а также в Юрьев-Польском уезде – село Лучинское, деревни Старково, Бодалово, в Коломенском – села Лукерьино и Марчуки с деревнями (последние после событий 1617–1618 гг. пришлось, видимо, сильно восстанавливать – там «стояли» запорожцы гетмана П. Конашевича-Сагайдачного во время его похода на Москву) [40, 331], в Клинском – село Берсенево (некогда владение его прадеда Берсеня Беклемишева), во Владимирском уезде – село Петраково, выкупленное у Златоустовского монастыря на правах родственника вложившего его туда Ивана Васильевича Щелкалова, в Медынском – деревня Лужная. Одиннадцать вотчин пожаловано было ему после Смуты в Московском, Суздальском, Звенигородском, Нижегородском уездах, часть из которых были возвращенной собственностью Пожарских. Среди них – суздальские села Верхний и Нижний Ландехи с деревнями, части села Мыт и слободы Холуй, нижегородское село Вершилово (Пурех) и др. Ряд вотчин – около 14 селец, деревень и пустошей – он купил, в основном в тех же уездах, наверное округляя уже имевшиеся владения, а кроме того, большую деревню Рахин Мост в Новгородском уезде (у князей Мышецких) и поместья в Ряжском, Серпейском и Суздальском уездах; всего к моменту смерти князя у него было 34 только названных в духовной владения – сел, деревень, пустошей, не считая неназванных (деревни и пустоши общей площадью в 8641 четверть[98] в вотчинах и 967 четвертей в поместьях [169, 146].
Вскоре после смерти Пожарского осмелевшие соседи начали пытаться притеснять его крестьян. Осенью 1643 г. сын боярский Иван Зиновьев задержал крестьянина села Пожарских Рахин Мост Андрюшку Сысоева, ездившего собирать хмель на Удритские болота, отобрал хмель, пищали, другое имущество и заявил, что это его угодья, а приехавшему к нему разбираться приказчику Р. Кривоперстову нагло орал, грозя зарубить топором и браня матерно – «полно де вы владели при старом князе, а ноне де вам не старина, забудете де вы в болота ездить». Приказчик, жалуясь хозяевам, кстати, отметил, что этот «озорник» «вас, государей, с собой верстает». Разгневанные Петр и Иван Пожарские приказали ответить «адекватно» – «152-го октября в 10 день по сей челобитной Родивону Кривоперстову. Велеть против что заграбить, что у него есть, да не отдавать, а заграбить поболыши, чтоб знал нас на Москве!» [179, 82–83].[99] Думается, помещику Зиновьеву пришлось несладко…
Ныне во многих населенных пунктах, некогда принадлежавших Пожарскому, краеведы разыскивают следы его пребывания, даже места, где могли находиться его усадебные дома. Судя по писцовым книгам, в крупных селах они имелись, но оставались в основном на попечении приказчиков-управляющих. Боярин XVII в. отличался от большого вельможи XVIII в. тем, что, как и любой дворянин более низкого ранга, постоянно и пожизненно находился на службе. На самом деле Пожарский редко бывал в своих отдаленных владениях, поскольку ему ежедневно приходилось находиться при дворе, присутствовать на заседаниях Боярской думы в Кремле, если у него не было других «посылок» вне столицы – в посольства, на полковые или городовые воеводства. Поэтому местом его постоянного пребывания был родовой двор на Сретенке (теперь эта ее часть – Лубянка). На так называемом «Сигизмундовом плане» Москвы, изданном в 1610 г. голландскими картографом Г. – И. Абелином и гравером Л. Килианом и представляющем город как бы с птичьего полета, хорошо видны Пушечный двор, Сретенка с разнообразными домами, в том числе и комплекс большой усадьбы напротив церкви Введения, с большим центральным домом с башенкой и множеством иных построек, дворов, даже садом [87, 201, 220–222]. Исследователи, сопоставив план с переписной книгой 1620/21 г. («На Стретенской улице… двор боярина князя Дмитрия Михайловича Пожарского, вдоль тритцать семь сажен поперек тритцать пять сажен»), считают тот участок усадьбой Пожарских [127; 16, 42–46; 163, 80–85].
Строения, видные на плане, скорее всего, сгорели в марте 1611 г., и Дмитрий Михайлович начал, как и все, отстраиваться после 1613 г. заново. Из духовной его следует, что Пожарский выстроил в своей главной резиденции редкие еще в это время для Москвы каменные здания – сыну Петру предназначались «новые полаты, что зделаны», Ивану – «полаты, где я жил, и княгинины полаты, и старые полаты, и кои у ворот полаты, и ледники». Дмитрий Михайлович рекомендовал Петру построить себе такие же палаты, как и те, что отошли к брату, – владение, видимо, делилось пополам, в дальнейшем все отошло к Ивану, а затем к его сыну Юрию Ивановичу, последнему в роде Пожарских. Словом «палаты» в то время именовались именно каменные или кирпичные постройки, в отличие от деревянных, обычно называвшихся «избами», пускай даже «хоромного», т. е. дворцового, «строения».
В 1645 г. какая-то часть усадьбы Пожарских была предоставлена прибывшему в Москву польскому посольству, вероятно Г. Стемпковского (переговоры велись о новом, появившемся в Речи Посполитой самозванце Я. Лубе, а также о пограничных районах Северщины). Петр и Иван Пожарские тогда потребовали от Посольского приказа уплаты 15 рублей за лед из их ледников – «по твоему государеву указу поставлен литовской посол на нашем дворишке… и с тех ледников лед про посла емлют, и всякие посольские люди лед рознесли…» [179, 71]. Картина, представшая перед братьями Пожарскими после отъезда посольства, достойна воспроизведения обширной цитаты из их челобитной:
«…тот литовской посол отпущен к себе в Литву, а стоечи, государь, на дворишке, розорил до основанья, в хоромишках… двери и окна повыломаны, и сыскать их не уметь… кои… дверишка и окна зимние вставни были обиты сукны и полстьми, и те все пообрезаны, и окончины летние и зимние все повыломаны и заслоны железные большие и малые все повыбраны и замки нутреные у дверей поотодраны, не токмо… што деревяноя, и кирпишные мосты и перила повыламаны все. И крюки и петли и жиковины[100] повыдраны и у окон затворы железные многие посняты. И в кои… анбаришка были построены для всякие рухлядишки и людские хоромишка, кои были им отведены, и те все розорены, кровли и верхи посломаны и мосты повыломаны, а на поварнишке… и на хлебне кровли посломаны и трубы каменые все порозломаны и своды проломаны, и дворишка… все зановожено, не токма… што пешему пройтить – и на лошеди не уметь проехать, да не токма… што дворишка зановожено, и в верху в хоромишках кровли посломаны и верхи иззановожены. Милосердый государь, Алексей Михайлович… вели… после тово литовсково посла дворишка наша дозрить…» [179, 218–219].
Трудно сказать сейчас, насколько достоверны все претензии и в чем причина такого погрома. Конечно, возможно, в составе посольства были лица, прошедшие Смуту или последующие войны и выместившие ненависть к уже покойному князю Дмитрию на его оконных рамах, полах, потолках и крышах… Впрочем, хозяева, предоставлявшие (часто не по своей воле) апартаменты для послов, часто потом жаловались на убытки и требовали их возмещения, и это характерно не только для данного посольства и не только для этих стран.[101] Однако сам перечень разрухи – прекрасный источник, позволяющий представить дом Пожарских с каменными и деревянными строениями, обитыми сукном дверями, ставнями и подоконниками, металлическими деталями окон, дверей и пр. Надо заметить, что этот дом сохранился и по сей день, правда неоднократно перестроенный [87, 201, 220–222]. Импозантное здание в стиле позднего барокко, голубоватое с белой лепниной, скрывает под декором XVIII–XIX вв. роскошную каменную резьбу конца XVII в., времени, когда, видимо, Долгорукие, к которым усадьба перешла по родству,[102] перестроили дом в стиле «московского барокко», однако реставрационные обследования 1970-х годов выявили на уровне первых этажей и цоколей фрагменты первоначальной постройки первой трети XVII в. [67, 184–185; 87, 220–221].
Пожарский широко развернул строительство в своих усадьбах. Так, в подмосковном Медведеве, где он, видимо, бывал чаще, чем в отдаленных вотчинах, возводится в 1627 г. красивейшая шатровая церковь Покрова Богородицы (не случайно избрано было освящение ее в честь этого праздника, намекающее на храм Покрова на Красной площади, возведенный в память Казанской победы), вероятно, несколько сходная с шатровым же Михаило-Архан-гельским собором, в эти же годы построенным в Нижегородском кремле. В Пурехе основан был князем собственный вотчинный Макарьев Пурехский монастырь, от него сохранилась монументальная пятиглавая церковь; ее князь полностью снабдил утварью, книгами и иконами, среди которых была и особая двусторонняя икона св. Дмитрия Солунского и Козьмы Бессребреника – средневековый человек мог считать своими небесными покровителями обоих своих «ангелов» – и крестильного и «мирского», там же были кельи и различные хозяйственные постройки; окружали монастырь стены – «ограда, рублена по-городовому» [34, 37]. В этом храме находилась и знаменитая реликвия – знамя Пожарского, по преданию сопровождавшее его в походах. Малиновое шелковое полотнище, по типу своему относящееся к так называемым полковым знаменам, т. е. знаменам главного воеводы, расписано красками на традиционный для боевых знамен конца XVI – первой половины XVII в. сюжет – на лицевой стороне образ Спаса Вседержителя, на оборотной – явление Михаила Архангела Иисусу Навину в ночь перед штурмом Иерихона [31]. В 1812 г. тогдашний владелец Пуреха, богач и оригинальный мыслитель граф М. А. Дмитриев-Мамонов снарядил на свои средства полк, во главе которого героически прошел от Бородина до Парижа, причем под знаменем, которое скопировал с хранившегося в церкви. С 1826 г. знамя по императорскому указу было передано в Оружейную палату Московского Кремля, где находится и поныне [31]. Пожарский построил еще несколько каменных и деревянных церквей в своих владениях, делал богатые вклады в монастыри и церкви – иконами, различной утварью, книгами из своей библиотеки. Он участвовал вместе с нижегородцами в восстановлении давно запустевшего Макарьева Желтоводского монастыря по обету, который они дали еще в 1609 г., когда их ополчение и отряды Ф. И. Шереметева остановили войско «лисовчиков», не дав им пройти за Волгу и разорить край [94, 60–63].
Еще во время «стояния» в Ярославле была по его указанию списана Казанская икона Богоматери, которая к этому времени стала почитаться как символ борьбы за независимость (способствовало этому и отношение к иконе патриарха Гермогена, автора «Сказания» о ее чудесах, написанного еще в 1594 г., он же, как утверждали многие ополченцы, именно ею благословил их на борьбу) [86, 226–227]. С этой иконой к Пожарскому пришли поволжские ополченцы из войск Трубецкого, где ранее она, по их убеждению, помогла им в сражении у Новодевичьего монастыря. Список с этой иконы стал официальной святыней Второго ополчения, и после освобождении Москвы князь поместил его в свою приходскую церковь Введения на Лубянке, где для нее был выстроен придел. Икона эта пользовалась популярностью, особенно среди москвичей и нижегородцев, видевших в ней один из символов освобождения. Филарет, прибыв из плена, оценил ее значение, и вскоре на Красной площади у Кремля был специально для нее возведен деревянный, а затем, в 1632–1634 гг., «на Никольском крестце» и каменный храм (известным тогдашним зодчим, подмастерьем каменных дел Каменного приказа Обросимом Максимовым), куда она и была перенесена [86, 228–229]. Храм этот, многократно перестраивавшийся, к началу XX в. абсолютно потерял первоначальный облик, который ему был возвращен в 1920-е годы знаменитым реставратором П. Д. Барановским. Однако спустя несколько лет он был снесен и возведен заново лишь в 1990-е годы. Вопреки легенде, приписывавшей постройку храма также Пожарскому, церковь эта возведена была на государственный счет [86, 226–227], князь же передал туда икону в богатом окладе с утварью. В 1636 г. к храму был пристроен придел св. Аверкия Иерапольского, в день которого, 22 октября 1612 г., был взят Китай-город. Икона почиталась царской семьей, и в день праздника Казанской иконы Богоматери сначала в церковь Введения, а потом в Казанский собор устраивались крестные ходы во главе с Филаретом и Михаилом Федоровичем.[103] Один из списков с «Казанской» был помещен на ворота дома Пожарского, и, по московским легендам, лишь до нее доходили и затухали частые городские пожары.
Крупный вельможа жил, окруженный многочисленной дворней, в числе которой было немало выполнявших его заказы мастеров. Под покровительство Пожарского, ставшего теперь одним из «сильных людей», уходили крестьяне, торговцы, ремесленники, тем самым избавляясь от разорительного государева «тягла» – в московской Пушкарской слободе в 1638 г. оказался пустым двор ямщика Гришки Михайлова – «вышел он за боярина за князя Дмитрея Михайловича…» [104, 238]. В переписной книге Москвы 1621/22 г., как выше уже упоминалось, записан на Сретенке «двор боярина князя Дмитрея Михайловича Пожарского людей Ивана бронника, да Микиты уздника, да Петра седельника, вдоль 20 сажен, поперек 9 сажен, а было то место Сретенской сотни» [127].[104] «Стретенской улицы на леве» был двор «боярина князя… Пожарского кузнеца Гаврила Филипова», у Покровских ворот двор его же «чоботника Иевка Игнатьева», в Кисельном переулке – двор княжеского «охотника Прокофья», близ Яузских ворот – «рыбника Микитки Григорьева» [129].
В Росписном списке Москвы, сделанном в марте—апреле 1638 г. для учета всех способных носить оружие москвичей на случай осады («…по имяном, кто с каким оружьем в приходное время будет») [89, 115, 145; 104], указано, что на собственном Сретенском дворе Пожарского переписчики никого не застали, кроме стряпчего (управляющего): «сказал стряпчей ево Иван Головин: «что было людей у государя ево князя Дмитрея Михайловича, и те люди с государем ево пошли на службу»» [104, 102]. Записаны были «дворы по Рожественской улице и от Рожественской улицы по Сретенские ворота и от Сретенских ворот Сретенскою улицею по Введенскую решотку дворы всяких людей: место боярина князя Дмитрея Михайловича Пожарсково, на нем живут в избах люди ево крепостные – Тимошка серебреник, Петрушка и Павлик бронники, Пронка портной мастер, Матюшка алмазник, Антошка седельник, сказали, что будут они все на службе с боярином», близ церкви Егорья в Лужках жил Васька Степанов сын Веселов, закладчик Пожарского, в военное время служивший ему «с рогатиною», в проулке близ церквей Симеона Столпника и «Микиты Великого» жил крестьянин Пожарского Гаврилка Яковлев, тоже «будет с рогатиною», не застали переписчики на Сретенке на своем дворе «Филипа Иванова сына, каменного дела подмастерья, с пищалью, а сказали, живет на тяглой земле боярина князя Дмитрея Михайловича Пожарсково закладчик» [104, 102]; его, вероятно, князь взял с собой на Рязань, где надо было строить укрепления. На Никольской улице жил человек Пожарского Иван Матвеев, «знамещек», т. е. знаменщик (художник высокой квалификации, «знаменовавший», т. е. делавший, начальный эскиз для икон, рисовавший образцы для ювелирных изделий и пр.), близ Сретенского монастыря жил княжеский иконник Оська Иванов, в «Столешниках» – трубач Томилка Григорьев, у Рождественского монастыря жил коновал Еремка, во дворах «пушечных извощиков» жил княжеский сапожник Гришка Иванов, на Покровке держал большую мясную лавку Ивашко Гаврилов сын Тюнин, у него было два сидельца, все трое также были людьми Пожарского и, как и все вышеперечисленные, изъявили готовность выступить с пищалями [104, 19, 77, 85, 95, 97, 98]. В Кузнецкой слободе жили «человек» боярина Пожарского Фомка Петров с сыном Степкой, оба заявили, что «будут с пищальми» [104, 256]. В Печатной слободе среди «промышленных нетяглых людей, что живут за монастыри и за бояры… а тягла нигде не платят», пользовались свободой от налогов и торговые и ремесленные люди Пожарского, в том числе фонарник Федька Осипов, торговец Ивашка Яковлев и другие; в общей сложности в Москве даже в отсутствие князя с основным личным отрядом оставалось не менее 13 его людей с пищалями и еще 2–3 с рогатинами [104, 69, 85, 111, 211, 217, 238, 250].
Эти мастера строили храмы и дома, ковали и чинили оружие и доспехи, шили одежду, обувь и упряжь, поставляли рыбу и дичь, пекли хлеб, выполняли ювелирные работы, торговали, лечили лошадей, но и в случае нужды брали оружие в руки и входили в личный отряд князя или обороняли город.
В число военных слуг князя входили и молодые безземельные дворяне – по «сказкам» о службе и имуществе, подававшимся служилыми людьми в Разрядный приказ в 1620-е годы, проходит, например, некий «Дмитрий Иванов сын Вахромеев, пустопоместный, живет у родителей, жалует его боярин князь Дмитрей Михайлович Пожарской, поит и кормит» [161]. Имелись у боярина и боевые холопы из пленных. Так, в 1632 г. ему пришлось выручать из тюрьмы одного такого своего «человека», «немчина», на которого другие иноземцы ложно донесли, что он хочет бежать за границу [122]. Меньше повезло другому его холопу. Могилевский шляхтич Кондратий Поморский был взят в плен казаками еще в 1612 г. под Волоком Ламским, бежал от них, несколько лет жил у арзамасского служилого татарина, где женился на его «девке», затем бежал в одну из московских ямских слобод, а когда хозяин его разыскал, доставил в Казанский приказ (где велись судебные дела служилых татар) и потребовал его возвращения (за освобождение от ареста он, по словам Поморского, предлагал у него «обусурманиться», т. е. принять ислам; кстати, он признал, что с женой не венчался), тогда шляхтич бежал и, увидев князя Д. М. Пожарского, сопровождавшего в тот момент государя в поход в Троице-Сергиев монастырь, бил челом ему «во двор», где и поселился с женой. Однако вскоре «живучи у князя Дмитрея, учал себе помышлять, что князя Дмитреева жалованья к нему нет» (странно было бы ожидать награды, еще ничего не делая) и решил добраться до Можайска, чтобы встретить литовских купцов и бежать на родину, но, доехав только до переправы близ Новодевичьего монастыря, был пойман и отправлен к хозяину. Пожарский на этот раз не стал за него заступаться – авантюрный могилевец после допросов и пыток в Разрядном приказе (его подозревали как шпиона) отправлен был на службу в Сибирь [118]. Другой, тоже, видимо, весьма ловкий холоп Пожарского, некий Богдан Шишкин, бежал от хозяина, но в Шацке попал в тюрьму; не растерявшись, он тут же начал доносить на местных губных старост, ведавших в уезде борьбой с преступностью и тюрьмами, обвиняя их в том, что они выпускают разбойников за взятки. Щекотливость ситуации заключалась в том, что в это время руководил Разбойным приказом, которому подчинялись все губные старосты страны, сам Пожарский, и ему пришлось разбирать доносы своего беглого холопа на своих подчиненных. Сохранилась часть следственного дела без конца и челобитная князя [121], он просил выпустить Шишкина из тюрьмы Разрядного приказа (где тот сидел как доносчик по «государеву делу») и отдать ему – неясно, то ли пожалел склочника, за которого, по его словам, просила его мать, то ли собирался «поучить» домашними средствами… «Закладчиком», т. е. добровольно ставшим холопом Пожарского, был и вышеупомянутый живший на одном из его дворов Филипп Иванов сын – «подмастерье каменных дел», т. е. архитектор [89, 118; 75, 256],[105] которому современные исследователи приписывают строительство храма его вотчинного монастыря Макария Желтоводского в Пурехе [155, 149]. Встречаются и другие сведения о каменщиках Пожарского.[106]
В этом же селе Пурехе, согласно переписной книге 1621/22 г., имелся большой «двор вотчинников», со множеством «лютцких» дворов, в которых жили княжеские «деловые люди» – конюх, кузнец, пивовар, солодовник, плотник, псарь, «медведчик», коробейник, серебряник, а также трое «веселых», т. е. скоморохов; в другой вотчине под Балахной в слободке Кубенцово тоже жили, помимо крестьян, княжеские солевары, псари, «медведчики» и другие дворовые люди, в числе которых опять указаны «веселые» [39, 11–12, 42]. При княжьем дворе, таким образом, находили приют первые русские актеры – скоморохи. Еще не наступила эпоха повсеместного гонения на них указами 1648-го и последующих годов, инспирированных «ревнителями благочестия», влиявшими на молодого Алексея Михайловича, и зачастую целые труппы их составляли люди какого-нибудь вельможи (как известно, и в странах с уже развитой театральной традицией ливреи вельмож носили современники скоморохов, Шекспир и Мольер). Сохранился уникальный документ – челобитная группы скоморохов в Приказ Большого дворца, ведавший личными царскими владениями. Трое скоморохов, именовавших себя людьми боярина князя И. И. Шуйского (младшего брата покойного царя), и один – боярина князя Д. М. Пожарского, по имени «Федька Степанов сын Чечотка», 25 мая 1633 г. пришли в дворцовое село Дунилово «для своего промыслишка», а там их задержал, запер в бане и ограбил – «вымучил», как они писали, много денег «приказный», управляющий села А. М. Крюков [14, 168]. Причем у скоморохов Шуйского отнято было 12 рублей, а у скомороха князя Пожарского с характерным прозвищем «Чечотка» – 20 рублей, сумму огромную, говорящую о доходности их представлений. И эти люди, которые сами «с ходьбы к нему Андрею явились», видимо, как всегда водилось на Руси, для получения разрешения местного начальства на гастроли, но, ограбленные этим начальством, не чувствуют себя бесправными. Они жалуются на него в приказ, ведь за ними – авторитет их могущественных покровителей. Возможно, веселые артисты помогали развеять «черный недуг», или «немочь», ту нервную болезнь, на которую часто жаловался Дмитрий Михайлович.
Пожарский, видимо, был явно неравнодушен и к охоте, и к хорошим лошадям. Старый воин держал обширные конюшни в Москве и своих сельских владениях. По его духовной видно, с какой тщательностью он делит между наследниками коней, выделяя их породы, масти, стоимость. Интересное известие обнаружено недавно – в 1621 г. из Казенного приказа велено было наградить хорошим сукном «конюха мастера» князя Д. М. Пожарского «цыгана Ивана» за то, что он «на государеве аргамачье конюшне» вылечил четырех лошадей «его государева седла» [126]. Упоминание о цыганах в это время вообще редкость, наверное, этот Иван оказался в России в Смуту с молдаванами или венграми, и князь Дмитрий действительно держал у себя коновала искуснейшего (чем всегда славились цыгане!), которому доверяли лечить лошадей, назначенных нести самого Михаила Федоровича.
Пожарский, видимо, был начитанным человеком, и в то время как многие аристократы отнюдь не стыдились своего неумения читать и писать и даже одна книга в доме была редкостью, Дмитрий Михайлович имел целую библиотеку. О составе ее можно судить, правда, в основном только по сведениям о книгах, которые он или члены его семьи жертвовали в храмы и монастыри, но с именем князя связано несколько десятков рукописных и печатных книг. Конечно, когда князь давал Евангелия и богослужебные книги во множество церквей, он их вместе с иконами, окладами, церковной утварью заказывал и покупал. Так, в Ярославский Толгский монастырь он завещал «зделать чашу», в Иоанно-Предтеченский собор в Коломне – отлить колокол [169, 144–145]. По его заказу, но уже для личного пользования, была переписана так называемая «Разрядная книга Пожарского» с записями служб и местничеств за 1577–1605 гг., в которой, как было принято и у других аристократов, часто вступавших в местнические конфликты, особое внимание уделено службам его рода. Ныне, правда, сохранился не подлинник книги, а ее список 1650-х годов с записью одного из родственников князя: «Списывал в розоренье Московское князь Дмитрий Михайловичь Пожарской, как очистил Московское государство» [11, 157–158]. Пожарскому принадлежал уникальный рукописный «Сборник слов Григория Богослова», богато украшенный орнаментами и миниатюрами [49, 118],[107] по словам современных исследователей, – «шедевр книгописного искусства и художественного оформления последней четверти XV в.» [44, 254–255], а также комплект Четий-Миней,[108] переписанных в 1568–1569 гг. в царском скриптории в Александровой слободе по повелению Ивана Грозного (сохранились книги за октябрь, ноябрь, февраль, май, возможно, первоначально был полный комплект – эти книги царь Иван использовал во время церковных служб и трапез в своем опричном «монастыре») [52, 241–243].
В дальнейшем «Иоанн Богослов» поступил вкладом в Троице-Сергиев, а Минеи – в Соловецкий монастырь, но, возможно, уже после смерти князя. В Спасо-Евфимьев монастырь он дал рукописное Евангелие XVI в. с миниатюрами и в роскошном окладе, а также семь печатных Миней, в Николо-Зарайский собор – Церковный устав. Немало книг отошло в Спасо-Евфимьев монастырь и после смерти его сына Петра [69, 255], и даже в 1701 г., по смерти княгини Авдотьи Васильевны, вдовы его отдаленного родственника, известного своей трагической гибелью в 1659 г. окольничего Семена Романовича Пожарского, целый сундук с книгами велено было разослать по церквам Нижнего Поволжья [125].
В Холуе,[109] слободе, часть которой пожалована была Пожарскому в 1613 г. «за царево Васильево осадное сиденье», зарождался тогда иконописный промысел (так же как и в других центрах бывшего Стародубского княжества – Палехе, когда-то уделе князей Палецких, и в Мстере – или Богоявленской слободке, принадлежавшей князьям Ромодановским). По писцовым книгам 1620-х годов, правда, среди 23 принадлежавших ему дворов было всего два двора иконников – Лаврушко Романов Пятунка и Гришка Игнатьев, остальные все «нетяглые, делают всякое изделие на боярина» (т. е. не платят податей) – «портные мастера», кирпичник, сокольник, рыболовы, сапожники, кузнец [133] – частично, видимо, это были городские ремесленники, ушедшие из посадов в лихолетье под крыло могущественного вельможи. Чуть позднее жители Холуя начинают активно торговать своими иконами. В феврале 1630 г. крестьянин Д. М. Пожарского, житель этого села Онфим Титов жаловался воеводе в Брянске, что «ходил он Онфимка во Брянском уезде со образами по деревням, променивал» (было неприлично реализацию икон называть продажей) вместе с «детиной Васькой», а тот от него сбежал; поиски пропавшего не увенчались успехом, но это одно из первых упоминаний о холуйских иконописцах [119]. Холуяне писали в манере не столь изысканной, как их знаменитые соседи, чем вызывали нарекания церковных властей (хотя другая часть села была слободой Троице-Сергиева монастыря, возможно, оттуда и зародился промысел); в 1668 г. в патриаршей грамоте говорилось, что «поселяне Холуя пишут иконы без всякого рассуждения и страха» [88, 2]. В Холуе же находились две принадлежавшие Пожарскому солеварницы [132].
В старинной родовой вотчине Пожарских Мугрееве (Волосынине) князь возвел деревянную церковь Николы Чудотворца, «верх шатровой», в ней, конечно, «образы и свечи и книги и ризы и колокола и сосуды церковные и всякое церковное строенье вотчинниково», там же жили его «служние люди», среди них тоже один иконник [134]. В возвращенном князю в 1620/21 г. старинном родовом Нижнем Ландехе в Мытском стану он восстановил две церкви – там жило немало зависимых от него людей. На его «служних» дворах, в частности, жило несколько, видимо, боевых холопов из дворян (один из них имел и своих холопов), 4 хлебника, 3 повара, 2 плотника, коновал, серебряник, а также «довотчик»[110] и земский дьячок [131]. Как количеством, так и видами профессий эта группа явно превышала потребности боярского двора и, возможно, обслуживала различные нужды округи – от печения каких-нибудь пряников до ведения судебных тяжб.
В коломенской вотчине – селе Марчуках с деревнями Косяково и Лукерьино (которые когда-то принадлежали Берсеневым-Беклемишевым, затем были отписаны «на государя» и вернулись в конце 1570-х гг. Пожарским, как наследникам Ф. И. Берсенева, отца княгини Ефросиньи) в 1620-е годы находилось несколько десятков дворов его военных слуг, где их жило не менее 44. Там же вдоль лугов по берегам Москвы-реки располагался конюшенный двор [135].
Традиция приписывает Пожарскому вклад в свой Пурехский Макарьев монастырь, помимо его полного обеспечения иконами, книгами, утварью, еще и весьма почитаемой реликвии – это огромный (трехаршинный – т. е. более 2 м) деревянный крест-мощевик из Соловецкого монастыря, ныне находящийся в одной из нижегородских церквей [155, 153]. В Спасо-Евфимьевом монастыре доныне сохраняются некоторые вклады Пожарских – напрестольное Евангелие в богатом серебряном позолоченном окладе с драгоценными камнями и с его автографом – вкладной записью 1614 г. – епитрахиль[111] из бархата и парчи с великолепной вышивкой и серебряная золоченая митра[112] с рельефными изображениями святых, жемчугами, рубинами и изумрудами – вклад его вдовы княгини Федоры Андреевны. В Суздальском Покровском монастыре находились заказанные им для собора деревянные, покрытые росписью царские врата [155, XLVI].
Сохранилась часть оружия Пожарского. В Троице-Сергиевом монастыре в музее можно увидеть уздечку его коня с остатками серебряных накладок с бирюзой и серебряную пороховницу. Одна из сабель князя хранилась там же: у нее сильно сточенный боевой клинок с клеймами персидского мастера XVI в. в ножнах, обтянутых зеленым хзом – кожей особой выработки; из монастыря она поступила в 1930 г. в Оружейную палату вместе с саблей Минина [81, 42]. В Соловецком монастыре до 1923 г. хранилась другая сабля Пожарского: это богатое парадное оружие, вероятно не побывавшее в сражениях, относится к последним годам его жизни – судя по клейму на клинке, принадлежавшему Тренке Акатову, персидскому мастеру, работавшему в Оружейной палате в Москве в 1640-е годы [37, 11]. Ножны ее богато украшены серебряной чеканкой и гравировкой, бирюзой, изумрудами, рубинами, яшмой, перламутром, рукоять – изумрудом. Саблю эту в 1647 г. вместе с другой реликвией – палашом М. В. Скопина-Шуйского вложил в Соловецкий монастырь князь С. В. Прозоровский, служивший под началом Пожарского во Втором ополчении [37, 5, 7–8; 70, 291]. Интересно, что еще в 1850 г. Николай I, узнав из опубликованного в 1836 г. описания монастыря об этих реликвиях, «высочайше повелеть соизволил» о передаче их в Оружейную палату, но монастырские власти, вероятно, схитрили; они прислали палаш и саблю в Московскую контору Синода, но заявили, что в их ризничной описи «не показано, кому эти вещи принадлежали и от кого в монастырь доставлены» [139]. Возможно поэтому оружие вернулось в монастырь и только после национализации церковных имуществ оказалось в 1923 г. в Государственном историческом музее [37, 5].
Есть косвенные данные, что Пожарский поддерживал известного в то время писателя, но крайне неудачливого в жизни человека князя Семена Ивановича Харю-Шаховского. Шаховской писал стихи, богословские и публицистические сочинения, порой даже по поручению правительства, например благодарственное послание персидскому шаху за присылку Ризы Христовой, был одним из первых русских мемуаристов, но его творчество как-то всегда оказывалось не к месту (например, ввиду смены политической линии), вместо благоволения властей вызывало недовольство, и он отправлялся в очередную ссылку, коих на жизненном пути у него было шесть. В начале 1960-х годов известный исследователь древнерусской литературы И. Ф. Голубев обнаружил в библиотеке Тверского педагогического института (ныне университета) ранее неизвестные стихотворные послания князя Шаховского, в числе которых одно, как с тех пор считается, адресовано Пожарскому [32, 407–413]. Судя по тексту, Дмитрий Михайлович поддерживал опального писателя материально и духовно, поскольку в послании упоминаются и его стихи к Шаховскому в популярной тогда форме акростиха («краегранесия»).[113]
Вспоминая бои Смуты, Шаховской пишет:
Аще и без нас, недостойных, идет о тебе предобрая слава всюду, Яко всегда имееши на враги мечъ свой остр обоюду … …Вспомянем вышереченное слово, Было же врагов наших зияние на нас, аки рыканье львово, И мыслили во уме своем владети землею Российскою, Яко же поганые богомерзкия турки владеют землею Палестинскою, …И паки Господь Бог не дал им того сотворити, и по их умышлению не учинилося, И все великое государство на них, врагов, вкупе с вои собралося, И дал нам Бог вас, крепких и нелестных по вере побарателей, Что отогнали от нас таких злых и немилостивых наругателей, И что учинил такову славу и похвалу в нынешния роды, Яко же вы избавили всех православных христиан от конечныя тоя невзгоды.Далее, после пространных рассуждений о смирении, с которым положено переносить невзгоды, Шаховской просит своего адресата оставаться с прежними своими высокими качествами:
Ты же, государь, буди всегда чист душею и телом, Понеже во оном веце всяк восприимет по злым и добрым делом, И держи храбрость с мудростью и подаяние с тихостью, И Господь Бог будет к тебе с великой милостью. Обаче рещи, и так дела твои аки труба вопиют всегда, Не щадиши лица своего против сопостат никогда, К тому же присовокупил еси велие милосердие ко всем, Всякого приходящего к тебе не оскорблявши ни в чем, …Зритель тебе Господь, вси людие дивятся твоей велицей милости, Никто же бо оскорблен бывает, приходя к твоей благонравной тихости.Затем Шаховской, благодаря за помощь, пишет:
… И уже не вем, како конец сказати твоей велицей щедрости, Яко помогаеши многим людем в конечной бедности. И не презрел еси государь и нашея тогда великия скудоты, Прекормил еси нас с супружником нашим и с родшими от нас сироты.Завершает Шаховской послание здравицей:
Паки здравствуй, государь, о всещедром Христе, И побеждай враги царевы о пречестнем его кресте, Еже бо тем бывает на них победа и одоление, И некли услышит Господь наше к нему моление, И чтоб вам, Государем, дал Бог на них супостат победу, Отнюд, просто рещи, не осталосьбы их в земли нашей следу. Мнози бо людие дивятся мужественному твоему храбрству И радуются, что Бог послал тебя к великому государству. Поне всегда против сопостат лица своего не щадишь, К Богу, царю и ко всем человеком правду творишь.[27, 81–91].
Последние годы. Князь Дмитрий «перед лицом вечности»
В начале 1640-х годов Дмитрий Михайлович продолжает еще бывать при дворе, но здоровье его (крепостью которого он никогда не отличался) делается слабее. Он продолжает большое строительство на Сретенке, еще в начале 1642 г. хлопочет о снятии повинностей в виде отправки даточных людей (в Приказ сбора ратных людей) с сел, данных им сыну Петру и в приданое зятьям, князю И. П. Пронскому и И. Ф. Лыкову [107]. 24 сентября 1641 г. Дмитрий Михайлович, видимо в последний раз, присутствовал «у государева стола» в селе Воздвиженском [43, 671]. Вскоре князь, которому шел 64 год, возраст по тем временам солидный, начал составлять завещание.[114] Первым делом Дмитрий Михайлович определил уплатить долги, взятые в приказах – Казенном[115] и Купецкой палате. Поскольку оба приказа являлись хранилищем ценностей, может быть, это были взятые в «рассрочку» меха, ткани и т. д., возможно для молодой жены, отдать нужно было и в Государеву конюшню, видимо за породистых лошадей, – конское хозяйство у него было огромное, и, возможно, он покупал их для улучшения пород.
По обычаю, большие вклады делались «по душе» – всего в 3 архиерейских дома (Рязанский, Псковский, Суздальский), 22 монастыря (владимирских, суздальских, московских, нижегородских, новгородских, рязанских, ярославских), в 15 соборов и церквей, в Москве «на сорок храмов сорок алтын» – и на сорокоуст во все рязанские церкви [169, 153]. Особенно выделяются вклады в Спасо-Евфимьев монастырь, как родовую усыпальницу, в суздальские монастыри, архиепископу и кафедральному собору, а также церкви Козьмы и Дамиана в Коровниках, видимо как посвященной его святому патрону. В Троице-Сергиев монастырь завещано 100 рублей и кончар[116] в серебре; интересно, что сейчас в монастыре сохраняются другие мемориальные вещи Пожарского – уздечка в серебре с бирюзой и серебряная пороховница.
Соловецкому монастырю за запись поминовения в их синодик завещано было продолжать «как я давал» в год по 50 четвертей «всякого запасу» – видимо, муки и круп «по их памяти», т. е. того, чего попросят. В 1646 г. в тот же монастырь знакомым князя С. В. Прозоровским была вложена другая его сабля и палаш М. В. Скопина-Шуйского (оба с 1923 г. находятся в Государственном историческом музее) [169, 148–149].
По упоминанию в завещании тех или иных монастырей и церквей можно дополнить наши представления о личности Пожарского. До конца дней его не оставляли воспоминания о молодости в эпоху Смуты. Духовная, как позднее сообщал писавший ее подьячий Исай Нефедьев, была «изустной», т. е. князь, видимо, диктовал, во фразах чувствуется его прямая речь. Среди перечисления вкладов вдруг прорывается: «К Предотече на колокол на Коломне, вперед о чем побью челом детям моим, и им зделать. Да Николе Зарайскому в собор десять рублев. Да на Москву моево приходу к Веденью пять рублев…» [169, 145]. Больной воин вспомнил, диктуя завещание, три места, с которых начиналась его полководческая судьба, – бой с «лисовчиками» под Коломной осенью 1608 г., разгром отряда Салькова у Коломенской дороги весной 1609 г., подавление бунта в Зарайске в 1610 г., разгром там же тушинского отряда И. Сумбулова в начале 1611 г. и, наконец, сражения в Москве на Сретенке у своего приходского храма 19 марта 1611 г.
Сыновей князь благословлял иконами, причем первая, данная Петру, – «Казанская Богоматерь», а первая, данная Ивану, – «Знамение Богородицы». «Казанская», как известно, связывалась с покровительством обоим ополчениям, о чем сказано было выше, икона «Знамение» была связана с домом Романовых, основавших Знаменский монастырь на землях своего двора в Зарядье, с монастырем этим был связан через Беклемишевых (там была похоронена его бабка) и Пожарский; в его приходской церкви Введения еще в конце XIX в. хранилась вложенная им икона «Знамение», список с которой тогда же еще помещался на воротах его бывшего дома [169, 145]. «Знамение» было на панагии[117] Филарета, стало эмблемой на печати московских патриархов. Сестре, княгине-вдове Дарье Хованской, которая была старше его (в 1642 г. ей было не менее 70 лет), завещаны были иконы св. Михаила Малеина и св. Феодора иже в Пергии – небесных патронов царя Михаила и патриарха Филарета, но, возможно, и их собственных отца и деда. Сыновьям князь завещал обеспечивать своих жену и сестру. Помимо оставляемого им наследства, еще и «пенсионом» – княгине Феодоре они должны были выплачивать 50 рублей в год и снабжать разными «кормами» – мукой разных сортов, крупами. Княгине Дарье – тоже 50 рублей и множество разных «кормов» – несколько сортов муки и круп, соль, рыбу, солод; сыну ее, своему племяннику, князю И. Н. Хованскому завещал образ Спаса из своей Крестовой палаты и аргамака с богатой сбруей. Дочери княгине Анастасии Пронской с дочерью Авдотьей отходило 50 рублей, а когда придет внучке пора выходить замуж, дяди – его сыновья – должны будут дать ей в приданое 200 рублей. Трогательно заботился князь о мире в семье, веля сыновьям почитать мачеху как мать, а ей – заботиться, особенно о младшем, Иване.[118] Не слишком много сказано о вещах – даже богатые вельможи имели их тогда немного.[119]
Младшему сыну его мать, покойная княгиня Прасковья, завещала свое имущество – столовое серебро, ткани и пр., поэтому князь указывал, что все это лежит в сундуках за его печатью, под ответственностью «мамы» – воспитательницы князя Ивана, дабы не уплыли из рук не понимавшего еще их ценности юноши. Остальные иконы надо было разделить пополам, кроме тех, что «в постельной у княгини в хоромах, и до тех образов никому дела нет, потому что теми образами нас с нею на свадьбе благословляли» [169, 151 ]. Петру завещаны были три сабли, одна из которых, возможно, сохранилась – в ножнах, крытых зеленым хзом, доспех – бахтерец и «шапка резаная» – шлем, украшенный резьбой, «топорок турецкой оправной», Ивану – тоже три сабли, доспехи, булава, «минеи месечные» – возможно, те самые книги, о которых писалось выше, и др.
Личные, дружественные связи проследить по духовной довольно сложно – главным душеприказчиком Пожарский назначает боярина Ф. И. Шереметева – с ним он в последние десятилетия близко общался по службе, они не раз вместе «ведали Москву» по отъездах царя на богомолье, вместе вели переговоры с польско-литовскими послами в 1635 г. и участвовали в церемонии ратификации Поляновского мира, из 30 царских «столов», на которые приглашался Пожарский с 1633 по 1641 г., в 10 случаях первым боярином сидел Федор Иванович, вторым – Дмитрий Михайлович. В духовной перечислены подаренные Шереметевым и оставляемые княгине два серебряных кубка и две «братинки» (похоже, комплект свадебного подарка). К тому же боярин в этот период, после смерти 3 апреля 1642 г. князя И. Б. Черкасского, становился, по сути, главой правительства, возглавив в марте—апреле 1642 г. ключевые приказы [84, 314].
Среди должников и заимодавцев – Д. М. Глебов, отец которого М. Ф. Глебов дважды служил при Пожарском – вторым воеводой в Новгороде и вторым судьей в Приказе сбора пятой деньги. В том же приказе служил архимандрит Симонова монастыря, впоследствии псковский архиепископ Левкий. Он единственный из трех иерархов, упомянутых в завещании, к которому князь обращается по имени и почтительно-ласково – «государю моему», оставив ему серого иноходца и 5 рублей на псковский собор Троицкий.
Так же уважительно упоминает князь и двух своих духовников – рязанского протопопа Симеона и Михаила, протопопа московского собора Св. Михаила Черниговского. Симеону он завещал 5 рублей и собственные охабень и ферязь, а Михаилу, своему душеприказчику, – кунью шубу и иноходца; обоим кроме того по 5 рублей на их церкви. Князь оставлял и завещал крупные суммы, но наличных денег у него было мало – «а животов моих, опрично лошадей да судов серебряных, денег лежачих не ничего». Поэтому вклады в монастыри и церкви следовало делать «не все деньгами; платьем и иною рухлядью, которая детям не пригодится, и лошадьми» [169, 146].
В духовной есть строки, позволяющие отчасти проникнуть в мир нравственных представлений Пожарского. Его честность была известна современникам. Князь владел огромными вотчинами и поместьями, солеварницами, таможнями и другими промыслами и «доходными статьями», приносившими сотни рублей в год, но не все деньги почитались в то время «чистыми». Поэтому Дмитрий Михайлович завещает: «А кабацкими доходы меня не поминать; хотя в то число займовать, а после платить не ис кабацких доходов». В некоторых вотчинах Пожарского имелись кабаки (например, в селе Марчуки, завещанном княгине, в селе Мыт, завещанном сыну Петру, в селе Кубенцове, завещанном Ивану), и хотя в основном питейное и таможенное дело было в руках государства, но крупные вельможи могли получить для некоторых своих владений подобную привилегию. Как уже писалось, доходы надо было, неся огромные расходы по содержанию и снабжению войска, «посохи», своих боевых холопов и казенного строительства, «выжимать» из всего. Поминовение же души не должно было оплачиваться из этих «греховных» денег; человек начитанный, Пожарский мог знать девятое и семьдесят шестое правила IV Вселенского собора, толкованные в славянской Кормчей,[120] осуждавшей держание питейных заведений.
Заботился князь и о зависимых от него людях. Часть холопов отпускалась на волю – тех, чья кабала кончалась со смертью непосредственного владельца: «А которые люди мои кабальные и безкабальные на мое имя и на сына моево князя Федора, и тем людям дать воля, ничем их не тронуть, совсем отпустить. А которые люди поженились на крепостных женах детей моих, и те люди детей моих до их живота». Многие дворовые люди, между прочим, были, видимо, из пленных, судя по иностранным именам, например «иноземец Миколай Петров», «данные татары» Артемий с женой и Данило, хлебники «иноземец Гришшкель» (или Гриша Шкель[121]), и Ганка Вопило, Ивашко Паненок. Кабального человека Муралея Кравцова, который, судя по завещанию, держал у себя приходо-расходные книги, будучи, по всей вероятности, ключником, Пожарский передавал княгине с условием дать ему волю после ее смерти.
Волю выбрать себе хозяина из двух братьев следовало предоставить неоформленным холопам – «у которых крепостей нет». Но с оставляемыми в неволе холопами следовало хорошо обращаться: «А которые люди мои кабальные и безкабальные у детей моих, и им костью моей не ворохнуть, жаловать их так же, как при мне было» [169, 152]. Одного «малого», похоже увечного, он поручает заботам жены, «а будет он ей не понадобитца, и ево приказать в Спасской монастырь в слушки, чтоб ево сверстать с добрыми слушками, и детем моим ево жаловать».
Умирал князь, видимо, в своем доме в Москве, поскольку тут присутствовал его духовник «черниговской протопоп», т. е. из собора Св. Михаила Черниговского, находившегося тогда в Тайницкой башне Кремля, а записывал подьячий Московского судного приказа, в котором Пожарский, возможно, до конца жизни еще оставался судьей, Исайко (Исачко) Нефедов сын Дубинин, может быть, исполнявший в приказе обязанности его личного секретаря и ставший в дальнейшем дьяком [169, 156]. В Боярской книге 1639 г., куда вносились позднейшие поправки, против имени боярина князя Дмитрия Михайловича Пожарского появилась помета – «150-го апреля в 20 де умре» [109].[122]
Надо полагать, что исполнена была воля князя, и его отпели в Москве патриарх и митрополит (возможно, Крутицкий), а затем его «тело мирское» похоронено было в Суздале, в родовой усыпальнице в Спасо-Евфимьевом монастыре. Невозможно было выполнить одну его волю – похоронить его в головах у сына Федора. Пожарский, видимо, забыл, что там уже похоронен муж его сестры Дарьи князь Н. А. Хованский. На отпевание монастырь, помимо вклада в 100 рублей, получил еще 50, а также целый табун – три ценных жеребца и 20 кобылиц, «шуба государева жалованная» из золотой парчи на соболях, из которой был сделан покров на его гробницу, его ферязь, кубок и «путная» (походная) чарка. Над гробницами Пожарских и Хованских была устроена позднее «палатка» – нечто вроде наземного склепа, но впоследствии, когда один род угас, а другой на рубеже XVII–XVIII вв. впал в немилость, она не поддерживалась и была разобрана. Надгробные плиты тоже разрушались и в середине XVIII в. в большинстве своем были пущены тогдашними монастырскими властями на ступени. В середине XIX в. потребовались специальные археологические раскопки, выполненные «отцом русской археологии» графом А. С. Уваровым, чтобы установить место погребения Пожарских и определить саркофаг самого Дмитрия Михайловича, и уже тогда стало ясно, что он был похоронен в богатом боярском платье, а не как схимник [166, 28].[123]
Думается, что в этом содержится особый смысл. Схиму принимали, как известно, дабы очиститься от всех грехов, как, например, Иван Грозный, Борис Годунов, князь А. А. Телятевский и другие, но этим персонам было о чем держать ответ в мире ином и что замаливать. Совесть же Дмитрия Михайловича была чиста, и хотя он, как глубоко верующий христианин, не ощущал себя безгрешным, но предстать перед Всевышним собирался так, как есть, ничего не добавляя и не убавляя в своей прямо прожитой жизни, посвященной служению Отечеству.
Судьба памяти о Пожарском
Шли годы, и подвиги героев борьбы со Смутой забывались. Официальные и неофициальные летописи трактовали события по-разному, новая династия не особенно нуждалась в памяти о неоднозначных перипетиях своего прихода к власти и тем более в обязанности возвышать за это кого-либо из подданных; Минин и Пожарский вообще не упоминаются в официальных летописных сочинениях о возведении на престол Романовых. Правда, еще в «Утвержденной грамоте» об избрании Михаила взятие Москвы описывается как именно их (вместе с Трубецким) подвиг:
«И собрався боярин и и воевода князь Дмитрей Тимофеевич Трубецкой с товарыщи… пришли под царствующий град Москву и стояли под Москвою полтора года… А как по Божией милости Московского государства стольник и воевода князь Дмитрей Михайлович Пожарской… пришел под Москву в сход к боярину и воеводе князю… Трубецкому, и по милости всемогущего и всесильного в Троицы славимого Бога нашего… а службою и раденьем ко всей земле боярина и воеводы князя Дмитрея Тимофеевича Трубецкого да стольника и воеводы князя Дмитрея Михайловича Пожарского да выборного человека ото всего Московского государства Кузмы Минина… и бояр… и казаков и стрельцов и всех ратных людей, Московское государство своим мужеством и храбростию царствующий град Москву от Полского и от Литовского короля… от их злого пленения очистили» [166, 41–42].
Но к концу века, согласно официальной традиции, оглашенной в «Большой Государственной книге» 1672 г., просто свершилась воля Божья:
«Вси яко единеми усты молиша от благородных и в чести величества превозходяща царского сродника Михаила Феодоровича Романова, яко да той царствует ими. Хотяще же быти Божиими судбами ничтоже от земных вещей удержати возможе, понеже истинен глагол Божий во устех всех человек, яко тому царство прияти. И паки и матерь его благородную государыню иноку Марфу Ивановну слезне молиша, яко не сопротив глаголет судбам Божиим, но обще с ними, да помолит сына своего, и Божиим судбам да не пререкует. Той же благочестивый государь, видя себе от моления нимало ослабляема, паче ж и уразомевая, яко не без воли Божий един глагол во устех всех человек, произволяя многому народа прошению, паче же по воли Божий и царствия скифетры возприемлет и венец царский на главу и диадиму на плеща возлагает и владомое яблоко в руце приемлет… и царь нарицаетца всеми языки» [106].
Такова была официальная концепция воцарения Романовых к концу XVII в. А массовое сознание предпочитало яркие мифологизированные сюжеты. Историки Нового времени с удивлением констатировали, что «народное воображение» не было так уж сильно потрясено подвигом Минина и Пожарского, чему доказательство – отсутствие песен о них, как современных событиям, так и в дальнейшем, лишь одна записана только в XIX в. [70, 318],[124] вероятно уже под влиянием тогдашнего школьного просвещения.
Зато о романтических и трагических судьбах М. В. Скопина-Шуйского, царевны Ксении, о таинственных злодеях Лжедимитрии и «Маринке» народное творчество сказало много больше. П. Г. Любомиров заметил, что на массовое сознание большее впечатление произвела гибель С. Р. Пожарского, отличавшегося бесшабашностью храбреца, песни о котором пели везде.
Неудивительно, что в последующие 150 лет о Пожарском и Минине вспоминали только знатоки и любители истории, так же как о Сусанине помнили только в Костроме. Наиболее подробными оставались статьи в «Новом летописце» (который трижды издавали в XVIII в.), ему следовал автор популярного «Ядра Российской истории» А. И. Манкиев, буквально вскользь упоминали Пожарского и авторы учебников XVIII в., например М. В. Ломоносов. Не осталось и портретов князя. Единственное изображение, послужившее основой для его позднейшей, ХГХ– ХХ!вв., символико-фантастической иконографии, появилось спустя 30 лет после смерти Пожарского, в 1672 г., в «Книге об избрании на царство» Михаила Романова, парадной иллюстрированной рукописи работы мастеров-художников Посольского приказа во главе с Г. Благушиным.
Эта книга, созданная в числе других подносных роскошных рукописей в основанной боярином А. С. Матвеевым книгописной мастерской при приказе, иллюстрирует события избрания и венчания на царство родоначальника династии, все многофигурные композиции там выполнены в поздней иконописной манере и лишены портретных характеристик. Однако уже с конца XVIII в. книгу эту стали использовать как источник для воссоздания образов деятелей эпохи Смуты. Ввиду того, что иллюстрации можно сопоставить с разрядом церемонии венчания и определить, кто в действе принимал какое участие (нес регалии и пр.), авторы исторических и популярных работ стали делать прориси с этих изображений – так, у А. Ф. Малиновского, в первой биографии Пожарского, можно увидеть прорись из этой книги (а она хранилась в Московском архиве Коллегии иностранных дел, управляющим которого он был), изображающую Пожарского, несущего скипетр. В XIX в. появились основанные на этом же рисунке портреты маслом, ныне уже выглядящие весьма «старыми» и экспонирующиеся в некоторых музеях. Из той же книги в дальнейшем взяты были столь же условные изображения Авраамия Палицына, Д. Т. Трубецкого. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Нам не известно, как реально выглядели Василий Шуйский (на одной польской прижизненной гравюре он стоит спиной, а на другой – явная карикатура), Филарет, Борис Годунов (их позднейшие изображения восходят только к «Титулярнику» 1672 г.), И. И. Болотников, П. П. Ляпунов, И. М. Заруцкий, Лжедмитрий II, К. Минин, А. Лисовский.[125]
Только на рубеже XVIII–XIX вв., когда возник под влиянием романтизма массовый интерес к допетровской истории Отечества, а патриотические события 1812 г. его усилили и потребовали создания национального героического пантеона, введен был в него и Пожарский – человек чести во время бесчестное, человек гуманный во время жестокое, человек – созидатель порядка во время хаоса.
Источники и литература
1. Абрамович Г. В. Князья Шуйские и царский трон. Л., 1991.
2. Аверин К. Историческое известие о жизни и деяниях Димитрия, протоиерея Зарайского Николаевского собора, современника и сотрудника князя Д. М. Пожарского с точным снимком его почерка. М., 1836.
3. Акты, относящиеся к истории Западной России. СПб., 1851.Т. 4.
4. Акты, собранные в библиотеках, архивах Российской империи археографической экспедицией Императорской академии наук. СПб., 1830. Т. 2.
5. То же. Т. 3. № 213.
6. То же. Т. 3. № 179–185, 193.
7. Акты исторические. СПб., 1841. Т. 3.
8. Акты служилых землевладельцев XV—начала XVII в. / Сост. А. В. Антонов, К. В. Баранов. М., 1997. Т. 1.
9. Акты служилых землевладельцев. М., 2002. Т. 3. № 329.
10. Антонов А. В. Частные архивы русских феодалов XV—начала XVII в. // Русский дипломатарий / Под ред. А. В. Антонова. М., 2002. Вып. 8.
11. Анхимюк О. В. Частные разрядные книги с записями за последнюю четверть XV—начала XVII веков. М., 2005.
12. Барсуков А. Списки городовых воевод. СПб., 1902.
13. Бахрушин С. В. Труды по источниковедению, историографии и истории России эпохи феодализма. М., 1987.
14. Белкин А. А. Русские скоморохи. М., 1975.
15. Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время. М., 1907.
16. Беляев И. С. Дом князя Д. М. Пожарского на Лубянке // Старая Москва. М., 1912. Вып. 1. Репр. изд. М., 1993.
17. Богословский М. М. Петр Великий: Материалы для биографии. М., 1945. Т. 2.
18. Богоявленский С. К. Приказные судьи XVII в. М., 1946.
19. Богун Т. Битва под Москвой 1–3 сентября 1612 г. // Куликово поле и ратные поля Европы. Прошлое и настоящее: материалы Междунар. конгресса «Куликово поле среди ратных полей Европы», 31 мая—2 июня 2000 г. Тула, 2002.
20. Боярская книга 1627 г. М., 1986.
21. Боярская книга 1639 г. М., 1999.
22. Боярская книга 1658 г. М., 2004.
23. Буганов В. И. Засечная книга 1638 г. // Записки Отдела рукописей ГБЛ. М., 1960. Вып. 23.
24. Буссов К. Московская хроника 1584–1613 / По изд. под ред. И. И. Смирнова. М.; Л., 1961 // Хроники Смутного времени: История России и дома Романовых в мемуарах современников XVII—ХХ вв. М., 1998.
25. Бутурлин Н. Д. О месте погребения Д. М. Пожарского и о том, где он лечился от ран осенью 1611 г. М., 1876.
26. Веселовский С. Б. Ономастикон. М., 1974.
27. Виршевая поэзия: (Первая половина XVII века) / Сост. В. К. Былинин, А. А. Илюшин. М., 1989.
28. Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря / Изд. подгот. Е. Н. Клитина, Т. Н. Манукина, Т. В. Николаева; Под ред.
Б. А. Рыбакова. М., 1987.
29. Вовина-Лебедева В. Г. Новый летописец. История текста. СПб.,2004.
30. Волков В. Защитник крепости Белой // Родина. 2006. № 11.
31. Голованова М. П. Реликвии российской истории из собраний Московского Кремля. Знамя Д. М. Пожарского // Гербовед.2005. № 5 (83).
32. Голубев И. Ф. Два неизвестных стихотворных послания 1-й половины XVII в. // Труды Отдела древнерусской литературы Пушкинского дома РАН (ТОДРЛ). М.; Л., 1961. Т. 17.
33. Государственный исторический музей (ГИМ). Отдел письменных источников. Ф. 450. Оп. 1. Д. 110.
34. Гуляницкий Н. Ф. Освободительные идеи Руси в образах памятников архитектуры XVI–XVII вв. // Архитектурное наследство. М., 1984. Вып. 32.
35. Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии: Сборник. Н. Новгород, 1913. Т. 11. Памятники истории нижегородского движения в эпоху Смуты и земского ополчения 1611–1612 гг.
36. Дело о ссылке Романовых / Переизд. С. Шокарев // Хроники Смутного времени. М., 1998.
37. Денисова М. И. Палаш М. В. Скопина-Шуйского и сабля Д. М. Пожарского // Труды ГИМ. Памятники культуры. М.,1956. Вып. 19.
38. Дневник Марины Мнишек / Пер. В. Н. Козлякова. СПб., 1995.
39. Дневник Осипа Будилы // Русская историческая библиотека. СПб., 1872. Т. 1.
40. Документы российских архивов по истории Украины / Сост. Л. Войтович, Л. Заборовский, Я. Исаевич и др. Львов, 1998.Т. 1.
41. Досифей, архимандрит. Географическое, историческое и статистическое описание Ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря. М., 1863. Ч. 1.
42. Дворцовые разряды XVII в. по высочайшему повелению изданные 2-м Отделением собственной Е. И.В. канцелярии. СПб.,1850. Т. 1.
43. То же. СПб., 1851. Т. 2.
44. Дробленкова Н. Ф. Пожарский Д. М. // Словарь книжников и книжности Древний Руси XVII в. СПб., 1998. Ч. 3.
45. Жития святых, на русский язык изложенные, по руководству Четьих-Миней св. Дмитрия Ростовского с дополнениями, объяснительными извлечениями и изображениями святых. М., 1905. Кн. 3. Ноябрь.
46. Забелин И. Е. Минин и Пожарский: Прямые и кривые в Смутное время / Подгот. к печ. Д. М. Володихиным. М., 1999.
47. Законодательные акты Российского государства. Л., 1986.
48. Замятин Г. А. К истории Земского собора 1613 г. // Труды Воронежского гос. ун-та. Воронеж, 1926. Вып. 2.
49. Зацепина Е. В. К вопросу о происхождении старопечатного орнамента // У истоков русского книгопечатания. К 300-летию со дня смерти Ивана Федорова / Под ред. М. Н. Тихомирова, А. А. Сидорова, А. И. Назарова. М., 1959.
50. Зимин А. А. Россия на пороге Нового времени. М., 1972.
51. Каштанов С. М. Финансы Средневековой Руси. М., 1988.
52. Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII вв. М., 1980.
53. Книга сеунчей // Памятники истории Восточной Европы. XV–XVII вв. М.; Варшава, 1993. Т. 1.
54. Кобеко Д. Ф. Родословные заметки о некоторых деятелях Смутного времени. СПб., 1908.
55. Кобзарева Е. И. Шведская оккупация Новгорода в период Смуты XVII в. М., 2005.
56. Кобрин В. Б., Леонтьева Т. А., Шорин П. А. Вспомогательные исторические дисциплины. М., 1984.
57. Козляков В. Н. Марина Мнишек. М., 2005.
58. Козляков В. Н. Михаил Федорович. М., 2004.
59. Костомаров Н. И. Собр. соч.: Ист. монографии и исследования: В 21 т. СПб., 1905. Т. 13.
60. Костомаров Н. И. Смутное время Московского государства. М., 1994.
61. Книги разрядные по официальным оных спискам, изданные с высочайшего соизволения 2-м отделением собственной Е.И.В. канцелярии. СПб., 1853. Т. 1.
62. То же. СПб., 1885. Т. 2.
63. Курганова Н. М. Надгробные плиты усыпальницы кн. Пожарских и Хованских в Спасо-Евфимьевом монастыре // Памятники культуры: новые открытия. 1993. М., 1994.
64. Курукин И. В., Никулина Е. А. Повседневная жизнь русского кабака. М., 2007.
65. Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1981.
66. Лаврентьев А. В. Люди и вещи. М., 1997.
67. Либсон В. Возрожденные сокровища Москвы. М., 1983.
68. Лихачев Н. П. Сборник актов, собранных в архивах и библиотеках. СПб., 1895. Вып. 1.
69. Лукичев М. П. Д. М. Пожарский после Смуты // Он же. Боярские книги XVII в.: Труды по истории и источниковедению. М., 2004.
70. Любомиров П. Г. Очерк истории Нижегородского ополчения. М., 1937.
71. Малов А. В. Московские выборные полки солдатского строя в начальный период истории. 1656–1671. М., 2006. Илл. перед. с. 73.
72. Назаров В. Д. Акты из архива Спасо-Евфимьева монастыря // Русский дипломатарий / Под ред. А.В.Антонова. М., 1998.Вып. 4.
73. Народное движение в эпоху Смуты начала XVII в. (1601–1608): Сб. документов / Сост. Р. В. Овчинников, В. И. Корецкий и др. М., 2003.
74. Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами. М., 1948.
75. Новосельский А. А. Город как военно-служилая и как сословная организация провинциального дворянства в XVII в. // Он же. Исследования по истории эпохи феодализма. М., 1994.
76. Новый летописец // Полн. собр. русских летописей. СПб.,1910. Т. 14.
77. Новый летописец / Изд. и пер. С. Шокарева // Хроники Смутного времени. М., 1998.
78. О месте жительства Д. М. Пожарского в Балахонском уезде // Журнал Мин-ва внутр. дел. 1983. Кн. 4. Разд. 4.
79. Описи архива Разрядного приказа XVII в. / Подгот., сост. К. В. Петров. СПб., 2001.
80. Опись архива Посольского приказа 1626 г. / Подгот. к печ.
В. И. Гольцов; Под ред. С. О. Шмидта. М., 1977.
81. Оружейная палата. М., 1964.
82. Осиновский И. Н. Томас Мор. М., 1974.
83. Павлов А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. СПб., 1992.
84. Павлов А. П. Правящая элита Русского государства второй половины XI—первой половины XVII в. // Правящая элита Русского государства IX—начала XVII в.: Очерки истории / Е. В. Анисимов, В. Г. Вовина, Л. И. Ивина и др.; отв. ред. А. П. Павлов. СПб., 2006.
85. Павлов А. П. Приказы и приказная бюрократия (1584–1605 гг.) // Исторические записки. М., 1988. Т. 116.
86. Павлович Г. А. Казанская икона Богородицы и Казанский собор на Красной площади в Москве // Культура средневековой Москвы XV–XVII вв. М., 1995.
87. Памятники архитектуры Москвы. Белый город. М., 1989.
88. ПантюховИ. Селение Холуй. СПб., 1877.
89. Переписная книга города Москвы 1638 г. М., 1881.
90. Петров К. В. Царские «столы». По материалам 1622–1629 гг. // Государев двор в истории России XV–XVII столетий. Владимир, 2002.
91. Повесть о Земском соборе 1613 г. // Хроники Смутного времени. М., 1998.
92. Повесть о победах Московского государства / Изд. подгот. Г. П. Енин. Л., 1982.
93. Погодин М. П. Исследование о месте погребения Д. М. Пожарского // Москвитянин. 1852. № 19. Отд. 3.
94. Понырко Н. В. Обновление Макарьева Желтоводского монастыря и новые люди XVII в. – ревнители благочестия // ТОДРЛ. М.; Л., 1990. Т. 43.
95. Похлебкин В. В. Внешняя политика Руси. Россия и СССР за 1000 лет. М., 1995. Вып. 2. Кн. 1.
96. Правящая элита Русского государства IX – начала XVII в.: Очерки истории. СПб., 2006.
97. Раевский П. М. Род царя, царевен и князей Шуйских. Ротапр. Париж, 1958. Предисл.
98. Разрядная книга 1475–1605 гг. М., 1994. Т. 4. Ч. 1.
99. Разрядная книга 1550–1636 гг. М., 1976. Т. 2. Ч. 1.
100. Разрядная книга 1550–1636 гг. М., 1976. Т. 2. Ч. 2.
101. Разрядная книга 1559–1605 гг. М. 1974.
102. Разрядная книга 1637–1638 гг. М. 1983.
103. РжигаВ. Ф. Сообщение из двух шведских источников // Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Н. Новгород, 1913. Т. 14. Отд. 3.
104. Росписной список Москвы 1638 г. / Под ред. И. С.Беляева // Труды Моск. отд. Императорского военно-ист. об-ва. М., 1911.
105. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 135. Прил. Рубр. III. № 33. Л. 1 об.
106. РГАДА. Ф. 135. Отд. 5. Рубр. III. № 7. Л. 10 об., 11.
107. РГАДА. Ф. 141. Отд. 2. Оп. 2. Д. 7. Л. 9—24.
108. РГАДА. Ф. 159. Оп. 1. Д. 352.
109. РГАДА. Ф. 210. Оп. 1. Кн. 4. Л. 2.
110. РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Ст. 245. Л. 302–305.
111. РГАДА. Ф. 210. Оп. 11. Ст. 3. Л. 11–17.
112. РГАДА. Ф. 210. Оп. 11. Ст. 3. Л. 23–25.
113. РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Ст. 48. Л. 79–88.
114. РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Ст. 48. Л. 933–936, 944–945.
115. РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Ст. 48. Л. 935, 936.
116. РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Ст. 90. Л. 306–313.
117. РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Ст. 90. Л. 314.
118. РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Ст. 12. Л. 28–41.
119. РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Ст. 16. Л. 348–351.
120. РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Ст. 17. Л. 297–309.
121. РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Ст. 66.
122. РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Ст. 80. Л. 69–96.
123. РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Ст. 113. Л. 204–209.
124. РГАДА. Ф. 217. Оп. 17. Ст. 13. Л. 109.
125. РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 34983.
126. РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 206. Л. 244.
127. РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 1161. Л. 228.
128. РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 1161. Л. 227об., 302–303.
129. РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 1161. Л. 26об., 34об., 44об., 147, 191 об.
130. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 261. Л. 136.
131. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 11319. Л. 731–745.
132. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 11320. Л. 1055 об. – 1059.
133. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 11320. Л. 1059.
134. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 11320. Л. 1024–1026 об.
135. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 204. Л. 396.
136. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 604. Ч. III. Л. 439–442.
137. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 261. Л. 136.
138. РГАДА. Ф. 1455. Оп. 2. Д. 5915.
139. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 131. Д. 725. Л. 5.
140. Русский архив Яна Сапеги 1608–1611 гг.: Опыт реконструкции и источниковедческого анализа / Сост. И. О. Тюменцев и др.; Под ред. О. В. Иншакова. Волгоград, 2005.
141. Русский исторический сборник (РИС). М., 1832. Т. 2.
142. Рязанский государственный историко-культурный музей-заповедник (РГИКМ). Отдел рукописей. П-15.8931. С. 21 об., 177 об.
143. Савелов Л. М. Князья Пожарские // Летопись историко-родословного общества в Москве. М., 1906. Вып. 2–3.
144. Савельева О. К. Постройки Д. М. Пожарского в Пурехе // Архитектурное наследство. М., 1984. Вып. 32.
145. Садиков П. А. Земская печать и нижегородское ополчение 1611–1612 гг. // Летопись занятий Археографической комиссии АН. М., 1929. Т. 35.
146. Сведение о Д. М. Пожарском // Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Н. Новгород, 1913. Т. 11. Отд. 3.
147. Сироткин С. В. Заметка к биографии Д. М. Пожарского // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2001. № 1.
148. Скрынников Р. Г. Минин и Пожарский. М., 1981.
149. Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII в. М.; Л., 1948. Т. 2.
150. Смутное время Московского государства 1604–1613 / Сост. С. Б. Веселовский. М., 1911.
151. Смирнов С. Биография князя Дмитрия Михайловича Пожарского. М., 1852.
152. Снимки с древних русских печатей государственных, царских, областных, городских, присутственных мест и частных лиц / Сост. Ф. А. Бюлер. М., 1880. Вып. 1.
153. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел (СГГД). М.,
1819. Т. 2. № 56, 267.
154. СГГД. М., 1882. Т. 3. № 48.
155. Соколов А. , протоиерей. Князья Пожарские и Нижегородское ополчение. Н. Новгород; Саранск, 2006. Ил. XL, XLI.
156. Соловьев С.М. История России с древнейших времен: Соч.: В 18 кн. М., 1990. Кн. 4. Т. 8.
157. Там же. Кн. 5.
158. Спасский С., архиепископ. Полный месяцеслов Востока. М., 1997. Ч. 1. Репр.
159. Станиславский А. Л. Гражданская война в России в начале XVII в. Казачество на переломе истории. М., 1990.
160. Станиславский А. Л. , Морозов Б. Н. Повесть о Земском соборе 1613 г. // Вопросы истории. 1985. № 5.
161. Сташевский Е. Д. Землевладение московского дворянства в первой половине XVII в. М., 1911.
162. Сухотин Л. М. Четвертчики Смутного времени (1604–1617). М., 1910.
163. Тастевен Ф. И. Большая Лубянка и прилежащие к ней улицы в XVII и XVIII столетиях // Старая Москва. М., 1912. Вып. 1. Репр. М., 1993.
164. Тюменцев И. О. Из истории избирательного Земского собора 1613 г. // Дом Романовых в истории России: Сб. статей / Под ред. И. Я. Фроянова. СПб., 1995.
165. Уваров А. С. Сборник мелких трудов. М., 1910. Т. 3. Ил. I–IX.
166. Утвержденная грамота об избрании на Московское государство Михаила Федоровича Романова / Предисл. С. А. Белокурова. М., 1906.
167. Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005.
168. Чтения Общества истории и древностей российских. 1848. № 7.
169. Эскин Ю. М. Завещание князя Дмитрия Пожарского // Отечественная история. 2000. № 1.
170. Эскин Ю. М. Печати членов Боярской думы в 1633 году // Russia Mediaevalis. M?nchen, 2003. Т. 10.
171. Юпрус Х. Здание Братства черноголовых / Пер. Н. Румянцевой. Таллинн, 1974.
172. Bohun T. Moskwa 1612. Warszawa, 2005.
173. Dembolecki W. Przewagi elearow polskich / Opr. R. Styber. Torun, 2005.
174. Grala H. Lis z jezem w herbie // Mowa Wieku. 1998. № 2.
175. GralaH. Przemerzyс Rosie sagonem // Mowa Wieku. 1998. № 5.
176. Kupisz D. Smolensk 1632–1634. Warszawa, 2001.
177. Maewski A. – L. Moskwa 1617–1618. Warszawa, 2006.
178. Polak W. O Kremli i Smolensiznie. Torun, 1995.
179. Schmucker-BreloerM. Das Hausarchiv der Fursten Pozarskij. Dokumente zur Geschichte russicher Guter 1633–1652. Bohlau Verlag. Koln-Weimar – Wien, 1996.
180. Tuszkowski K. Aleksander Lisowski i jego zagony na Moskwe // Przeglad Historno-Wojskowy. 1932. T. 5.
181. WisnerH. Lisowczycy. Warszawa, 1995.
КУЗЬМА МИНИН (В. Козляков, П. Михайлов)
Убрав патриотическую риторику, обычно заполняющую очерки о Кузьме Минине, мы увидим, что известно о нем совсем немного. Историки, конечно, старались, но они слишком поздно озаботились сбором сведений о нижегородском мужике, оказавшемся спасителем Отечества в далекую Смуту начала XVII в. Напомним, что памятник князю Дмитрию Пожарскому и «гражданину Минину» (уже концепция!) появился на Красной площади в Москве только после Отечественной войны 1812 г. Для большинства из нас стоящая фигура Кузьмы Минина на этом памятнике И. П. Мартоса и есть самый близкий образ народного героя. И никого уже не смущает, что по канонам классицизма Кузьма Минин одет в римскую тунику, а не в более подходящий ему кафтан или хотя бы кольчугу. Это исправил скульптор М. О. Микешин, поместив фигуру Кузьмы Минина в русской одежде на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. На нем коленопреклоненный Минин отдает царскую шапку и скипетр юному царю Михаилу Романову.
Участие Кузьмы Минина в создании нижегородского ополчения в 1611–1612 гг. остается самым ярким фактом его жизни. Достаточно хорошо известен путь земского старосты под Москву, его действия под столицей, участие в делах управления во время избирательного Земского собора 1613 г. Многие помнят, что обычный мужик превратился в думного дворянина молодого царя Михаила Романова.
Однако Кузьма Минин явно потерялся среди привилегированных государевых слуг, бояр, стольников и дворян. Его скорая смерть, как говорили, совсем еще не старого человека, лишь расставила все по своим местам.
Как звали… Кузьму Минина
О происхождении и времени рождения Кузьмы Минина достоверно ничего не известно. Удивительно, но даже само имя становилось предметом научных обсуждений. Дело в том, что у посадских людей в те времена рядом с имене собственным стояло имя или прозвище их отца. Поэтому Минин – это не привычная для нас фамилия, а указание на то, что Кузьма был сыном Мины. Могут возразить: а как же быть с упоминаниями Кузьмы Захарьева Минина Сухорука, которого тоже иногда отождествляют с народным героем? Источник подобных сведений восходит к П. И. Мельникову, больше известному как писатель Андрей Печерский. Чиновник П. И. Мельников был не чужд также исторических интересов. Живя в Нижнем Новгороде, он не мог пройти мимо такой важной фигуры, как Кузьма Минин, и в 1852 г. в журнале «Москвитянин» напечатал статью «Как звали Минина. Купчая 1602 г.» [13, 33]. Там-то он и приводил сведения о единственном документе, в котором встречалось имя Кузьмы Минина. Речь шла о купчей на двор на нижегородском посаде, где «в межах» был упомянут еще и двор «Кузьмы Захарьина Минина Сухорука, а по другую сторону Почаинской враг». Отождествив этого человека с Кузьмой Мининым, П. И. Мельников, как оказалось, лишь запутал историю вопроса.
Сначала эта версия была принята, особенно в популярной исторической литературе второй половины XIX в. [16, 715–717], но скоро услышали и голос скептиков: ведь кроме упомянутого документа, Кузьму Минина с таким прозвищем называли только в «Новом летописце». Специальную статью на эту тему «Одно ли лицо Кузьма Минин и Кузьма Захарьев Минин Сухорук» опубликовал один из ведущих деятелей Нижегородской ученой архивной комиссии А. Я. Садовский, решительно высказавшись по этому поводу: «Кузьма Минин должен именоваться так, как именовался он сам, как именовали его родные и как именовали его дошедшие до нас официальные документы того времени» [31, 1-14]. Можно заметить, что такие серьезные исследователи Смуты и истории нижегородского ополчения, как С. Ф. Платонов и П. Г. Любомиров, так и поступали.
Однако красивая легенда, созданная П. И. Мельниковым, продолжала жить. Лишь совсем недавно, благодаря находке А. Ю. Хачко, разыскавшего «Книги купчих записей» нижегородского посада 1602/03 г., куда вошел и список с «купчей 1602 года», стало окончательно ясно, что П. И. Мельников ошибся, выдав желаемое за действительное [35, 7-11]. В документе речь идет о другом человеке – Кузьме Захарьеве сыне Сухоруке – и нет никакого упоминания его с отчеством Минин. Каковы были истинные мотивы этой «ошибки» П. И. Мельникова, приходится только гадать. Могло ведь сказаться и то, что летописные, а вслед за ними, вероятно, и некоторые фольклорные памятники действительно упоминали Кузьму Минина с прозвищем Сухорук. Однако более подходящим выглядит простое объяснение искания П. И. Мельниковым литературной славы.
Точно так же не выдерживают критики попытки вывести род Мининых не из Нижнего Новгорода, где его избрали земским старостой, а из Балахны. И в этом случае ссылка на существовавшие в Балахне предания увлекла историков-краеведов. С легкой руки одного из них – И. А. Кирьянова, опубликовавшего свои разыскания в «центральном» научном журнале «История СССР» в 1965 г. [14, 144146], эта версия была принята и другими исследователями. И. А. Кирьянов основывался на публикациях синодиков Нижегородского Печерского монастыря 1648 г., нижегородского Михаило-Архангельского собора конца 70– 80-х гг. XVII в. и писцовой книги Балахны 1574–1576 гг., осуществленных Нижегородской ученой архивной комиссией (правда, он не упомянул о том, что до него на возможную связь Кузьмы Минина с другим Мининым, упоминавшимся в писцовой книге Балахны, уже обращал внимание публикатор этого источника А. Я. Садовский). Сопоставив имена поминальных записей Кузьмы Минина и его сына Нефеда Минина в нижегородских синодиках с именами балахнинских Мининых из писцовых книг, И. А. Кирьянов нашел два совпадения и на этом основании высказал предположение «о тесной связи сведений о семействе балахнинских Мининых с имеющимися данными о Кузьме Минине и его роде» [14, 144]. И. А. Кирьянов установил общего предка балахнинских Мининых – Федора Минина сына Анкудинова и сделал вывод о том, что отцом Федора Минина, как и отцом Кузьмы Минина, был один и тот же человек. Историк-краевед отождествил его с неким Миней Анкудиновым, упоминавшимся в одном из источников конца XVI в.
Позднее В. А. Кучкин дополнил эти предположения сведениями других писцовых книг – города Балахны 1645/ 46 г. и Заузольской дворцовой волости 1591 г. [17, 209–211]. Ему удалось найти новые материалы о Мине Анкудинове, которого стали считать отцом Кузьмы Минина. Найдя упоминания о трех деревнях, бывших «за балахонцом за посадским человеком за Минею за Онкудиновым», В. А. Кучкин сделал справедливый вывод о зажиточности балахнинских Мининых. Однако главный вопрос о связи рода нижегородца Кузьмы Минина с Балахной так и остался открытым. Не случайно В. И. Буганов, автор биографического очерка о Кузьме Минине в журнале «Вопросы истории», сомневался в балахнинском происхождении своего героя [5, 90—102].
Новое обращение к нижегородским синодикам, проведенное Б. М. Пудаловым,[126] показало практически полную несостоятельность догадок о связи Кузьмы Минина с Балахной. Самая ранняя из известных поминальных записей Кузьмы Минина – в «кормовом» синодике Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря, начатом еще в 1595 г. В этой записи под заголовком «Род Козмы Минича» записаны следущие поминания: «Инока Мисаила (это поминание по самому Кузьме Минину, принявшему схиму. – Авт.). Домникею. Иякова уб[иеннаго]. Козму. Сергея. Мефодия» [28, прил. 195]. Отсутствие в этой поминальной записи упоминания об Анкудине, которого исследователи посчитали дедом Кузьмы Минина, по крайней мере вызывает недоумение.
Но еще больше генеалогического материала для восстановления состава рода Мининых дает выписка из утраченного Архангельского синодика 70—80-х годов XVII в. со сведениями о поминании Нефеда Минина [28, прил. 195]. Когда-то она была сделана для А. Я. Садовского, и тот имел возможность лично удостовериться в ее аутентичности. В свою очередь автор версии о балахнинском происхождении Мининых И. А. Кирьянов пользовался уже тем, что цитировал А. Я. Садовский в статье об имени Кузьмы Минина. Обращение же к этой «выписи А. Я. Садовского» из Архангельского синодика показывает, что из двадцати одного имени в роду Кузьмы и Нефеда Мининых, с именами балахнинских Мининых совпадают всего лишь три – Григорий, Михаил и Иван. Но они, как известно, очень распространены в историческом ономастиконе, а редкого имени Анкудин нет и в поминальной записи Нефеда Минина!
Следовательно, нет никаких оснований отождествлять жившего в Балахне в конце XVI в. Мину Анкудинова и его детей с нижегородцами Миниными. Сам переход с посада на посад уже являлся непростым делом и не мог пройти безболезненно из-за круговой поруки и раскладки уплаты податей. Сомнительно также, чтобы нижегородский посадский «мир» доверил командовать собой Кузьме Минину, когда было известно, что род земского старосты – пришлый из Балахны. Связь Кузьмы Минина с Балахной если и существовала, то имела не призрачные родственные основания, а деловой характер. Мясницкое дело Кузьмы Минина требовало для сохранения товара большого количества соли, которую в Нижнем Новгороде брали с ближайшего и поэтому более дешевого промысла – с балахнинских солеварен.
Приходится еще раз напомнить, что это почти все, что достоверно известно о Кузьме Минине до того самого великого момента в его жизни, когда он возглавил движение на нижегородском посаде по организации земского ополчения.
Воззвание Минина
Во времена забытого ополчения 1608–1609 гг. под руководством нижегородского воеводы Андрея Алябьева, защищавшего вместе с местными дворянами Нижний Новгород от наступавших «тушинцев», роль посада была не видна [4, 196–240; 15, 44–46]. Поэтому можно лишь предполагать, что, как и другие нижегородцы, Кузьма Минин оставался верен присяге царю Василию Шуйскому, но в военных столкновениях, естественно, никакого участия не принимал. Эта последовательность в признании официальной власти, без всяких «перелетов» к самозванцу Лжедмитрию II, была свойственна в то время и князю Дмитрию Пожарскому. Иначе бы призыв Кузьмы Минина к нижегородцам и его обращение за помощью к князю Дмитрию Пожарскому не могли быть успешными.
К 1611 г. дошла очередь до вступления в земскую борьбу не только служилых, но и посадских людей. Убежденность в этом Кузьма Минин черпал, повторяя слова явившегося ему во сне Сергия Радонежского: «…старейшие в таковое дело не внидут, наипаче юнии начнут творити» [22, 394]. С. Ф. Платонов и П. Г. Любомиров думали, что это является свидетельством того, что Кузьма Минин обращался прежде всего к молодым нижегородцам. Но, скорее всего, в этих словах содержится объяснение мотивации действий самого Минина, «молодшего» посадского человека, вступившего за общее дело.
Само выступление Кузьмы Минина на «собрании ратных людей» нижегородского посада часто упоминается в летописях. Хорошо известен подробный рассказ «Нового летописца», куда вошла специальная статья под названием «О присылке из Нижнего Новгорода [послов] к князю Дмитрию Михайловичу, и о приходе в Нижний, и о собрании ратных людей»:
«…нижегородцы, поревновав о православной христианской вере и не желая видеть православной веры в латинстве, начали мыслить, как бы помочь Московскому государству. Один из них нижегородец, имевший торговлю мясную, Козьма Минин, прозываемый Сухорук, возопил всем людям: «Если мы хотим помочь Московскому государству, то нам не пожалеть имущества своего, да не только имущества своего, но и не пожалеть дворы свои продавать и жен и детей закладывать, и бить челом, кто бы вступился за истинную православную веру и был бы у нас начальником». Нижегородцам же всем его слово было любо, и придумали послать бить челом к стольнику ко князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому архимандрита Печерского монастыря Феодосия да из всех чинов лучших людей. Князь же Дмитрий Михайлович в то время был у себя в вотчине, от Нижнего в 120 поприщах, лежал от ран. Архимандрит же и все нижегородцы пришли к князю Дмитрию Михайловичу и били ему челом со слезами, чтобы он ехал в Нижний Новгород и встал за православную христианскую веру и помощь бы оказал Московскому государству. Князь же Дмитрий их мысли был рад и хотел ехать тотчас, да зная у нижегородцев упрямство и непослушание воеводам, писал к ним, чтобы они выбрали из посадских людей, кому быть с ним у того великого дела и казну собирать, а с Кузьмою Мининым будет у них все уговорено. Тот же архимандрит и нижегородцы говорили князю Дмитрию, что у них в городе такого человека нет. Он же им говорил: «Есть у вас Кузьма Минин; тот бывал служилым человеком, ему то дело привычно». Нижегородцы, услышав такое слово, еще больше были рады, и пришли в Нижний, и возвестили все. Нижегородцы же тому обрадовались и начали Кузьме бить челом. Кузьма же им для [их] укрепления отказывал, [говоря, что] не хочет быть у такого дела. Они же его прилежно просили. Он же начал у них просить приговор, чтобы им во всем быть послушными и покорными и ратным людям давать деньги. Они же дали ему приговор. Он же написал приговор, чтобы не только у них брать имущество, но и жен и детей продавать, а ратным людям давать [деньги]. И взяв у них приговор, за их подписями послал тот приговор ко князю Дмитрию тотчас затем, чтобы того приговора назад у него не взяли» [20, 364–365].
Приведем также рассказ «Пискаревского летописца», обнаруженного О. А. Яковлевой только в 1950-х годах и поэтому мало использовавшегося в работах по истории нижегородского ополчения:
«И некоим смотрением божиим лета 7120-го в Нижнем Новеграде некий торговой человек от простых людей, имянем Козьма, прозвище Минин, смышлен и язычен. И почал советовати с своею братьею с нижегородцы з гостьми и с торговыми людьми, и со всякими: како бы им пособити Московскому государьству. А в то время ис под Москвы хотели были и достальные люди розойтись врознь: бояре и дворяне, и дети боярские, и казаки, и всякие служилые люди. И тот Козьма по некоему Божию смотрению и по своему умышлению и почал в Новегороде казну збирати з гостей и с торговых людей, и со всяких тамошних житейских людей, хто чего стоен: с ыного рубль, с ыного пять и шесть, с ыного десять и дватцать, и пятьдесят, и сто, и двести, и триста, и пятьсот, и тысячю, и больши. И свою казну дал тут же всю. И почал давати ту казну бедным разореным людям: бояром и дворяном, и детем боярским, и казаком, и стрельцом, и всяким ратным людем. И почал всем градом выбирати к тем ратным людем воеводу. И выбрали дворяне и дети боярские, и всякие служилые люди стольника князя Дмитрея Михайловича Пожарсково. И почали к нему съезжатись в Нижней Новгород и со всего Московсково государьства бояре и дворяне, и дети боярские, и казаки, и стрельцы, и всякие служилые люди. А тот Козьма почал жалованье давати, хто чего достоин» [21, 217].
Как писал П. Г. Любомиров: «Многие источники и все исследователи согласно утверждают, что видную или даже главную роль в пробуждении у нижегородцев решимости встать на очищение Московского государства сыграли речи Кузьмы Минина. Но когда и под влиянием чего выступил он со своим воззванием, в какой среде его горячее слово раньше всего нашло себе отклик в реальной форме начала работы по созданию ополчения?» [18, 47]. П. Г. Любомиров в подробном исследовании по истории нижегородского ополчения попытался дать свой ответ на поставленные вопросы. Он привел новые аргументы в пользу того, что выступление Кузьмы Минина не было непосредственно связано с грамотами из Троице-Сергиева монастыря, хотя они и могли обсуждаться в Нижнем Новгороде. Значительную роль при начале выступления нижегородцев должны были сыграть не столько окружные послания из Троице-Сергиева монастыря, сколько прямое обращение к нижегородцам, переданное патриархом Гермогеном с «бесстрашным» свияженином Родионом (Родей) Мосеевым, сумевшим пробраться в осажденную Москву и привести в Нижний Новгород патриаршую грамоту 25 августа 1611 г. В Нижнем Новгороде узнали непосредственно от патриарха Гермогена о том, что произошло под Москвой. Он писал, что в полках Первого ополчения после смерти одного из его руководителей Прокофия Ляпунова власть захватили казаки и обсуждают кандидатуру «проклятого паньина Маринкина сына» (сына Марины Мнишек и самозванца Лжедмитрия II) [1, 343]. Патриарх «проклинал» этого претендента и всех, кто его поддерживает, призывая нижегородцев не допустить того, чтобы в Москве воцарился «казачий царь». Через Нижний Новгород обращение дошло и до другого иерарха – казанского митрополита Ефрема. Находясь в Казани, он имел больше возможностей повлиять на земщину, чем находившийся в фактическом заключении в московском кремлевском Чудовом монастыре патриарх Гермоген. Имея вместе с нижегородцами такую духовную поддержку, Кузьма Минин и выступил со своим знаменитым призывом.
Когда же он произнес речь, призвавшую нижегородцев поделиться своим имуществом ради дела организации нового ополчения для похода на Москву? И. Е. Забелин и П. Г. Любомиров датировали это выступление «первой половиной» или – «самое большее» – серединой сентября 1611 г. Дело в том, что Кузьма Минин упоминал о своем выборе в земские старосты, подтолкнувшем его к действию, в разговорах с архимандритом Троице-Сергиева монастыря Дионисием, которому рассказывал «о собрании ратных людей на очищение государству». Однако в аргументации П. Г. Любомирова использован небесспорный прием аналогии, согласно которому он посчитал, что выборы Кузьмы Минина в земские старосты произошли около начала нового года – 1 сентября (по счету лет от сотворения мира это был 7120 г.), – так, как это делалось в русских северных общинах. К сожалению, для посадских общин центра России в Смутное время нет представительного материала, чтобы уверенно говорить, что там соблюдался тот же срок перевыборов земских старост. Поэтому «отсчитывать» начало выступления Кузьмы Минина приходится иначе, не позднее того времени, когда становится уже точно известно о сборе нового ополчения и приходе его первых отрядов в Нижний Новгород. События эти тоже датируются по-разному, но наиболее достоверным выглядит свидетельство автора «Карамзинского хронографа» арзамасского дворянина Баима Болтина, записавшего, что «в 120 году в осень о Дмитриев дни» (26 октября) оказавшиеся в Арзамасе смоленские дворяне и дети боярские выступили в Нижний Ногород. Значит, примерно в один из дней с 25 августа (не ранее того времени, когда в Нижнем Новгороде получили грамоту патриарха Гермогена) до 26 октября 1611 г. Кузьма Минин выступил на нижегородском посаде.
О месте, где Кузьма Минин обратился к нижегородцам с призывом собрать средства для нужд людей ратных, тоже давно и безуспешно спорят. Логично заключить, что такое обращение произошло в земской избе, находившейся по материалам дозора нижегородского посада 1620–1621 гг. на Нижнем посаде, близ Никольской церкви. Последующие предания и легенды, очевидно, стремятся показать, что Кузьма Минин выступил перед большим собранием нижегородцев, и связывают его обращение с выступлением «на торгу», где его могли услышать многие люди.
Существует еще один, опубликованный П. И. Мельниковым памятник, так называемая «Ельнинская рукопись», в которой был записан рассказ о создании «совета» посадских людей, их общем сборе в Спасо-Преображенском соборе, поучении нижегородского протопопа Саввы и речи Кузьмы Минина. Однако рукопись оказалась почему-то утраченной и, зная уже о попытках П. И. Мельникова «приукрасить» биографию Кузьмы Минина, к ее свидетельству тоже надо отнестись с осторожностью. Хотя именно из «Ельнинской рукописи» известен рассказ о том, что Кузьма Минин принес «свое имение, монисты, пронизи и басмы жены своей Татьяны и даже серебряные и золотые оклады, бывшие на св. иконах» [18, 54].
Осторожность историка не должна смущать читателя. Легенда о том, что Кузьма Минин принес для общего сбора украшения своей жены Татьяны, рождалась не на пустом месте. Ведь написано же в более осведомленном «Новом летописце», созданном на рубеже 20—30-х годов XVII в., что нижегородцы закладывали при создании ополчения жен и детей. Есть и другой рассказ о некоей «вдове», принесшей 10000 рублей из бывших у нее 12000 рублей, чем она «многих людей в страх вложила». Пусть остаются сомнения по поводу того, что Кузьма Минин снимал оклады икон или что имя «вдовы», обладавшей капиталами под стать самым богатым людям в Московском государстве – Строгановым, оказалось неизвестным. Очевидно, что из таких рассказов нельзя построить связную историческую картину. Но без всех этих столетиями живущих легенд не было бы ни памятников Кузьме Минину, ни грандиозного полотна художника К. Маковского, изображающего воззвание земского старосты к нижегородцам в 1611 г. (картина создавалась к Нижегородской выставке 1896 г. и хранится в настоящее время в Нижегородском художественном музее).
Создание Второго ополчения и «Совета всей земли»
После первого всеобщего порыва, как это обычно бывает, наступает рутина, в которой основательность задуманного дела проверяется много лучше. И вот здесь роль Кузьмы Минина трудно переоценить. В книге Симона Азарьина «О чудесах чудотворца Сергия» говорилось, что посадские люди Нижнего Новгорода «приговор всего града за руками устроиша» с тем, чтобы собрать деньги «на строение ратных людей» [18, 55]. Даже формально исполнить такое решение должен был земский староста. Для этого у Кузьмы Минина была вся необходимая власть, и он ею пользовался, так как трудно ожидать, что патриотический порыв захватил всех нижегородцев поголовно. Были и те, кто не желал добровольно расставаться с нажитым, сохранились указания источников на то, что посадские люди даже хотели бы пересмотреть «приговор», принятый ими под воздействием речей земского старосты, а после ухода ополчения из Нижнего Новгорода забрали принесенные в казну деньги [6, 6]. Но, как свидетельствовал приведенный рассказ «Нового летописца», предусмотрительный Кузьма Минин быстро отвез «приговор» на хранение князю Дмитрию Пожарскому и путей к отступлению у жителей посада, да и купцов из других городов, торговавших в Нижнем Новгороде, уже не осталось.
В начальной истории Второго ополчения был еще один момент, ярко свидетельствующий, что действия самого Кузьмы Минина способствовали успеху начатого сбора ратных людей. Все источники согласно свидетельствуют о том, что это именно он добился согласия князя Дмитрия Михайловича Пожарского возглавить собранных в Нижнем Новгороде ратных людей. Стоит ли лишний раз подчеркивать, какое следствие это имело не только для дела ополчения, но и самой истории? В тот момент в Нижнем Новгороде были воеводы князь Василий Андреевич Звенигородский, Андрей Семенович Алябьев, уже руководивший отрядами нижегородцев, воевавших против самозванца в царствование Василия Шуйского. Известен еще Иван Иванович Биркин, приезжавший из Рязани в Нижний Новгород при начале Первого ополчения в январе 1611 г. Потом Биркин служил в подмосковных полках и на воеводстве в Арзамасе, откуда был смещен в августе 1611 г. и снова вернулся в Нижний Новгород. Но при всей его популярности у нижегородцев, смоленских дворян и детей боярских, составивших первоначальное ядро ополчения, Биркин стал только вторым воеводой [18, 59–60].
Думается, что совсем не случайно «Новый летописец» подчеркнул, говоря про князя Дмитрия Пожарского: «А с Кузьмою с Мининым бысть у них по слову» [19, 116]. В Смутное время мало оставалось людей, державшихся каких-либо слов, уговоров и присяг. Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский поверили друг другу именно потому, что принадлежали к такому «меньшинству». Духовные переживания видения Сергия Радонежского Кузьмою Мининым не могли не оказаться близки князю Дмитрию Пожарскому. Даже такая деталь, как совпадение крестильных имен (князь Дмитрий Пожарский, как установил недавно Ю. М. Эскин, в крещении был тоже Козьмой), могла иметь свое значение [36, 143–157]. Ни у современников, ни у позднейших историков почти никогда не возникало сомнения, что Кузьма Минин каким-либо образом «корыстовался» из собираемых средств.[127]
Конечно, и для князя Дмитрия Пожарского эта честность имела значение в первую очередь. Другое дело, что они наверняка прекрасно понимали, как важно уберечь средства ополчения от тех, кто легко переходил от царя Василия Шуйского к Лжедмитрию II, а от них к королю Сигизмунду III и во всем искал свою выгоду. Этим можно объяснить, что Кузьма Минин, хорошо представлявший себе, что делалось на нижегородском посаде, посоветовал князю Дмитрию Пожарскому потребовать избрания особого человека для заведования казной «преже прихода послов» из Нижнего Новгорода. Так патриотический порыв и честные устремления, вдохновлявшие князя Дмитрия Пожарского и Кузьму Минина, стали самыми важными основаниями для создания нижегородского ополчения.
О том, как Кузьма Минин собирал деньги на жалованье ратным людям, свидетельствуют записи нижегородских платежниц 1611/12 г. В них упомянуто, что выработка «приговора» об этом была осуществлена при участии «выборного человека» Кузьмы Минина. Как видим, уже в Нижнем Новгороде он использовал не одни призывы. Тем труднее пришлось Минину, когда ополчение двинулось на соединение с другими земскими силами, враждебными казакам. Кузьма Минин был тверд в исполнении решения о чрезвычайном сборе «две части имения своего в казну ратным людем отдати, себе же на потребу третию часть имения оставити». Хотя ему и нелегко было распространить нижегородский оклад в других городах – Балахне, Юрьевце, Костроме, через которые двигалось нижегородское ополчение. «Повесть о победах Московского государства» рассказывала, что Минину пришлось даже устрашать ослушников, пытавшихся притвориться нищими: «Он же, видя их пронырство и о имении их попечения, повелевая им руце отсещи» [25, 32]. В апреле 1612 г. в Ярославле дело тоже дошло до угроз Кузьмы Минина посадить в тюрьму тамошнего земского старосту Григория Никитникова (кстати, одного из тех, чьи приказчики ранее уже уплатили деньги на сбор ополчения непосредственно в Нижнем Новгороде). Но после исполнения общего решения о сборе денег Григорий Никитников и другие ярославские купцы были прощены и вошли в земский «Совет всей земли».
В дальнейшей истории ополчения можно увидеть еще и то, что Кузьма Минин был прежде всего занят своим делом и не особо заботился о том, какое место он занимает (и занимает ли вообще) в перечнях лиц, подписывавших грамоты от имени руководителей земского ополчения. Когда первые грамоты рассылались из Нижнего Новгорода в Вологду, Вычегду, Казань, Курмыш и другие города, то в них назывались воеводы стольник князь Дмитрий Пожарский, Иван Биркин и дьяк Василий Юдин. Потом, во время движения ополчения из Нижнего Новгорода в Ярославль, рядом с князем Дмитрием Пожарским окажутся другие воеводы и более умелые приказные дельцы.
Верстанного в дьяки из нижегородских посадских людей Василия Юдина [27, 20–21] сменил настоящий московский дьяк Семейка Самсонов, которому и была поручена переписка с городами [29, 290–291].
Знаменитую грамоту земского ополчения 7 апреля 1612 г. из Ярославля в Сольвычегодск «именитым людям» Строгановым с просьбой о присылке денег ратным вместо Кузьмы Минина подписал князь Дмитрий Пожарский: «В выборново человека всею землею, в Козмино место Минино князь Дмитрей Пожарской руку приложил [1, 356].[128] В ней говорилось и о начале движения в Нижнем Новгороде, правда, без упоминания о роли призывов Кузьмы Минина:
«…в Нижнем Новегороде гости и все земьские посадские люди, ревнуя по Бозе, по православной християнской вере, не пощадя своего именья, дворян и детей боярских смольнян и иных многих городов сподобили неоскудным денежным жалованьем, и тем Московскому государьству и всему православному християнству великую неизреченную помочь учинили» [1, 356].
Впрочем, и без того авторитет Кузьмы Минина, распоряжавшегося сбором казны на нужды ополчения, оставался высок. «Пискаревский летописец» упоминает о том, что Минин не просто собирал деньги для ратных людей, но и принимал у них присягу служить с этого жалованья:
«Из Новагорода из Нижнево пошли вверх воеводы, на Кострому и в Ерославль. И как пришел князь Дмитрей Пожарской в Ярославль, и тут к нему почали и достальные люди съежатца: бояре и дворяне, и дети боярские всяких розных городов. И тот Козьма по тем по всем городом по-вольским и поморским почал казну збирать з гостей и со всяких торговых людей, и жалованье почал давать и поруки имать, что им служба служить и з [с]лужбы не збежать» [21, 124].
Когда в конце августа 1612 г. пополнившее свои силы ополчение пришло под Москву, подмосковные казаки не могли сдержаться при виде хорошо устроенного земского войска. Они говорили про ратных людей, которыми командовали князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин: «богати пришли из Ярославля, и сами одни отстоятся от етмана» [19, 124].
Подвиг и судьба Кузьмы Минина
Под Москвой, в самую критическую минуту борьбы, когда нужно было убеждать выступить «таборы» князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого против общего врага – гетмана Яна Кароля Ходкевича, еще раз сказался талант Кузьмы Минина, умевшего увлекать за собой других людей. Автор «Повести о победах Московского государства» сравнил его речь к казакам, воевавшим под началом боярина князя Дмитрия Трубецкого, с зажженной в темноте «светлой» свечой:
««Ныне бо от единоверных отлучаетеся, – говорил Кузьма Минин свою яркую проповедь, – впредь к кому прибегнете и от кого себе помощи чаете». Он не остановился на этом и сам взял саблю в руки, ходил вместе с дворянскими сотнями воевать против литовских рот «у Крымского двора» за Москвою-рекою» [25, 34].
Такое необычное для посадского человека участие в военных делах не укрылось от осажденного в столице польско-литовского гарнизона. Отвечая на призыв о сдаче, отправленный князем Дмитрием Пожарским после «гетманова отходу», рыцарство давало надменную отповедь «шпыням» и «блинникам», собравшимся под Москву, в свою очередь, указывая Пожарскому: «Кузьмы пусть занимаются своей торговлей» [30, 337].
Кузьма Минин дождался освобождения Москвы, хотя в объединенных полках князей Дмитрия Трубецкого и Дмитрия Пожарского он уже не играл прежней роли. Можно даже думать, что казаки из подмосковных «таборов» продолжали испытывать к нему враждебность, возникшую по приходе ополчения из Ярославля в Москву. Автор «Нового летописца» писал, что когда земское ополчение отказалось объединиться с казацкими «таборами», то «казаки начаша на князь Дмитрея Михайловича Пожарсково и на Кузму и на ратных людей нелюбовь держати» [19, 124]. Раздражение казаков должно было вызвать и то, что московские бояре договаривались о своем выходе с князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым, чтобы те «пожаловали их, приняли без позору» [20, 125]. При освобождении Москвы казаки из полков Трубецкого и Пожарского разграбили двор временщика при польско-литовских управителях дьяка Федора Андронова. Сидевший в осаде в Москве дьяк Марк (Марко) Поздеев свидетельствовал, что он был в это время «с Кузмою Мининым и казаки им ничего имать не давали» [2, 78].
После освобождения столицы Минин продолжал оставаться в Москве и исполнял финансовые поручения. Возможно, ему было поручено наблюдать за имуществом, конфискованным в Москве у разных лиц. Известно, что к нему обращались за заступничеством ограбленные казаками выходцы из Москвы и родственники тех, кто служил королю Сигизмунду III. Минин не отказал в помощи даже сестре сидевшего в тюрьме одиозного дьяка Федора Андронова, вспоминавшей потом, как она «после Московского разоренья при Кузьме Минине пришла в Чюдов монастырь в полату, где всякие поклажея лежали» и про «платьишко, что дал ей Кузьма Минин в те поры, как она вышла из Москвы» [2, 75]. Еще одна черта характера или обычное распоряжение чиновника, которому было поручено конфискованное имущество? Почему-то верится, что в этом малозаметном деле отразилась именно «милость к падшим».
Когда началась подготовка избирательного Земского собора, Кузьма Минин был все еще заметен в московском управлении. Плененный после боя с передовыми отрядами короля Сигизмунда III под Москвой «смольнянин» Иван Философов показывал в своих расспросных речах в ноябре 1612 г., что московских бояр не пускали заседать в Думу, «а делает всякия дела князь Дмитрий Трубецкой, да князь Дмитрий Пожарской, да Куземка Минин» [23, 152]. Затем оба главных воеводы ополчения князь Дмитрий Трубецкой и князь Дмитрий Пожарский, по сообщению «Повести о Земском соборе 1613 года», сами включились в «избирательный процесс», а в Москве стали преобладать казаки [24]. Тогда, видимо, влияние Кузьмы Минина на дела управления стало уменьшаться. Например, его, как известно, не оказалось среди членов посольства Земского собора в Кострому к Михаилу Федоровичу. Не упоминается его имя в переписке с Боярской думой, снова взявшей власть в свои руки после избрания на царство Михаила Романова 21 февраля 1613 г. Но роль Кузьмы Минина в освобождении Москвы признавалась всеми. Не случайно, что он удостоился упоминания в «Утвержденной грамоте» об избрании на царство Михаила Федоровича. Правда, о призыве Кузьмы Минина к нижегородцам о сборе казны на устроенье ополчения в ее тексте ничего не было сказано. Составителям «Утвержденной грамоты» 1613 г. важнее было написать о том, что происходило под Москвой, и как действия воевод соответствовали местническим представлениям.
В грамоте говорилось, что «Московского государства столник и воевода» князь Дмитрий Михайлович Пожарский «собрався» вместе со всеми чинами и «ратными людьми», «пришол под Москву в сход к боярину и воеводе» князю Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому. И уж только потом в ней вспоминались «служба и раденье ко всей земле» князей Трубецкого и Пожарского, «да выборного человека ото всего Московскаго государства Кузмы Минина» [34, 41, 90–92]. Напомним, что в ополчении Кузьму Минина называли все-таки «выборным человеком ото всей земли». Замена в «Утвержденной грамоте» слов «всей земли» на «Московское государство» не была случайной редакционной правкой. Новое «звание» Кузьмы Минина отражало перемены, произошедшие после передачи власти от земского ополчения царю Михаилу Романову и его Боярской думе. После такого упоминания Кузьме Минину можно было не заботиться о наличии своей подписи на экземпляре «Утвержденной грамоты», да там и нет его рукоприкладства. Нижний Новгород представляли на Земском соборе 1613 г. совсем другие лица: протопоп Савва, дворянин Мисюрь Соловцов, посадский человек Самышка Богомолов, стрелец Якунька Ульянов.
Отдали должное Кузьме Минину и в дни венчания на царство Михаила Федоровича. 12 июля 1613 г. в день Михаила Малеина «на государев ангел» Кузьму Минича (так уважительно стали называть его со времен освобождения Москвы) пожаловали из земских старост в думные дворяне [8]. Совершенно небывалое для Московского государства дело! На языке приказной практики той эпохи это называлось «пожалован выше своея меры». Согласно своему новому чину, Кузьма Минич получил денежный оклад в «200 рублев» [3, 139] и вотчину «за московское ачищенье» – село Богородское с деревнями «в Закудемском стану Нижегородского уезда» 20 января 1615 г.[129]
Опыт Минина как «финансового администратора» был использован при первом сборе пятинных денег в апреле 1614 г. на нужды правительства Михаила Романова. Ему был поручен сбор пятины в Москве с посадских людей, купцов гостиной и суконных сотен, а также гостей. Доверялись Кузьме Минину и другие ответственные поручения, в декабре 1615 г. его послали в Казанский уезд «для сыску, что черемиса заворовала» [8, 20$, 11, 101–102]. Возвращаясь из охваченной восстанием Казанской земли, он умер весной 1616 г.[130]
День его памяти по традиции празднуется в Нижнем Новгороде 21 мая.
Кузьма Минин, имя которого всегда стоит рядом с именем князя Пожарского (а иногда даже впереди него), – народный герой. Таким он навсегда останется и в памяти будущих поколений. За прошедшие столетия не без помощи историков из его биографии сотворен миф, с успехом подменивший реального человека. Мифологический образ Минина жив и поныне [10, 239–249]. Хочется надеяться, что настоящий очерк приблизит читателя к исторической реальности.
Источники и литература
1. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи археографической экспедицией императорской Академии наук. СПб., 1836. Т. 2.
2. Акты времени междуцарствия (1610 г. 17 июля – 1613) / Под ред. С. К. Богоявленского, И. С. Рябинина. М., 1915.
3. Акты Московского государства. СПб., 1890. Т. 1.
4. Антонов А. В. К начальной истории нижегородского ополчения // Русский дипломатарий. М., 2000. Вып. 6.
5. Буганов В. И. «Выборный человек всею землею» Кузьма Минин // Вопросы истории. 1980. № 9.
6. Веселовский С. Б. Семь сборов запросных и пятинных денег в первые годы царствования Михаила Федоровича. М., 1909.
7. Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России XVI – первой четверти XVII в. М., 1998. Т. 1.
8. Дворцовые разряды. СПб., 1850. Т. 1.
9. Документы Печатного приказа (1613–1615 гг.) / Сост. акад. С. Б. Веселовский. М., 1894.
10. Дорофеев Ф. А. Фантом Кириши Минибаева как зеркало российской фолк-хистори // Мининские чтения: Труды науч. конф. Нижегородского гос. ун-та. 20–21 окт. 2006 г. Нижний Новгород, 2007.
11. Ермолаев И. П. Среднее Поволжье во второй половине XVI–XVII в. Казань, 1982.
12. Забелин И. Е. Минин и Пожарский: Прямые и кривые в Смутное время. М., 1999.
13. Как звали Минина. Купчая 1602 года // Москвитянин. 1852. Т. 1. Разд. 4.
14. Кирьянов И. А. О Кузьме Минине: (Новые материалы к биографии) // История СССР. 1965. № 1.
15. Козляков В. Н. Служилый «город» Московского государства (от Смуты до Соборного уложения). Ярославль, 2000.
16. Костомаров Н. И. Козьма Захарыч Минин-Сухорук и князь Дмитрий Михайлович Пожарский // Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. СПб., 1874. Кн. 1.Вып. 3. Репр., 1990.
17. Кучкин В. А. О роде Кузьмы Минина // История СССР. 1973.№ 2.
18. Любомиров П. Г. Очерки истории нижегородского ополчения. 1611–1613 гг. М., 1939.
19. Новый летописец // Полн. собр. русских летописей. М., 1965.Т. 14.
20. Новый летописец / Пер. на соврем. русск. яз. С. Ю. Шокарева // Хроники Смутного времени. М., 1998.
21. Пискаревский летописец // Полн. собр. русских летописей. М., 1978. Т. 34.
22. Платонов С. Ф. Очерки истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1937.
23. Платонов С. Ф. Социальный кризис Смутного времени. Л.,1924.
24. Повесть о Земском соборе 1613 года / Публ. подгот. к печати А. Л. Станиславский, Б. Н. Морозов // Вопросы истории. 1985. № 5.
25. Повесть о победах Московского государства / Подг. к печати Г. П. Енин. Л., 1982.
26. Привалова Н. И. Семья Кузьмы Минина // Записки краеведов: (Очерки, статьи, документы, хроника). Горький, 1979.
27. Пудалов Б. М. Дьяк нижегородского ополчения: (Новые данные к биографии) // Мининские чтения. Н. Новгород, 2001.
28. Пудалов Б. М. К биографии Кузьмы Минина // Мининскиечтения. Н. Новгород, 2007.
29. Родословная роспись дворян Полицыных / Публ. С. П. Мордовиной, А. Л. Станиславского // Археографический ежегодник за 1989 год. М., 1990.
30. Русская историческая библиотека. СПб., 1872. Т. 1.
31. Садовский А. Я. Одно ли лицо Кузьма Минин и Кузьма Захарьев Сухорук. Н. Новгород, 1916.
32. Сироткин С. В. К вопросу о земельных владениях рода Мининых // Мининские чтения. Н. Новгород, 2007.
33. Тимошина Л. А. О землевладении рода Мининых // Архив русской истории. М., 1994. Вып. 4.
34. Утвержденная грамота об избрании на Московское государство Михаила Федоровича Романова / Предисл. С. А. Белокурова. М., 1906.
35. Хачко А. Ю. Как звали Минина (купчая 1602 г.) // Мининские чтения. Н. Новгород, 2003.
36. Эскин Ю. М. Завещание князя Дмитрия Пожарского // Отечественная история. 2000. № 1.
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ПЬЕДЕСТАЛ: ТЕМА РУССКОЙ СМУТЫ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 1930-х годов (В. Токарев)
Самодержавие эксплуатировало историю Смуты в династических целях и ради популяризации идеи народной поддержки института монархии. Консервативные историки намеренно заслонили патриотическим движением русского народа борьбу социальных низов. Следуя политическому заказу, искусство восславило Ивана Сусанина – русского крестьянина, который, жертвуя собой, спас молодого Михаила Романова от польских интервентов. За десятилетия благородная легенда превратилась в правдоподобную быль [26, 24]. В дни трехсотлетия Дома Романовых французская фирма «Патэ» поручила оператору А. Левицкому снять на пленку потомков Ивана Сусанина. Не обнаружив таковых, он назначил на эти роли самозванцев из числа зажиточных местных крестьян и мистифицировал ожидаемый французами сюжет.
Советская власть демифологизировала Смуту и расторгла сусальный союз народа с самодержавием. Первой жертвой исторического развода оказался Сусанин. В апреле 1918 г. советское правительство приняло декрет «О памятниках республики», который, кстати, был подписан наркомом по делам национальностей И. В. Сталиным. Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг, подлежали перенесению на склады и отчасти – утилизации, если они не представляли исторической и художественной ценности. В согласии с декретом осенью 1918 г. Костромской Совет депутатов принял решение о сносе четырнадцатиметрового обелиска, увенчанного бюстом Михаила Романова, у подножия которого находилась коленопреклоненная фигура Сусанина, воздевшего руки к небу. В Одессе дирижер А. В. Павлов-Арбенин, заручившись помощью либреттиста – «кустаря», «переписал» оперу Глинки «Жизнь за царя» на манер патетического митинга под названием «Серп и молот», превратив Сабинина в защитника угнетенной крестьянской бедноты, а Ваню – в пионера (еще до премьеры бунтарская версия оперы была дозирована постановлением ВЦИК от 1922 г. о том, что одного алтайского партизана, заведшего в тайгу колчаковский отряд, следует теперь величать Ф. С. Туляевым-Сусаниным). Под сомнение были поставлены почин нижегородцев и подвиг народного ополчения. Не случайно в Гражданскую войну Максим Горький сравнивал колчаковцев с движением Минина [2, 209–210].
На смену патриотической интерпретации Смуты пришла маргинальная концепция М. Н. Покровского, отрицавшая подвиг народных масс во имя «крепостнического государства». Согласно Покровскому, буржуазные историки скрыли под так называемым Смутным временем восстание народа против угнетателей. Тогда как Московское государство раздиралось классовыми противоречиями, «представитель тогдашнего польского империализма» король Сигизмунд III строил обширные планы насчет восточного соседа. Поляки захватили часть русских земель и столицу, воспользовавшись ослаблением центральной власти в Московском государстве, где один за другим менялись «крестьянские» (Лжедмитрий I), «боярско-купеческие» (Шуйский) и даже «холопские» (Лжедмитрий II) цари и авантюристы. Торговому капиталу в лице русского купечества и близких к торговле дворян, с чьими экономическими интересами иностранцы не считались, необходимо было сильное русское правительство, способное преодолеть междоусобную войну. К тому же поляки оказались не в силах «прекратить демократическую революцию». Торговый капитал выдвинул своего вождя – Кузьму Минина: «Купечество в воззваниях призывает встать не только за православную веру, но и за свою землю и, – прибавляют они, – за достояние, которое нам дал господь бог. Защита родины и защита мошны у этих людей, как у буржуазии всех времен, сливались таким образом в одно» [44, 55]. Военным предводителем торгового капитала стал князь Дмитрий Пожарский, помышлявший, между прочим, избрать на русский престол шведского принца. Союз буржуазии и дворянства выразился в организации нижегородского ополчения. «Советский Карамзин» называл Минина и Пожарского предводителями реакционного «купеческо-помещичьего ополчения», которое, с одной стороны, разгромило интервентов под Москвой, а с другой стороны, подавило крестьянскую революцию [43, 77].
Следом за Покровским другие советские авторы рассуждали о корыстном триумфе торгового капитала. Например, В. П. Друнин в исторических очерках «Польша, Россия и СССР» (1928) писал о постоянном стремлении боярско-дворянской Московской Руси на запад и о встречном движении шляхетской Польши на восток, о «стихийной революции» начала XVII в., которая разоряла торговых людей и поместных дворян. Разочаровавшись в недальновидном польском короле Сигизмунде III, не поспешившим усмирить взбунтовавшихся холопов, торговая буржуазия и поместные дворяне взяли на себя инициативу восстановления «порядка» и очищения Москвы от поляков. Богатый мясник Кузьма Минин-Сухорук и талантливый полководец князь Пожарский возглавили, по словам Друнина, плохо вооруженную и недисциплинированную дворянскую рать, нанятую на купеческие деньги [16, 61]. Только при решающей помощи казаков помещичье ополчение смогло занять Москву и возвести на царский престол Михаила Романова – кандидата от торгового капитала. По существу, Покровский и его эпигоны модернизировали социально-политическую сферу и без меры коммерциализировали общественное сознание современников Смуты.
Новую трактовку Смуты и предубежденный взгляд на Минина и Пожарского, погубивших крестьянскую революцию, быстро усвоила советская культура. Театры ставили пьесу К. Липскерова «Митькино царство», по ходу которой обманутый боярами и шляхтичами Лжедмитрий поднимал бунт и вырывался на волю, чтобы поднять народ на борьбу. Поэт Джек Алтаузен, человек, в чьем патриотизме нельзя усомниться, в 1930 г. призывал расплавить старорежимный памятник Минину и Пожарскому. Поэт Демьян Бедный видел антисоветский подтекст в памятнике «казнокраду» Минину и «дворянскому кривляке» Пожарскому: «…Нет, Минина «жертва» была не напрасной, // Купец заслужил на бессмертье патент, // И маячит доселе на площади Красной // Самый подлый, какой может быть, монумент» [45]. В конце 1931 г. ленинградский Театр обозрений поставил сатирическое представление «Без пьедестала». По ходу действия Минин и Пожарский, которых артисты изображали в шаржированном гриме, покидали свой пьедестал у храма Василия Блаженного и скоморошничали на сцене в ритме веселой польки. В античных туниках они веселили публику пародиями на цирковые номера: танцевали лезгинку, демонстрировали таланты «шпагоглотания», поедали живых лягушек и т. п. В ноябре 1934 г. в Ленинградском театре драмы им. Пушкина прошла премьера спектакля «Борис Годунов» (в театральных программках представление было прописано однозначнее: «Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве…»). Постановщик спектакля Б. М. Смушкевич в трактовке эпохи полагался на незавершенный драматургический опыт Ф. Шиллера «Дмитрий». Задолго до Покровского немецкий писатель опознал в Лжедмитрии трагическую предтечу Петра Великого [25]. Поэтому ленинградский Лжедмитрий (артист Б. Бабочкин) и сценическая Речь Посполитая несли в отсталую Русь европейскую культуру.
Демифологизация Смуты и в целом всей русской истории в духе Покровского не привела к научному осмыслению отечественного прошлого. Преподавание истории было на крайне низком уровне. Так, проверка знаний основных периодов русской истории сотрудниками редакции газеты «Армавирская коммуна» выявила, что молодые журналисты путают Смутное время с бироновщиной, а Ледовое побоище с битвой на поле Куликовом.
Внешнеполитические обстоятельства 30-х годов, к каковым относились военная угроза западным границам СССР и победа националистической идеологии в ряде европейских государств, заставили советское руководство мобилизовать для обороны страны все внутренние ресурсы, включая историческую память народа. Обществоведы, подгоняемые партийно-государственными инстанциями, были озадачены переосмыслением русской истории с позиций «большевистского Иловайского» (выражение советского историка Н. Н. Ванага).
С середины 30-х годов резко меняется тематический вектор исторических исследований, касавшихся русско-польских отношений. От изучения польских восстаний и революционного движения в Польше советские обществоведы переключились на сюжеты, изобличавшие поляков в захватнических устремлениях.[131]
В этом плане особый интерес представляли Минин и Пожарский, которым удалось отстоять независимость страны от польских интервентов. Советско-польские отношения достаточно драматично развивались на всем протяжении межвоенного периода. Их отличала взаимная антипатия и подозрительность. Западный сосед, каковым его воспринимали советские лидеры, находился в авангарде враждебного мира, что было отражено в пропагандистском образе «панской» и одно время «фашистской» Польши. Отчетливый прогерманский крен Польши в международных делах после смерти Ю. Пилсудского, саботаж польским правительством предложений по организации системы коллективной безопасности в Европе не только усугубили в Кремле опасение польско-германского сближения на антисоветской основе, но, видимо, подвели сталинское руководство к выводу, что таковое уже оформлено и стоит считаться с возможностью совместного похода Германии и Польши на восток.
Разумеется, внешнеполитический фактор не являлся единственной причиной осознания Кремлем необходимости осторожной ревизии сугубо классового подхода к отечественному прошлому и его «социально-чуждым» подвижникам. Еще в 1931 г., вопреки высказывавшимся предложениям, Сталин и остальные члены Политбюро решили оставить памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, правда, на другом месте. «Когда мы передвигали памятник Минину и Пожарскому ближе к храму Василия Блаженного, – вспоминал годы спустя Сталин, – Демьян Бедный протестовал и писал о том, что памятник надо вообще выбросить и вообще надо забыть о Минине и Пожарском. В ответ на это письмо я назвал его «Иваном, не помнящим своего родства». Историю мы выбрасывать не можем…» [7, 614]. Таковы были внутренние импульсы, удержавшие советского вождя от «избавления» Красной площади от «монархических» символов.
Постепенно у Сталина сложилось твердое убеждение в наличии многочисленных погрешностей в деле интерпретации русской истории, включая эпоху Смуты. При ознакомлении в 1935 г. с проектом учебника по истории СССР под редакцией И. И. Минца, который поступил на конкурс, Сталин обратил внимание на раздел «Контрреволюция», посвященный освобождению Москвы от поляков в 1612 г. Ополчение Минина и Пожарского авторы учебника назвали контрреволюционной армией. Это вызвало недоумение Сталина, который оставил на страницах учебника свою резолюцию: «Что же поляки, шведы были революционерами? Ха-ха. Идиотизм» [32, 2366]. В январе 1936 г. в газете «Правда» были вдруг опубликованы сталинские замечания по учебникам истории. Именитый публицист В. Быстрянский следом поспешил осудить путаников-историков: «…борьба Минина и Пожарского в 1612 г. против поляков и шведов трактуется в антимарксистском духе, т. е. в духе левацкого «интернационализма»» [5].
На только что опубликованные исторические романы А. В. Галкина «Смута» и «Дикий камень» З. С. Давыдова обрушилась резкая критика [12]. В том и другом романе присутствовали образы и идеи, внезапно вышедшие из научной моды. В «Смуте» Галкин изобразил Лжедмитрия подлинным царевичем, патриотом и человеком государственного ума. На досуге царевич Дмитрий, по словам Галкина, «усиленно занимался науками, читал поэтов, восторгался римскими стихами, сочинял всевозможные планы завоевания Турции, Кавказа, Индии, устройства в Москве культурных учреждений, хорошего суда, где не брали бы взяток, и европейского войска» [8, 120]. Будучи хорошо образованным человеком, Дмитрий внутренне не принимает боярские невежество и бескультурность. Во время церемонии венчания на престол Дмитрий выступает, как бы сейчас выразились, с программной речью.
«Отстали мы, – говорил царь, – от монархий зарубежных – там науки процветают, книги печатаются, ученые мужи в университетах и коллежах молодых людей обучают, а мы до днесь во тьме сидим! Надо нам не презирать заезжих иноземцев, а добра, разума и премудрости книжной от них набираться. Но отныне не будем мы являть различья промеж людей русских и пришлых – «несть бо иудея и эллина пред милостью Божией», како во Святом Писании сказано, и всяк человек, добро творящий и на миру полезный, сердцу нашему равно любезен станет и от обиды защиту верную найдет. Нову жизнь зачинаем, чада мои любезные!» [8, 207].
Планам прогрессивного царя, радевшего о простом люде, не суждено было сбыться. Чинимые безобразия и бахвальство польской шляхты и челяди, понаехавших в Москву на свадебные торжества в свите Марины Мнишек, оказались выгодны кружку боярина Василия Шуйского: «…проповедовавшийся боярскими агентами польский погром находил сочувствие даже в преданных царю низовых массах и не встречал возражений в стрелецких полках». «Государственный переворот» заканчивается подлым убийством Дмитрия, в то время как рядовые москвичи были с боярами лишь в одном – в кровавом погроме шляхтичей: «…толпы народа вместе с княжьими холопами, а также с выпущенными из тюрьмы ворами растаскивали польские достатки, уводили лошадей» [8, 431]. Народ не принял боярской расправы над царем. Иными словами, Галкин частично воплотил в своем романе историческую схему Покровского, который называл Лжедмитрия предводителем казацко-крестьянского восстания против Бориса Годунова, и видел в майских событиях 1606 г. исключительно корыстную междоусобицу феодальных группировок.
Главным героем романа Зиновия Давыдова являлся русский князь Иван Андреевич Хворостинин – лицо историческое и малопривлекательное. Князь при Лжедмитрии занимал должность кравчего и потом дважды подвергался ссылке в монастыри Василием Шуйским и Михаилом Федоровичем. Запомнился современникам Хворостинин своим жестоким обращением с дворовыми людьми и неприязненным отношением ко всему русскому. Его раздражало, что «в Москве людей нет, все люд глупый, жить не с кем, сеют землю рожью, а живут ложью» [29, 260]. По воле Давыдова князь Хворостинин превратился в своего рода боярского Чаадаева, мечтающего о просвещении и благе народном. В наставники к главному герою писатель приставил ироничного шляхтича Фелекса Заблоцки. «Я поляк, сын свободного народу. В Польсце все шляхетство розмовляет по-латинску и по-французску и по-гишпаньску. Бо мы есьмы народ свободный и субтэльный и, як то говорится, цивилитатный», – скромно рекомендовал себя Заблоцки [14, 18]. Поляк тайно учил русского князя латинскому и польскому языкам, а также прочим наукам. Однажды в «потайной и задушевной» беседе Заблоцки в сердцах опечалился положением на Руси: «А глянь ты, князь милостливый, за тын свой, яка непереносна розруха, яки смутки в людях, який барбарский урядок…» [14, 34]. Князю родная сторона тоже показалась «диким камнем», который только давит землю и не дает произрасти ничему живому. По секрету пан Заблоцки поведал Хворостину о намерениях царевича Дмитрия:
«В Самборе на банкете у сандомирского воеводы Мнишка царевич розмовлял пред всем многолюдством: «Як доступлю своего царства, – молыл, – так дам Москве новый урядок по обычиям европским, законы и статуты, вольности и привелеи, скасую дикосць и скарадносць, учиню московским людям академию для науки, пошлю учиться до Европы, до Цесарской земли, альбо до Болоньи, до Падвы, до Веницеи…» Вон як, княже друже! Для чего полатине чести втай да шлёндать чтери вёрсты до моего замку?.. Ха! Нехай тебе сёдлают хоць якого аргамака, езжай себе до академии хоць с музыкой да читай себе на здоровье по-латинску да по-польску да по-гишпаньску, хоць Мюнстера, хоць Коперника, хоць яки хочешь книжки» [14, 34].
После такой аттестации Дмитрия молодой Хворостинин связывает свою судьбу с новым царем и не обманывается в своих надеждах. Царь мечтает о преобразованиях и европеизации Руси. Правда, насмешки приезжей шляхты над русскими непорядками и запущенностью, а также спокойное отношение самодержца к польским бесчестиям коробят Хворостинина: «Не так, не так великий государь, – вздыхает про себя князь Иван. – Не больно ль много поноровки шляхте! Чать, русская наша земля… Авось и без шляхты построимся, без пересмехов этих… Построимся ужо…» [14, 143]. Судить о дальнейшей развязке «Дикого камня» сложно… Со страниц «Литературной газеты» раздался разгневанный окрик: «Превратить историю своей страны в лживый анекдот, в объект для сквернословия – такое желание, конечно, может придти в иную голову, но непонятно, почему не нашлось никого в редакции журнала «Красная новь», кто смог бы оградить от этого советского читателя» [33]. Протесты критиков прервали публикацию продолжения романа Давыдова. В свою очередь А. Галкин отказался от дальнейшей работы над своей трилогией о Смутном времени.
Летом 1936 г. переиздается малоизвестное произведение А. Толстого «Повесть Смутного времени (1612 год)» (1922), пунктирно освещающее московский бунт против Лжедмитрия, восстание Ивана Болотникова и эпопею с Тушинским вором. В 1937-м повторно публикуют историческую прозу Г. Шторма – «Повесть о Болотникове» (1930). С одной стороны, Шторм показывал главного героя в качестве эмиссара второго самозванца, которому Болотников, будучи в Самборе, обещался верно служить воеводою. С другой стороны, под знаменами самозванца Болотников начинает крестьянскую войну, угрожавшую корыстным планам Лжедмитрия II и его польской свиты (в повести также освещался московский бунт против Лжедмитрия I).
В момент ухудшения отношений с Варшавой в Советском Союзе была переиздана десятитысячным тиражом монография академика С. Ф. Платонова «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв.» На дворе стоял 1937 г., и книга «врага народа» (!) могла выйти из типографии только с разрешения, если не по инициативе самой высокой инстанции – Сталина. В предисловии от издательства обращалось внимание на то, что «работа Платонова раскроет перед ним (читателем. – В. Т.) тот богатый источниковый материал, который ждет еще исследователя-марксиста» [40, 4] (по существу, приглашение советским историкам плотнее заняться Смутой). В том же году к переизданию была подготовлена монография ученика С. Ф. Платонова, еще одного представителя Петербургской школы – профессора П. Г. Любомирова «Очерки истории нижегородского ополчения. 1611–1613 гг.» (1939).
В 1939 г. писатель Всеволод Иванов предложил в комедии «Вдохновение» новый канон изображения Лжедмитрия и отношения к нему. По сюжету, трое советских актеров, занятых в постановке фильма «Дмитрий Самозванец», вдруг попадают в век XVII и встречаются в прошлом с авантюристом Лжедмитрием, эстетствующим циником и начитанным чернокнижником, озабоченным маскарадами и будущим своим наследником. Когда происходит выступление посадского люда, Лжедмитрий, еще вчера тяготившийся католической опекой, сзывает всех поляков в Кремль и требует «москалей… бить и вешать». Артист Фома Конев, не желающий жить «под шляхетским кнутом», вместе со стрельцами участвует в московском восстании и поражает Самозванца из арбалета. В финале пьесы майские события 1606 г. породнились с октябрем 1917-го: «…после смерти Самозванца Конев и его честные и простые друзья пошли в ряды Болотникова. И не их ли дети были в полках Степана Разина? И не их ли внуки и правнуки лили пушки для Пугачева? И не их ли праправнуки стояли на баррикадах Октября?» [19, 132]. Пьеса «Вдохновение» приглянулась В. И. Немировичу-Данченко, о чем театральный режиссер сообщил Иванову в телефонном разговоре: «В вашей пьесе превосходный язык, прекрасные характеры. Например, Самозванец… В русской литературе не было еще такого Самозванца…». В январе 1940 г. МХАТ принял пьесу «Вдохновение», однако постановка, несмотря на усилия Немировича-Данченко, так и не состоялась.
Известна сталинская сопричастность к возвращению на оперную сцену темы Смуты. Талантливый композитор Борис Асафьев на либретто Михаила Булгакова пишет оперу «Минин и Пожарский». Как предположила Елена Булгакова, в ноябре 1936 г. председатель Всесоюзного комитета по делам искусств П. Керженцев доложил о «Минине» самому Сталину и «это было встречено одобрительно». Тем не менее уже к весне следующего года Большой театр изменил свои планы (опера Асафьева так и не состоялась, а Михаилу Булгакову пришлось выслушать от заместителя заведующего отделом культурно-просветительской работы ЦК ВКП(б) А. Ангарова упреки в том, что писатель «не любит русский народ» и поляки в либретто «очень красивы») [4, 409].
По почину бывшего секретаря нижегородской парторганизации А. А. Жданова ставка была сделана на классическую оперу Михаила Глинки «Жизнь за царя», «перелицованную» поэтом С. Городецким и дирижером С. Самосудом в «Ивана Сусанина» (уже после премьеры оперы писатель А. Толстой загадочно отреагирует: «Самосуд над Глинкой…»). В опере Глинки подправили мотивацию самопожертвования главного героя. Отныне Сусанин спасал от поляков не молодого Михаила Романова, а русскую столицу [18]. «Нужно снять пошлую монархическую позолоту с оперы, – писал в 1937 г. дирижер С. А. Самосуд, – и опера зацветет глубоким, подлинно народным, патриотическим чувством, чем будет очень близка современному зрителю: ведь в России в это время было вторжение поляков. Нужно восстановить историческую правду» [56, 37]. Полагалось, что таковым был замысел самого композитора. Администрация и труппа Большого театра в достаточно сжатые сроки освоили обновленные либретто и партитуру. Особое внимание постановщики уделили вражеским образам. В либретто возникает фигура Сигизмунда III и ремарка о германских рыцарях на службе польского короля. Прежде порицаемые танцевальные эпизоды с польскими персонажами теперь приветствовались. «В этих непрерывных, нарочито изысканных и внешне блестящих мазурках, полонезах, с которыми поляки выступают не только на балах, но и в избе Сусанина, и в лесу, Глинка тонко подчеркнул свое ироническое отношение к польской шляхте, к ее легкомыслию, пустоте, петушиной важности, – полагал режиссер Б. А. Мордвинов. – И мы стараемся нарисовать образы польских интервентов такими же ироническими красками, какими они нарисованы самим Глинкой» [37].
По справедливому замечанию В. Живова, постановка оперы имела характер широкомасштабной государственной акции [18, 54]. До июня 1941 г. «Иван Сусанин» шел в Большом театре с аншлагами, приобщив к подвигу Сусанина более 200 тысяч зрителей. Помимо Москвы, оперу поставили в Ленинграде, Киеве, Харькове, Саратове, Куйбышеве, Одессе, Горьком и Ворошиловграде. В марте 1940 г. опера полностью транслировалась для зарубежных радиослушателей. После премьеры оперы спохватились обществоведы: «К сожалению, наши советские историки совершенно не занимались исследованием вопроса об Иване Сусанине, – сокрушался В. Самойлов. – Антинаучные установки так называемой исторической школы М. Н. Покровского, долгое время господствовавшие в советской исторической науке, исключали возможность объективной постановки вопроса о личности и подвиге Сусанина» [55, 64]. При оценке подвига Сусанина предлагалось исходить из того, что смерть Михаила Романова нужна была польским «цивилизаторам», чтобы ослабить сопротивление Московского государства. Воениздат подготовил для красноармейцев брошюру «Иван Сусанин». Ее автор умолчал о монархической подоплеке событий и на «правах свидетеля» воспроизвел предсмертный диалог Сусанина с поляками, который костромской крестьянин заключил словами: «Вот вам голова моя, но Москвы вам не видать» [9, 28].
Кстати, прославляя Ивана Сусанина как народного героя, современники вынуждены были подкорректировать оценку другого народного подвижника – Ивана Болотникова. В 1933 г. сам Сталин назвал Болотникова в ряду исторических персоналий, всегда интересовавших большевиков [60, 9]. Историки успели откликнуться на сталинские слова сборником документов «Крестьянская война в Московском государстве начала XVII века» (1935), чей составитель Н. И. Ульянов вскоре был арестован, и припозднившейся статьей П. Ароновича «Восстание Болотникова» в первом номере «Исторического журнала» за 1937 г. Потом неожиданно изменились тематические приоритеты. Фигура Болотникова непредсказуемо сместилась на периферию научного интереса, уступив место нижегородскому ополчению во главе с Мининым и Пожарским. К примеру, в последнем предвоенном обращении к фигуре Болотникова – в брошюре Самсона Глязера «Иван Болотников – вождь Крестьянской войны начала XVII в.» [10], изданной в серии «Библиотека красноармейца», – подчеркивался антифеодальный характер восстания Болотникова, однако не содержалось ни малейшего намека о связи восставших с Лжедмитрием II.
Куда деятельнее оказались литераторы, предложившие патриотическую трактовку фигуры Болотникова и одноименного восстания. До низвержения авторитета М. Н. Покровского писателей особо не заботила причастность Болотникова к польской интриге. Например, поэт Василий Каменский в своей поэме заставил Ивана Болотникова поверить обещанию «преистинного мужицкого царя» Лжедмитрия: «править царством // в крестьянской поруке». Последовавшее затем прозрение Болотникова, осознавшего в царевиче мошенника, вызвано корыстным поведением дворян-попутчиков, но никак не вмешательством поляков в московские дела. Последующие авторы, не скрывая изначальную ориентацию Болотникова на Лжедмитрия II, оговаривали, что Болотников стремился противодействовать польской интервенции.
После посещения села Коломенского и прочтения всего массива исторической литературы о Болотникове Илья Сельвинский написал трагедию в стихах «Рыцарь Иоанн» (1937). У Сельвинского Болотников призывает Лжедмитрия II стать мужицким царем. Однако в беседе с польским делегатом Ружицким Болотников отказывается от польской помощи и возмущается тем, что ляхи могут взять «Чернигов, Стародуб или Смоленск». Патриотизм Болотникова противопоставляется дворянам, готовым отдать полякам всю страну, но лишь бы Русь «не досталась Ивашкам этим… смердам этим…». Еще последовательнее антипольская мотивация проводится в пьесе Гавриила Добржинского «Иван Болотников» (1938). Принимая гонца Лжедмитрия, Болотников велит вручить тому вместо державного скипетра и царской короны шутовской колпак с бубенчиками и выпачканное сажей помело: «Венец, достойный // Тому, кто родину корыстно предает. // А этим помелом народ сумеет ляхов // Повыместь из Русии…» Посла Сигизмунда Болотников распоряжается повесить на первом попавшемся дереве, а полученные из королевской казны деньги передает своему сподвижнику Хрулю как социально-непорочный финансовый источник восстания: «Оружья закупи! // Крестьяне польские прислали нам гостинец //За правую войну!..» Именно настоящие патриотические сцены, внушавшие мысль о том, что Болотников «не переставал зорко оберегать рубежи родины от польских интервентов» [41], вызывали смех московского зрителя в адрес польских агентов [50] (драма была поставлена в Театре Революции). В эпилоге пьесы холопы-бунтовщики скорбят над тем, что ляхи «набились, что клопы, на матушку Русию». Потеряв своего вождя в лице Болотникова, они решают идти в Нижний Новгород к Минину и Пожарскому: «Не отдадим Москвы! Идем, идем на ляхов!» Таким образом, восстание Болотникова Добржинский трактовал как прелюдию движения Минина и Пожарского.[132]
Еще показательнее настоящую взаимосвязь решатся провести постановщики фильма «Минин и Пожарский» (1939), назначив беглого холопа Романа – видимо, бывшего ратника Болотникова, в спасители князя Пожарского.
Художественный фильм «Минин и Пожарский», подытоживший усилия историков и деятелей искусства в деле реабилитации борьбы русского народа против польской интервенции, заслуживает отдельного разговора. Сценарий этого фильма был написан по повести известного филолога В. Б. Шкловского.
В свое время литераторы М. Мирингоф и А. Рождественский предложили студии Ленфильм сценарий «Минин и Пожарский» (по мотивам пьесы А. Н. Островского). И если Мирингофу и Рождественскому не посчастливилось увидеть свое архаичное творение на экране, неожиданный шанс выпал на долю В. Б. Шкловского.
Вторая половина 30-х годов оказалась для Шкловского временем зыбким и небезопасным. Во-первых, развернувшаяся кампания по борьбе с формализмом в искусстве метила в бывшего идеолога «формального метода» в литературоведении. Во-вторых, набиравшая тогда же обороты критика научного наследия покойного академика М. Н. Покровского, который переписал русскую историю в духе классовой борьбы, забраковала некоторые работы Шкловского в кино (фильмы «Крылья холопа» и «Капитанская дочка») и театре (спектакль «Петр Великий» во МХАТе). В третьих, ежовщина не должна была пощадить человека с таким сомнительным антибольшевистским прошлым.
В биографии бывшего политэмигранта В. Б. Шкловского встречались имена террориста Б. Савинкова, генерала Л. Корнилова и эсера Г. Семенова, причастного к организации покушения на В. И. Ленина. Будучи человеком проницательным, Шкловский решил действовать там, где ранее оступился, а именно в области интерпретации русской истории. К тому же декретированный властью подход к историческому прошлому был с симпатией встречен самим писателем. Чуть позже он искренне говорил о полной вере «в справедливость боя за новую историю» [65, #1] (т. е. об отказе от прочтения русской истории «по Покровскому»).
В 1937 г. Шкловский торопливо работал над повестью о Смутном времени, которая была написана как бы в опровержение раскритикованных романов Галкина и Давыдова. Самозванец Лжедмитрий был назван ставленником поляков и учеником иезуитов, который обещался всеми способами привести в подчинение римскому престолу свое московское государство. Речь Посполитая представала коварным и злобным соседом. В унисон международной конъюнктуре писатель позаботился о фиксации немецкого вероломства и угрозы. Немецкие наемники в войсках короля Сигизмунда III штурмовали Смоленск, вместе с поляками немцы сидели взаперти в Московском кремле… Имена Минина и Пожарского были названы священными для русских людей. Подвиг русского народа не отменял, по Шкловскому, трагических последствий Смуты: «Свобода крестьянства еще не взошла, хотя много крестьянской крови и жизни посеяно было по русской земле» [66, 148]. Об этом было сказано отнюдь не между прочим, но ради того, чтобы соблюсти историческую правду. Когда очерк был переписан набело, Шкловский обратился за советом к профессору А. В. Шестакову, чей формальный авторитет в исторической науке был подтвержден официально. Тот, сославшись на занятость, перепоручил Шкловского своему безымянному коллеге, который обнаружил в очерке немало ошибок. Последние поправки в повесть Шкловский внес осенью 1937 г.; и редколлегия журнала «Знамя» открыла ею новый предвоенный 1938 год (в редакции повесть назвали «Русские в начале XVII века»).
Почти одновременно научный журнал «Историк-марксист» опубликовал статью А. Романовича «Новая страница из истории польской интервенции в Московском государстве начала XVII в.» (1936. № 6) – своеобразную презентацию темы Смуты в новой научной трактовке, а также программную статью московского профессора А. А. Савича, подготовленную ученым для запланированного в недрах Академии наук полемического сборника «Против исторической концепции М. Н. Покровского» (1938. № 1). Одним из учителей Савича являлся академик С. Ф. Платонов, чью концепцию Смуты Савич не без попутных критических замечаний назвал «последним словом буржуазной историографии», а среди некогда написанных им работ числился малоизвестный труд «Польско-литовская интервенция в эпоху великой московской смуты» [53]. Спустя десять лет Савич вернулся к теме, чтобы уличить Покровского в недооценке решающей роли польского правительства и шляхты в событиях Смутного времени, что было, впрочем, не сложно. Покойному академику он поставил в вину непонимание того, что польское правительство и шляхта были главными виновниками самозванщины. В выдвижении первого самозванца польская сторона сыграла определяющую роль, обратив Лжедмитрия в орудие интервенции. Московское восстание 1606 г. против Лжедмитрия Савич охарактеризовал как народную борьбу за самостоятельное существование родины, а обоснование в Тушине новоявленного Лжедмитрия II – как установление «полной польско-литовской диктатуры». Поход Сигизмунда III под Смоленск являлся лишь дальнейшим этапом интервенции, который завершился оккупацией Москвы польскими войсками. В таких условиях между русскими и поляками должна была вспыхнуть борьба на почве национального и политического самосохранения. Русский народ, а не корыстный торговый капитал поднялся на защиту родной земли, двинув на освобождение Москвы великую народную рать во главе с честным воеводой Пожарским и скромным нижегородским «говядарем» Мининым. Опровергая Покровского, Савич, по существу, проигнорировал социальный фермент Смуты и абсолютизировал внешний фактор ее эскалации [52, 74—109]. Но по своему патриотическому пафосу статья Савича подтверждала художественную версию Шкловского.
В первый и последний раз «Русские в начале XVII века» вышли под обложкой «Знамени». Важно, что тема Смуты, фигуры Минина и Пожарского были заявлены первым именно Шкловским и только за ним последуют исторические произведения В. Костылева («Козьма Минин»), В. Аристова («Ключ-город Смоленск») и А. Караваевой («На горе Маковце»). Следом за Шкловским вышеупомянутые авторы повествовали о разорении вероломными чужеземцами Русской земли в XVII столетии, о Сигизмунде III с «лицом распутного ландскнехта» и «козлиной бородкой», о коварных польских купцах-лазутчиках, об алчных и бесчестных шляхтичах – «пропойцах, игроках и мошенниках со всей Речи Посполитой» [1, 156].
Наверное, труд Шкловского был бы благополучно забыт, если бы не тот самый расчет и чутье, которыми Шкловский, вероятно, руководствовался при выборе сюжета. Художественный очерк «Русские в начале XVII века» был замечен кремлевскими читателями. Как известно, Сталин, несмотря на свою занятость, регулярно просматривал основные художественно-публицистические журналы. Думается, он ознакомился с повестью Шкловского и оценил ее своевременные героику и пафос. Советско-польские отношения все более ухудшались. Как раз весной 1938 г. они вошли из-за Литвы в очередную фазу кризиса и советское руководство форсировало антипольскую пропагандистскую кампанию. Тему, поднятую в повести Шкловского, можно было удачно обыграть средствами кинематографа. Исторические фильмы по принципу аналогии обозначали вероятного противника дня сегодняшнего, о чем однажды вскользь выскажется председатель Главного управления кинематографии С. С. Дукельский применительно к планируемым фильмам «Александр Невский» и «Минин и Пожарский»: «Исторические темы, которые мы берем, должны звучать современно и актуально» [26]. Апелляция современности к прошлому была одной из причин, которая надоумила советское руководство вывести на экран Минина и Пожарского, чьи дела могли оптимизировать патриотические настроения в обществе. По словам Дукельского, идея постановки фильма «Минин и Пожарский» была подсказана «в руководящих инстанциях» (так обычно называли членов Политбюро, если не самого Сталина).[133]
Особый статус кинопроекта «Минин и Пожарский» подчеркивает механизм назначения к Шкловскому компаньонов. Ими не по собственной воле оказались режиссеры В. И. Пудовкин и М. И. Доллер. Для большей надежности к проекту были привлечены в качестве научных консультантов известные советские историки В. И. Лебедев и В. И. Пичета.
Первый из них был преуспевающим администратором от науки и достаточно зрелым исследователем. В 1938 г. он возглавил кафедру истории СССР исторического факультета МГУ. Научные изыскания Лебедева охватывали XVIII столетие, но и предыдущий век, на который пришлась Смута, также не ускользнул из его поля зрения. В 1928 г. он выпустил брошюру «Смутное время», перекликавшуюся своим содержанием с концепцией Покровского. Позже им было написано предисловие к книге Г. Шторма «Повесть о Болотникове». Незадолго до знакомства со Шкловским Лебедев вместе со своими коллегами С. В. Бахрушиным и К. В. Базилевичем провел научную студенческую конференцию на тему «Крестьянские войны в России в XVII веке». В архиве ученого сохранилась стенограмма лекции «Борьба с польско-литовской интервенцией в начале XVII в.». В лекциях по русской истории, которые Лебедев читал студентам в университете, он рассматривал Смуту прежде всего как внешнюю угрозу русской государственности, как национально-освободительную войну русского народа против польских интервентов.[134]
Более трагической предстает фигура «высокого, седого, с редкой для тех времен длинной шевелюрой» Пичеты. Выдающийся ученый, имевший солидную научную репутацию, был арестован в 1930 г. по так называемому академическому делу. Его обвинили во всевозможных мнимых преступлениях. Доведенный следователями до отчаяния, ученый чуть было не покончил с собой в тюремной камере, но в последний момент оборвалась веревка. Постановлением коллегии ОГПУ Пичета был выслан в Вятку. Пройдя через голод и болезни, через арест и осуждение единственного сына, испытав на себе равнодушие и подозрительность разнокалиберных чиновников, в конце концов Пичета был досрочно освобожден в апреле 1935 г. Как отмечает историк А. Горяинов, после освобождения у Пичеты появилось чувство неуверенности, выразившейся в том, что, занимаясь в архивах и создавая на основе отысканных документов новаторские труды, Владимир Иванович не всегда доводил их до публикации [11, 70]. Вернувшись в Москву, Пичета постепенно восстановил утраченные позиции в отечественной науке. В 1938 г. он стал профессором Московского пединститута им. В. И. Ленина и Московского университета. Воздавая должное своему консультанту, Шкловский позже напишет о Пичете: «Это был человек огромных и разнообразных исторических знаний, глубокого, пламенного патриотизма» [67, 208]. Известные факты говорят о том, что со стороны Пичеты не наблюдалось какого-либо цехового высокомерия. Он заинтересованно выслушивал писателя, перепроверял его выводы, правда, при этом не торопился переносить новаторские идеи Шкловского на академическую почву. Показателен следующий эпизод, о котором поведал сам Шкловский:
«Историкам было непонятно, почему Минин и Пожарский задержались в Ярославле весь июль, почему они так долго собирали полки, что основные силы прибыли в Троице-Сергиевский монастырь только 14 августа. Говорили, что русская рать боялась шведов, стоявших в Новгороде Великом. Авраам Палицын утверждал, что Минин и Пожарский были трапезолюбцы, что они пропраздновали, пропировали все это время.
Мне пришла мысль узнать, когда в Ярославле собирали хлеб. Возникла эта мысль не случайно. Известно, как расходились отряды Пугачева, когда приходило время убирать хлеб.
Дальше работа была простая: в справочнике я узнал, когда в Ярославской губернии убирали хлеб, когда его сушили, когда молотили. Стало ясно, что Минин и Пожарский повели полки на Москву, приготовив хлеб для армии и города, который предстояло освободить. Сообщил об этом академику Пичете. «Дальше не рассказывайте, – ответил он, – очевидно, так оно и было. Теперь понятно, почему армия Минина и Пожарского перед выходом из Ярославля послала во все стороны отряды: они увеличивали площадь для уборки хлеба»» [67, 211].
В целом же Пичета и Лебедев оказались ангелами-хранителями Шкловского от исторической науки, что, однако, не избавило сценарий от некоторых фактических недоразумений и элементов упрощения исторической действительности.[135]
Принципиальной особенностью сценария была сословная невыразительность действующих лиц. Писатель намеренно отказался от акцента на социальную характеристику центральных персонажей. Единство земского старосты и князя, и вместе с ними остальных русских патриотов, ретушировало классовые противоречия эпохи. Ради того чтобы представить Пожарского народным предводителем, а не блюстителем крепостничества, Шкловский включил в сценарий сцену спасения князем Пожарским беглого крестьянина Романа. Таковым был утверждавшийся в советском искусстве канон в раскрытии патриотической темы.[136]
В момент приобщения к кинематографическому проекту Лебедев и Пичета были заняты подготовкой первого тома вузовского учебника «История СССР». На Лебедева, входившего в состав авторского коллектива, была возложена также обязанность редактора, и во многом благодаря его хлопотам учебник получился достойным своих создателей.
Непосредственно Пичетой была написана глава «Крестьянская война XVII в. и польско-шведская интервенция».
Само ее название говорит о том, что, рассматривая Смуту, автор во главу угла ставил социальные противоречия и только потом внешнеполитические коллизии. Историк выделял движение народных масс против крепостных порядков, которое имело сложную амплитуду и разнообразные формы проявления. Не менее острый кризис поразил само феодальное сословие, что привело к политической нестабильности в Русском государстве. В отличие от своих молодых коллег, ориентировавшихся на текущее состояние официальной идеологии, Пичета старался следовать в русле марксистской схемы. В Смуте он видел сложное переплетение социально-экономических факторов, классовой и политической борьбы, которыми были вызваны польское вмешательство и открытая интервенция Речи Посполитой в русские дела. Пичета акцентировал внимание на зависимости самозванцев от польской стороны и помощи поляков. Применительно к порядкам, которые установились на территориях, подконтрольных Сигизмунду III и правительству Владислава, Пичета употребил выражение «польское иго». Русское государство, констатировал ученый, оказалось на грани гибели. Вопреки утвердившейся в советской историографии традиции замалчивать роль церкви, Пичета высоко оценивал позицию патриарха Гермогена, отказавшегося признать царем Сигизмунда III и рассылавшего грамоты с призывом «дерзать на кровь» и идти к Москве на литовских людей (даже такой религиозный человек, как А. А. Савич, не акцентировал внимание на роли Русской православной церкви в событиях Смутного времени). Взгляды Пичеты на Смуту радикально расходились с концепцией Покровского [39]. Он порицал своего покойного оппонента за нежелание видеть в нижегородском ополчении Минина и Пожарского общенародное движение, инициированное «здоровыми национальными чувствами» посадского населения [23, 444]. «Покровский органически не хотел или не мог понять того, что борьба русского народа против поляков была не борьбой в интересах излюбленного Покровским торгового капитала, а борьбой за национальное освобождение» [39, 138] (пятью годами ранее Пичета не решился бы на такое крамольное заявление). Целью Минина и Пожарского было освобождение Москвы от интервентов, а не всякого рода корыстные соображения.
Итак, Шкловским и его соавторами был проделан колоссальный труд, о чем свидетельствуют одиннадцать вариантов сценария. В сентябре 1938 г. сценарий был передан для утверждения в Комитет по делам кинематографии (за сценарием необходимо признать популяризаторские достоинства). Как раз в те дни приближалась кульминация Судетского кризиса. Территориальные претензии Варшавы к Чехословакии вызвали крайнее обострение советско-польских отношений. Москва отреагировала на прессинг польской стороны частичной мобилизацией резервистов и сосредоточением войск у границы. Отнюдь не случайно осенью 1938 г. Воениздат поспешил опубликовать брошюру А. Савича и секретаря издательства «Правда» О. Ровинского о борьбе с польской интервенцией в XVII в., которую авторы подытожили предупреждением в адрес «старых врагов Русского государства»: «Интервенты начала XVII века получили хороший и назидательный урок. Но этот исторический урок должен быть назидательным и для тех, кто и сейчас мечтает о походе на нашу свободную социалистическую родину» [54, 59]. Само собой пришло понимание сверхзадачи будущего фильма. «Кино, имея многомиллионную аудиторию, должно осуществлять указания партии и правительства о необходимости держать весь народ в мобилизационной готовности перед лицом фашистских авантюр», – писал Пудовкин о предстоящих съемках [47].
4 декабря 1938 г. С. С. Дукельский направил сценарий для ознакомления Сталину. Прозрачная историческая концепция киносценария удовлетворила советского лидера.[137] По прочтении он снабдил текст своим пожеланием: «т. Молотов. Следовало бы обязательно прочитать. Вышло не плохо. И. Ст.». Председатель Совнаркома согласился: «Прочитал. Не плохая вещь. В. Молотов» [51]. Тот и другой вынесли впечатление добротности литературной основы будущего фильма (в феврале 1939 г. киносценарий В. Шкловского был издан пятитысячным тиражом).[138]
Пройдет всего месяц, и 21 февраля 1939 г. в Большом театре состоится премьера оперы «Иван Сусанин». После премьеры начитанный диктатор возразил по поводу эпилога: «Почему на сцене так темно? Нужно больше света, больше народу!» [35, 153] – и предложил, чтобы в финале спектакля «живые» Минин и Пожарский выехали из Кремля верхом на лошадях, а перед воеводами русские ополченцы провели пленных поляков и бросили вражеские стяги под копыта «ворошиловских» скакунов. Благодарные потомки обязаны были знать своих героев в лицо… Сталин не прогадал: ««Девятый вал» эмоционального возбуждения поднимался в зале, – свидетельствовал бывший начальник Главного управления театров А. Солодовников, – когда из ворот Спасской башни на конях выезжали Минин и Пожарский, а огромный хор Большого театра, сопровождаемый духовым оркестром, встречал их грандиозным гимном «Славься!»» [59, 199]. Кстати, опера, по свидетельству солиста Большого театра Алексея Иванова, полюбилась Сталину. После вынужденной паузы, вызванной нападением Германии на СССР, опера по его личному распоряжению в 1944 г. вернулась на сцену, непредвиденным образом стимулируя антипольские настроения [63, 153].
2 февраля 1939 г. на «Мосфильме» начались съемки «Минина и Пожарского». Приступая к съемкам фильма, Пудовкин считал своей задачей «раскрыть события в марксистском освещении, очистить их от неправильной трактовки, которую давала старая официальная историческая школа» [48]. На словах режиссер стремился отразить наряду с патриотической канвой событий социальные противоречия эпохи. На деле экранизация усугубила сценарный уклон в сословную невыразительность центральных персонажей.
В нижегородском старосте Минине и князе Пожарском Пудовкин искал исключительно выдающиеся качества, которые позволили им возглавить народное движение. В первую очередь он ценил в Минине обширный государственный ум, а не нижегородскую смекалку, дальновидность политика, а не коммерческий расчет, организаторские таланты, а не купеческую хватку. В Пожарском его привлекали скромность и честность. В итоге Пудовкин повторил исходные классические образы, от которых он стремился воздержаться. Главные герои получились излишне монументальными, в духе оперы «Иван Сусанин» и памятника Мартоса.
В остальном постановщики решили соблюсти историзм преимущественно через изобразительную сторону фильма. По просьбе Пудовкина талантливые художники А. А. Уткин и К. Н. Ефимов детально продумали и щепетильно воссоздали материальный мир начала XVII в.
Среди непосредственных консультантов фильма находился также сотрудник Исторического музея Н. Д. Протасов, о котором В. Пудовкин и М. Доллер писали, что тот консультировал буквально на месте съемки и подсказал множество интереснейших деталей, начиная от старинного способа бинтовать пораненную руку и кончая приемами заряжания пушки [49].
Пока съемочная группа Пудовкина воплощала сценарий Шкловского, сам писатель перерабатывал хронику «Русские в начале XVII века» и киносценарий в самостоятельный роман «Русские XVII века» (в окончательном виде произведение известно как повесть «Минин и Пожарский»).[139]
Хорошо разбираясь в материале, писатель продолжал следить за новыми научными исследованиями и даже откликался на них рецензиями. В день, когда Шкловский поставил, как ему казалось, заключительную точку в рукописи новой повести, по радио сообщили о начале германо-польской войны. Две недели подряд поступали тревожные сведения о стремительном продвижении немецких войск на восток. В данных условиях становилась неизбежной стратегическая реакция Советского Союза. В соответствии с условиями секретного дополнительного протокола, подписанного 23 августа 1939 г., сталинское руководство приняло решение о подготовке военной акции против западного соседа. 17 сентября 1939 г. советские войска вторглись в восточные воеводства Польши и устремились навстречу вермахту. «Освободительный поход» Красной армии и сопутствовавшая ему советизация восточных воеводств (Западной Украины и Западной Белоруссии) актуализировали «польскую» тему.
Под впечатлением внешнеполитической конъюнктуры советские ученые, по словам Б. Н. Флоря, окончательно склоняются «к изображению всех действий поляков в годы Смуты как шагов по осуществлению долгосрочного, разбитого на ряд этапов коварного плана, направленного против России» [64, 16]. Осенью 1939 г., после многомесячных проволочек, стремительно готовится к печати книга историка и библиофила А. И. Козаченко «Разгром польской интервенции в начале XVII века». Научно-популярный труд выходит щедрым стотысячным тиражом. Двумя годами ранее чуткий Козаченко первым среди советских историков возвеличил князя Александра Невского, верно оценив комплименты Карла Маркса в адрес новгородского обидчика тевтонских рыцарей, а также внимание редколлегии «Правды» к Ледовому побоищу. В 1937–1938 гг. Козаченко прославлял Александра Невского на страницах «Правды», «Исторического журнала» и в своей брошюре «Ледовое побоище». Работы Козаченко всегда отличались политической злободневностью. Поэтому Смута рассматривалась им преимущественно как продукт авантюристского движения «польских панов на восток, в пределы Русского государства». Против захватчиков и предателей развернулась народная война, которую вели восставшие москвичи, защитники Смоленска, безымянные «шиши» и костромской крестьянин Иван Сусанин, чей подвиг при советской власти «был очищен от всяких извращений». Заключительные страницы книги, посвященные освобождению Москвы Вторым ополчением во главе с «вождями, призванными народом», были написаны явно в спешке и к тому же с прицелом на тогдашние европейские события. По словам Козаченко, именно империалистическая Польша, возродившая «захватническую и продажную политику старой панской Польши», в сентябре 1939 г. начала войну с Германией. В этих условиях советское правительство выступило на защиту Западной Украины и Западной Белоруссии, поставив себе задачу «вызволить польский народ из злополучной войны» [30, 173]. Похожим образом подытожили «освободительный поход» составители сборника «Смоленская оборона: 1609–1611 гг.»: «Через 330 лет история повторилась, но на этот раз уже так, что польский пан окончательно выброшен из истории. Доблестная Красная армия осуществила заветные мечты наших белорусских и украинских братьев и навсегда уничтожила их векового угнетателя» [58, 4].[140]
Тем временем съемочная группа в Москве завершила работу над фильмом, который, по словам оператора А. Д. Головни, руководящие инстанции «приняли сверхотлично» [11, 196]. В октябре 1939 г. состоялась всесоюзная премьера «Минина и Пожарского» (фильм транслировался также в ноябре Всесоюзным радиокомитетом для немногочисленных обладателей дорогостоящих или самодельных телевизионных приемников). В ноябре 1939 г. кинопрокатные базы Красной армии получили 105 копий фильма. Внешнеполитическая конъюнктура благоприятствовала зрительскому и официальному успеху фильма (в 1941 г. власти вознаградят Пудовкина, снявшего «Минина и Пожарского», а также «Суворова» престижной Сталинской премией). Видимо под впечатлением триумфального похода Красной армии в Польшу, советские рецензенты не скупились на похвалы фильму, в котором народное ополчение освобождало Москву от польских захватчиков.
По времени своей премьеры фильм «Минин и Пожарский» как бы оправдывал советское вторжение 1939 г. и наводил на мысль, что Польшу постигло историческое возмездие за интервенцию начала XVII в. Советские рецензенты поспешили породнить события Смуты и польской кампании 1939 г., назвав последнюю историческим финалом «надменных и заносчивых польских панов», а польский генералитет во главе с Рыдз-Смиглы – «достойными потомками полковника Струся!..» [6]. «Когда смотришь этот фильм, – писал молодой прозаик Б. Ивантер, – невольно приходят на ум исторические параллели. Сравнивая происходившее в прошлом бегство крылатых польских гусаров от объединившегося народа с бесславным концом Польского государства в наши дни, видишь, что за 300 лет гоноровая шляхта ничего не поняла и ничему не научилась. Разве только сменила умелого полководца Ходкевича на бездарного Рыдз-Смиглы» [20]. «Славные традиции боевого прошлого русского народа воплощены в освободительной борьбе Красной армии на фронтах Западной Украины и Западной Белоруссии, – с удовлетворением констатировал один из рецензентов «Минина и Пожарского». – От хваленой «доблести» и спеси польской военщины, как и три века назад, не осталось и следа» [36, 34]. На страницах «Литературной газеты» утверждалось на примере Смутного времени, будто «…у польского панства с давних времен ничего не было за душой, кроме позолоченной мишуры, и что панское воинство разлетелось в прах при первом натиске мужественных людей. История подтвердила это и позже, когда незадачливые паны пытались двинуться на нашу территорию в 1920 г., подтвердила это и в сентябре нынешнего года, когда польские части бежали без оглядки от Красной армии» [22].
Советско-польские отношения второй половины 30-х годов развивались в режиме конфронтации, и сталинское руководство торопилось реконструировать историю русско-польских отношений как перечень польских обид и мщения за них. Оказалась востребованной память о русских воителях, устоявших перед польским мечом. Советская власть по собственному почину «переаттестовала» предводителей Второго ополчения Минина и Пожарского из «контрреволюционеров» в народные герои и уравняла их в исторической памяти с предводителем народного восстания Болотниковым. Марксистская историческая наука, по словам историка Н. Дайри, отныне рассматривала Минина и Пожарского «как национальных героев, руководивших народным движением за изгнание польских и шведских интервентов» [15, 48]. Подчеркивалось, что Минин и Пожарский, объединившие различные социальные группы в борьбе за независимость Родины, не проводили крепостнической политики.
В течение двух-трех лет (1936–1938) кардинально изменилась историографическая ситуация. С некоторыми оговорками советские историки возвращаются к прежним либеральным оценкам Смутного времени как эпохи консолидации общественных сил и патриотического народного движения против польских интервентов – «старых врагов Русского государства». Народное движение 1612 г. приобретает некую просоветскую перспективу. Вместе с историками советские писатели, кинематографисты и служители Мельпомены возвращают Минину и Пожарскому заслуженное уважение советских потомков. Художественная проза, спектакли и фильмы привносят в мировоззрение советских людей понимание того, что история отнюдь не сводится к социальной борьбе, что, помимо пролетарской солидарности, существуют другие ценности, например национальные. Не случайно на карикатуре Кукрыниксов «Речь юбиляра», напечатанной в журнале «Крокодил» в 1937 г., шляхтич-интервент 1612 г. соседствовал с «белополяком» 1920 г. Русская Смута превратилась в патриотический эпос. С другой стороны, принятая тогда форма освещения истории Смуты и перенос акцента на освободительную борьбу с польскими и шведскими интервентами ретушировали проблему политической и социальной ответственности властьимущих и привилегированных групп за допущение общенационального кризиса.
Источники и литература
1. Аристов В. Ключ-город Смоленск. Курск, 1940.
2. Архив А. М. Горького. Письма к Е. П. Пешковой. М., 1966. Т. 9.
3. Богданович Т. А. Холоп-ополченец (1606–1612). М.; Л., 1939.
4. Булгакова Е. С. Из дневниковых и мемуарных записей 1933–1970 гг. // Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988.
5. Быстрянский В. Критические замечания об учебниках по истории СССР // Правда, 1936. 1 февраля.
6. Викторов В. Патриотический фильм // Вечерняя Москва.1939. 26 октября.
7. Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б) – ВЧК—ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917–1953. М., 1999.
8. Галкин А. В. Смута. М., 1936. Кн. 1.
9. Герасимов Е. Иван Сусанин М., 1939.
10. Глязер С. Иван Болотников – вождь Крестьянской войны начала XVII в. М., 1941.
11. Головня О. Из детства (Борис и Любовь Бабицкие) // Кино: политика и люди (30-е годы). М., 1995.
12. Горин П. Фальсификация истории // Известия. 1937. 27 февраля.
13. Горяинов А. Н. Трагическая страница биографии В. И. Пичеты в свете одной стенограммы 1928 года // Славяноведение. 2002. № 1.
14. Давыдов З. Дикий камень // Красная новь. 1936. № 10.
15. Дайри Н. Минин и Пожарский // Исторический журнал.1940. № 8.
16. Друнин В. П. Польша. Россия и СССР: Исторические очерки. М.; Л., 1928.
17. Ерохин А. В. Образ России в «Дмитрии Самозванце» Фридриха Шиллера // Образы России в научном, художественном и политическом дискурсах: (История, теория, педагогическая практика): Материалы науч. конф. 4–7 сент., 2000 г. / Петрозаводский гос. ун-т. Петрозаводск, 2001.
18. Живов В. Иван Сусанин и Петр Великий: О константах и переменных в составе исторических персонажей // Новое литературное обозрение. 1999. № 4.
19. Иванов В. Вдохновение: Романтическая комедия // Красная новь. 1940. № 3.
20. Ивантер Б. Минин и Пожарский // Московский большевик. 1939. 27 октября.
21. Ивич. «Холоп-ополченец» // Литературное обозрение. 1939.№ 22.
22. Ижорский К. «Минин и Пожарский» // Литературная газета. 1939. 5 ноября.
23. История СССР / Под ред. В. И. Лебедева, Б. Д. Грекова, С. В. Бахрушина. М., 1939. Т. 1.
24. Кадр. 1940. 1 сентября.
25. Кара С. С. Вкус правды: О мастерах театра и кино. Л., 1979.
26. Кино. 1938. 1 мая.
27. Киселева Л. Н. Кто был русской Жанной д,Арк // Филологические записки. Воронеж, 2003. Вып. 20.
28. Киселева Л. Н. Становление русской национальной мифологии в Николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) // Лотмановский сборник. М., 1997. Т. 2.
29. Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1937. Ч. 3.
30. Козаченко А. И. Разгром польской интервенции в начале XVII века. М., 1939.
31. Комышкова Т. П. Своеобразие оценки исторических событий А. Толстым («Повесть о Смутном времени») // Российская система ценностей. Н. Новгород, 2005.
32. Константинов С. В. Дореволюционная история России в идеологии ВКБ(б) 30-х гг. // Историческая наука России в ХХ веке. М., 1997.
33. Малахов К. Фальсификация истории // Литературная газета. 1936. 6 декабря.
34. Маньков А. Г. Из дневника. 1938–1941 гг. // Звезда. 1995.№ 11.
35. Марк Рейзен: Автобиографические записки, статьи и воспоминания. М., 1986.
36. Марковин Н. О фильме «Минин и Пожарский. М., 1939.
37. Мордвинов Б. А. «Иван Сусанин» в Большом театре // Литературная газета. 1939. 15 февраля.
38. Петров С. М. Русский советский исторический роман. М.,1980.
39. ПичетаВ. Крестьянская война и борьба с иностранной интервенцией в начале XVII в. // Против антимарксистской концепции М. Н. Покровского: Сб. статей. М.; Л., 1940. Ч. 2.
40. Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1937.
41. Плотицын В. «Иван Болотников»: Спектакль Театра Революции // Красная звезда. 1938. 15 декабря.
42. Подорожный Н. Е. Польско-шведская интервенция в Московское государство в начале XVII века // Большая Советская Энциклопедия. М., 1940. Т. 46. Ст. 248–259.
43. Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке. 10-е изд. М., 1934. Ч. 1.
44. Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке: В 2 ч. 5-е изд. М., 1931. Ч. 1.
45. Правда. 1930. 5 декабря.
46. Против исторической концепции М. Н. Покровского: Сб. статей. М.; Л., 1939.
47. Пудовкин В. Крепить защиту Отечества // Кино. 1938. 5 декабря.
48. Пудовкин В. Фильм о патриотизме и мужестве великого русского народа // Курортная газета. 1939. 20 января.
49. Пудовкин В., Доллер М. Как создавался фильм // Кино. 1939. 23 ноября.
50. Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 2846. Оп. 1. Д. 303. Л. 75.
51. Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 558. Оп. 11. Д. 162. Л. 1.
52. Савич А. А. Польская интервенция начала XVII века в оценке М. Н. Покровского // Историк-марксист. 1938. № 1.
53. Савич А. А. Польско-литовская интервенция в эпоху великой московской смуты // Сборник общества исторических, философских и социальных наук при Пермском университете. Пермь, 1927. Вып. 2.
54. Савич А. А., Ровинский О. Разгром польской интервенции в XVII веке. М., 1938.
55. Самойлов В. Народный герой Иван Сусанин // Исторический журнал. 1939. № 5.
56. Самосуд С. А. Статьи. Воспоминания. Письма. М., 1984.
57. Сельвинский И. Избранные произведения. М., 1956. Т. 2.
58. Смоленская оборона. 1609–1611 гг. Смоленск, 1939.
59. Солодовников А. Мы были молоды тогда…: Воспоминания // Театральные страницы. М., 1979.
60. Сталин И. В. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом. М., 1933.
61. Токарев В. А. В фарватере советской пропаганды 1939 г. (к стратегии выживания старшего поколения историков) // Толерантность и власть: судьбы российской интеллигенции. Пермь, 2002.
62. Толстой А. Н. Собр. соч.: В 10 т. М., 1961. Т. 10.
63. Файер Ю. Ф. О себе, о музыке, о балете. М., 1970.
64. Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005.
65. Шкловский В. Б. Об историческом сценарии // Советский исторический фильм. М., 1939.
66. Шкловский В. Б. Русские в начале XVII века // Знамя. 1938. № 1.
67. Шкловский В. Б. Характер в сценарии исторического фильма // Вопросы кинодраматургии. М., 1954. Вып. 1.
УРОКИ СМУТЫ (И. Андреев)
Если история, по словам древних, должна выступать учителем жизни, то изучение Смуты и размышление о ее последующем влиянии на ход истории вызывает тягостные чувства. Слишком много печальных ассоциаций, удручающих сравнений, рождающих невеселое заключение о России – «стране невыученных уроков». Впрочем, ныне взгляд на историю, как учительницу жизни, многими ставится под сомнение. С этим трудно согласиться. Здесь поневоле приходит на память один из афоризмов В. О. Ключевского: история рано или поздно «проучивает за невежество и пренебрежение» тех, кто не желает извлекать из нее уроки.
Об этом, к сожалению, вспоминают обыкновенно лишь тогда, когда уже поздно. Может быть, поэтому всплеск интереса к Смуте в нашей стране приходился на периоды потрясений, бедствий национального масштаба. Пристально вглядываясь в прошлое, люди пытались лучше понять настоящее. То, что было сделано жителями Московского государства в грозное лихолетье, всегда питало надежду: с верой и отвагой одолели первую Смуту – одолеем и нынешнюю!
В наше время тема Смуты вновь приобрела общественную злободневность. Однако, кажется, на этот раз интерес к ней не разошелся с задачами истории как науки. Невольная политизация темы не заслонила проблем чисто научных – начиная с осмысления того, что есть Смута, до выяснения мотивов и сценариев ее развития. Думается, читатель согласится с этим утверждением, познакомившись с помещенными в настоящей книге работами. По постановке задач, подходам, кругу источников эти исследования относятся к жанру научной литературы. Тем не менее без «публицистических вопросов» обойтись невозможно. И главный среди них все тот же – об уроках Смуты.
Во многом ответ на этот вопрос зависит от понимания того, чем была Смута для нашей истории. Речь идет сейчас не об оценке – крестьянская или гражданская война, схватка аристократических кланов или результат происков из вне. Речь о месте этого явления в череде других, типичности или не типичности Смуты. И здесь первое, что бросается в глаза, – ее безусловная уникальность, особость. Вроде бы все, что происходило в смутное лихолетье, случалось и прежде. Но чтобы все сразу и вместе, наслоившись и перемешавшись, – такое было внове!
Смута поразила современников масштабами разорения страны, количеством опустошенных, выжженных, разграбленных городов и деревень. «Пучина слез рыдания» – вот точное выражение существа мирочувствования современников, зафиксированное одним из безвестных книжников. И все же бедствия такого рода никогда не были в диковинку! Нов был разве только масштаб невзгод, сопоставимый с самыми горчайшими временами ордынских нашествий.
Особость была в ином.
Смута втянула в политическую борьбу тех, кто никогда ранее не помышлял об этом, породила, по сути, первое общенациональное общественное движение. «Государево дело», бывшее до того исключительно прерогативой царя и его советников, оказалось доступным для простых «мужиков», осмелившихся думать о спасении «преславного Московского государства». В борьбу за власть включились рядовые дворяне, и даже более того – выходцы из социальных низов. В результате в стране – невиданное дело – возникло несколько претендовавших на общегосударственную власть, соперничавших центров во главе со своими монархами, боярскими думами, приказами, воеводами и даже патриархами.
Никогда раньше борьба не принимала такого ожесточенного характера. Стороны стремились не просто победить – уничтожить соперника. Казалось, слово милосердие навсегда было забыто: расправы, подчеркнуто позорные и мучительные казни («с раската» – крепостной стены – головой вниз) уже не поражали воображение современников своим бессердечием и массовостью. Все вошло в обычай, стало привычным, воспринималось как «справедливое воздаяние».
Сам царский трон превратился в предмет заурядного торга и посягательства со стороны людей низкого происхождения. Беглый расстрига из провинциального дворянского рода, бедный школьный учитель из Литвы и иные безродные самозванцы – все они принялись «играть» со священным царским саном, рождая во всех слоях общества пагубный соблазн самовольной перемены статуса. И, как итог, как невиданная прежде новация – на смену наследственной монархии пришла монархия выборная, с исподволь точившим сердца сомнением: а точно ли в переменчивой воле «всенародного множества» выражена «Божественная воля»? И может ли царь быть самодержцем не по благословению государя-родителя?
Смута показательна с точки зрения эволюции мотивов, которые определяли поступки людей – участников событий. Начинали они с высокого – кончали же чаще всего очень низким и очень мелким. Некогда поднявшая всех идея возвращения на престол «прирожденного государя» царевича Дмитрия выродилась в низменное желание посадить в Кремле своего ставленника, который закрепит за своими все то, что уже удалось и еще удастся прихватить. Бал правила корысть, которую уже не мог обуздать ни потерявший силу закон, ни заживо похороненная совесть. Иван Забелин, написав историю Пожарского и Минина в годы Смуты, добавил к обычному названию необычное: «Прямые и кривые в Смутное время». По сути – подзаголовок, но какой точный в определении того, что происходило со страной и людьми, ее населяющими!
Смута расколола не просто страну и общество. Вражда разделила семьи, разъединила тех, чья корпоративная и родовая солидарность позволяла некогда противиться в вопросах «местничества» даже воле самодержца. Что же тут удивляться слабости служебных креп, не способных поддержать общественный порядок?! Рушились принципы верной службы. Присяга превращалась в пустой набор ни к чему не обязывающих слов. То, что прежде было позорным вывихом, вызывало осуждение: измена, нарушение клятвы, насилие над слабыми, – стало нормой поведения, свидетельством преуспевания. Смута в стране обернулась смутой в головах. Нравственная порча источила души.
Итог известен. Разорванное гражданской войной общество остановилось в одном шаге от национальной катастрофы с реальными угрозами утраты самостоятельности, самоидентичности и разделения территории страны между ближними и даже не очень ближними соседями.
Понятно, что катастрофы подобного размера, даже если их и удается преодолеть, не проходят бесследно. «Смута является на рубеже двух смежных периодов нашей истории, связанная с предшествующим своими причинами, с последующим – своими следствиями», – писал по этому поводу В. О. Ключевский.
Но следствия – это выводы, сделанные из уроков. Первыми над ними стали размышлять участники Смуты – люди, для которых происшедшее никогда не было только перечнем горьких событий и утрат. Вопреки утверждению, что эмоции мало способствуют анализу, их оценка поражает глубиной проникновения. Однако душевная боль все же не могла не оставить свой отпечаток. Это видно из того, над чем они задумывались. Два вопроса волновали их более всего: почему такое произошло и как избежать повторения подобного?
Религиозное сознание определяло направление поиска ответов на эти вопросы. Всякое потрясение есть наказание за согрешения; всякое возрождение возможно только через покаяние, искупление и последующее крепкостояние в вере. Однако наказание за согрешение – «по попущению Божию за грехи наши» – слишком общая формула. Да и как объяснить размах кары, ведь ни одна «книга апостольская, ни жития святых, и ни философские, ни царственные книги, ни хронографы, ни летописи, и никакие другие книги не поведали нам о такой казни ни над одной монархией, ни над царством или княжеством, какая совершилась над превысочайшей Россией». Это сентенция безвестного автора повести «Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства» – косвенное свидетельство остроты переживания. Московское царство казнили и еще как! Разумеется, «сравнение» книжником «казней» – дань жанру, но все же отчего такое случилось с «превысочайшей» Россией?
Беспокойная мысль современников Смуты не ограничилась общими местами. Взвешивались личные качества правителей, темные и светлые стороны их характеров, за которыми современникам виделось противостояние сил добра и зла. Дьяк Иван Тимофеев писал на страницах своего знаменитого «Временника»: «Если мною описаны будут только злодеяния, а о добродетелях расскажут другие, а я промолчу, то сразу же обнажится несправедливость писателя. А если о том и другом будет рассказано правдиво, без прибавлений, то все уста умолкнут». Дьяк и в самом деле остался верен своему обещанию. Он признает опытность и ум Годунова, пред которыми меркнут иные «умные цари». Ведь их «ум лишь тень его ума». «И пусть никто не пытается поймать меня на этих словах, будто я оправдываю славолюбца, – замечает далее Тимофеев, – в одних местах я его обличаю, в других как будто хвалю, но делаю это не везде, а лишь здесь, справедливо оценивая ум тех и других, невзирая на лица».
Установка новаторская, отчасти даже выпадающая из древнерусской книжной традиции – пред нами уже «размышляющей автор». Но в этом своем стремлении Тимофеев не одинок. Смута создала целую генерацию таких авторов. И они вынесли нелицеприятный приговор своим современникам, составив перечень их грехов-проступков. Этот перечень длинен и печален. Здесь и измена элиты, которая «господское свое происхождение променяла на рабское служение» («Новая повесть»). И отсутствие широты, корыстолюбие, побуждавшее элиту потворствовать самым низменным инстинктам правителей. Так, «льстивая хвала… заискивающихся бояр» разжигала ненасытное честолюбие Бориса Годунова: тот не по достоинству и не по предназначению (а то грех смертельный) возжелал царства, они же (грех не меньший) «вкрадчивой лестью» ему во всем потакали: «Его желание и их лесть – одна сплетенная из грехов верига».
Бояре виновны и в низложении царя Василия, а затем в «призвании» королевича Владислава, отец которого, польский король Сигизмунд III, «давно ждал того, чтобы обольстить русских людей». Интрига обернулась бедой: вместо сына король прислал своих людей и «овладели они царством».
По мысли книжников, безмерны вины правителей. Бог покарал их. Бориса – за гордыню и высокоумие, за овладение тем, что никогда ему не было предназначено. Столь же тяжела вина Василия Шуйского, избранного «из боярского рода самовольно. без Божьего благословения». Оттого не было ему ни в чем удачи. «Царствовал он бесчестно и кратковременно», подданных не жалел, отчего все «возненавидели царя Василия» («Псковский летописец»).
Тяжелы прегрешения всех русских людей. Они играли царями, «яко детищем», то низводя их с царства, то пресмыкаясь перед ними сверх всякой меры. Но и сами правители хороши – легко давали обещания и легко отступали от них. Власть утратила свой престиж, оборачивалась безвластием. «Вследствие грехов правителей расстроились отношения между ними и подданными, а отсюда беды Смуты» – так подытожил эти размышления книжников историк А. Яковлев.
Но прежде грехов измены, отступничества, слабости был совершен грех всеобщий, падавший на всех, – грех великого молчания. «Не смолчи мы в свое время перед злодеяниями Бориса, не было бы и зол Смутного времени», – горько вздыхал по этому поводу дьяк Тимофеев. Старец Авраамий Палицын был еще суровее в своем приговоре. У него сомкнутые уста «всего мира» во время злодеяний Ивана Грозного – Бориса Годунова есть не что иное, как «безумное молчание»: «…Еже о истине к царю не смеюще глаголити».
«Зачем смолчали?» – в подобной постановке вопроса уже упомянутый выше А. Яковлев справедливо увидел новый поворот в рассуждениях о виновниках Смуты. Виноваты уже не люди, а сложившиеся общественные отношения, порождающие безмолвное большинство, не способное защитить собственные интересы и интересы страны. Не сказали, смолчали – вот ничего и не сделали, потому что слово всегда предшествует делу. «…Сами мы виноваты, а не кто-либо другой во всех бедах, мы сами из-за нашей беспомощности, а в этой беспомощности виновата наша трусость, наша неспособность к организации», – вынес вердикт дьяк Иван Тимофеев.
Смута кончилась. Но в памяти она осталась как апокалиптический знак, как напоминание о близости «последнего времени». В понимании современников русские люди «понаказались» Смутой. Они же получили от Бога прощение за запоздалое покаяния и терпение, но еще более – по заступничеству Богородицы, московских чудотворцев, всех святых. И теперь от русских людей зависело, чтобы «мерзость запустения», осознаваемая как прах разрушенного Иерусалима, сменилось возрожденным Святым Градом. И имя этому Новому Иерусалиму – Москва. Однако случится это, если будут «запечатаны грехи» и «заглажены беззакония», если во всех уголках земли установится «правда вечная». Вот только под силу ли это русским людям? Смогут ли они не оступиться снова и не поддаться греховным соблазнам?
Именно эти вопросы сразу после Смуты стали задавать себе истинные подвижники, для которых особенно актуальной стала завершающая часть знаменитой формулы монаха Филофея о Москве – Третьем и последнем Риме, потому что Четвертому Риму не бывать! Отсюда – обостренное внимание к религиозно-нравственному состоянию общества, призывы «ревнителей древнего благочестия» к оцерковлению мирской жизни. Эти эсхатологические переживания и мессианские устремления придали особую значимость традиционным ценностям. Долгожданные «тишина и покой», обретенные по окончании гражданской войны, упрочили консервативные настроения и неприязнь русского общества к западной культуре. Правда, без последней обойтись уже не могли. Однако в первые послесмутные десятилетия ей еще не хотели следовать и подражать.
Возвращение к досмутной старине – «тишине и покою» дорого стоили. Восстановление государственности и обретение стабильности мыслилось как реставрация самодержавия и утверждение режима всеобщей несвободы. Правда, усвоив уроки Смуты, первые Романовы не позволяли себе деспотических «вывихов» Ивана Грозного. Однако самодержавие реставрировалось в прежнем объеме, будто и не было опытов с ограничением власти монарха договором и «крестоцелованием». А раз так, то верх взяла самодержавная логика, неприятие любой дискредитации власти. Возвращалось толкование сакральной (священной) власти монарха как власти заведомо безошибочной и безгрешной. Прошло немного времени, и вот уже все меньше слышится речей о «безумном молчании» подданных и уж совсем мало – о безумных деяниях государей. Официальная идеология выводит из-под критики Ивана Грозного. Оставлен в «покое» и царь Василий Шуйский. Не прощенным остается «рабоцарь» Борис Годунов, запятнанный кровью царевича Дмитрия и неправыми гонениями на Романовых. Вопрос о виновниках вновь утрачивает свою адресность, перемещаясь в плоскость общего прегрешения русских людей, не сумевших устоять перед соблазнами и происками «врага человеческого», насылающего на них то Гришку Отрепьева, то «литву» и поляков. Царская власть вновь безвинна. Да она и не может быть иной, если престол занимает, как это происходит в случае с Романовыми, богоданный государь.
В подобной мифологизации Смуты не было ничего особенного. Как всякое судьбоносное событие, оно со временем начало служить интересам правящей династии. Торжествует «романовский» взгляд на Смуту, где всего понемногу – и правды, и полуправды, и лжи. Понятно, что при этом сетовать на короткую историческую память народа значит вовсе не понимать логики истории. Это не память забывчива, а времена разные, каждое из которых старательно выуживает из прошлого то, что ему необходимо. В продолжение долгих лет уроки Смуты – это преимущественно уроки «ценности» самодержавной власти и народной привязанности к ней, народного патриотизма и самопожертвования, опять же трактуемого в рамках монархизма.
Такое «существование» Смуты, далекое, на самом деле, от Смуты подлинной, столь же естественно и объяснимо, как, скажем, «существование» князя Александра Невского, пребывающего в массовом историческом сознании сразу в нескольких ипостасях – и как защитника веры и русской земли, и как небесного покровителя российского воинства и Петербурга, и как мудрого правителя – проводника единственно (ли?) реальной в середине XIII в. политики подчинения и сотрудничества с Золотой Ордой.
Смута продолжала «существовать» как некий миф, сотворенный господствовавшей идеологией и подчиненный вполне конкретным задачам, стоящим перед властью. Послереволюционные перипетии в трактовке Смуты еще более подтверждают это наблюдение. Историков, по крайней мере тех, кто сотрудничал с режимом, побуждали делать угодные господствующей идеологии выводы о прошлом. В итоге герои Смуты превращались в «контреволюционеров», намеревающихся утвердить то господство торгового капитализма «в шапке Мономаха», то крепостников-помещиков, после чего, разумеется, публицисты и литераторы, засучив рукава, принимались за разоблачение этих махровых монархистов и угнетателей народа. В обстановке тотального отрицания прошлого неудивительно появление разного рода пролеткультовских призывов, воспринимаемых ныне как кощунство, а тогда – как проявление истинно революционной сознательности.
Я предлагаю Минина расплавить, Пожарского. Зачем им пьедестал? Довольно нам двух лавочников славить, Их за прилавками Октябрь застал. Случайно им мы не свернули шею, Я знаю, это было бы под стать. Подумаешь, они спасли Россию! А может, лучше было не спасать?В 1930-е годы интерпретация Смуты, как это убедительно показано В. Токаревым, оказалась еще более жестко подчинена политической конъюнктуре. Но даже тогда, когда политическая острота пропала,[141] ситуация не намного улучшилась.
Либеризация режима имела свои пределы. Нельзя было преступать основные положения единственно «верной» научной методологии. По крайней мере до того момента, пока это не будет санкционировано сверху и осуществлено в рамках все той же официальной научной парадигмы. Последняя же с 1970-х годов объявила Смуту первой крестьянской войной в России, «отягченной» иностранной интервенцией.
Это, однако, вовсе не дает права зачеркивать то, что было сделано советскими историками. Да, исследователи вынуждены были «играть» по утвердившимся правилам, нередко вольно интерпретируя факты, которые, как поставленное на печь тесто, упорно «вылезали» из уготованной им «методологической кастрюли». Особенно трудно в этом отношении было с концепцией крестьянской войны, признаки которой совсем не укладывались в картину Смутного времени. Тем не менее упорная работа в архивах позволила ввести в научный оборот множество новых документов, существенно пополнивших наши знания о прошлом.
Важно и то, что неудовлетворенность существующей концепцией подталкивала отдельных ученых к пересмотру господствующей схемы. Попытки обновления обыкновенно оканчивались обвинениями в непонимании или даже отступлении от марксизма (хотя обычно сам пересмотр осуществлялся в границах существующей методологии). Случалось, что о «мятежных» исследованиях просто не упоминалось в литературе. Словом, злой рок Смуты – «безумное молчание» – и здесь продолжал преследовать тех, кто прикасался к этой теме. Но у науки, к счастью, есть свои внутренние законы развития, которые не зависят от предписаний свыше. Из сомнений, гипотез и дискуссий выросли не сорняки, а урожай полновесных знаний. Именно эта подготовительная теоретическая и фактологическая работа объясняет тот факт, что на фоне поверхностных переоценок прошлого, какими грешила отечественная историография в период «раскрепощения науки» (конец 1980-х – 1990-е годы), новое понимание Смуты выгодно отличалось от всего остального своей основательностью и продуманностью. Немалая заслуга в этом А. Л. Станиславского. Этот безвременно ушедший от нас историк задолго до методологических перемен обратился к изучению таких проблем, как история Государева двора и «вольного казачества». И то и другое имело прямое отношение к главному стержню Смуты, вокруг которого вращались все события, – к борьбе за власть. А. Л. Станиславский взглянул на Смуту как на гражданскую войну со всеми ее особенностями и закономерностями. Причем он не просто выдвинул гипотезу – он насытил ее фактами, превратил в концепцию, привлекательную своей внутренней цельностью и непротиворечивостью.
Предложенный подход открыл новые сюжеты в изучении Смуты. Исследовательское поле заметно расширилось, в чем нетрудно убедиться, обратившись к помещенным в настоящей книге работам историков. Отметим в первую очередь исследование Ю. М. Эскина, перу которого принадлежит самая полная на сегодняшний день научная биография Д. М. Пожарского.
В нашу задачу не входит оценка включенных в книгу исследований – пусть об этом судит сам читатель. Обратим внимание на иное. Кажется, впервые за долгие годы разговор об уроках Смуты утратил свою конъюнктурность и политизированность. Понятно, что это утверждение следует принимать с определенной оговоркой. Меняющееся настоящее всегда активизирует те или иные смыслы прошлого. Именно поэтому слишком поверхностно обвинять историков в конъюнктуре – сегодня, мол, пишут одно, завтра другое. Часто то, о чем пишут исследователи, – вызов времени, осмысление которого отчасти возможно посредством обращения к прошлому. Наше время побуждает взглянуть на Смуту под углом русских смут вообще: почему в истории России они имеют странное свойство возвращаться, каждый раз до основания сотрясая общество и государство, а иногда даже кардинально меняя вектор движения? Какие общие причины и механизмы, их порождающие, с удивительным упорством воспроизводит отечественная история? Как избежать смуты? Вот вопросы, ответы на которые, быть может, позволят хотя бы отчасти опровергнуть репутацию России как страны «невыученных уроков».
Наша первая Смута, как никакая другая, показала всю опасность социального эгоизма и небрежения элиты к интересам всех остальных сословий и социальных групп. Уже череда пагубных неурожаев начала XVII столетия продемонстрировала глубину нравственного упадка общества. В хлебные спекуляции пустились едва ли не все земельные собственники, включая духовенство. Приказной люд, открыв по указу Бориса для бесплатной раздачи хлеба царские житницы, превратил их в источник бессовестной, бессердечной наживы. Стоит ли удивляться последующим событиям, когда каждый стал думать только о собственном интересе? Страну рвали на куски. Не территориально – узостью интересов, разрушением духовного целого, желанием утвердиться за счет других. Тема возвышения «не по достоинству» стала одной из самых болезненных тем Смуты, поскольку привела к разрушению порядка. Социальное устроение сменилось хаосом, заставив современников вздыхать о прошлом как о навсегда утраченных годах «тишины и покоя». Попытка умерить разыгравшиеся социальные аппетиты посредством одной только силы, обернулась полным провалом. Тому доказательство – судьба Прокофия Ляпунова, воспротивившегося устремлениям «вольного казачества» и бывших тушинцев закрепиться в новом привилегированном статусе. Оказалось, что для преодоления социальной слепоты нужна не только сила, но и осознание того, что единство требует жертвенности, взаимных уступок, готовности договориться. К 1612 г. в посадах и «служилых городах» такое понимание сложилось. Однако за это пришлось заплатить дорогой ценой – разорением страны.
Смута воочию показала всю ценность власти. Восстановление порядка, как оказалось, шло рука об руку с восстановлением государства – упразднением конкурентных властных центров, строительством органов управления в центре и на местах. Перехватив инициативу у «миров» и дворянских «служилых городов», Романовы выступили консолидирующим началом, направив всю силу и энергию общества на освобождение страны и прекращение междоусобной борьбы. Понятно, что в рамках традиционного сознания «государственность» отождествлялась с «самодержавием». Начало возрождения мыслилось как избрание нового государя, отличного от всех остальных тем, что он государь бесспорный, богоданный. В действительности признанная всеми «богоданность» Романовых – скорее следствие всеобщей усталости, острого желания обрести выстраданное спокойствие. Возможно, начнись Смута с воцарения Романова, а не Годунова (в 1598 г. отец Михаила Федоровича боярин Федор Никитич был главным соперником Годунова, имевшим, впрочем, ничтожные шансы обойти правителя), то все могло закончиться с точностью до наоборот: воцарением Федора Годунова, которому бы на излете Смуты могли занести в «актив» родство с последней царской четой. Но вышло то, что вышло, и робкий подросток, только что отсидевший в Кремле вместе с поляками осаду, воспринимался как символ национального единства. Смута доказала еще раз значение законной власти вообще и в Московском государстве в особенности. Однако опять же – какой ценой!
События Смуты напомнили о том, что, казалось бы, навсегда осталось в прошлом, – о силе «земли» и живучести вечевых традиций «миров». Удивительно, но после долгого ордынского и самодержавного владычества, после репрессий Грозного, искоренявших любое проявление самодеятельности и инициативы, в низах должна была исчезнуть всякая мысль о соучастии в управлении страной. Но освободительное движение в городах, к которому примкнуло уездное дворянство, показало обратное. Страна была спасена движением «средних классов» (С. Ф. Платонов), сумевших объединиться, изыскать средства, создать правительство и войско, пресечь распри. Правда, эта дремавшая до сих пор народная сила, сделав дело, скоро и безропотно отошла в сторону, довольствуясь поддержкой новой власти. Почему так случилось – вопрос другой, и ответ на него следует искать в особенностях массового сознания. Но произошедшее в Смуту высветило силу «земли», ее способность не просто поддержать страну, но и воссоздать саму власть. Эта «вторичность» власти по отношению к «земле» и «мирам» означала необходимость постоянного взаимного диалога, который пусть не в полном объеме, неравно, продолжится в первой половине XVII в. посредством Земских соборов.
Но у самодержавия окажется короткая память. Земские соборы канули в Лету. Вместо трудного и не всегда приятного «диалога» власть предпочла выстроить изощренную систему бюрократического управления, не приспособленную к определению «градуса» народного самочувствия. Эта была куда более удобная дорога. К тому же с односторонним движением. Вот только она не спасала от новых «изданий» Смут, будь то кровавые народные бунты или разрушительные крестьянские войны. Случилось так, что драматичные события начала XVII в. мало чему научили и власть, и русское общество. Возможно, в этом и заключается главный урок первой российской Смуты – не забывать уроки прошлого ради настоящего и будущего.
В оформлении переплета использованы фотографии знамени Д. М. Пожарского; на первом форзаце – «Сигизмундов план» Москвы (1610 г.); на втором – его фрагмент, выделена усадьба Пожарского на Сретенке (сейчас – начало Лубянки)
Примечания
1
Речь Посполита (польск. Rzeczpospolita – республика) – официальное название объединенного польско-литовского государства (1569–1795).
(обратно)2
В русском ономастиконе (перечне личных имен) есть два созвучных имени: Прокопий и Прокофий. В документах, написанных П. П. Ляпуновым, и в родословных росписях Ляпуновых везде значится имя «Прокофий». В литературных памятниках Ляпунова часто ошибочно называют Прокопием.
(обратно)3
Обобщенное название «литва» с неким уничижительным оттенком применялось для обозначения жителей Речи Посполитой и Великого княжества Литовского. В свою очередь у поляков, литовцев, украинцев и белорусов тоже было принято называть подданных русских царей одним словом – «москва».
(обратно)4
Замосковные города – уездные центры вокруг Москвы (Владимир, Нижний Новгород, Кострома, Ярославль, Тверь и др.).
(обратно)5
Украинные города – уездные центры, находившиеся на исторической границе со Степью и Крымом (Тула, Калуга и др.).
(обратно)6
Северские города – от «Северская земля» с центром в Чернигове.
(обратно)7
Даточные люди – вспомогательное войско из тяглового населения, собиравшееся по раскладке на земельные владения тех, кто не нес ратную службу.
(обратно)8
Корм – кормовые доходы в натуральной или денежной форме, собиравшиеся для обеспечения войска.
(обратно)9
Понизовые города – города по «низу», расположенные в низовьях Волги.
(обратно)10
Казачьи приставства – система сбора доходов и управления на территориях, подчиненных «вольным» казакам.
(обратно)11
«Земля» – это люди, населявшие уезды Русского государства. В широком смысле мнение «земли» – это мнение народа.
(обратно)12
Черносошными (от «соха» – единица налогообложения) назывались земли, принадлежавшие государству; их жители платили подати в государственную казну, а не частным владельцам, а также обладали большими правами самоуправления.
(обратно)13
Будило Иосиф – мозырский хорунжий, королевский полковник, командир отряда 200 польско-литовских гусар, пришедших в 1607 г. в войско Лжедмитрия II. Был взят в плен до освобождения Москвы в 1612 г. В 1619 г., после заключения Деулинского перемирия, вернулся на родину, автор труда под названием «Московская война».
(обратно)14
«Карамзинский хронограф» – летописный памятник о событиях Смуты, использованный Н. М. Карамзиным в «Истории государства Российского». Его автором, как установил С. Ф. Платонов, является арзамасский дворянин Баим Болтин.
(обратно)15
Пахолики – пешие солдаты и слуги в польско-литовских отрядах.
(обратно)16
Жилец – служилый «чин» русского дворянства в XVI–XVII вв.
(обратно)17
«Служилые города» – уездное дворянство Русского государства в XVI–XVII вв.
(обратно)18
В полках под Москвой тоже действовало правительство – «Совет всей земли», от имени которого раздавались грамоты на поместья и вотчины.
(обратно)19
Начало успешного штурма Китай-города пришлось на четверг 22 октября (кроме архиепископа Арсения Елассонского об этой дате упоминали авторы «Нового» и «Пискаревского» летописцев). До событий Смутного времени в этот день традиционно праздновалась память Аверкия Великого, поэтому-то в «Новом летописце» сказано о взятии Китай-города: «…на память Аверкия Великого поидоша приступом и Китай взяша и многих литовских людей побиша». И только позднее в святцах под 22 октября было сделано дополнение об еще одном церковном празднике в память иконы Казанской Богоматери: «В той же день, празднуем Пресвятей Богородице чудотворный ради Ея иконы Казанския, и избавления ради царствующаго града Москвы от Литвы, еже бысть в лето 7121 (1612)» [37, 126].
(обратно)20
Л. В. Черепнин обоснованно считал, что собор, созванный в ополчении, не был распущен, а продолжал свою деятельность в Москве [65, 187].
(обратно)21
Существуют два варианта крестоцеловальной записи: краткая и пространная (см.: 52, 14–15).
(обратно)22
Псковскую повесть можно точно датировать 1625 г., потому что ее автор уже знает о смерти первой жены царя Михаила Федоровича царицы Марии Долгоруковой, но ничего не пишет о следующей свадьбе царя с Евдокией Стрешневой, состоявшейся 3 февраля 1626 г.
(обратно)23
Выражаю глубокую признательность Б.Н.Флоре, И.Л.Андрееву, А. В. Антонову, А. А. Булычеву, К. В. Баранову, Т. Богуну, И. Грале, Б. Н. Морозову, А. П. Павлову, А. Б. Плотникову, А. Н. Фролову за предоставленные сведения и консультации.
(обратно)24
Их часто путают с другими св. мучениками Козьмой и Дамианом, более известными лекарями-бессребрениками, жившими на несколько десятилетий ранее в Риме, излечившими императора-язычника, который за это стал благоволить к их единоверцам. Однако бедные врачи были зверски забиты камнями лекарями-язычниками; день их памяти – 1 июня [158, 340; 45, 5-10].
(обратно)25
Для сравнения отметим, что с такого удельного княжества, как Звенигородское, в 1433 г. дань великому князю составляла 511 руб. [51, 10].
(обратно)26
«Рядная матери боярина князя Дмитрия Михайловича Пожарского княгини Еуфросиньи» на сельцо Берсенево с пустошами в Клинском уезде [10, 317].
(обратно)27
Дата уточняется по фрагменту недавно найденного надгробия.
(обратно)28
«Яз, княз Дмитрей Пожарской, вотчинную свою деревну Три Дворища по приказу отца своево князя Михайла Федоровича Пожарскова в Суздоле в Спаской Еуфимев монастир дал и потписал своею рукую» [106].
(обратно)29
«Стряпать» означало подготавливать что-либо.
(обратно)30
Лествица – лествичная система наследования великокняжеской власти в Древней Руси, при которой сыновья великого князя Киевского получали во владение города и сохраняли наследствие право власти. В случае смерти кого-либо из них остальные передвигались «по лестнице», занимая все более престижные княжения.
(обратно)31
Слово это означало некую службу, возможно, юноша-родственник исполнял некие пажеские обязанности в доме большого вельможи, впрочем, опале он не подвергался.
(обратно)32
Князь Б. П. Татев был двоюродным братом князей Василия, Андрея и Ивана Васильевичей Голицыных по матери, урожденной Татевой [54, 6].
(обратно)33
В эту группу биографы включают иногда и М. Ф. Аксакова, что звучит не менее парадоксально, но это натяжка, грамотен ли был он, нам неведомо; он отсутствовал в городе, и жалованье за него брал М. М. Шаховской, за которого просто второй раз расписался князь Дмитрий.
(обратно)34
Автор так называемого «Дневника Марины Мнишек», описывая этот обед, заметил, что «прислуга у царского стола отправляет службу по-простому, без поклонов, и чашничие, которых здесь зовут стольниками, даже не снимали шапок, а только наклоняли голову» [38, 41–42].
(обратно)35
Кравчий – один из важнейших дворцовых чинов, распоряжавшийся царской трапезой.
(обратно)36
Список этот сохранился не полностью и рассыпан по нескольким архивам, впервые все найденные доселе части были сведены в сборнике документов «Народное движение в эпоху Смуты начала XVII в.» [73, 140], причем кусок с упоминанием Пожарского был ранее обнаружен и скопирован в архиве Санкт-Петербургского Института истории РАН В. И. Корецким, его нет в предыдущих изданиях, в том числе в капитальной публикации ранних боярских списков А. Л. Станиславского. Интересно, что Пожарский числится здесь не среди стольников, а среди московских дворян более низкого чина, однако остается только строить догадки, был ли он понижен Шуйским после переворота или это дефект списка.
(обратно)37
Как потомки князей Суздальских, Шуйские считались законными правопреемниками угасшего в 1598 г. Московского дома. У историков и генеалогов имеется расхождение только в одном – происходят они от брата Александра Невского Андрея Ярославича или от третьего сына князя Александра Невского Андрея Александровича (в первом случае они старше, а во втором – младше Московского дома) [97, 1]. Шуйские обладали легитимностью, как старшие Рюриковичи и князья, в XVI в. занимавшие первые места в московском правительстве и вплоть до 1530-х годов сохранявшие удельные права в Суздальско-Нижегородском княжестве [1].
(обратно)38
Следствием этого поражения стал переход на сторону правительства крестьян подмосковных дворцовых волостей – наиболее последовательных сторонников Лжедмитрия II в Замосковье [140, 142].
(обратно)39
В Синодике Рязанского кафедрального собора Успения Богородицы 1631 г. – первой половины XVIII в. на л. 21 об. записан род Пожарских, а на л. 59 – род зарайского протопопа Дмитрия Леонтьева [142].
(обратно)40
Протопоп – обиходное название протоиерея – священнослужитель средней (второй) степени православной церковной иерархии, настоятель храма.
(обратно)41
Заметим, что по отношению к «вору» духовенство вело себя по-разному, например, архимандрит Нижегородского Вознесенского монастыря Иоиль в отрицательном ответе на ультиматум тушинцев нижегородцам о присяге их «царику» называет его не «вором», а дипломатично – «царем Дмитрием», при этом указывая, что истинный царевич Дмитрий похоронен в Архангельском соборе в Москве [140, 147].
(обратно)42
Дмитрий Иванович, сын Ивана Грозного, Федор Борисович, сын Бориса Годунова, Лжедмитрий I, «царевич Петр», князь М. В. Скопин-Шуйский, Василий Шуйский, несколько позже – и Лжедмитрий II. Современники сомневались и в естественности неожиданной смерти еще не старого царя Бориса.
(обратно)43
Они стремились подчинить Московское царство непосредственно королевской власти, некоторые горячие головы даже публиковали памфлеты, приравнивая будущее России к колониям, наподобие испанских в Латинской Америке [167, 79–80].
(обратно)44
Хотя гетман пункт о принятии православия смягчил, заявив, что королевич еще мал, чтобы разбираться в таких вопросах, религию же надо менять сознательно, по достижении совершеннолетия.
(обратно)45
Тушинский вор был убит в декабре 1610 г., Ян Сапега умер в сентябре 1611 г.
(обратно)46
Ландскнехты – немецкая наемная пехота в XV–XVII вв.
(обратно)47
Лифляндия – 1) немецкое название Ливонии в ХIII—ХIV вв.; 2) официальное название территории Северной Латвии и Южной Эстонии в XVII – начале XX в.
(обратно)48
Минин впоследствии рассказывал Симону Азарьину, что одной душноватой ночью, когда он спал не в доме, а в «повалуше» (беседке или башенке), ему явился сам св. Сергий Радонежский и благословил на организацию ополчения [70, 52].
(обратно)49
Есть версия, что он жил в это время в другом своем селе – Нижнем Ландехе, однако вряд ли тогда эту вотчину выпрашивал бы у короля Г. Орлов, зная, что село это – резиденция князя, окруженного солидной охраной из служивших у него боевых холопов и казаков.
(обратно)50
Выборный дворянин – высший ранг провинциального дворянства.
(обратно)51
Эти подробности вызывали сомнения у позднейших историков. Н. И. Костомаров в ранних вариантах своих работ даже упрекал Пожарского в «безволии», а Минина – в «интриганстве» [59, 478–484], хотя все, что нам известно об этом, выглядит вполне честной политикой и здравой предусмотрительностью.
(обратно)52
Келарь – в православных и католических монастырях монах, ведающий монастырским хозяйством.
(обратно)53
Священная Римская империя – 962—1806 (с конца XV в. Священная Римская империя германской нации) – основана германским королем Оттоном I, подчинившим Северную и Среднюю Италию (утеряна в XIII в.). Включала также Чехию, Бургундию, Нидерланды, швейцарские земли и др.
(обратно)54
Заметим, что даже в случае избрания это был бы неудачный вариант – принц умер 20 лет от роду.
(обратно)55
Имеется в виду Люблинская уния 1569 г. – соглашение об объединении Польши и Великого княжества Литовского в одно государство – Речь Посполитую.
(обратно)56
Обычный маршрут из Европы, помимо чисто морского (а тогда надо бы было огибать Африку), был: Балтийское море – Лифляндия – Волга – Каспийское море – Иран.
(обратно)57
Известно, что даже в далекой Испании знаменитый Лопе де Вега написал в это время драму «Лжедмитрий I».
(обратно)58
Хоругвь – в XVI–XVIII вв. подразделение в польско-литовской армии, соответствовавшее роте.
(обратно)59
Т. Богун замечает, что Пожарский «великолепно использовал ландшафт», располагая свои войска, в результате чего Ходкевичу не удалось прорваться в Кремль [19, 81].
(обратно)60
Церкви Св. Климента и Св. Екатерины существуют и поныне на тех же местах, но сейчас это большие (особенно Св. Климента) каменные здания в стиле барокко середины XVIII в.
(обратно)61
Неоднократно упоминавшийся мною Т. Богун, проработавший все на сегодня известные русские и польские источники о Московской эпопее, в личной беседе сообщил, что, по его подсчетам, съедено было не менее 250–280 солдат и офицеров.
(обратно)62
Делагарди подозревал, что расспрашиваемые купцы и пленники выдают желаемое за действительное, и писал: «…правда ли это, покажет время» [70, 214].
(обратно)63
Парадоксальный этот факт (если учитывать и то, что о Минине говорится в самом тексте грамоты) объяснить трудно. Еще С. А. Белокуров заметил отсутствие подписей ряда видных деятелей (не считая тех, кого заведомо не могло быть в Москве, например воевод в Сибири), в том числе боярина князя Б.М.Лыкова. Согласно указу о порядке подписания «Утвержденной грамоты», сначала должны были подписывать высшие духовные иерархи, затем бояре, окольничие, думные дворяне, думные дьяки, затем главы крупнейших монастырей, затем чашники, стольники, стряпчие, московские («большие») дворяне, главы остальных монастырей, приказные дьяки, жильцы, выборные и городовые дворяне, представители посадов, однако на деле при подписании может быть по «техническим причинам» порядок был упрощен, сначала подписало все духовенство, затем бояре, окольничие, кравчий, а думные дворяне (их было всего два – Г. Г. Пушкин и К. Минин) и постельничий К. И. Михалков пропущены. [66, 4, 11, 13–14]. Можно предположить, что для каждого чина оставлялось место – пробел на обороте обеих грамот, а место думных дворян случайно стали заполнять стольники, которых было много, а «ниже» их думным дворянам подписываться стало уже «невместно», по крайней мере Г. Г. Пушкин, известный своей местнической скандальностью, мог так решить и убедить Минина, неопытного в новой для себя придворной сфере.
(обратно)64
Местничество – система замещения государственных должностей в России XVI–XVII вв. согласно знатности рода назначаемых, причем должность и ранг увязывались с положением предков, и в случае, если сын получал назначение ниже, чем было у отца, деда и пр., он мог судиться с теми, кто получил высшее назначение. Боярские комиссии проверяли генеалогию сторон и выносили решение. Упразднено как система в 1682 г.
(обратно)65
Безместие – 1) временной период, когда (например, при военных действиях) запрещено местничать; 2) решение суда, объявлявшего стороны «без мест», по политическим, генеалогическим и прочим обстоятельствам; 3) запрещение местничать на определенной службе.
(обратно)66
«Сиротами» в XV–XVII вв. в официальных документах – челобитных, подаваемых по правилам всегда на государево имя (в любой приказ или к воеводе и пр.), положено было именовать себя вольным крестьянам, а дворяне всех категорий, от мелких городовых до бояр, должны были именовать себя «государевыми холопами». Ни посадский человек, ни крестьянин в обращении к государственной власти «холопом» называть себя не мог.
(обратно)67
Просить «обоборони» – подать жалобу о защите от «бесчестья» – оскорбления, тем самым показывая, что соперник настолько незнатен, что претензии его на местничество оскорбительны.
(обратно)68
Ертоул – авангард.
(обратно)69
Пол трети – согласно славянскому обозначению чисел – половина от одной трети, т. е. 1/6.
(обратно)70
«Черная кручина – меланхолия, душевная болезнь» (так ее определял И. И. Срезневский в «Материалах для словаря древнерусского языка» (СПб., 1903); «Черная немочь – падучая» (см.: «Толковый словарь великорусского языка» В. И. Даля). «Падучая» – приступы эпилептического характера, были свойственны, кстати, богато одаренным личностям – Юлию Цезарю, Петру I, Наполеону, Достоевскому. Однако о приступах с обмороками у Пожарского источники не сообщают. Мы склоняемся к определению его болезни как депрессии, весьма свойственной людям нашего времени (рассказ шпионов Лисовского, похоже, подтверждает предположение).
(обратно)71
Известно, что уже в начале XVIII в. пожилой и вдовый фельдмаршал граф Б. П. Шереметев хотел постричься в монахи, но царь Петр не только ему не позволил, но даже организовал его женитьбу.
(обратно)72
По польским источникам, 6400 регулярной конницы и пехоты, 1000 «лисовчиков», 600 донских казаков [177, 204–205].
(обратно)73
Там Чаплинский учинил резню, поскольку жители не сдавались и не признавали Владислава [177, 110].
(обратно)74
По польским источникам, в районе Товаркова произошло два боя: в конце апреля Пожарский первый раз совершил туда рейд, но после полуторачасовой перестрелки с «лисовчиками» вернулся в Калугу, а в мае более удачно повторил маневр, захватив пленных и трофеи [177, 113].
(обратно)75
Зд. войсковое знамя.
(обратно)76
Злые языки называли эту болезнь притворной, однако это был далеко не первый приступ; придворная камарилья везде одинакова, и в стане противника в том же и почти тогда же обвиняли и гетмана Ходкевича [177, 140, 149].
(обратно)77
Фабий Максим Кунктатор (букв. – медлитель, 275–203 гг. до н. э.) – римский полководец.
(обратно)78
Ям – в России XIII—ХІХвв. селение на почтовом тракте, в котором жили ямщики с семьями.
(обратно)79
Дикое поле – историческое название территории между Доном, Верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны.
(обратно)80
Ф. И. Шереметев стал его главным душеприказчиком по завещанию. Известно, что он дарил Пожарскому подарки, они участвовали совместно в дипломатических переговорах, т. е. были более близки, чем отмечалось в более ранней моей публикации [169, 146, 149].
(обратно)81
Вероятно, он тоже был сослан, так как его имя исчезает из официальных документов.
(обратно)82
Отметим, что дипломат давал острые характеристики – в его перечне бояр есть «великий тиран Владимир Долгорукий», «князь Борис Лыков, строгий человек, начальник в Судной избе», а глава Посольского приказа И. Т. Грамотин, по его мнению, – «мудрый, благочестивый и справедливый муж» [103, 20–21].
(обратно)83
Набаты – большие барабаны в виде котлов, притороченные к седлам лошадей, боем которых барабанщик по приказу главного воеводы подавал сигналы войску.
(обратно)84
Оба эти лица были хорошими знакомыми Пожарского. Левкий стал в дальнейшем псковским архиепископом, М. Ф. Глебов был вторым воеводой у Пожарского [12, 153].
(обратно)85
Сгорели даже рукоятки всего саперного инструмента – лопат, кирок; их пришлось делать заново [116].
(обратно)86
Примерно в одно время действовали тезки, два Федора Ивановича Пожарских, но один из них умер еще в 1627 г., а другой, о котором идет речь, был, видимо, сыном погибшего еще, вероятно, в 1604 г. под Новгород-Северском князя Ивана Петровича, брата Дмитрия Петровича Лопаты-Пожарского [143, 24, 28].
(обратно)87
По подсчетам С. Смирнова, с 1616 по 1641 г. князь был за «государским столом» не менее 62 раз [151, 129].
(обратно)88
В 1619, 1621, 1624, 1631, 1635, 1640 гг. [151, 129].
(обратно)89
Охабень – старинный русский широкий кафтан.
(обратно)90
Ферязь – старинная русская распашная одежда с узкими рукавами или без них.
(обратно)91
В моей публикации «Завещание князя Дмитрия Пожарского» [169] Л. К. Сапега ошибочно указан как сын гетмана Я. П. Сапеги.
(обратно)92
Сведения, возможно, фальшивые, так же как и упоминание много позднее И. М. Пушкиным челобитья на князя со своим родственником Гаврилой (его не нашли в Разряде) [110].
(обратно)93
Рында – оруженосец-телохранитель при великих князьях и царях России XV–XVII вв. Набирались из юношей знатного происхождения.
(обратно)94
Князь П. Т. Щепа-Пожарский местничал только один раз, в 1599 г., и с совершенно другим человеком – князем М. Ф. Шугреей Гвоздевым-Ростовским [101, 321; 98, 68, 69].
(обратно)95
Бутурлин продолжал выражать недовольство, так как Пожарский стал первым, хотя и в «низшей встрече», тут же включился и Г. Г. Пушкин, встречавший вторым во второй «встрече», жаловавшийся на нерешенность, по его мнению, дела 1613 г. Разрядные дьяки, видимо, посоветовали Михаилу Федоровичу объявить всю церемонию без мест [42, 394–395].
(обратно)96
Качественная репродукция плит приведена в книге протоиерея А. Соколова [155].
(обратно)97
Дата по найденному надгробию.
(обратно)98
Четверть – мера земельных участков в XV–XVII вв., определялась количеством высеиваемого зерна (4 пуда); составляла около 5540 м2.
(обратно)99
Небольшая часть вотчинного архива Пожарских еще в конце XVII в. оказалась в Германии, в коллекции рукописей гамбургского ученого и собирателя А. Хинкельманна (1625–1695), и вошла в ее каталог, опубликованный в Гамбурге в 1695 г. В настоящее время хранится в Государственной университетской библиотеке им. Карла фон Осецкого в Гамбурге.
(обратно)100
Жиковины – металлические накладки на деревянных дверях, ставнях и пр., возможно, державшие обивку.
(обратно)101
Описание разгрома весьма напоминает аналогичное описание, сделанное через 54 года английским адмиралом Дж. Бенбоу, обнаружившим нечто похожее в своем доме после отъезда из Лондона «Великого посольства» с юным Петром I: «Стекла выбиты, печи и печные трубы сломаны, дубовые и сосновые перекладины в потолках сломаны, полы в некоторых местах выворочены, в других испачканы грязью и рвотой… окружавшая сад железная решетка разнесена на 100 футов…» и т. д. [17, 386–387].
(обратно)102
Внучка Пожарского Евдокия Петровна была замужем за боярином князем Ю. А. Чертенком Долгоруким [145, 32].
(обратно)103
Г. А. Павлович замечает, что храм, посвященный святыне – символу борьбы с «латынянами», спешно возводился во время Смоленской войны, инициатором которой был Филарет [86, 228–230].
(обратно)104
Князь, видимо, получил или купил после Смуты близ своей усадьбы довольно много земельных участков, ранее принадлежавших посаду, организованному в «сотни» по профессиям или территории – рядом еще находилось «место пустое Стретенской сотни. а владеет местом боярин князь. Пожарской»; «В Новой слободке меж Покровской улицы и Николы в Мясниках место» под огород 60 на 45 сажен, данное Пожарскому 7 апреля 1617 г. по царскому указу [128].
(обратно)105
Как указывалось выше, он служил князю также и воинскую службу «с пищалью».
(обратно)106
В августе 1640 г. на Сретенке ночным караулом был арестован за драку и угрозы поджога некий Ивашка Синица, каменщик Пожарского, на двор князя дали знать, но оттуда сообщили, что этого холопа хозяин давно выгнал, «боярин ево велел збить со двора», за пьянство и азартные игры (в «зернь» – кости) в кабаках [123].
(обратно)107
По мнению Е. В. Зацепиной, Пожарский, возможно, получил роскошную рукопись из царских хранилищ после освобождения Москвы.
(обратно)108
Четьи-Минеи («чтения ежемесячные») – сборники житий святых, составленные по месяцам, в соответствии с днями чествования церковью памяти каждого святого.
(обратно)109
Название «Холуй» происходит от особой формы плетеных ловушек для рыбы или от местного наименования заливных лугов.
(обратно)110
Довотчик (доводчик) – одна из низших должностей в приказной избе (канцелярии воеводы) – курьер, судебный исполнитель. Возможно, исполнял канцелярские функции на боярском дворе.
(обратно)111
Епитрахиль – часть облачения православного священника.
(обратно)112
Митра – высокий головной убор высшего православного и католического духовенства.
(обратно)113
Ничего не известно о стихотворных опытах Пожарского; атрибуция же послания ему как адресату зиждится на некоторых особенностях текста, в том числе в строке «Зане царево и рождшего тя именуется лице Божие – т. е. имя Михаил («лицо Божье» по древнееврейски) – царь Михаил Федорович и «Михайлович», отчество Пожарского; конечно, среди вельмож того времени были еще «Михайловичи», например Б. М. Лыков, но в послании, похоже, описывается ополчение и изгнание интервентов, за что члена Семибоярщины восхвалять было бы, мягко говоря, нетактично.
(обратно)114
Время его составления можно определить по уже упомянутому как покойный одному из его внуков – князю И. В. Куракину (ок. 1640 г.) и дате кончины самого Пожарского – 20 апреля 1642 г.
(обратно)115
Позднее его сыновья просили у Казенного приказа отсрочки в выплате этого долга [179].
(обратно)116
Кончар – длинное колющее оружие типа шпаги.
(обратно)117
Панагия – круглая иконка с изображением Богоматери, нагрудный знак архиреев.
(обратно)118
«Да я ж приказываю жене моей, чтоб она не покинула сына моево князя Ивана, а ему ее имати что мать свою» [169, 153].
(обратно)119
Делится тщательно даже кухонная посуда – жене завещается «всяких судов белых – оловянников и кружек и блюд и котлов и противней и сковородок четвертая доля» [170, 150].
(обратно)120
Кормчая книга («Номоканон» – гр.) – сборник церковных канонов, регламентировавших все сферы церковной жизни (от взаимоотношений церкви и государства до правил богослужения и норм бытового поведения духовенства и мирян. Возникла в Византии на основе решений Вселенских соборов (VI–IX вв.), многократно дополнялась, с Х в. переводилась на славянские языки, наиболее популярными в России XVI–XVII вв. были древнеславянская (XIII в.) и сербская (XV в.) редакции.
(обратно)121
В 1645/46 г. «кабальный человек конюх Гришка Щеколь» жил в барском дворе в Нижнем Ландехе [93, 63].
(обратно)122
К сожалению, запись эта на полях сильно выцвела и вдобавок заклеена реставраторами, она хорошо читалась в XIX в., а ныне с трудом можно разобрать только «150… апреля… умре».
(обратно)123
Захоронение, определенное А. С. Уваровым как гробница Пожарского, представляло саркофаг из цельного камня, обложенный кирпичом, со слоем бересты между крышкой и камнем; в нем находился скелет пожилого мужчины в шелковом узорчатом саване, остатки шелковых с золотыми вышивками кафтана и пояса, стеклянный сосудец с елеем, на голове венчик с тремя восьмиконечными крестами и буквами ЦСИХ (Царь славы Иисус Христос), найденное было зарисовано и опубликовано [165, 28–40].
(обратно)124
В этой песне о Земском соборе 1613 г. Пожарский предлагает избрать на престол Михаила Романова. Официальную концепцию этого времени воплотила скульптурная группа на памятнике 1862 г. «Тысячелетие России» в Новгороде – в центре юный Михаил, справа его защищает обнаженной саблей Пожарский, а слева Минин подносит шапку Мономаха.
(обратно)125
В польской культуре портрет был уже весьма распространен, однако даже портреты знаменитых Льва и Яна Сапег, по мнению современных польских историков искусства, скорее всего, посмертные, их источники неизвестны; тем паче ничего не известно об изображениях Лисовского, простого шляхтича. В то же время тщеславные Мнишки, весьма гордившиеся в последующие столетия «царской» авантюрой предка, заказали целый живописный цикл о Лжедмитрии и Марине, в начале XX в. приобретенный Историческим музеем в Москве, а бронзовый бюст Ю. Мнишка как-то «затесался» в ряды созданной в XVIII в. галереи бюстов «знаменитых мужей», в компании с Н. Коперником, Стефаном Баторием, Я. Кохановским и др. в Королевском замке в Варшаве.
(обратно)126
Ниже приводятся материалы из доклада Б.М.Пудалова на Мининских чтениях в Нижнем Новгороде (октябрь 2006 г.).
(обратно)127
Исключением является очерк Н. И. Костомарова «Личности Смутного времени», опубликованный в журнале «Вестник Европы» в июне 1871 г. Однако, как тогда же показал И. Е. Забелин, заключение о том, что Минин якобы «не совсем был бескорыстен» в обращении с земской казной, ни на чем не основано. Спорное дело с Нижегородским Вознесенским Печерским монастырем, где Минину приписывали неблаговидные действия, вообще не имело к нему никакого отношения.
(обратно)128
Конечно, дело не в том, что Кузьма Минин был неграмотен, иначе бы он просто не стал земским старостой. Перед нами еще одно свидетельство доверия, которое испытывали друг к другу два руководителя ополчения.
(обратно)129
Вотчину, пожалованную Кузьме Минину и его сыну Нефеду, даже освободили от уплаты положенных печатных пошлин. Правда, потом, после смерти сына Кузьмы Минина, эта вотчина ушла из рода Мининых и досталась стольнику князю Якову Куденетовичу Черкасскому. Вдове же Кузьмы Минина Татьяне было выделено прожиточное поместье в Луховском уезде. Под конец жизни ей много пришлось спорить из-за усадебной земли с соседом по поместью стольником Дмитрием Ивановичем Плещеевым. В 1636 г. она просила в челобитной на имя царя Михаила Федоровича, отправленной в Поместный приказ, решить ее дело, напоминая о заслугах Кузьмы Минина: «Пожалуй меня бедною, горькою, беспомошною вдову за мужа моего за многою службу и за работу» [9, 398; 32, 196–201; 33, 126–148].
(обратно)130
Сын Кузьмы Минина Нефед служил в чине стряпчего и умер бездетным в 1632/33 г. Вдова Татьяна Семеновна умерла в 1640 г., приняв перед смертью постриг с именем Таисия. У Кузьмы Минина были также братья – Сергей и, возможно, Бессон [26, 185–189, 5, 90—102; 33, 132–133].
(обратно)131
К исходу десятилетия концептуальный взгляд на извечную враждебность Польши к России был предложен Н. Дайри: польская интервенция начала XVII в. была «только звеном в цепи польско-литовских попыток ослабить, сломить и подчинить Московское государство. Именно так нужно оценивать союз литовского князя Ягайло с Мамаем против Дмитрия Донского в 1380 г., систематическую помощь Литвы тверским князьям против московских, литовскую помощь Новгороду против Ивана III, польско-литовский союз 1480 г. с ханом Ахматом, пытавшимся восстановить татарское иго на Руси, многолетнюю войну польского короля Стефана Батория в союзе со шведами против Ивана Грозного и т. п.» [15, 45].
(обратно)132
В похожем направлении развивался сюжет повести «Холоп-ополченец» (1939), принадлежавшей перу Татьяны Богданович, к которой, кстати, благоволил академик Е. В. Тарле. В первой части книги живописалось восстание Болотникова. Главный герой, сражавшийся под началом Болотникова, попадает в Тушино. Выставляя поляков как враждебную силу («Не держит их русская земля!»), Богданович не торопилась изобличить Лжедмитрия II как изменника, за что удостоилась от рецензентов укора в том, что в повести не ясны «отношения Болотникова с тушинским Дмитрием, именем которого он действует» [21, 12]. В конце концов вчерашний герой-бунтарь должен был присоединиться к ополчению Минина и Пожарского.
(обратно)133
Еще до поступления официального заказа Шкловский по собственному почину попытался пристроить повесть к кинематографистам, но неудачно. Безымянный заведующий сценарным отделом отверг сценарий Шкловского о Минине и Пожарском, будучи заинтересован «Иваном Сусаниным». Польскую тему кто-то планировал решить в ключе сталинской рекомендации Большому театру. Ранее режиссеру С. Эйзенштейну на «Мосфильме» также предложили на выбор две темы для нового фильма: «Александр Невский» или «Иван Сусанин». Даже потом, когда «Минин и Пожарский» были включены в план кинопроизводства, некоторые недогадливые или малоинформированные чиновники от кино предлагали, по словам Дукельского, снять эту тему как «нереальную».
(обратно)134
Как отзвук причастности Лебедева к фильму «Минин и Пожарский» можно рассматривать его позднюю брошюру «Борьба русского народа с польско-шляхетской интервенцией в начале XVII в.: Минин и Пожарский» (1944).
(обратно)135
Например, в сценарии немецкий наемник Шмидт напоминал Ходкевичу о кампании в Нидерландах, явно путаясь в биохронике литовского гетмана. Никоим образом Ходкевич не мог сражаться в Нидерландах против шведов, да еще под предводительством герцога Альбы, который покинул Нидерланды, когда Ходкевичу было всего 13 лет от роду.
(обратно)136
Например, в 1939 г. журнал «Новый мир» опубликовал роман В. И. Костылева «Козьма Минин». По справедливому замечанию литературоведа С. М. Петрова, в романе Костылева за картинами национально-патриотического подъема русского народа почти растворилось «бедственное положение крепостного крестьянства, классовая борьба на Руси в ту эпоху» [38, 71].
(обратно)137
Таким образом утвердился взгляд на Минина и Пожарского как спасителей Отечества, выдающихся народных вождей.
(обратно)138
Эпоха Смуты, вернее, ее фрагменты – восстание Ивана Болотникова и ликвидация Мининым и Пожарским польской интервенции в 1612 г. – попала в календарные «святцы» наряду с прочими революционными событиями и советскими героями (см.: Историко-революционный календарь: 1939. М., 1939; Историко-революционный календарь: 1940. М., 1940).
(обратно)139
Не исключено, что Шкловскому пришлось подчистить текст повести «Минин и Пожарский» с учетом новых международных реалий, связанных с подписанием советско-германского договора о ненападении. Шкловский вынужден был переработать повесть в направлении выхолащивания «немецкой» линии. В новой редакции немецкий наемник Шмидт был отодвинут на задний план, а внимание сосредоточилось на французском капитане Якове Маржерете. В свою очередь киноэкранный наемник Яков Шав внезапно превратился в повести в англичанина Якова Шоу. Автор вынужден был ослабить «немецкую» линию, но в отличие от фильма не отказался от нее полностью. Мимолетно упоминались дружины немецкой пехоты в войсках польского короля Сигизмунда. Поручик Шмидт остался поручиком Шмидтом, а не Смитом.
(обратно)140
Кстати, осенью 1939 г., в дни польской кампании, был сдан в производство новый роман З. Давыдова «Из Гощи гость», в основу которого были положены основные сюжеты и персонажи «Дикого камня». В новом произведении поляки, за исключением вольнодумца Заблоцкого, были изображены как враги русской государственности. Царевич Дмитрий, уже не столь легитимный, выступал как невольное орудие польских захватчиков. Не было и речи о культурном превосходстве Речи Посполитой над Русью.
(обратно)141
Строго говоря, политическая ситуация вокруг темы Смуты всегда оставалась напряженной. Менялись лишь ее аспекты. Так, когда Польша после войны превратилась из «белопанской» Польши в народно-демократическую, члена социалистического блока, в освещении событий XVII в. появились свои запретные темы. Не приветствовалось, к примеру, чрезмерное внимание к польской интервенции. Сохранялись и свои «внутренние» запреты: так, изначально «непроходимыми» оказывались сюжеты, связанные с изучением действий запорожского казачества в Московском государстве.
(обратно)



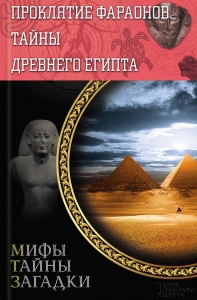
Комментарии к книге «День народного единства: биография праздника», Игорь Львович Андреев
Всего 0 комментариев