Н.Дубровин.
НАШИ МИСТИКИ-СЕКТАНТЫ.
Александр Федорович Лабзин и его журнал «Сионский Вестник».
I.
Отношение философии XVIII века к религии. — Французская революция и ее последствия. — Мистицизм, как противодействие неверию. — Основы и сущность его учения.
Философам и энциклопедистам XVIII века не трудно было разрушить религиозный деспотизм католического духовенства, основанный лишь на внешних формах, отживших свой век и непригодных для тогдашнего общества.
Религия, обратившаяся в одну обрядность, даже в ремесло духовенства, сама собою вела к безверию, материализму и упадку нравственности. Философы воспользовались таким состоянием общества для своих целей, и XVІІІ век в истории европейской цивилизации известен, как век неверия и антирелигиозности, век Вольтера и энциклопедистов, пред которыми преклонялась вся Европа и в том числе Россия, начиная с императрицы Екатерины II. Общество дошло до полнаго отрицания: верить в Бога считалось признаком невежества, а кощунство — образованностью. «Жизнь образованного общества представляла из себя что-то в роде пира Валтасара, где оно прокучивало все свои и материальные, и нравственные силы». Вся философия ХVІІІ века, а под ее влиянием и вся литература стремились только к удовлетворению личного счастья человека, а о любви к ближнему не было и помина. Наслаждайся сам — вот тогдашняя мудрость, споспешествуй собственному наслаждению — вот добродетель. Этот девиз старались приложить ко всем случаям общественной жизни и даже основать на нем воспитание детей того времени. В этом последнем отношении ученики не следовали даже и словам своего учителя. Вольтер говорил им, что «напрасно стали бы мы заботиться о воспитании и развитии толпы при помощи философии, потому что никогда влияние и воздействие мыслей философа не переходило за стены его жилища». К этому Жан-Жак Руссо прибавлял, что «нет такой глупости, нет такого абсурда, которые не имели бы достойного защитника в среде философов» [1].
Последние в своем отрицании зашли слишком далеко: пошатнув здание нравственной религии и даже веру в Бога, они, взамен того, не дали ничего для души и внутренней жизни человека. Напротив, они доказывали, что вера в бытие Божие есть «ядовитейший» предрассудок; что безбожие есть единственное средство, могущее сделать человека свободным и счастливым (см. «Систему Натуры»); что дух и душа ни что иное, как самолюбием вымышленные слова; что, пока еще мы доберемся до души, надобно позаботиться о теле, душу же питать только для того, чтобы доставить больше выгод телу (см. «Рассуждения о счастливой жизни»). По книге «Нравы» сын не обязан ничем отцу, ибо при рождении его отец не имел в намерении ничего, кроме собственного наслаждения, а что делается родителями для детей после их рождения, то не оценивалось и в рассчет не принималось. В книге «Разум» говорилось, что весьма хорошо бы было разорвать между людьми все узы родства и что истинная философия допускает только временное блаженство.
Философия Вольфа, положившая основание предопределенности (determinismus) и неизбежной судьбе (fatalismus) потрясла нравственно-благочестивые побуждения, уничтожила молитву, веру и упование на Бога. Вольтер своими сатирическими остротами и колкими насмешками привел в презрение Библию и христианство. Многие теологи присоединились к нему и, так называемой библейской критикой, возбудили сомнение в божественности Св.Писания. Философы находили, что религия непонятна, не доказательна для разума, и поставили себе правилом не принимать ничего, что не может быть доказано. Вслед за тем явилось учение Канта и Фихте, говоривших, что в каждой человеческой душе находится глаголющее живое слово Божие, т. е. естественная совесть, которую они называют началом или чyвством моральным. Ниспровергая христианство и заменяя его даже не деизмом, а совершенным безбожием, Кант старался доказать, что ни пророки, ни апостолы не были боговдохновенны, и Христа можно допускать только в аллегорическом смысле, т. е. почитать его не более, как идеалом. Взамен церкви христианской Кант вводит церковь чистого разума, в которой никто не верит бытию Божию и в бессмертие души, где нет никаких обязанностей в отношении к Богу, а следовательно, молиться некому и не для чего. По учению Канта, присяга верности к государю есть суеверный обряд, одни добродетели — суть свободные действия человека, а всякий поступок, грехом почитаемый, есть невольное действие [2]. Исходя из такого положения, философы отрицали пользу Библии, находя, что, пока род человеческий был еще в ребячестве, то Библия оказывала ему услуги, но теперь, когда ребенок пришел в совершенный возраст, в Библии нет надобности, и «довольно учить людей одной морали» [3]. Библия потеряла свое значение, и большая часть людей, даже и между теологами, стали во всем сомневаться.
Все это произвело в обществе путаницу, смешение понятий, и результатом учения философов были все ужасы второй половины французской революции. Говорим второй потому, что революционное движение во Франции разделяется на два совершенно противоположные периода: в первом (с 1789—1791 г.), во главе движения стояли люди глубоко религиозные, тогда как во втором (с 1792—1799 гг.) демократия, объявившая себя врагом христианства и вообще религии, задалась целью провести в жизнь принципы атеизма и материализма. В то время, когда первый период революции, не вызывая никаких кровавых столкновений, направлял народ на путь прогресса и усовершенствований, второй вступил на путь беззакония и социальных злодеяний.
В первый двухлетний период революции вожаки движения, вводя в жизнь равенство и братство, стремились к тому, чтобы не было столкновений между общественной реформой и религией. Когда, в октябре 1790 г., один из членов конвента указал на утвержденные последним некоторые меры и назвал их антирелигиозными, то Мирабо энергически протестовал против этого.
— Вам осмелились бросить в лицо тяжелый упрек, сказал он, обращаясь к собранию. — Вас дерзнули назвать вероненавистниками, преследователями религии. — Какая клевета! — Вы, которые, во всех наиболее важных решениях и постановлениях ваших, всегда выказывали и высказываете такое искреннее, такое возвышенное уважение к церкви; вы, которые добровольно и охотно вотировали столь значительные кредиты на содержание клира и храмов Божиих, в видах пристойности и благолепия церковного культа; вы, распорядившиеся поставить повсюду при дорогах, на границах общин и провинций, святую эмблему христианства; вы, наконец, глубоко сознающие, что непоколебимое убеждение в существовании Бога служит необходимой основой свободы и общественного преуспеяния народов, — вы, нечестивцы и гонители веры?! — Какая ужасная, несправедливая клевета! Но пусть же знают те, кто осмеливается чернить это собрание такою незаслуженною клеветой, — пусть знают они, что мы смотрим на Евангелие и на свободу личности, как на два главнейшие, неразрывно один с другим связанные камня того фундамента, на котором одном может быть построена прочная, здоровая и совершенная организация государственного общежития.
Таковы были взгляды на религию в первый период революции.
Ho, спустя два года, материалисты, атеисты, якобинцы, личности в роде Марата, Дантона и Робеспьера и вообще «все темные» элементы французского народа захватили власть в свои руки. Во главе движения стали теперь люди, задушевным желанием которых было — разрушить общественные и семейные начала и подавить в народе стремление ко всему честному и благородному. Первым и необходимейшим успехом для этого было, конечно, уничтожение всех религиозных чувств и верований.
— Граждане, говорил депутат Жак Дюпон, — если вы хотите упрочить здание демократии, то вы должны воздвигнуть новые алтари, новые жертвенники. Природа и разум — вот истинные боги человечества, вот боги, которым поклоняюсь я. Поспешить ввести во всех училищах преподавание этой новой религии.
Проповедь эта была услышана, религиозные предметы были исключены из программ всех школ Франции и против всех, кого можно было заподозрить в верности к религиозным догматам, было воздвигнуто открытое гонение. Народ подпал господству принципов, отвергающих религию, не признающих существование Творца и возможность божественного откровения. Парижский собор Богоматери (Notre Daine de Paris) был посвящен философии, и в нем устроено громадное трехдневное пиршество, в сообществе публичных женщин всего Парижа. Вслед за тем в тот же собор были приведены 200 священнослужителей и, в стенах святого храма, преданы насильственной смерти; трупы несчастных брошены в одну общую яму и без всяких дальнейших церемоний засыпаны землею.
Новый конвент признал необходимым учредить, в столице и провинциях, 178 революционных судилищ, с целью преследования лиц, приверженных аристократическим принципам и религиозным убеждениям. Из числа этих судов 40 были организованы по системе странствующих трибуналов и, в сопровождении палачей, переезжая с места на место, напоминали населению об ужасах террора. Вожаки революции набрасывались на все, что оставалось еще в администрации честного, благородного и достойного уважения. Трибуналы осудили на смерть 63 женщины за то только, что они присутствовали в частном доме при богослужении переодетого священника. Самый суд производился не более 5 минут и тут же, без письменных приговоров, приводился в исполнение. В своем увлечении конвент обнародовал декрет, коим существование Бога признавалось недействительным и, так сказать, отменялось. Толпа, нарядивши жену типографа в своеобразный костюм, внесла ее на плечах в здание национального собрания, провозгласила богиней материализма и новой философии и в ее лице стала поклоняться человеческому разуму.
Все, что носило признак аристократизма, изящества, таланта, — все, что стояло выше бушующей толпы, было предано осуждению, и даже 400 невинных детей, от 6—11 лет, были казнены потому только, что родились от богатых и зажиточных людей. Когда разъяренная чернь не находила уже жертв для своего насилия, она обратилась к Марату с вопросом, кого следует казнить?
— Всякий, — отвечал он, — кто ездит в экипаже, кто надевает на себя шелковую одежду, кто посещает театры и общественные увеселения, — тот достоин смерти и должен погибнуть под ножом гильотины.
Среди потоков крови и насилий, Франция находилась в это время в самом печальном состоянии. «Христианство было отменено декретами правительства и святые храмы частью были разрушены до основания, частью отведены для употребления, не имеющего ничего общего с церковью и религией. Граждане, оставшиеся верными религиозному благочестию, либо поплатились жизнью за свою преданность Всевышнему, либо принуждены были покинуть отечество и в чужих странах укрываться от воздвигнутого против них на родине беспощадного гонения» [4].
Междоусобная война была в полном разгаре, и беспорядки, со всеми ужасами безвластия, достигли крайних пределов. Сами виновники террора стали считать свое положение небезопасным и поняли, что идти далее по этому пути невозможно; что возбужденная толпа легко могла обратить свое раздражение и ярость против мнимых благодетелей народа, оказавшихся на самом деле обманщиками. Необходимо было вернуть Францию на путь гражданственности и снова приучить ее к повиновению закону и общественным властям. To и другое могло быть достигнуто лишь нравственным и духовным перевоспитанием народа. И вот Робеспьер, так много отличившийся в преследовании христианства, отправивший на эшафот тысячи жертв за веру в Бога, в своей речи 7-го мая 1794 г. открыл гонение против эрбенистов и последователей Дантона, обвиняя их в атеизме.
— Вы фанатики неверия, — говорил Робеспьер в заседании конвента, — преследуете суеверие и предрассудки. Но пусть же веруют народы, что атеизм представляет собою систему пригодную только для аристократии. Убеждение в реальности бытия Высшего Существа, руководящего судьбами человечества и покровительствующего слабым, есть убеждение народное, демократическое, и толпа должна постоянно придерживаться его, так как только в нем одном она может почерпнуть силу для поддержания и развития в себе гражданских доблестей и любви к отечеству. Пускай аристократы и тираны будут атеистами. Но мы не должны быть ими. И кто возложил на эрбенистов заботу об умерщвлении в народе идеи о существовании Бога, — этой идеи, вполне согласной с основами философской истины? Разве убеждение в том, что человек после смерти уничтожается, исчезает бесследно, — разве убеждение это более способно внушить гражданину любовь к родине и уважение к правам его сограждан, чем может сделать это философски доказанная истина о бессмертии души? Нет, безумцы те, что хотят изгнать из здания общественной системы понятие о божестве, потому что с этим понятием неразрывно связана нравственность народов.
Речь Робеспьера была покрыта шумными рукоплесканиями, и 11-го мая 1794 г. последовал декрет, в котором было сказано, что французы «принимают и признают бытие Высшего Существа и бессмертие души». Дантон и многие эрбенисты были осуждены на смерть за то, что позорили революцию своим образом мыслей и покушались основать демократию на развалинах атеизма и мyсоре философской лжи. Вслед за тем во всей Франции были открыты публичные курсы для преподавания спиритуалистической философии и научно-метафизических теорий о божестве и душе человека.
Но храмы не были открыты, клир не был восстановлен, и народ ничего не понял из прочитанных ему лекций, не мог уяснить себе, какая разница существует между религией и философским деизмом. «Народ потешался над своими ораторами, подымал на смех своих проповеднвков и свистал учителям метафизических теорий». Этим воспользовались противники Робеспьера и 8-го июля 1794 года он и 72 человека его единомышленников сложили свои головы под ножом гильотины.
Главари революции погибли, и народ ясно увидел печальные результаты атеистического безумия. Национальное собрание, издавая эаконы об отмене религиозных гонений и провозглашая полную свободу совести и исповеданий, все же продолжало тайную борьбу с христианством, стараясь о замене его свободной доктриной социальной нравственности. Евангельские истины предполагалось заменить предписаниями демократических заповедей, и с этой целью составить учебники или катехизисы научной морали. Авторы таких учебников должны были проповедовать народу нравственность, независимо от каких бы то ни было религиозных идей, и отрешиться от всяких доктрин, признающих существование духовных и сверхъестественных сил. Представленные учебники противоречили друг другу, не удовлетворяли своему назначению и не заслуживали внимания как руководство для преподавания морали в общественных школах. Приходилось повернуть на иной путь и указать на настоящую причину бедствий народа.
— Философы-законодатели! — говорил Мерсье в заседании Совета Пятисот; — вы, господа, с презрением отзывающиеся обо всем касающемся божества; вы, расшатавшие народную религиозность и убившие в гражданах веру, без которой никакие хорошие начала не могут нравиться обществу, — вы, господа, — и только вы действительные виновники всех социальных невзгод и преступлений, свидетелями коих мы должны быть в настоящее время. Вы разрушили все коренные опоры общественной нравственности и низвели человека до степени животного, послушного только голосу своих инстинктов. О, нечестивая философия неверия! Ты иссушила все человеческие чувства в сердцах наших палачей, ты внушила им убеждение, что будто бы в мире не существует ни Бога, ни другой, какой бы то ни было, духовной силы. Но разве люди, проникнутые подобным учением, в состоянии уважать свой долг по отношению к родине и человечеству [5].
Смелая речь эта значительно пошатнула доверие общества к атеизму и заставила правительство принять энергические меры к восстановлению здравых начал народной нравственности. Мало по малу, в обществе и правительстве, стало появляться сознание, что все бедствия происходят от насильственного подавления в народе религиозного чувства. Это сознание явилось и y таких лиц, как Ривароль, который прежде утверждал, что положительная религия вовсе не составляет необходимого условия для сознания народом своих нравственных обязанностей. Теперь, наученный опытом, Ривароль принужден был отказаться от своих убеждений.
«Величайшее преступление совершает тот, — писал он [6], — кто внушает толпе сомнение в истинности ее религиозных убеждений. Народ без веры, это — народ без страха и без надежды. Самая несовершенная религия более соответствует природе человека, чем какая бы то ни была философская система, потому что философия обращается только к рассудку личности, между тем как вера, воздействуя непосредственно на врожденное сердцу каждого религиозное чувство, ведет толпу к возвышенным понятиям и идеям, недоступным низкому, сравнительно, уровню ее умственного развития. Религия внушает народу благочестие, неразрывно связанное с его нравственностью, тогда как философия не может оказывать хотя сколько-нибудь заметного влияния на убеждения толпы. Всякая общественная власть должна смотреть на себя, как на судно, которое только тогда может считать себя в безопасности, когда ему удастся закинуть свой якорь на небеса. Гражданская доблесть и смелость состоит, в настоящее время, не в том, чтобы бороться против религии и церкви. Напротив, нам нужна смелость и доблесть для того, чтобы сознать и провозгласить ту истину, что именно ослаблению в народе религиозного чувства и искусственному возбуждению в нем животных страстей и аппетитов, — что именно этому Франция обязана раздирающим ее ныне террором. Лицемерные законодатели! Своими насмешками над общественной моралью и презрительным отношением к религии, вы нанесли человечеству глубокие неизлечимые раны. Счастье ваше, Дидеро, Гельвециус и ла-Метри счастье ваше, что судьба благосклонно позволила вам вовремя сойти с арены жизни, потому что, иначе, вам неминуемо довелось бы испытать на самих себе ненависть толпы, когда-то рукоплескавшей вам в ответ на ваши фантастические уверения и обещания, и вы погибли бы плачевной смертью от рук палачей, которых вы сами подготовляли к деятельности заплечных мастеров своими материалистическими учениями».
Горький и притом кровавый опыт заставил наконец Францию сознать всю необходимость религии [7].
— Священные понятия религии, — говорил с кафедры Порталис [8], — столь же необходимы для умственного мира, как идея творения для мира физического. Мораль, без церковного учения, есть тело без души и правосудие без судилищ. Народ уважает более то, что велят ему именем Бога, нежели то, что доказывают ему именем рассудка. Суеверие и фанатизм бывают следствием невежества; но религия есть плод ума и просвещения. Полуфилософия рождает безбожников, совершенная философия ведет к благочестию.
Христианская идея стала снова распространяться среди населения; в школах введено обязательное преподавание Закона Божия, и мало по малу восстановлялось публичное богослужение. Духовные училища были открыты, и духовенство получило право на свое существование.
Потрясения, вызванные французской революцией, в большей или меньшей степени отразились во всех государствах Европы. Общество очнулось и пришло к убеждению, что только религия просвещает и созидает прекраснейшее здание внутри человека, а напротив, безверие разрушает все.
— Какая жалкая тварь человек, не воспособляющийся небесными средствами, — говорил Монтань в той же Франции.
Мир узок для людей живущих без религии, понятия их ограничены, цели ничтожны, и жизнь незавидна. Человек без религии — «жалкое творение, имеет одни низкие только чувства, низкие желания, и все стремление его ограничено только землею, на которой он пресмыкается» [9]. В сердце каждого человека живет чувство и сознание божества, и религия служит надежною опорою для слабых сил в борьбе со злом. «Где дух Господень, там свобода», там порядок, там уважение ко всему честному и благородному, там исполнение долга и нравственных обязанностей. Народ, состоящий из одних атеистов и материалистов, не верующий в свободную жизнь духа, ни в загробное существование души, живет лишь одною животною жизнью и не в состоянии прогрессировать и цивилизоваться. «Христианство, — писал Ламартин, — впервые провозгласило на земле принципы свободы, братства и равенства». Философия же XVIII века, отвергая религиозные догматы, не изобрела ни одного слова более истинного, более совершенного и более святого, чем учение Христа. От того ни социальные смуты, ни антирелигиозное движение не в состоянии были вырвать с корнем из сердца человека врожденное ему стремление к божеству, не могли убить в нем потребность и спо-собность допытываться причины мироздания [10]. Тяжело состояние человека, который томится внутреннею жаждою божественной истины и не находит ее. «Жалкая работа сочинять себе веру», — говорит И.В.Киреевский [11].
Люди, с огорчением смотревшие на распущенность нравов и на упадок церкви, не могли оставаться на перекрестке двух путей — веры и безверия. Они не могли примириться с холодным материалистическим отрицанием религии, не питали сочувствия и к церкви римско-католической, профанируемой на Западе самим духовенством, осмеянной философами ХVІІІ века и совершенно упавшей в общественном мнении; они видели в ней смешение предания истинного с неистинным, божественного с человеческим; они с недоверием относились к ограниченности и сухости протестантства, отвергающего предание и дающего слишком мало питательного для сердца.
«Веришь ли ты бытию самого (ангела) хранителя? — спрашивал M.М.Сперанский свою дочь [12]. — Есть нечто столь привлекательное, — продолжает он, — столь идеальное в сей мысли иметь всегда с собою домашнего друга, что если бы она и не была справедлива, то для утешения принять ее должно... Как груба, как мертва религия без них. Посуди из сего, как жалки лютеране и все то, что называют реформой. Религия душ холодых, чувств материальных, между тем как они хвалятся чистотою. Еще бы лучше было все привести в математические исчисления и линии».
Одного отрицания оказалось недостаточно для полноты человеческой жизни; утомленная пустотою материализма, душа требовала пищи, искала нравственного удовлетворения, покоя и нашла его в мистицизме.
Мистика происходит от слова mysterium, т. е. таинство. Отсюда мистицизм есть религиозно-философское учение, состоящее в непосредственном созерцании или внутреннем чувстве, стремящемся к общению с Богом, созидающем в сердце человека храм свой, в котором живет дух его. Мистицизм проповедывал религию чувства, непосредственное соединение с божеством и совершенно отрицал участие в том разума. Учение это существовало давно и будет существовать всегда, как протест против материализма и преобладания внешних форм религиозности над внутренними порывами и стремлениями духа к общению с Богом. Он привлекает к себе той простотой и легкостью, с какой, по убеждению его последователей, всякий человек может приобрести душевный покой в самом тесном единении со Христом. Отличительная черта мистических сочинений есть вера в озарение свыше, с помощью которого мистик может проникать в загробный мир и созерцать тайны природы [13]. Увлекая читателя в таинственный мир и порывая связи с действительной жизнью, мистические сочинения естественно вызывали в нем сильнейшую внутреннюю борьбу и преобразовывали все духовное существо человека.
История христианской церкви свидетельствует, что в ней с самого начала христианства находились люди, которые, не довольствуясь познаниями о Боге и путем спасения, указанным Христом, старались проникнуть в сокровенные тайны божества и стремились к единению и сообщению с Богом. Такие сектанты во II и III веках назывались гностиками, т. е. обладающими истинным ведением, а с X века они стали называться мистиками, т. е. таинственниками, обращающимися к области сокровенного и постигающими тайны [14]. Первые следы мистицизма видны в Александрии и вообще в Египте. Ориген и его школа любили таинственное изъяснение Св.Писания. Писатель IV века Макарий Египетский упоминает о различных степенях духовного созерцания и описал созерцательное состояние. Гностики внесли в христианское учение многое из греческой философии, преимущественно Пифагора и Платона, а также из философии персидской и халдейской. В средние века мистицизм особенно развился в Германии, как противодействие сухой и безжизненной схоластики, стремившейся превратить религию в научную систему.
Мистическое направление продолжалось через все средние века, имело в числе своих представителей весьма много достойных людей и привлекало к себе множество лиц разных состояний, не находивших удовлетворения в сухих формах католической догматики и обрядности. Первым классическим представителем средневековой мистики был Бернард Клервосский, но наиболее высокое и притом методическое развитие христианская мистика получила со времени Эккарта и Таулера в XIV веке. Унижая и устраняя рассудочныя силлогистические формы знания, они обратились к живому чувству веры, как единственному способу постижения божественной истины. Практическим выражением и применением идей этой мистики была книжка, приписываемая Фоме Кемпийскому (1380—1471): «О подражании Христу», явившаяся в первый раз в 1494 году и имевшая на языках всех образованных народов столько изданий, сколько ни одна книга в мире. Наконец последним представителем германской мистики средних веков, уже в период возрождения наук, был Яков Бэм (1575—1614 г.) [15].
Последователи этих учителей мистицизма делились на разные группы и были известны под наименованием: братьев и сестер свободного духа, братьев розового креста, тамплиеров или храмовников и проч.
В ХV веке из среды мистиков выделились иллюминаты — озаренные, или мужи разумения, учившие, что без озарения свыше никто не может совершенно уразуметь Св.Писание и что можно достигнуть откровения гораздо более совершенного, чем слово Божие Ветхого и Нового Завета. Но в наибольшей силе мистицизм проявился в последние два столетия, когда масоны (каменщики), франк-масоны (свободные каменщики), карбонары (угольщики) стали проповедывать свободу религии и открывали свои масонские ложи. В это время появилось множество мистических писателей, из которых наиболее замечательны: Франциск Ла-Комб, ученица его Мария де ла-Мот-Гион, знаменитый ее друг и защитник — епископ Франциск Солиньяк-Фенелон и англичанка Анна Лида, известная своими предсказаниями и основательница филадельфийского общества [16].
Трудно, да нет и надобности перечислять все мистические сочинения, книги и брошюры, появившиеся в течение XVIII и первой четверти XIX века, тем более, что большинство наших мистиков не усвоило себе ясных понятий об этом учении в чистом его значении. Переводчики и издатели наши были часто настолько незнающи, что сочинения западных мистиков являлись в неточных переводах и неточных толкованиях [17]. Издатели сами не имели определенных сведений о предмете, их интересовавшем, и постоянно смешивали мистику с теософией, пиетизмом, алхимией, каббалистикой и другими предметами. Кроме печатных изданий, мистики оставили потомству множество рукописей, свидетельствующих, как мало понимали предмет сами писавшие, как запутаны были мысли и стремления доказать то, что, в сущности, не подчиняется доказательствам и чувствуется только сердцем. Вот почему писавшие о мистицизме стремились к одной и той же цели, но пути, ими избранные, и способы толкований были настолько разнообразны, что нужно было много времени, чтобы понять и усвоить истины, ими проповедываемые. «Вся наша духовность, писал M.М.Сперанский [18], сводилась к теософии: к ней же относятся творения Бема, С.Мартена, Сведенборга и т. п. Это лишь азбука. Десять лет провел я в изучении, и когда я думал, что овладел всем, я трудился лишь над начатками. Это было преддверие царства Божия». Сколько же времени нужно было употребить на то, чтобы перечитать всех мистических писателей, усвоить их учение и стать истинным мистиком?.. Отвечать на этот вопрос крайне трудно и, чтобы убедиться в этой трудности, достаточно познакомиться с подробным обзором мистической литературы, сделанным А.Д.Галаховым [19]. Из этого обзора ясно видно, что большинство наших мистиков, читая самые разнообразные сочинения, не понимало их сущности и довольствовалось только внешней стороной учения, которое сводится к следующим общим положениям:
1) Сущность души человеческой происходит через истечение из самой сущности божества.
2) Душа, по отделении от сущности божественной, обложилась густым мраком, который связал ее силы и сомкнул внутри ее небесный свет.
3) Этот свет, заключенный в душе, есть внутреннее слово, Дух Божий, Христос в нас.
4) Троинственным путем: очищения, просвещения и едиhения душа опять, даже в настоящей жизни, может достигнуть прежнего обожения или внутреннего, совершенного слияния с божественною сущностью.
5) Как внутренний свет врожден всем и просвещает каждого человека, то и путь к соединению с Богом, по природе, всем открыт и известен, так что без внешнего познания о Христе можно каждому спастись во всякой религии — языческой, иудейской, магометанской и проч.
6) Посему Св.Писание, воплощенный — Искупитель, церковь Христова и внешние обряды в религии полезны, но не нужны ко спасению человека, когда каждый может внутренним светом просвещаться и внутренним словом научаться к единению с Богом.
Переходя от этих общих положений к частностям, мистики говорят, что недостаточно исповедовать Христа устами, но надобно иметь его в сердце; чтобы быть вполне религиозным, надо воспитать в себе внутреннего человека независимого от телесного, ибо дух и плоть — это свет и тьма, золото и грязь, жизнь и смерть.
Один из наиболее выдающихся наших государственных деятелей, блестящий питомец С.-Петербургской духовной академии, получивший богословское образование и отдавший дань идеям первой половины XIX века, граф M.М.Сперанский, под именем истинного христианина понимал человека, который, пройдя путь очищения и обновления, ищет соединиться с Христом и восприять его в себя так, чтоб Он в нем жил, действовал, располагал и управлял его мыслями, движением, волею, — словом, чтоб Христос был в нем и он во Христе.
«Вы признаетесь, — писал Сперанский епископу калужскому Феофилакту [20], что внутренний сей путь весьма различен от внешнего, коему большая часть христиан ныне следуют. Я называю внешним путем сию нравственную религию, в которую стеснили мирские богословы учение божественное; я называю внешним путем сие обезображенное христианство, покрытое всеми цветами чувственного мира, соглашенное с политикой человеческих обществ, ласкающее плоти и страстям, или по крайней мере их не умерщвляющее; христианство слабое, уклончивое, самоугодливое, точно такое, каковы были люди, его образовавшие; христианство, которое одно почти теперь мы видим на земле, которое от языческого нравственного учения различно только словами, которое места трудные Св. Писания изъясняет тропами и фигурами и истинный их разум насилует тщательным разумом суемудрия. В сем христианстве самые обряды потеряли их истинный смысл и превратились в мертвую букву.
«Вы признаетесь, что переход от сего внешнего пути к внутреннему не близок, и на сем-то переходе должность пастырей есть поддержать, наставить, просветить и укрепить христиан благомыслящих».
Эти христиане признавали, что одним внешним исповеданием, одним внешним богослужением, внешней молитвою невозможно угодить Богу, так как ни отец, ни царь не будут довольны одними уверениями о покорности своих детей и подданных, если покорность эта не будет подтверждена делом. Христианство, говорят мистики, состоит не в частных добродетелях, а и того менее в наружном виде какой-нибудь одной добродетели, а состоит в общении, соединении, дружестве или связи внутренности нашей, нашего сердца с Господом нашим Иисусом Христом [21].
Отрицая внешнюю обрядность, мистики считали установленные и совершаемые церковью таинства действиями мало значащими и ненужными. Причащаться можно всякою пищею, говорили они, но необходимо только принимать ее с мыслью, что в ней присутствует духовная телесность Христа. Таинство крещения было, в глазах мистиков, лишь обрядовым символом внутреннего крещения духом, а под покаянием они разумели простой процесс самоиспытания совести, сопровождаемый переменой жизни, после чего все грехи уничтожаются всеочищающей любовью Божией.
Эта вера в благость Творца, снисходительность Его к проступкам и протест против догматических и обрядовых требований внешней церкви увлекал в мистицизм людей самых противоположных религиозных убеждений. Указывая на пути к спасению, «на которых не было необходимости утруждать себя разными подвигами, добродетелями и обрядом, а достаточно было лишь предаваться спасительным размышлениям, в роде размышления о бесконечной любви Спасителя к грешному миру,— мистицизм оказывал особенно большую услугу тому роду людей, которые, с одной стороны, страшатся трудного религиозного подвига, а с другой боятся вечного наказания за грехи и желали бы насколько возможно дешевле застраховать себя от вечных мучений. Предаваясь, по совету мистиков, разным благочестивым размышлениям, эти люди не оставляли и обычных светских удовольствий, служили в одно и то же время двум господам и думали, что одинаково угождают обоим» [22].
По мнению мистиков, религия должна стоять выше всех условных правил церкви. Молясь, говорят они [23], наружно о соединении всех, церковь «внутренне ищет покорения себе всех, себя величает, себя над всеми превозносит, осуждая всех прочих своих соперников. Собственно вера Христова не знает никаких разделений верующих от неверующих, ветхого человека от нового».
Мистики считали возможным утвердить всю жизнь человека на внутреннем, а не наружном взаимоотношении между Богом и человеком. Отсюда проявление в мистицизме религии независимой от внешней церкви, той религии, которую церковь, искаженная обрядностями, не могла сохранить во всей ее чистоте.
Истинный мистицизм, — говорят его последователи, — есть сущность христианства, которое отвергает всякий фанатизм и признает только созерцательное состояние внутреннего человека.
«Сомнение и религия внешняя суть два пути к благочестию, говорит M.М.Сперанский [24]. Имев счастье пройти эти пути, находишься или, точнее, считаешь себя внутри храма, сознаешь, что есть религия внутренняя, богопочитание более чистое, и радуешься этому открытию. Рассматривая с некоторою строгостью сумму сведений, которыми обладаешь в этом состоянии, находишь, что все сводятся к одной истине, а именно к той, что Иисус Христос в нас.
«Сообразно с этими степенями духовного совершенства, различаются три вида молитвы: молитва словесная, когда мы своими мыслями следим за чужими словами; умная — когда мы мысленно следии за собственными своими словами; чисто созерцательная — без слов. Такова молитва «Господи, помилуй!», которую называют молитвой духа, молитвой без образа, молитвой мистической [25].
«Молитва самая совершенная, писал Сперанский дочери [26], есть самая простейшая, а именно, чтоб сомкнув глазами, или утвердив их на одном предмете, многократно повторять в уме: «Господи, помилуй!» Но в состоянии созерцания и эта молитва прекращается. Огонь, раз возженный, горит сам собою и никому не известно, чем он питается. В этом и состоит тайна. Находишь вновь «Господи, помилуй!» в мыслях своих лишь в ту минуту, когда придешь в себя [27]. Сие состояние восточные отцы называют безмолвием, а западные — susреnsion des facultés de l'amе [28]. И вот почему молитва сия именуется духовною. Она-то и есть молитва в духе и истине, а не то, что некоторые, впрочем, благочестивые люди под сим разумеют. Кратко: она состоит в отсутствии всего того, что называют каким-либо понятием, всего того, что есть дух Христов, ибо дух ни понятий, ни слов не имеет.
«Невидимые следы сей молитвы сокрыты во всех почти религиях, исключая тех, коих дух мира сего совершенно исказил и обезобразил: ею молятся в Индии и здесь в Саровской пустыне, ибо о Христе Иисусе несть ни иудей, ни еллин, но все нова тварь» [29].
Но, ни вера, ни добрые дела еще не верх совершенства для мистика, если они не проникнуты идеей самозабвения и соединения с Богом всем сердцем и всею душою [30].
«Каким образом, спрашивал M.М.Сперанский преосвященного Феофилакта [31], можно любить Бога для себя, когда Он один именно и составляет то, что мы в самих себе любить можем, и что такое мы, чтобы ставить себя средоточием того самого начала, из коего мы происходим, коим движемся и есмы. Это все равно как бы хотеть обращать солнце вокруг угля, горящего в камине.
«Итак не унижайте понятия божественной любви, подчиняя ее мелкому самолюбию. He называйте даже любовью к Богу сию любовь своекорыстную, относящую все к личным нашим пользам. Любовь сия есть или смешение и игра слов, или идолопоклонство.
«Она есть идолопоклонство, если мы будем любить Бога, как средство к счастью, а не конец Его. Тогда под именем Бога мы будем обожать наши собственные мысли и желания, будем любить самих себя, будем прилагать образ Его к тварям, а сие-то и есть сущее идолопоклонство.
«Из сего уже удобно заключить вы можете, в каком состоянии находится ныне внешняя церковь и чем различна от внутренней.
«Из сего тоже познать можно, для чего во внутренней церкви, во всех учениях истинных мистиков, первым и единым существенным догматом полагается самоотвержение и любовь чистая: два слова, почти одно и то же означающие.
«Из сего также открывается, почему учение сие всегда казалось столь странным для мира и называлось таинственным. Оно странно потому, что ниспровергает все почти принятые понятия, ниспровергает разум физический и ставит на месте его совсем другой разум духовный. Оно таинственно потому, что уразуметь его иначе невозможно, как опытом и внутренней, сокрытой от всех внешних глаз, работой. В нем дело идет не менее, как о преобращении всех почти наших понятий, о преложении ветхого человека в нового, о ниспровержении царства идолов и восстановления царства Божия. Царство же Божие, по слову Христову, в нас есть и нигде более искать его не должно. Оно откроется, как скоро падет в нас царство лжи и мрака».
Это царство лжи и мрака, по мнению современников, находилось в учении философов в энциклопедистов. Испуганные их идеями, мистики бросились в противоположную сторону и впали в крайность. Они отвергли разум, знание, ученость и вступили на путь отвлеченных идей и экзальтированного блаженства.
«Когда естественный человек, говорили они [32], следующий водительству одного разума, утопает в недоумениях, тогда духовно-просвещенный, утвердя якорь свой в невидимом и вечном, возносится над всем земным и преходящим, плавает в пространствах бесконечных, зрит под ногами своими мнения и заблуждения человеческие и с соболезнованием смотрит на тщетные усилия чувственного человека, ищущего непрестанно спокойствия и блаженства в том, что ни отрады, ни покоя душе дать не может. Невозможно разуму быть просветителем человечества: просветитель оного должен непременно быть в тесной связи с вечным и незаходимым светом, — Богом, и от него почерпать озарения свои».
По мнению мистиков, науки испортили человека и удалили его от первобытной блаженной простоты. Ученому трудно отречься от усвоенных им идей и детски предаться «водительству Св.Духа». Господь же сказал: аще не будете яко дети, не внидете в царствие небесное. Дети охотно принимают всякое наставление; ученые не любят советов и отвергают все, что несогласно с их доводами и доказательствами. «Перед Бога же нам должно явиться, говорят мистики [33], чистою чертежною доскою, на которой бы Дух Святой мог начертать все, что хощет. Потому-то Господь и не избрал никого из ученых в апостолы свои, ибо они примешали бы к учению Духа свои понятия из разума и через то исказили бы оное».
Тогда зачем же дан человеку разум?
— Для двоякой цели, отвечают мистики: для служения человеку в потребностях здешней жизни и для указания пути к высшему свету. Первую должность он исполняет весьма исправно: с искусством подбирает все, что льстит чувствам, и этого дела он мастер. Но назначение человека не ограничивается одной временностью, разум же далее пределов чувственности ни пяди ступить не может. Разум может руководствовать человека и в нравственном его ходе и, когда бывает свободным от страстей, то руководствует его довольно порядочно, особенно в ребячестве и в молодых летах. Он начинает воспитание человека, но довершить его не может; круг действия его ограничен временностью, а назначение человека выше. Разум может довести человека до дверей святилища, но ввести его в оное не может, ибо сам не разумеет яже суть Духа Божия. Он не имеет чудодейственной силы веры, коей Христос научал; не имеет того духа, который испытует и глубины Божества. Служение разума, подобно служению левитскому, которое очищало людей с внешней стороны, но внутреннего освещения дать не могло [34].
Истинный мистик не допускает познания Бога путем раcсуждения и деятельности ума, но признает, что только сердце может ощущать присутствие Божие, и потому «престол души» находится в сердце. Душа есть причина нашей жизни и находится в сердце — источнике любви. Самая высшая любовь есть самый высший разум и обратно самый высший разум есть самая высшая любовь, но разум перед сердцем — ничтожество.
«Мистицизм, говорит митрополит Евгений [35], есть высшее христианское учение, но хилое, без основы практического христианства и опасное для фанатиков».
Отвлеченные идеи вообще недоступны большинству и объясняются каждым по-своему, смотря по способности мышления, философской подготовке и по особенностям внутреннего настроения душевных сил. Научить другого молиться так, как я молюсь, невозможно, потому что теплота и сила молитвы зависит от большей или меньшей способности возвышаться над уровнем житейской суеты и уходить в мир идеальных стремлений. Отвлеченные идеи трудно поддаются толкованию, еще труднее усвоению, и решение их может быть лишь внутреннее, единоличное, не передаваемое и понятное только самому решающему.
Что такое Царствие Божие и в чем состоит оно? спрашивал M.М.Сперанский своего друга Цейера и отвечал: «никто не может ни описать вам его, ни дать о нем понятия. Его чувствуешь, но оно несообщимо. Это такое состояние, при котором начинает развиваться внутренняя благодать и составляет то, что называется мистическим богословием.
«Это не книжное учение, говорит он в другом письме [36]. Наставник в нем сам Бог, и Он сообщает свое учение душе непосредственно, без слов и способом, который невозможно объяснить словами».
Трудность передачи собственного понимания другому и была причиною того, что в мистических сочинениях встречается крайнее разнообразие толкований, объяснений и доказательств одних и тех же истин. Читателей мистических книг было очень много, но понимающих их вполне — очень мало.
Каждый усваивал великие истины по-своему и можно безошибочно сказать, что разнообразных толкований было столько, сколько было последователей мистицизма.
«Хотя я, говорит современник [37], весьма мало понимал в «Приключениях после смерти» и в «Тоске по отчизне» (Юнга Штиллинга), но это-то самое и подстрекало меня. Мне хотелось добиться смысла аллегорий, которыми наполнено второе сочинение, отыскать ключ к таинственному содержанию первого. Третья книга оказалась доступнее моему уму-разуму. Это было одно из творений г-жи Гион, розданное в награду лучшим гимназистам на экзамене, «Легчайший способ молиться». «Божественная философия» дю-Туа, данная мне Петровым (студентом богословского курса Рязанской семинарии) была истинным сокровищем. Мистический пафос автора поразил меня. Я погрузился в ее чтение, тщетно стараясь понять смысл ее содержания так же легко и удобно, как понимал гимназические уроки. Особенно искушал мою пытливость «звездный дух», часто упоминаемый в книге. Сколько раз ни перечитывал я страницы, где встречается это выражение, сколько ни ломал головы над его уразумением, ничего не помогало. Я обращался за помощью к Петрову... Увы, и он сознался в своей несостоятельности на этом пункте: звездный дух так и остался для меня загадкой сфинкса».
Большинство увлекавшихся мистицизмом не понимало тех идей, которые развивались мистиками, и довольствовалось одною поверхностью, которая привлекала своей кажущейся простотой, снисходительностью ко всем верованиям и предоставлением полной свободы отдаваться течению внутренних чувств и увлечений.
Увлечения и заблуждения в таких случаях весьма возможны, и люди часто стремятся к цели окольным путем, не видя прямого и кратчайшего. В христианскую жизнь, говорит Василий Великий, вводят нас, конечно, Священные Писания, «но пока по возрасту, не можем изучить глубину смысла их, мы и в других писаниях, не вовсе от них далеких, упражняем на время духовное око, как в некоторых тенях и зерцалах... Посвятив себя предварительному изучению сих внешних писателей, потом уже начнем слушать священные и таинственные уроки и, как бы привыкнув смотреть на солнце в воде, обратим, наконец, взоры к самому свету» [38]. Другими словами, люди часто и долго довольствуются таинственным полумраком и, приучивши мало-по-малу свое зрение к свету, обращают его потом к лучезарному учению Христа, всех примиряющему и успокаивающему. Не то ли же самое было во Франции во время революции?...
II.
Краткая характеристика общества в религиозно-нравственном отношении. — Наплыв эмигрантов и влияние их на русские нравы и обычаи — Французомания. — Меры правительства против иностранных учителей и гувернеров — Религиозная пропаганда против православия и ее последствия.
Верующие и неверующие французы, — все те, которые во время революции желали избавить свою голову от гильотины, искали спасения вне пределов отечества. В первый период революции бежали неверующие, люди пропитанные учением философов и энциклопедистов, разносившие повсюду безверие и сомнительную нравственность. Во второй период покинула Францию вся знать: графы, маркизы и виконты, с их тонкими аристократическими манерами и изящным вкусом. Самые громкие французские фамилии: принцесса де-Тарент, герцоги: Грамон, Ришелье, Полиньяк, Брольё, графы: Блакас, Дама, Шуазель-Гуфье, Сен-При и многие другие появились в России.
Ближайшая соседка Франции — Германия не только недоброжелательно смотрела на чуждых ей выходцев, но, напуганная учением Канта, заставила многих и своих профессоров закрыть кафедры философии в удалиться в Россию [39]. — В числе таких выходцев были: Фесслер, приглашенный в С.-Петербургскую духовную академию для преподавания еврейского языка и древностей греческой, римской и российской церквей; Буле — в Московский университет; Паррот — в Дерптский, Якоб — в Харьковский и другие. Харьковскому университету в особенности посчастливилось в этом отношении, и в самом начале его существования многие из профессоров были иностранцы, преимущественно выходцы: Шад был бежавший бенедектинский монах католического монастыря, в монашестве патер Роман; профессор Дюгур, переделавший свою фамилию в Дюгурова, был француз, бежавший из Парижа [40]. — Между нимй попадались люди сомнительных знаний и нравственности. «Отовсюду пишут, говорит преосвященный Евгений [41], что профессоры спились с кругу и от большого жалованья не хотят думать об успехах. Даже и на Московский университет в этом же жалуются».
Подобные лица были удалены впоследствии, но в начале столетия приняты как желанные гости и подходящие наставники для возрастающего поколения. Нуждаясь в профессорах и не имея своих, русское правительство принуждено было искать их в иностранных государствах. Люди вполне образованные, ученые и нравственные редко соглашались оставить свое отечество, и потому только люди посредственные и часто порочные являлись в Россию, чтобы предложить за деньги свою мнимую ученость. Но воспитание, писал неизвестный нам современник [42], есть «основание частного и государственного благоденствия, а y нас не будет совершенного морального образования, пока не будет русских хороших учителей, которые единственно могут вселять в юное сердце чувства и правила доброго россиянина. Никогда иностранец не поймет нашего естественного или народного характера и следственно не может сообразоваться с ним в воспитании; никогда он с чувством не скажет слова о России, об ее героях, народной чести и не воспалит в ученике искры патриотизма. Иностранцы весьма редко отдают нам справедливость. Мы их ласкаем, награждаем, а они, выехав за курляндский шлагбаум, смеются над нами или бранят нас, выдумывают соблазнительные анекдоты и печатают нелепости о русских».
Изыскивая средства, как бы заменить иностранных учителей русскими, современник предлагал воспитывать для этой цели мещанских детей при кадетском корпусе, а до тех пор, говорил он, «не будет надежды когда-нибудь обойтись без иностранцев». Предложение это, более чем справедливое, могло дать плод только в будущем, а в то время, когда оно высказывалось, Россия покрывалась «пеною», которую выбрасывали в нее «политические бури соседних стран».
«Перебежчики эти, писал граф Иосиф де-Местр [43], приносят сюда (в Россию) одну наглость и пороки. Не имея ни любви, ни уважения к стране, без связей домашних, гражданских или религиозных, они смеются над теми непрозорливыми русскими, которые поручают им все, что есть дорогого y них на свете, т. е. своих детей».
Но Россия, по едкому замечанию мисс Вильмот, была еще тогда настолько неразвита, что отличалась добродетелью гостеприимства и сделалась убежищем всех, кто не находил себе приюта на Западе. Вместе с знаменитостями политическими и литературными, явились парикмахеры, модистки, преступники, побывавшие на галерах, беглые солдаты, лакеи и проч.
«После чумы, говорит Бантыш-Каменский, вспоминая то время, на Москву напала другая зараза — французолюбие; много французов и француженок наехали с разных сторон, и нет сомнения, что в числе их были люди очень вредные», находившие для своей пропаганды давно уже подготовленную почву. Французские эмигранты с удивлением нашли y нас людей, которые лучше их самих знали дела их родины, изучали Руссо и речи Мирабо.
Вместе с французским языком и литературою проникли в Россию и современные идеи философов и энциклопедистов и нашли себе, более чем где-либо, поклонников-фанатиков и самых ярых последователей.
Французская философия давала излишнее доверие к человеческим силам и убеждение, что человек сам по себе может достигнуть счастья и быть устроителем собственной судьбы, если обладает только разумом. — Проповедник этих идей — Вольтер, пользовался у нас большим уважением и популярностью и, к сожалению, преимущественно среди тех, которые знали о нем по наслышке и не были достаточно знакомы с его произведениями. Издали все кажется привлекательнее и интереснее; с приближением или знакомством многое изменяется. Граф Шувалов прожил в Фернее y Вольтера более двух недель и после того много убыло y него уважения к французскому философу [44]. Тем не менее, большинство русских преклонялось перед Вольтером, и библиотеки образованнейших русских людей того времени, занимавших важные государственные должности, были переполнены книгами французских писателей ХVІІІ века.
Император Павел старался изгнать французов из России, усилил цензуру и в апреле 1800 года запретил ввоз иностранных книг и даже нот. Тогда же было воспрещено отправлять за границу молодых людей для воспитания, и часть общества, послушная велениям императора, перестала хвастаться вольнодумством. «Влияние повелителя, говорит г-жа Сталь, здесь (в России) до того сильно, что с переменою царствования могут измениться понятия о всех предметах». В литературе хотя и говорили теперь о Вольтере, но уже об «изобличенном» или «обнаженном», и стали появляться переводы разных религиозных сочинений; но рядом с ними, при помощи контрабанды, проникали в Россию и запрещенные книги. «И так как идти на такой риск, говорит Шторх, какой связывался с ввозом книг, стоило только для самых пикантных вещей, то строгость мер была причиной, что из всех литературных произведений приходили в империю только такие, по поводу которых запрещение и было главным образом сделано. Некоторые букинисты, в числе которых были также и эмигранты, занимались этим опасным, но прибыльным промыслом с неслыханной смелостью. Их склады были известны почти всякому и однако не нашлось ни одного доносчика» [45].
Книг немецких или английских в наших библиотеках было мало, а русских и еще того менее. Исключение в этом отношении составляла библиотека графа Федора Андреевича Толстого, в которой находилось много славяно-русских рукописей и старопечатных славянских и русских книг. К сожалению, владелец библиотеки составлял ее исключительно из тщеславия и сам не понимал значения своего собрания [46].
В известной Салтыковской библиотеке считалось от 4 до 5 тысяч сочинений, большей частью на французском языке, содержания исторического, по разным наукам и словесности (между прочим многотомная энциклопедия); попадались кое-какие немецкие и английские сочинения, а русских книг в этой библиотеке, принадлежавшей одному из древнейших и славных русских домов, едва набиралась какая-нибудь сотня [47]. За знатью тянулось дворянство и среднее состояние. Приезжавшие на Макарьевскую ярмарку помещицы, следуя тогдашней моде, запасались не только чепцами, но и книгами; дворяне, имевшие дохода не более 500 руб., собирали библиотеки [48], но, конечно, без всякой системы, что попадалось под руку. Покупались преимущественно романы и притом переводные: Лафонтен и Крамер, Грандисон и Клариса составляли содержание библиотеки. «Странный был состав маленькой библиотеки молодых Пещуровых, пишет Ф.Вигель [49]: полное собрание сочинений Флориана, все творения Дорота, маленький том Буффлера, театр Мариво, письма к Эмилии о мифологии г. Демутье, Шольё и Лафор, Бернис и Жанти Бернар; все легкое, розовое, амурное, ни одной русской книги. Вместе с версальскими предрассудками вошла y нас в моду французская литература», и часто иностранные книги наполняли библиотеки таких владельцев, которые не знали ни одного из иностранных языков. Ряжского уезда, Рязанской губернии помещик А.С.Сербин, хотя и не владел языками, но имел y себя библиотеку, составленную преимущественно из творений французских литераторов XVIII века. В ней преобладали энциклопедисты, особенно Вольтер, и сам А.Сербин был горячим его последователем.
«Знакомство деда с сочинениями Вольтера, конечно в русском переводе, говорит современник [50], не осталось без последствий. Он заразился религиозным неверием, сделался безбожником. «Я ничему не веровал, сказал он мне однажды в откровенном разговоре, — хотя с малолетства был строго держан в правилах церковного учения».
«Проводя в деревне более половины года, говорит другой современник [51], без особого занятия по хозяйству, я занимался чтением, но выбор книг был для меня вредный. Читал я с жадностью сочинения так называемых философов XVIII столетия, пиронизм коих столь во мне запечатлелся, что в последующую жизнь мою даже и в преклонности лет моих, много мне стоило исправить впечатления и покорить разум к послушанию веры».
Пропитанные книжными идеями философов, наши деды в отцы, с наплывом эмигрантов, стали еще более воспринимать эти идеи при помощи живого и увлекательного слова. Своим лоском и светским образованием французы скоро подчинили себе тогдашнее общество и явились в качестве занимательных собеседников, учителей-наставников, содержателей пансионов не только в городах, но и в селах [52], содержателей модных магазинов и даже распорядителей имений. Пользуясь авторитетом представителей передовой нации, французы своим изяществом легко заслуживали расположение женщин, становились друзьями дома и через жен имели влияние на их мужей, детей и все семейство. Из обветшалой Франции нахлынуло к нам волокитство, в модных домах появились дамские будуары с мягкими диванами, а с ними истерики, мигрени, спазмы и другие болезни [53]. Большинство стало подражать во всем французам, этим остроумным, живым и болтливым людям, образцам вкуса и прогресса.
Русская женщина, обнажив свою талию, утонула во французской болтовне и, увлекшись кокетством, проводила время среди танцев, в рассеянной и пустой жизни.
— Смотрю в публичных собраниях на молодых красавиц XIX века, говорил В.Мулатов [54], и думаю, где я? в Мильтоновом ли раю, в котором милая натура обнажалась перед взором блаженного Адама, или в кабинете живописца, где красота являлась служить моделью для Венерина портрета во весь рост? Наши стыдливые девицы и супруги оскорбляют природную стыдливость свою, единственно для того, что француженки не имеют ее, без сомнения те, которые прыгали контрдансы на могилах родителей, мужей и любовников! Мы гнушаемся ужасами революции и перенимаем моды ее! — Какие женщины дают ныне тон в Париже? Роскошные супруги банкиров и подрядчиков, женщины низкого состояния, не имеющия понятия о любезности прежних знатных француженок, которые всего более отличались игрою ума и кокетничали нежным чувством пристойности.
— Увы! говорил другой современник [55], французский язык делается господствующим в русском образованном обществе и даже в провинциальном. И что удивительнее всего теперь — воюя с французами, имея тысячу причин брезгать ими, мы не оставляем своего пристрастия. — Мы не хотим видеть, что это походят уже на начало владычества над нами, ибо, следуя истории всех времен, только победителям было свойственно передавать побежденным свой язык и обычаи.
Высшее общество и большая часть среднего были вполне в иноземных руках. Матушки торопились отдавать своих дочерей за титулованных эмигрантов, чтобы иметь удовольствие называть их графинями, маркизами и герцогинями; батюшки щеголяли вольнодумством и безверием, а сынки кинулись в разврат, руководимые во всем выходцами-иностранцами [56]. He было ни сговора, ни свадьбы, ни развода, ни похорон, ни завещания, ни крестин, где бы француз тем или другим образом не принимал участия. Семейные праздники, спектакли, где почти всегда играли французские пьесы — все находилось в распоряжении французов [57]. В знатных домах, по словам Погожева [58], няньки, даже горничные и барский камердинер говорили по-французски. Русская речь была забыта [59] и русские обычаи были в загоне. Вместо прежнего, исполненного достоинства приветствия легким наклонением головы, русские барыни целовались в обе щеки, потому что так делали француженки, говорили кучу любезностей, не сочувствуя собственным словам. Подражая во всем французам, они наивно бранили Наполеона и французов, забывая, что не могут похвастаться обедом, если он не был приготовлен поваром-французом. — «Русские переносят вас во Францию, писала мисс Вильмот [60], не сознавая ни мало, насколько это унизительно для их страны и для них самих». Национальные костюмы, танцы и музыка были покинуты и сохранились только среди простого народа.
«Все то, — писал A.С.Шишков — что собственное наше, стало становиться в глазах наших худо и презренно. Французы учат нас всему: как одеваться, как ходить, как стоять, как петь, как говорить, как кланяться и даже как сморкать и кашлять. Мы без знания языка их почитаем себя невеждами и дураками. Пишем друг к другу по-французски. Благородные девицы наши стыдятся спеть русскую песню. Мы кликнули клич, кто из французов, какого бы роду, звания и состояния он ни был, хочет за дорогую плату, сопряженную с великим уважением и доверенностью, принять на себя попечение о воспитании наших детей. Явились их престрашные толпы, стали нас брить, стричь, чесать. Научили нас удивляться всему тому, что они делают, презирать благочестивые нравы предков наших и насмехаться над всеми их мнениями и делами. Одним словом, они запрягли нас в колесницу, сели на оную торжественно и управляют нами, а мы их возим с гордостью, и те y нас в посмеянии, которые не спешат отличать себя честью возить их. He могли они истребить в нас свойственного нам духа храбрости: но и тот не защищает нас от них: мы учителей своих побеждаем оружием; а они победителей своих побеждают комедиями, романами, пудрою и гребенками».
Побежденные ими наши маменьки, дочки и внучки, одетые по последней моде, целые дни проводили в роскошных будуарах, окруженные гостями. Их туалет, язык и манеры напоминали что-то французское; но при всем том оне не могли назваться благовоспитанными, а исключительно подражательницами, далеко не усвоившими себе той гармонической прелести в обращении, которая преобладает и так пленяет во Франции. «Когда московские барыни, — писала мисс Вильмот, — оглядели вас с головы до ног, перецеловали вас раза четыре или раз шесть вместо двух, поручили себя вашей вечной дружбе, в шутливом тоне и прямо вам в лицо провозгласили, что вы прелестны, расспросили о цене каждого предмета в вашем наряде и выразили свои предположения на счет большей или меньшей удачи предстоящего бала в благородном собрании, — более от них уже ожидать нечего. Едва ли мысли их могут простираться далее, разве только, чтобы бранить русских ювелиров и восхищаться искусству французских» [61].
По словам современника, высшее русское общество, воспитанное французами, с детства приобретало предпочтение к этому народу, узнавало Францию только en beau и считало ее отечеством вкуса, светскости, искусства и изящных наслаждений. Она же считалась «убежищем свободы и разума, очагом священного огня, где они (русские) некогда зажгут светильник, долженствующий осветить их отечество» [62].
Моды, безверие и даже привычки французов стали образцом для русского человека, а французские пансионы и даже иезуитская коллегия — учебными заведениями, куда отдавалось молодое поколение лучшего общества. Сюда поступали знатные русские юноши: Голицыны, Гагарины, Толстые, Шуваловы, Строгоновы, Вяземские, Одоевские и другие. Чтобы привлечь к себе исключительно одну аристократию, содержатель пансиона, аббат Николь, назначил за пансионера огромную по тогдашнему времени сумму и, несмотря на то, встретил всеобщее к себе сочувствие. Княгиня Юсупова одна из первых отдала своего сына в иезуитскую коллегию, поддерживала ее деньгами и убедила сестру свою, княгиню Голицыну, отдать и своих детей туда же [63]. «Здесь юные представители древних родов наших молились по-латыни, по-латыни же читали Евангелие, учились закону Божию по латинскому катехизису и во время латинской мессы аколитами (enfauts de choeur) прислуживали священнодействующим патерам» [64]. Несмотря на все это, родители надеялись, что в заведении этом сохранится нравственность их детей, а главное, дано будет воспитание, необходимое для света, т. е. светского общества. Высшее светское образование того времени состояло исключительно в знании иностранных языков, особенно французского и в умении танцевать [65]. «Натирали ребят наружным блеском», готовя их для удовольствия, а не для пользы общества, учили говорить и писать легко по-французски, декламировать стихи, играть свободно на сцене пьесы, ловко танцовать минуэт или французскую кадриль — вот что называлось получить окончательное воспитание, т. е. домашнее воспитание, так как другого воспитания в то время почти что не было [66].
Относясь неуважительно к русскому ученому сословию и не доверяя природным учителям, дворянство предпочитало им иностранных гувернеров и домашнее воспитание своих детей. Последние отдавались в гимназии весьма редко, а в университет поступали еще того реже. Гимназии и университет были открыты для детей «разночинцев» и людей всякого состояния, а столбовое дворянство не считало возможным сажать своих детей рядом с ними. Сыновья небогатых дворян воспитывались в кадетском корпусе, люди более достаточные отдавали сыновей в Московский благородный пансион, бывший при университете, в Царскосельский лицей и Пажеский корпус, но большинство предпочитало воспитывать их дома [67].
В то время хорошее или дурное воспитание было делом случая и прекрасно охарактеризовано стихом Пушкина:
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава Богу,
У нас не мудрено блеснуть.
По словам великого поэта, домашнее воспитание в России было тогда самое недостаточное и самое безнравственное. Домашний быт помещиков в первое двадцатипятилетие нашего века сохранял еще многие черты провинциального дворянства Екатерининского времени. Большая часть дворян состояла из людей мало достаточных, не получивших никакого образования и следовательно не имевших возможности дать его детям. Жившие вечно в деревнях, удаленные от всякого сообщества и почти всегда пренебрегаемые богатыми своими соседями, дворяне эти не только не могли доставить детям своим самых первых начал образования, но и указать им на обязанности благородного человека [68]. Ребенок, говорил A.С.Пушкин, будучи окружен одними холопами, «видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести» [69]. Имея перед глазами примеры злоупотребления господской власти, часто буйства, неумеренности и даже разврата родителей, этот полудикий питомец лесов и степей развивал свои инстинкты и характер в этом направлении.
Как в век Екатерины, так и в начале настоящего столетия дети с ранних лет поручались попечению нянек, на обязанности которых лежало водить их по праздникам в церковь и раза два в неделю возить на поклоны к наиболее почетным и влиятельным родственникам. С семилетнего возраста ребенок поступал на руки дядьки, из крепостных грамотных людей, и его начинали учить. Воспитание ограничивалось, если представлялась к тому возможность, изучением двух или трех иностранных языков и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь одним нанятым учителем.
Русской грамоте по Псалтирю и Часослову учили крепостные и дьячки, иногда матери, но отцы редко. Науками занимались подъячие и семинаристы высших классов, которые или сами мало знали, или не обладали искусством преподавания. «Науки мысленные, — писал преосвященный Евгений [70], — y нас еще не в моде. Да и обо всех почти науках твердят Иппократово слово: наука — трудное, долгое дело, а жизнь коротка; притом важное дело — случай, а знание — опасная вещь (Ars longa, vita brevis, occasio momentosa, experientia periculosa)».
Известный наш дипломат A.П.Бутенев с грустью вспоминает о том, что дети не получали почти никакого наставления в правилах религии и даже редко учились церковно-славянскому языку. Если бывали исключения, то и они выражались в самой первобытной форме. Братья Тимковские учились церковно-славянскому языку и закону Божию y свойственницы их дяди, монахини Анфисы. После обеда, лежа на постели, Анфиса рассказывала детям библейские повести или «поставя нас рядом, — говорит И.Ф.Тимковский, — велела петь с нею духовные распевы, поводя рукою в такт, пока потом засыпала» [71]. Для изучения Часослова Тимковский был отдан в школу соседнего дьячка Василия. Школа состояла «из довольно просторной комнаты, в которой были поставлены столы для трех разрядов учеников: букваря, Часослова и Псалтиря; последние два с письмом. Писали начально разведенным мелом на опаленных с воском черных дощечках неслоистого дерева, с простроченными линейками; а приученные уже писали чернилами на бумаге. Из третьего же отделения набирались охотники в особый ирмолойный класс для церковного пения, что производилось раза три в неделю: зимою в комнате дьячка, а по весне — под навесом».
В воспитании Тимковских не было никакой системы, и учителя менялись часто. Для классического образования, как тогда говорилось, был взят ритор семинарии, сын священника Шпаковского. «Утром всякий день, — говорит Тимковский, — мы читали ему из Псалтири по кафизме. Потом было чтение и письмо русское, а день — латинское». Этим домашнее воспитание было окончено и, когда ученик познакомился с латинской грамматикой Бантыш-Каменского, тогда его отдали в Переяславльскую семинарию.
К тогдашнему воспитанию можно было еще вполне приложить слова Державина: учили языкам — без грамматики, числам и измерениям — без доказательств, музыке — без нот и вере — без катехизиса [72]. С чистыми истинами религии не знакомили вовсе, но наружные обряды соблюдались строго: ходили в церковь и содержали все посты. «Чистый понедельник, сочельник, великий пяток считались такими днями, в которые не только есть, но и подумать о чем-нибудь не очень постном считалось грехом. Мяса в великий пост, — говорит Пирогов [73], — не получала даже моя любимица-кошка Машка». Обрядовая сторона религии соблюдалась так строго, что даже атеисты считали своею обязанностью следовать общему течению. Ни во что не веровавший помещик A.С.Сербин ежегодво исповедывался и причащался, ходил каждый праздник в церковь, служил y себя на дому молебны, читал во время службы и подтягивал дьячку [74].
«Отец мой, — говорит современник [75], — считался человеком очень религиозным в церковно-обрядном смысле этого слова». Он твердо знал чин богослужения, но едва ли понимал и мог объяснить то, что совершалось перед его глазами. Большинство, не зная церковно-славянского языка, не понимало книг религиозного содержания. «Значение славянских слов, — говорит Н.И.Пирогов [76], — мне иногда объяснялось; но и в школе от самого законоучителя я не узнал настолько, чтобы понять вполне смысл литургии, молитв и т. п. Заповеди, Символ веры, Отче наш, катехизис — все это заучивалось наизусть, а комментарии законоучителя хотя и выслушивались, но считались чем-то не идущим прямо к делу и несущественным... Слова молитв так же, как и слова Евангелия, слышавшиеся в церкви, считались сами по себе словами святыми, исполненными благодати Св.Духа; большим грехом считалось переложить их и заменить другими; дух старообрядчества, только уже Никоновского старообрядчества, был господствующим. Самые слухи о переложении священных книг или молитв на общепонятный русский язык многими принимались за греховное наваждение».
Такое понятие хранили в себе лица самые религиозные, так что, когда 15-тилетний Лабзин переложил в стихи плач Иеремии, то юный стихотворец был наказан матерью за то, что читал Библию. He подозревая, что Библия может служить к просвещению разума, религиозная женщина считала ее книгою, потребною только для священников и вредною для сына. В то время самые набожные лица были уверены, что от чтения Библии люди с ума сходят [77].
Незнание церковно-славянского языка заставляло многих знакомиться с евангельскими истинами по иностранным сочинениям. «Теперь большую заботу мне делает, — писал Филарет [78], — предпринятое по Высочайшей воле изъяснительное переложение Нового Завета на российское наречие, частью для простого народа, частью для просвещенных нынешнего века, которые, не разумея славянского наречия, читают Евангелие на французском».
При полном отсутствии изданий священных книг на отечественном языке, люди, даже вполне образованные, были вовсе незнакомы с основными догматами православной церкви. Князь Алексей Ширинский-Шихматов встретил в своем соседе по имению такое извращенное понятие о вере, которое превосходило все ереси, имя христиан на себе носящие. Когда Шихматов разъяснил соседу его заблуждения, то тот пришел в ужас от ошибочности своего верования. Он полагал, что Творца составляют Бог-Отец, Бог-Сын и Пресвятая Богородица. Когда Шихматов спросил соседа, откуда такое нехристианское мнение, то получил ответ, что о св. Троице он никогда не имел евангельского понятия.
— A как в письмах, получаемых от лиц набожных и благочестивых, — говорил помещик, — я всегда видел Божию Матерь непрестанно упоминаемою со Спасителем, то и не смел о ней иначе мыслить, как почитая ее равною с Ним.
«По многим признакам видно, писал князь А.Шихматов брату, — что многие из невежествующих в вере почитают Божию Матерь больше Спасителя. Да оно и очень естественно, ибо они, не слыхав и не зная ничего о таинстве искупления и воплощения, и не имея никакого понятия основательного о божестве, слыша в поклоняемых Матерь и Сына, без сомнения, по порядку земных вещей, предпочитают ее Сыну...
«Неведение Бога есть первейшая вина зла и корень зол частных и общественных. Это есть источник всех нравственных болезней, которыми недугует наша невежествующая братия; эта болезнь так распространившись, что ее можно даже назвать духовною эпидемией».
При таких понятиях религия, не дававшая нравственного удовлетворения, сводилась к одной внешней формальности. Знать наизусть псалмы, тексты из Священного Писания — считалось необходимым; но о внутреннем содержании их никто понятия не имел. Отсюда происходило весьма странное отношение к церкви и молитве. Один из современников того времени говорит, что бабушка его твердо знала церковную службу и часто сама читала молитвы во время молебнов, которые служили ей на дому в праздничные дни. Это чтение не мешало ей, однако же, развлекаться предметами, совершенно чуждыми богослужению, «так что мы не могли удержаться от смеха при вопросе или замечании, которыми неожиданно прерывался псалом или молитва. — «Отче наш, и же еси на небесах», читала бабушка, и вдруг, взглянув в окно, кричала: девка, посмотри, кто там приехал. «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей» — девка, беги скорее в сад, выгони корову» [79].
Тот же современник рассказывает, что когда, однажды, священник вздумал сказать проповедь и дьячек взялся за аналой, то стоявшее против царских врат влиятельное лицо, махнув рукой, проговорило: «Не надо, батюшка! Уж поздно, пора обедать». Такое нарушение благочиния и несоблюдение благопристойности в церквях встречались довольно часто. Во время богослужения многие входили в алтарь, громко разговаривали, мешали священнослужителям отправлять службу; некоторые становились спиною к иконам и мало обращали внимания на то, что происходило в церкви. Все это заставило императора Александра I, бывшего несколько раз личным свидетелем подобного нарушения благочестия, поручить митрополиту Амвросию сделать соответствующие распоряжения. В октябре 1804 года последовал указ Синода, чтобы, на основании Кормчей книги [80], никто не входил в алтарь и не закрывал перед алтарем места, необходимого для священнослужителей; чтобы никаких разговоров в церкви и хождения с места на место не было. Нарушителей благочестия поручалось приводить в порядок, на основании устава Благочиния [81], в городах посредством полицейских чинов, а в селениях — через сельских начальников.
Нет надобности говорить, что распоряжение это не исполнялось, и, спустя много лет, архиепископу Филарету, впоследствии митрополиту московскому, пришлось указывать на странное отношение многих к церкви и религии вообще.
«Некоторые, говорил он [82], в темном ощущении познают важность алтарей и, по-видимому, не чуждаются дома Божия, но не разумеют ни того, как должно в него входить, ни того, как обращаться в нем. Поставив тело в храме, уверяют себя, что уже пребывают с Богом, но находящиеся в сем положении не более иногда принадлежат дому Божию, как, — если позволено так выразиться, — истуканы, украшающие только наружность его.
Служат Богу, как рабы, не столько для того, чтобы совершить волю Его, сколько для того, чтобы уклониться от гнева Его. Работают Ему в уреченное время, как наемники, дабы получить от Него плату земных благословений и потом на врагов Его, — на мир и плоть — иждивать дары Его. Какое несообразное с величеством и благостию Божиею богослужение!»
Но тогда об истинном богослужении мало кто думал, и в образованном обществе существовало убеждение, что можно быть добродетельным, набожным и благочестивым, не заходя в церковь, не зная никаких догматов. В самом деле, нельзя же было идти в разрез с убеждениями менторов-эмигрантов, которым мы добровольно подчинялись и которые приняли на себя роль руководителей и воспитателей общества. В то время каждый, даже небогатый дворянин самой отдаленной губернии, считал необходимым иметь своего маркиза-гувернера или хотя «одну штуку из этого волчьего стада», как выразился позднее М.П.Погодин. Помещик Пензенской губерний Жедринский, y которого было всего 300 душ, обремененных долгами, поручил воспитание своего сына виконту де-Мельвилю [83].
— He было y нас для французов середины, говорит Ф.Вигель, ils devenaient outchitels ou grand seigneurs.
Необходимость добывать себе хлеб заставила эмигрантов рассыпаться по всей России и соглашаться исполнять то, что им предлагали. Обладая самыми поверхностными знаниями, они не затруднялись брать на себя обязанности учителей в учебных заведениях и были разбираемы доверчивым дворянством в должности воспитателей и гувернеров к детям. Звание учителей в наших глазах казалось немного выше холопа-дядьки, вечного соперника мусьи, и потому учителей брали в дом, не справляясь об их нравственности и о том, что они знают, лишь бы был француз, а если его добыть было нельзя, то хоть какой-нибудь иностранец.
«Не странны ли покажутся беспристрастному созерцателю нашего образования, — писал И.Богданович [84], — непостоянство наше и перемены вкуса. Давно ли было время, когда во всем мы подражали немцам? Пользуясь их сведениями, мы воспитывали детей наших по их форме, старались быть хладнокровны, как они, и в самых даже безделках мы хотели германиться. Их стол, обхождение, кривлянье в танцах — все называлось y нас изящным.
«Но коль скоро появились французы — исчезло очарование. Их веселый нрав, свободное обхождение, скорые и острые выдумки, проворство и гибкость вскружили всем головы. Всяк хотел иметь учителем француза, всяк хотел сделать детей французами. Бедные немцы, которые не знали модного языка, принялись за ремесла, и мы выиграли гораздо больше. В течение некоторого числа лет все заговорили по-французски и природный язык свой так смешали, что трудно было угадать, какой нации мы более принадлежали. Все, что называлось парижским, сделалось нам общим. Мы желали, чтобы воспитание произвело чудо, чтобы мы от оригиналов не были различны.
«Слух сей, как видно, везде распространился: со всех сторон, под названием Paris, не только загрузили нас модными товарами, но, сверх чаяния, учители начали приезжать к нам целыми колониями. Довольно, когда они говорили по-французски, нам больше было не нужно».
Граф Шувалов, для занятия должности лакеев в Пажеском корпусе, выписал из Парижа восемь французов, и они скоро все разошлись учителями по домам [85]. Тогда существовало убеждение, что воспитание и преподавание совершенно не зависят от нравственности воспитателя. Если попадался преподаватель физики, всем известный за человека развратного или атеиста, то весьма часто говорили, что же это имеет общего с физикой. Таким образом, в Россию сметался весь сор Европы, и она дорого платила выходцам за порчу молодого поколения.
Безграмотный отец ловил первого попавшегося ему немца или француза, который за русские деньги вселял в сына семена иноземного разврата и не заменял ему потерю нравственности (если можно заменить ее) никакими научными сведениями [86]. Пробыв некоторое время в доме и сознавая бессилие в дальнейшем образовании своего питомца, такой наставник легко переходил в том же доме на должность берейтора или садовника.
В октябре 1800 года харьковский помещик, подполковник К., нанял выходца из Пруссии, Фридриха Лота, учить своих детей немецкому языку и арифметике. В заключенном с ним контракте, между прочим, было сказано: «И по прохождении зимних месяцев, мне, Лоту, за его сыном более уже не смотреть и детей не учить, а вступить мне в должность садовничью и стараться сделать два английские сада, завести теплицы, цветники, парники, крытую аллею, оранжерею и огородню; пересаживать деревья и делать прививки, колеровки и отводы самым искусным образом. По сей должности стараться неленостно делать приобретения разные к размножению фруктовых деревьев, дабы неусыпным рачением моим и трудами заслужить мог себе награждение и похвалу» [87].
Такого сорта лиц, более садовников, чем учителей, приходилось часто менять, тем более, что и нравствевность их, в большинстве случаев, не соответствовала обязанностям воспитателей. Обыкновенно, отправляя старого учителя, поручалось искать и «привезти на той же повозке нового», конечно, на удачу, какой попадется. Если таковой не попадался, то выписывали через корреспондента, печатно уверявшего в газетах о своей честности и добросовестности [88]. В Москве это производилось несколько иначе: в воскресный день один из крепостных отправлялся на Кузнецкий мост или становился y входа в католическую церковь и расспрашивал там, нет ли охотников поступить в учителя, и записывал адресы желающих [89]. Если здесь поиски были неудачны, то в Охотном ряду был большой трактир, известный под именем «Цареградского». Это был, по нынешним понятиям, род кофейной, куда стекались все иностранцы, в особенности учителя, род биржи рынка, куда приходили нанимать домашних учителей [90]. После небольшого испытания, неизвестно, впрочем, какого и в чем, происходила торговля относительно цены, заключался контракт, и затем в доме водворялась учительница мадам или учитель, нередко с мадамой. Таким образом, y H.Г.Левшина пребывало шесть учителей и две учительницы [91]; в семействе Вигеля переменилось три француза [92]. У князя П.А.Вяземского и Д.Н.Блудова (впоследствии графа) перебывало несколько учителей, не имевших никаких достоинств и выучивших их только французскому языку, да и то кое-как [93].
Частая перемена учителей приводила к печальным результатам: каждый из них вносил свою методу преподавания и всегда осуждал своего предшественника. «Учение было плохое, — говорит Н.Г.Левшин, — и примеров добронравия от учителей занять было невозможно. He зная еще отечественного языка, меня, по моде XVIII века, с самых малых лет стали учить иностранному, — по-французски и по-немецки. Французский язык знали родители мои и бабушка: говорить все учили меня, и, как я, так и все братья и сестры, как попугаи, выучились поговаривать изрядно. Вместо систематического толкового учения, я большей частью развлекаем был домашними новостями, а более всего — по охоте псовой».
Учитель H.И.Греча, Delagarde, заставлял своего ученика читать из азбуки, поправлял произношение и тем оканчивал свои уроки. Другой учитель, де-Моренкур, все уроки ограничивал чтением и письмом; о языке и грамматике французской не было ни слова, и Н.И.Греч изучил их при помощи русского учителя, Я.М.Бородкина [94]. H.H.Муравьева-Карского учил эмигрант Деклозе, сам не твердый в знании французского языка и его грамматики [95]. A.П.Бутенев научился от своего гувернера-француза бегло болтать по-французски, очень мало грамматики, да писать под диктовку [96]. Воспитательная деятельность гувернера Ф.Вигеля заключалась в предоставлении полной свободы своему воспитаннику и в рассказах самых непристойных и даже отвратительных анекдотов. Один из многочисленных учителей кн. П.А.Вяземского был горький пьяница. Учитель Н.Г.Левшина, г.Ришер, науки знал плохо, «а детей рожал часто и всегда сам их крестил»; другой — Ронси, «вероятно, прибыл в Россию с канарейками, сурками или собаками». Третий — Пине, был француз из простого звания, грамматики и прочих наук не ведал, а мадам жила в доме несколько месяцев, и все рады были, когда ее отпустили [97].
«Просвещением дворянства, говорит И.П.Сахаров, заведывали гувернеры в гувернантки, люди без всякого образования в науках. С ними входили в деревенские семейные круги разврат, нахальство, неуважение к родителям, пренебрежение к вере отцов и постыдное вольнодумство». Вообще, по словам Вигеля, когда между французами-эмигрантами встречался человек благоразумный, просвещенный, скромный, с религиозным чувством и строгою нравственностью, то можно было указывать на него, как на диковинку.
К числу таких диковинок и исключений принадлежали два учителя графа Д.Н.Блудова, ученый Реми и граф де-Фонтен, человек блистательного ума и глубокого образования. В семействе кн. Голицына был гувернером Шевалье де-Ролен-де-Бельвиль, y которого воспитывался и Ф.Вигель. Восхваляя свое отечество, Бельвиль с состраданием, более чем с презрением, отзывался о нашем варварстве.
«Как я ни старался припомнить прошедшие впечатления, пишет M.А.Бестужев, из этой толпы ничтожностей, составлявших тогда сословие наших образователей, я не припомню ни одной личности, которая бы теперь не порождала улыбки презрения» [98].
Не в укор отцу, говорит князь Вяземский, «не себе в оправдание, а для соблюдения истины, скажу, что мое учение ни в каком случае не могло быть успешно, потому что не было правильно... He знаю, чем объяснить себе, но выборы наставников, гувернеров, учителей моих были вообще неудачны. He в деньгах было дело. Много перебывало при мне французов, немцев, англичан, но ни один из них не был способен приучить меня к учению, а это главное в деле первоначального воспитания. О русских наставниках и думать было нечего. Их не было, — не знаю, много ли их теперь. Надо было ловить иностранцев на удачу» [99].
Если так трудно было достать хорошего учителя в Москве, то каковы же должны были быть наставники в провинциальных городах и в отдаленных имениях помещиков, куда затащить их было весьма трудно. Туда шли люди совершенно незнакомые с воспитанием, невежды в науке, а главное безнравственные и антирелигиозные, расшатывавшие русскую семью и вносившие в нее безверие и разврат.
Вспоминая свое воспитание и сравнивая его с тем, которое давалось в начале настоящего столетия, граф Александр Романович Воронцов говорит, что хотя в его время воспитание и не было столь дорогое и блестящее, но имело много хорошего. Тогда не относились с пренебрежением к русским нравам и русскому языку, который не входил в план воспитания в начале XIX века. «Можно сказать, пишет гр. Воронцов [100], что Россия единственная страна, где пренебрегают изучением своего родного языка, и все то, что относится к родной стране, чуждо настоящему поколению. Лицо с претензией на просвещение в Петербурге и в Москве заботится научить своих детей по-французски, окружает их иностранцами, нанимает для них за дорогую цену учителей танцев и музыки и не поучает их отечественному языку, так что это прекрасное и дорогое воспитание ведет к совершенному невежеству относительно своей страны, к равнодушию, может быть даже презрению к той стране, с которой связано собственное существование, и к привязанности ко всему тому, что касается чужих нравов и стран, в особенности же Франции».
Многие родители должны бы были спросить свою совесть, не обличает ли она их в том, что при выборе воспитателей и наставников они совсем не думали, могут ли они быть примером добродетели для их детей. Неразборчивость эта привела к тому, что молодое поколение оказывалось неспособным ни к хозяйственной и семейной жизни, ни к частной, ни к публичной службе, — одним словом ни к чему [101].
«Благовоспитанный молодой человек, говорит современник [102], есть полуученный или даже совершенный невежда, который не имеет позволения оставаться невеждою (только) для одних своих сограждан, но должен еще казаться невеждою и тем народам, на языке которых он изъясняться может. Он есть невежда, исполненный самоуверенности и самолюбия, мечтающий усвоенными звуками языка иноземного изумлять слушателей выученными отрывками стихов, или выкраденными каламбурами стяжать удивление модного света. Одним словом, так называемый благовоспитанный человек есть полуиноземец, не имеющий никакого основательного сведения, но только немногие поверхностные познания, которые умеет он употреблять с успехом для ослепления больших против него невежд; космополит, научавшийся нравственности y Дидеро, религии — y Вольтера, мечтающий о переворотах и свободе, неспособный ни к какому занятию, ни к какой службе».
Незнакомая ни с русским языком, ни с русскою литературою молодежь не могла развить в себе чувства национального достоинства и гордости. Впоследствии A.С.Пушкин, в письме к брату признавался, что он принужден был изучением русских сказок вознаграждать недостатки «проклятого своего воспитания». Прискорбно было то, что все русское было забыто, и знание иностранных языков и обычаев было променено на дедовскую любовь к родине [103]. Кн.П.А.Вяземский и другие современники оспаривают справедливость такого приговора и в доказательство приводят всеобщий патриотизм, вызванный отечественною войною. Но об этом речь впереди, и историку этой эпохи предстоит еще решение вопроса, в ком лежит начало этого патриотизма, где его проявление и главнейшее развитие. Здесь же нельзя отрицать того, что жизнь тогдашнего общества имела антинациональное направление.
Такое направление порицалось сначала только единицами, да и то втихомолку, где-нибудь в укромном углу гостиной; но по мере развития рабского подражания всему иностранному, число недоброжелателей моды возрастало и сначала редко, а потом и чаще стали появляться статьи, спрашивавшие, почему в обществе принято называть моду проклятой? Назрело, наконец, время, когда можно было высказаться в самой резкой форме, и вот, в 1807 году появились «Мысли в слух в Красном крыльце» графа Ф.В.Ростопчина.
«Господи помилуй! говорил он устами своего героя Силы Андреевича Богатырева [104], — да будет ли этому конец? He пора ли опомниться, приняться за ум, сотворить молитву и, плюнув, сказать французам: згинь ты, дьявольское наваждение! ступай в ад или восвояси, все равно, только не будь на Руси.
«Прости Господи! Неужели Бог Русь на то создал, чтобы она кормила, поила и богатила всю дрянь заморскую, а ей, кормилице, и спасибо никто не скажет. Приедет француз с виселицы, все его на перехват, а он еще ломается; говорит либо принц, либо богач, а он, собака, либо холоп, либо купчишка, либо подьячий, либо поп расстрига от страха убежал из своей земли. Поманерится недели с две, да и пустится либо в торг, либо в воспитание, а иной и грамоту-то плохо знает».
Далее граф Ростопчин резко рисует тогдашнее направление общества, упрекает его за то, что детей прежде всего учат выговаривать чисто по-французски, вывертывать ноги и всколачивать голову. «Тот и умен и хорош, — говорит он, — который француза за своего брата принимает. Как же им любить свою землю, когда они русский язык плохо знают? Только и видишь молодежь одетую, обутую по-французски и словом, делом и помышлением французскую. Отечество их на Кузнецком мосту, а царство небесное — в Париже. Родителей не уважают, стариков презирают и, быв ничто, хотят быть все. Завелись филантропы и мизантропы. Филантропы любят людей, а разоряют мужиков; мизантропы от общества людей убегают в трактиры. Старухи и молодые сошли с ума. Все стало каша кашей. Бегут замуж за французов и гнушаются русскими. Одеты, как мать наша Ева в раю, — сущие вывески торговой бани, либо мясного ряда».
«Мысли в слух на Красном крыльце» в свое время наделали много шума, облетели всю тогдашнюю читающую Россию [105] и приняты были с восторгом мелким и бедным дворянством, чиновничеством, не имевшими возможности, при всем своем желании, следовать за общим потоком и потому смотревшими недоброжелательно на тогдашних львов и львиц полуфранцузского воспитания.
Голос графа Ростопчина не был единственным и не остался вопиющим в пустыне. Правительство сознало, наконец, необходимость вмешательства в воспитание юношества. Министр народного просвещения, граф Разумовский, прежде всего обратил внимание на то, что во всех, тогда существовавших средних учебных заведениях Закон Божий вовсе не преподавался и ученики оставались без всякого внушения им правил и основ религии. Только в июле 1812 года постановлено было коренным и неизменным правилом, чтобы во всех учебных заведениях было введено обязательное преподавание Закона Божия с тем, чтобы публичные испытания начинались всегда с этого предмета, как заключающего в себе главную и существенную цель образования. Усмотрев, что во многих училищах науки преподаются без всякого внимания к пользе учащихся, употребляются излишние строгости и даже телесные наказания, министр народного просвещения поручил подлежащему начальству обратить на это внимание. Он требовал, чтобы в учителя назначались люди знакомые с методом преподавания, такие, которые не затрудняли бы учеников затверживанием уроков наизусть, а приводили бы их к ясному пониманию преподаваемого; чтобы телесные наказания отнюдь не употреблялись, и жестокие наставники, начальники училищ и содержатели пансионов, были удаляемы. Рядом с этим было обращено особое внимание и на домашнее воспитание.
«В отечестве нашем, писал граф Разумовский во всеподданнейшем докладе в мае 1811 года [106], далеко простерло корни свои воспитание, иноземцами сообщаемое. Дворянство, подпора государства, возрастает нередко под надзором людей, одною собственною корыстью занятых, презирающих все неиностранное, не имеющих ни чистых правил нравственности, ни познаний. Следуя дворянству, и другие сословия готовят медленную пагубу обществу воспитанием детей своих в руках иностранцев. Любя отечество, не можно без прискорбия взирать на зло, толь глубоко в оном внедрившееся. Поставлен будучи бодрствовать над воспитанием сограждан своих, священным чту долгом изыскивать все способы к соделанию их истинными сынами отечества. He от меня зависит преломить дух важнейшей части граждан, внеся в семейства их счастливое недоверие к чуждым воспитателям, но, под высоким влиянием Монарха, я могу действовать орудиями, мне предоставленными. Быть может, мера правительства послужит образцом и для каждого частного гражданина. Все почти пансионы в империи содержатся иностранцами, которые весьма редко бывают с качествами, для звания сего потребными. He зная нашего языка и гнушаясь оным, не имея привязанности к стране, для них чуждой, они юным россиянам внушают презрение к языку нашему и охлаждают сердца их ко всему домашнему, и, в недрах России, из россиянина образуют иностранца. Сего не довольно, и для преподавания наук они избирают иностранцев же, что усугубляет вред, воспитанием их разливаемый, и скорыми шагами приближает к истреблению духа народного. Воспитанники их и мыслят и говорят по-иноземному; между тем не могут несколько слов правильно сказать на языке отечественном».
Чтобы изменить установившийся порядок воспитания, граф Разумовский считал необходимым давать разрешение открывать пансионы, не иначе, как удостоверившись, что лица, желающие содержать их, не только обладают знаниями, но и доброю нравственностью; чтобы обращено было внимание на изучение русского языка и все предметы преподавались не иначе, как на отечественном языке, и чтобы, наконец, иностранные учителя допускались к преподаванию только по получении от русского училищного начальства письменных свидетельств о своих способностях, познаниях и нравственности. К сожалению, пристрастие к иностранцам было настолько сильно, что комитет министров, на обсуждение которого был передан доклад графа Разумовского, не нашел возможным согласиться с мнением министра. Комитет находил, что мера эта стеснительна и неудобна как для учителей-иностранцев, находящихся в провинциях, отдаленных от университетов и гимназий, так и для родителей, которые выписывают учителей из-за границы и вверяют им воспитание своих детей, предпочитая нравственное их образование учению языкам и наукам. Комитет пошел на полумеру и предложил внушить родителям, через предводителей дворянства, чтобы они выбирали в наставники людей, которые с необходимыми знаниями соединяли бы в себе и правила строгой нравственности [107].
Граф Разумовский не согласился с мнением комитета министров и указывал на то, что еще 5-го мая 1757 года последовал указ императрицы Елисаветы Петровны, чтобы все иностранные учителя имели от училищного начальства свидетельства о своих способностях и познаниях.
«Почему же, — спрашивал Разумовский, — мера, которая признавалась удобною в то время, когда повелено было со всей империи являться на экзамены в С.-Петербургскую академию и Московский университет, считается стеснительной теперь, когда y нас существует пять университетов и в каждом губернском городе гимназия, уездное, приходское, а в иных городах и другие училища? Правительство наблюдает меры относительно учителей отечественных.... для чего же должен быть изъят из сего иностранец, приезжающий в страну, его незнающую или вовсе, или по одной славе? Если он с должными познаниями, то ни мало не страшен для него экзамен; если он без познаний, то безжалостно должен быть отринут, как пожелавший обман поставить в замен сведениям... К сожалению, я должен почти согласиться в том, что родители вверяют иностранцам детей своих более для нравственного образования, нежели учения языкам и наукам: ибо родители вверяют им воспитание детей и учение. Но кому не известно, что большая часть родителей не понимает, что такое есть нравственное образование; что учением языков и наук они всегда почти заменяют понятия совершенного воспитания, и отыскивать образцы для нашей нравственности в чужих краях есть заблуждение, давно уже чувствуемое и истинными сынами отечества истребляемое, или, по крайней мере, порицаемое... Если все вышеприведенные меры и притеснительны, то и тогда бы они долженствовали быть наблюдаемы. Лучше поставить преграду злу, чем равнодушно взирать на пагубное его влияние» [108].
Государь согласился с мнением министра народного просвещения, и мера, предложенная графом Разумовским, была принята с восторгом всем обществом. В «Русском Вестнике» появилась статья, в которой издатель его, С.Н.Глинка, писал, что наконец монарх и правительство услышали искреннейшее желание всех истинных сынов отечества истребить зло, которое быстрыми шагами приближало нас к уничтожению «народного духа» и всего того, чем природа отделила русских от других племен запада.
О, сколь монарх благополучен,
Кто знает россами владеть;
Он будет в свете славой звучен,
И всех сердца в руке иметь! [109]
Предпринимаемая правительством мера могла оказать свое полезное действие только в далеком будущем, и пристрастие взрослого поколения к иностранцам продолжалось во все царствование императора Александра I. Путаница в понятиях, целях и интересах общества была так велика, что в ней трудно было разобраться. Даже отечественная война, встряхнувшая все состояния, не в силах была помочь делу. Правда, что во время военных действий явилось было самосознание, достойное великого русского народа, но буря утихла, и поклонение всему иностранному возобновилось. В № 72 «Московских Ведомостей» 1822 г. было напечатано: «Егерь из Германии желает определиться егерем или в гувернеры. Спросить на Моросейке». Это объявление, не различающее детей от собак, возмутило юного М.П.Погодина, и он стал мечтать о составлении особого общества для гражданской войны против преобладания y нас французомании, а его товарищ и друг, Кубарев, был того мнения, что нам нужен Великий Петр, который одним ударом мог бы «очистить моральный наш воздух» [110]. Зло сделалось общим.
Лучшие люди в государстве преклонялись перед французами, и дети, составлявшие цвет русского юношества, по-прежнему вверялись пришельцам, не имевшим нравственных правил и стремившимся поколебать веру наших отцов. Прежде всего заботились об этом, конечно, иезуиты, успевшие приобрести к себе полное доверие. Для воспитания юношества, как мы видели, была устроена ими коллегия, а в петербургских гостиных появились аббаты Николи, Розавены, Гривели, Журданы, и во главе их встал представитель изгнанного короля сардинского, граф де-Местр. Своим умом и тактом он успел обратить на себя внимание и в короткое время занял видное место в петербургском обществе. Большой балагур и любезный собеседник, де-Местр был желанным гостем и ежедневным посетителем лучших столичных гостиных. Одаренный замечательным, хотя и парадоксальным умом, начитанный и веселый, он говорил увлекательно и сильно. «Мысли свои, — говорит Васильчиков [111], — вполне чуждые и веку и стране, в которой он жил, излагал он крайне оригинально. Самая чужеземность этих мыслей была по вкусу нашему обществу, а стойкость убеждений сильно действовала на кичливых слушателей, которых де-Местр с своей стороны полюбил за гостеприимство и благодушие. Успехи и влияние де-Местра в гостиных ими однако не ограничивались. Его стали зазывать в свои кабинеты люди государственные и с свойственным русским администраторам чистосердечием, не стесняясь, открывали ему государственные тайны, поверяли ему всю неурядицу внутреннего строя и с благодарностью принимали его советы».
Де-Местр скоро увидел, что верхние слои общества бессильны противународным и легкомысленным (frivole) воспитанием, и их не трудно будет увлечь в лоно римской церкви. Народ, думал де-Местр, последует примеру высшего общества, как некогда принял крещение по примеру бояр. И вот возникла пропаганда способом наиболее пригодным, т. е. через женщин. Знатные дамы с увлечением читали Массильона, Бурдалу и услужливыми аббатами приготовлялись к принятию католицизма [112]. В гостиной y г.Свечиной или Головиной часто слышалась беседа графа де-Местра. To он ловко опровергал неверие, то насмехался над русским духовенством и как бы наивно спрашивал, отчего его никогда не видно в русских салонах. В своих шутках граф заходил иногда так далеко, что православное крещение, через погружение ребенка, называл рыбьим (la baptême poissonique) [113]. Все его слушали и восторгались. Если бы де-Местр, — говорит Стурдза, — был Феннелом или Флери, то не имел бы успеха, но, со своим догматизмом, он шел как нельзя лучше и обращения в католичество были довольно часты. Голицыны, Протасовы, Головины, Куракина, Свечина и многие другие перешли в латинство. Адмирал Чичагов, по своим близким связям с иезуитами и особенно с де-Местром, питал надежду, что русская церковь в близком будущем присоединится к римской, и изо всех сил старался помочь иезуитам в этом смелом замысле. Великосветские дамы открыто выражали свои симпатии к католичеству и между иезуитами искали себе руководителей их совести [114]. «Среди великосветских праздников заканчивалось отпадение от православной веры, уже заранее отчужденных от родины, отступниц. На балах и раутах, — как свидетельствует Свечина, — прошептывали свои отречения и лепетали первую свою латинскую исповедь новопросвещенные овцы иезуитского стада. Это было ново, заманчиво, романтично и резко отличалось от безхитростных приемов родной веры» [115].
Полупросвещенная молодежь, воспитанная в незнании родного вероисповедания, проповедывала безбожие, клялась Вольтером и Дидеро и в лучшем случае была индифферентна к вопросам религии. Шестнадцатилетний молодой человек говорил издателю «Друга Юношества» М.Невзорову, что его религиозно-нравственный журнал годится только для стариков, «а старикам-де ныне не век; ибо ныне во всех состояниях блестят большею частью молодые». Одна девушка была уверена, что Невзоров принялся за свое издание потому только, что был несчастлив в любви. Были и такие, которые говорили: «Максим Невзоров, писатель вздоров» [116].
В конце прошлого и в начале нынешнего столетия было переведено с французского на русский много книг, распространявших пренебрежение к религии и отчасти к православной. Тогдашняя благопристойность требовала, чтобы в обществе не говорилось ничего о благочестии даже и в шутку [117]. Большинство бредило философами и, не понимая сути их учения, видело в нем одно отрицание религии. Но с одним отрицанием человеку жить трудно, и он инстинктивно ищет опоры, нравственной поддержки, которые и находит в одной только религии; она всегда с нами, всегда примиряет нас с неравенством судьбы, с несправедливостями, часто встречаемыми в жизни, и даже раскаявшийся преступник только в ней одной находит свой покой и утешение. История прошлой жизни указывает, что неверие всегда влекло за собою беспорядки, тяжелые для общества, и часто ниспровергало могущественные царства. Напротив, дни благоденствия народов были вместе с тем и днями торжества религии. Вот отчего многие из наших отступников инстинктивно ощущали внутреннюю потребность так или иначе удовлетворить религиозному чувству и в этом отношении легко поддавались чужому влиянию. Россия представляла тогда картипу самого разнообразного религиозного движения, где представители разных исповеданий спорили за преобладание и приобретение большего числа последователей.
Конечно, несправедливо было бы обвинять поголовно все образованное русское общество того времени в безверии и отступничестве. Были и тогда люди истинно религиозные, полезные семье и преданные отечеству, но они жили особняком, отдельной жизнью, не сходились с атеистами и с подражателями модных идей [118]. Они строго исполняли завет родителей — чтить и хранить православную веру, т. е. ходить аккуратно в церковь, исполнять ее уставы и обряды, не есть в посты скоромной пищи и проч. Скованные одной наружной обрядностью церкви и лишенные возможности познакомиться с внутренним содержанием религии, они нашли его в мистицизме и увлеклись его учением. «История мистики показывает, что возникновение последней всегда было вызвано тем состоянием, в каком находилась господствующая церковь. Мистика развивалась обыкновенно как противодействие формализму и рассудочной теологии. Дух верующего, стесненный внешностью культа и оцепенелой догматикой, стремился освободиться от того и другого, и находил свое освобождение в чистой, внутренней, духовной религиозности: он погружался в мистическое созерцание [119].
Одно наше духовенство могло поставить это созерцание в рамки православия, но, как увидим, оно отличалось бездеятельностью и полной терпимостью ко всем учениям [120]. Терпимость благоразумна, но если она переходит в полное равнодушие, то служит доказательством презрения к собственному исповеданию, всегда гибельного для власти и общества.
«Правда, — писал В.Н.Каразин [121], — есть y нас церкви, так как есть театры, есть и духовенство, яко особливый класс людей. Но все это, признаемся, держится y нас не иначе, как старинный обычай из уважения к предрассудкам черни, — c'est toujours un frein pour le peuple — говорят министры, я разумею европейские вообще, ни мало не указывая ни на чье лицо в России...
«Но в России многие начали думать, будто Святейший Синод для того только существует, чтобы делать определения о скуфьях и разбирать обстоятельства брачных разводов. Впрочем, не могу винить мыслящих таким образом, вспоминая смешные анекдоты, разносимые молвою о делах, которые-де составляют большей частью упражнение сего почтенного места [122]; места, коего назначение есть блюсти над нравственным состоянием сорока миллионов народа, управлять христианским его просвещением или паче воспитанием. Такое попечение, составляющее дожность многочисленного класса людей, непрестанно обращающегося с народом, если бы оно надлежащим образом было управляемо, для благосостояния общества, без сомнения, должно быть действительнее полиции. Просвещение одного ума, или обыкновенное наше, так называемое просвещение, облегчает только способы, надоумляет только уклоняться от строгости законов, изострив между тем страсти и открыв им пространнейшее поле.
«Предоставляя духовенству самому говорить за себя, оплакивать свое незаслуженное уничижение, которое решительно ведет к уничижению проповедуемых им истин, прибавлю здесь только, что в России пренебрежение всего отечественного вообще, соединяясь с пренебрежением религии, еще усилили сие последнее».
Жившему особняком, в крайней бедности и притом почти неграмотному сельскому духовенству было не под силу бороться с учителями Запада, и потому оно не могло оказывать никакого влияния на дворянство, а среди более образованного черного духовенства было много таких лиц, которые следовали общему европейскому течению и, как увидим, сами увлекались мистицизмом.
III.
Краткая характеристика духовенства. — Его воспитание, положение в обществе и отношение к церкви.
Резкая грань, издавна положенная между черным и белым духовенством, делила его на две части, совершенно непохожие друг на друга в имущественном, правовом и общественном отношениях. Белое духовенство было бедно, черное же пользовалось относительным благосостоянием: священники едва не просили милостыни, архиереи жили богато и славились роскошным угощением. «Архиерею на Волге жить хорошо, записал князь И.М.Долгоруков [123], — рыба всегда живая и добрая».
Отделенное от других сословий и замкнутое в самом себе, белое духовенство составляло как бы отдельное племя, не имевшее никакого значения в народе. Познаниями духовных лиц никто не пользовался, голос священника был слышен только в церкви, и по своему положению духовенство не было принято ни в каком обществе.
Вся администрация находилась в руках черного духовенства, а белое не имело никаких прав и до 1802 года не было даже избавлено от телесного наказания. Попов и дьяконов секли кнутом на площади, не только за уголовные преступления, но их подвергали телесному наказанию и с целью исправительною. В первой половине 1800 года были наказаны кнутом два священника: Данилов, Костромской губернии Юрьевецкого уезда [124] и Иванов — Нижегородской губернии села Окинина [125]. Оба они были наказаны по приговору суда, но за маловажные преступления провинившегося священника архиереи без суда сажали на цепь, заковывали в кандалы или ножные колодки, бросали в подвальные тюрьмы и секли плетьми. «Наказываемый укладывался так, пишет Д.И.Ростиславов [126], чтобы владыка не вставая с дивана мог своими глазами видеть, плотно ли плети прилегают к телу. Больше всего секли причетников, затем дьяконов, но не давали спуску и священникам, особенно молодым. Наказание было жестокое; дедушка, которому не одного человека приходилось держать за руку или ногу, говаривал: У! жарко, бывало, дрожь пробегала по телу. Таким образом очень нередко священник, за несколько дней приносивший бескровную жертву, бывал высечен сам до крови».
Дело это было самое обыкновенное, никто не удивлялся и не возмущался. В некоторых архиерейских домах был устроен каменный не толстый столб, покрытый овальною чугунною крышкою, на которую и сажали провинившегося, руки привязывали к веревкам, другие концы которых прикреплялись к кольцам, вделанным в стены. Оставленный на таком неудобном сиденьи в течение нескольких суток, наказанный должень был стараться сохранить равновесие, не мог спать, переносил страшные мучения, и бывали случаи, что подвергнутые такому истязанию сходили с ума и даже умирали. Впрочем, не одни архиереи расправлялись так с подчиненным им духовенством, но настоятели мона-стырей и даже благочинные употребляли такие же средства [127].
В октябре 1802 года черниговский губернский прокурор донес министру юстиции, что по распоряжению первоприсутствующего в Конотопском духовном правлении протопопа Щербатского, священник Николай Андреевский был посажен за пьянство на цепь, оставлен в течение долгого времени без всякого присмотра и скоропостижно скончался от пострела. «Из сих обстоятельств усматривается, — доносил прокурор [128], — что по духовной власти, вместо долженствующей быть к удержанию преступлений умеренной строгости, употребляется жестокость без всякого исследования о преступлении и приговора для духовного правительства существующих».
Нередко исправительным и даже телесным наказанием духовные лица подвергались и от светского начальства, хотя это было совершенно незаконно [129]. Прокуроры и вообще светская власть не имела права вмешиваться в дела духовенства, и оно управлялось само собою, преимущественно единоличным произволом архиерея.
В 1805 году анонимный белгородский житель, в письме к князю A.Н.Голицыну, так характеризовал духовную власть, состоявшую из архиереев, консистории, духовного правления и благочинных. Он говорил, что архиерей — это губернатор, консистория — губернское правление и, вместе с тем, палаты гражданская и духовная; духовное правление — уездный суд и полиция, и наконец, благочинные — городские и земские комиссары.
По светской части стряпчий следил за исполнением обязанностей уездного суда, полиции и магистрата; он наблюдал за соблюдением законов во всей их точности, заступался за утесненных, обязан был отвращать взятки и поборы; о преступниках стряпчий доносил высшему начальству и извещал губернского прокурора. Последний сам и через губернских стряпчих наблюдал, чтобы законы были исполняемы везде в точности, и давал заключения по предложениям губернаторским. По духовной же части должности стряпчего и прокурора соединялись в лице секретаря консистории, находившегося в полной власти архиерея и консисторских членов. Эта зависимость делала секретаря безгласным исполнителем всех приказаний начальства, хотя бы приказания явно противоречили законам [130]. Он не смел даже возражать благочинным потому, что некоторые, по особенной связи с архиереем, а другие с его келейником, могли оговорить секретаря и лишить его места.
Вторым лицом при архиерее, часто еще большим по значению, чем секретарь, был келейник. Некоторые из них пользовались таким влиянием, что им давали название приказно-служителей и даже вице-архиереев. Взятки, неслыханные поборы, притеснения — вот действия келейника. При участии его провинившиеся наказывались не по мере вины, а по количеству взноса; в духовный чин производились не по достоинству, а потому, сколько заплачено. «Бездельники — в чести, говорит белгородский житель, честные люди — в гонении, все по прихотям и кого же? — келейника. Архиерей иногда одумается, но келейник, зная его слабости, пристрастие, недостатки, зная его сквозь, умеет оставить его спокойным. Притом же архиерей сидит всегда в четырех стенах и не может ничего сам собою видеть и слышать, а видит и слышит келейником, — словом, все чувства архиерея заключаются в келейнике: если скажет, что солнце черное, он и тому поверит».
По словам Иосифа Самчевского [131], келейнику, стоявшему всегда на запятках архиерея и исполнявшему обязанности лакея, предоставлялись лучшие священнические места, которые он продавал желающим. Отсюда происходило то, что богатые, но безграмотные дьячки получали лучшие приходы, а окончившие успешно курс семинарии ожидали их и получали худшие.
Келейники наживали огромные капиталы, были горды своим положением, хитры и до крайности мстительны, люди без раскаяния, если можно назвать их людьми. «От таких неустройств, говорит белгородский житель в конце своей записки [132], не только низшей степени духовные здесь в презрении y нас, но и о самых владыках говорят с малым уважением... Беспорядки духовных действуют и на самую веру. О Святейшем Синоде не так думают, по попущению таких злоупотреблений, как надобно чтить сие важное и знатное место».
Белое духовенство было в полном загоне, грубо и не образовано. Причиною тому было отсутствие духовных училищ, из коих многие получили существование только в начале XIX века. Так семинарии Пензенская, Оренбургская, Пермская и другие учреждены только в 1800 году. «Если по тогдашнему воспитанию, — говорит московский митрополит Филарет [133], — положить десять лет на совершение полного учебного курса и принять в рассуждение, что надобно было время приучить родителей отдавать детей в семинарии, то должно заключить, что только 10 или 16 лет тому назад (т. е. в начале десятых годов), как в сих епархиях начало родиться по небольшому числу ученых священников; следственно, продолжает служить еще великое число священников, получивших только домашнее причетническое образование».
К этому надо прибавить, что некоторые епархиальные архиереи ставили священниками исключенных из семинарий рослых учеников философского и риторического классов, попросту гайдуков, предпочитая их причетникам совсем неучившимся в семинариях, и забывая, что они исключены из этих заведений как неспособные или порочные и следовательно люди не благонадежные для священства. Такое ставление священников было воспрещено указом Синода только 8-го октября 1815 года и разрешено доводить исключенных из семинарий не выше диаконского чина.
Самое воспитание в семинариях и даже духовных академиях не было применено к потребностям духовного служения. В начале XIX столетия в России было четыре духовные академии (Петербургская, Московская, Киевская и Казанская), 36 семинарий, 115 низших духовных училищ, в которых обучалось 29 т. человек, а на содержание их отпускалось всего 185 тысяч рублей или по 6 руб. 40 коп. в год на человека [134]. Сумма эта была, конечно, недостаточна, и своекоштные семинаристы содержались на счет родителей, смотря по достатку их. Поэтому ни в одежде, ни в постелях формы не было: одевались кто во что мог. «Иные не имели лучшей одежды, как затрапезный сюртук, иногда не нашивали брюк; постели бывали разные, от тюфяка до войлока, с подушками, набитыми сеном». Казенно-коштным семинаристам выдавали набитые шерстью тюфяки, шерстяные одеяла и подушки, набитые перьями. Суконный сюртук выдавался на три года, старый отбирался и, перешитый, шел на одежду младших учеников. Кормили очень плохо, и семинаристы были почти всегда голодны; пища приготовлялась небрежно и до отвратительности грязно; печеный картофель считался лакомством, да и тот покупался на свои деньги. Семинаристы сами мыли комнаты, чистили подсвечники, топили печи. В пекоторых семинариях классы не топились совсем, и зимою было так холодно, что рта открыть было невозможно. Полы мылись раза два в год, белье менялось через две недели, и редкий из учеииков был свободен от насекомых, развивавшихся в голове и белье. «Был один товарищ y меня, говорит П.С.Казанский [135], — который имел одну только рубашку и ту в лохмотьях. Поэтому не ходил и в баню, не имея чем переменить белья. Другой товарищ, сын сельского дьячка, обременного семейством, чтобы иметь возможность внести деньги за свое содержание в семинарии, в вакацию нанимался возить камень на шоссе». Некоторые заработывали себе деньги пением и чтением в приходских церквах, уроками чистописания, проязношением по домам праздничных стихов, речей и диалогов. Были и такие, которые нанимались y хозяев носить воду, рубить дрова и служили вместо чернорабочих поденщиков [136]. «Часто от глада томимый, Фотий запасал на случай недостатка дубовые орехи, или желуди, ел сырые, и печеные» [137].
В общем семинарии и прочие духовные училища не имели ни систематической организации, ни правильной постановки учебных курсов. Каждая семинария управлялась по-своему, и преподавание в ней шло по желанию и указанию местного архиерея. Заботился он об училищах, — дело шло удовлетворительно, не заботился, — и учителя и ученики, ничего не делая, вместе пьянствовали. Старые риторы, т. е. ученики — оставшиеся на 2-й год, всем обществом, человек по 40 и по 50, отправлялись в кабак, выносили на лужайку четверку и распивали ее с самодовольствием.
В 1805 году псковский губернатор Ламздорф жаловался архиерею Иринею, что по обнаружившимся покражам в Пскове и по другим развратным действиям «участие в них семинаристов было несомненно» [138]. Бегство из семинарий, воровство и кулачные бои случались нередко. Бежавших учеников отыскивали через полицию, заковывали в ножные железа и присылали в консисторию под караулом. Из «Истории Рязанской епархии» можно видеть, что беглецы считались десятками, а иногда в семинарии оставалась только половина, а другая находилась в бегах.
Сами родители утаивали y себя бежавших из семинарии детей, конечно, не от хорошей жизни, а от дурного содержания и сурового обращения. Семинаристов били по щекам и подвергали жестоким телесным наказаниям. «Розги из березовых или ивовых прутьев, — говорит Д.И.Ростиславов [139], —считались недостаточными; в каждом из правлений семинарских всегда висело несколько ременных плетей с двумя и тремя хвостами; эти плети в случае надобности были приносимы в классы и при помощи опытной и крепкой руки покрывали обнаженные части тела рубцами, которые оставались видными иногда спустя даже несколько недель после операции. При том, одну плеть, одну лозу находили недостаточными; часто и даже очень часто на наказываемого сыпались удары с двух сторон; а чтобы он своими движениями не мешал плети или лозе падать на те именно места, на которые метил экзекутор, или, как обыкновенно их называли, секутор, наказываемого держали не только двое, а даже четверо и пятеро сторожей или товарищей».
Собственно говоря в наказаниях была своего рода постепенность; за первые две вины ограничивались выговорами, за третью наказывали «шелепами», то есть палками, за четвертую плетьми, за пятую — тюремным заключением на неделю и т. д.; за воровство заковывали в кандалы, сажали в семинарскую тюрьму и наказывали плетьми. Самыми легкими наказаниями, по словам преосвященного Макария, считалось стояние на коленах с истязанием для рук и ног, голодный стол, карцер, пали [140] и розги. Суровое обращение с семинаристами было причиною того, что родители не охотно отдавали в «науку» своих детей и провожали их в бурсу с горькими слезами. В семинарии забирали тогда силою, и многие отцы считали счастьем для своего сына, если он, избегая школы, успевал остаться в числе церковников или приписаться к крестьянскому сословию. «На школьное учение, — говорит преосвященный Макарий [141], — смотрели как на повинность, как на военную службу, как на место истязаний. Только невольное и усиленное принуждение могло собрать в семинарию детей. Потому весьма редкие с любовью к наукам проходили все классы; большая часть учащихся с первого же года смотрела вон из семинарии».
Семинаристы весьма часто были таких солидных лет, что наука не шла им в голову. Чтобы расположить их окончить курс и вместе с тем заставить поступить в духовное звание начальство разрешало им жениться и даже посвящало в священники с тем, чтобы они в этом звании докончили свое семинарское образование. Некоторые женились без позволения начальства, за долго до окончания курса, и бывали случаи, что засидевшийся отец выходил из семинарии, а старший сын его поступал в нее.
Во главе духовного воспитания должна стоять прежде всего нравственность потому, что и глубокое изучение догматов не принесет пользы, если человек останется безнравственным. Догматы должны служить только опорою для нравственных потребностей совести и сердца каждого, обряды же только в том случае имеют значение, когда ими развивается и поддерживается религиозное настроение. Этого-то и не было в семинариях. «Если сохранились в ком-нибудь из нас залоги добра, — говорит П.С.Казанский [142], — если вышел из воспитанников нашей семинарии какой-нибудь добрый священник, то единственно обязан он первоначальному воспитанию, молитвам родителей, действию благодати и урокам жизни, а не попечению начальства. Оно ничем не возбуждало религиозного чувства».
До преобразования духовных училищ в 1808 году, все предметы, не исключая и русской словесности, преподавались на латинском языке. От этого многие ученики отличались только знанием этого языка и искусством писать латинские стихи. «Для достижения и поддержания сей славы, — говорит митрополит Филарет [143], — ученики особенные усилия и большую часть времени употребляли на изучение латинских ораторов в стихотворцев. От сего происходили священники, которые довольно знали латинских и языческих писателей, но мало знали писателей священных и церковных; лучше могли говорить и писать на латинском языке, нежели на русском; имели память обремененную множеством слов, но ум не оплодотворенный живым познанием истины».
Богословие преподавалось исключительно на латинском языке, и руководством служила книга преосвященного Феофилакта, составлявшая не более как выдержки из лютеранского богословия Буддея. Пристрастие к латинизму имело дурное влияние уже по тому, говорит Филарет, что латинский язык по первоначальному своему образованию есть язык народа языческого, по теперешнему употреблению — язык церкви западной, а языком церкви восточной никогда не был и быть причины не имеет. Логику преподавали по Бакмейстеру, риторику — по Бургию, а математику, историю и географию считали предметами неважными и для преподавания их не находили достаточно знающих учителей. В последних был огромный недостаток. В Коломенской семинарии, где учился митрополит Филарет, было три учителя: один доморощенный, другой окончивший курс в С.-Петербургской духовной академии и третий — в Троицкой семинарии, и из всех трех доморощенный оказался лучшим. В 1800 году в Лаврской Московской ceминарии, куда перешел Филарет, философию учил молодой иеромонах Мельхиседек Минервин, который сам был не тверд в этой науке. Вообще философия понималась очень трудно, но идеи западных философов и энциклопедистов проникли и в духовные училища. Основанием философии было учение об идее бесконечного, как основном пункте нашей духовно-нравственной деятельности. Это учение излагалось словами Поарета, в системе которого веял мистический дух. Семинаристы увлекались системою «дружною с откровением и говорящею сердцу и воображению» [144]. В богословии говорилось только о книгах священного писания, да и то Ветхого Завета. Общие наши с протестантами трактаты, например о св. Троице, об искуплении и т. п., проходились порядочно, а другие, например о церкви, совсем не были читаны [145]. Богословские понятия, излагаемые на латинском языке, скованные слишком тяжелою школьною терминологиею, трудно понимались учениками, а по выходе из семинарии с трудом перелагались на русский язык, для сообщения их народу. Вся семинарская ученость заключалась преимущественно в ораторстве. Студентов учили писать стихи, и если являлись поэтические дарования, то они заглушались прозою семинарской жизни, нуждами и лишениями всякого рода и, наконец, долблением, не дающим пищи ни чувству, ни воображению. Полное же незнакомство с первоклассными нашими поэтами, читать которых запрещалось, как нечто вредное и безнравственное, было причиной, что из воспитанников семинарии не являлось поэтов, и стихи писались только по заказу.
Вместо испытаний и поверки знаний в науках устраивались так называемые диспуты, при которых ученики разделялись на две стороны: с какою твердостью один защищал истину, с такою же дерзостью другой усиливался доказать ложь; ловкое возражение было одобряемо не меньше, если не больше основательного опровержения. «Отсюда — склонность к спорам часто соблазнительным и никогда не полезным для наставления народа, потому что и возражение и решение их большею частью в школе выдуманы, в школьном виде представлены и не входят в круг понятий, обращающихся в народе».
Вообще положительных знаний выносилось очень немного. «Конечно, догматы веры я знал, — говорит П.С.Казанский [146], — мог разссуждать о них, но историю церкви христианской знал мало. Философия почти вся улетела из головы. По-латыни мог писать и читать без затруднения. По-гречески познакомился с грамматиками Бюрнуфа и Попова. По-немецки мог читать книги, но только при помощи лексикона. Мысль моя была довольно развита. Чтение аскетических сочинений и духовных книг, изданных в России во втором и третьем десятилетии нынешнего века, дало отчасти мистическое направление моим мыслям. Но знания людей, знания жизни я не имел никакого. Что было бы со мною, если б я поступил в священники в село? He могу и представить, что бы было при встрече с действительностью. В продолжение всего учения о пастырских обязанностях y нас не было и речи».
Воспитанный в латинской схоластике, с знаниями сухими и холодными, с недостатками одушевления и совершенно незнакомый с жизнью, семинарист делался священником и попадал в обстановку, далеко не привлекательную. Сын бедных родителей, а иногда и сирота, ничего не имеющий, сделавшись священником, обязан был купить дом своего предшественника и следовательно с первого шага войти в долги. В большинстве случаев он сам должен был обработывать землю, сам хлопотать около дома, сам припасать все необходимое для жизни; брать же в руки священные книги ему не было времени, да и купить их было не на что, денег не хватало на самые насущные потребности. Многие священники вместо сапогов носили лапти и в них служили в церкви. Отправляя своего сына в Петербург, отец Г.П.Павского сшил ему сюртук из единственной своей рясы, а сам остался ходить в одном подряснике [147]. Отец Фотия заработывал деньги тем, что рубил и возил лес на крестьян. Но заработок этот был ничтожен, и в июле, перед жатвою, в доме вовсе не было хлеба. Фотий собирал огородную траву, посыпал ее солью и тем насыщал себя.
Такая бедность заставляла духовенство входить в дела непристойные и пользоваться руками прихожан в пособие к возделыванию земли. Это пользование, по тогдашним понятиям, было сопряжено с грехом и нарушением правил религии, ибо крестьяне соглашались помогать священнику не иначе, как в праздничные дни. Завися вполне от прихожан и их ничтожной платы за исполнение треб [148], сельский священник по необходимости должен был приобретать их расположение, применяться к их обычаям, вкусам и даже пьянствовать вместе с ними. «Крестьяне, говорит современник [149], идут прямо с паперти в кабак, против храма Божиего, от которого отделялся только проезжею дорогой. Туда же, управившись в церкви, спешат священнослужители. Последние, говоря правду, держали себя несообразно с достоинством духовного сана... Сколько раз, возвращаясь с полевой прогулки, мы находили отца Селивана лежащим на церковном погосте в беспамятстве, с раскинутыми врозь руками?»
Пьянство было господствующим пороком духовенства, доходившего в этом отношении до полной неблагопристойности [150]. Фотий старался удержать своего отца от этого порока, но за это был бит по щекам местным священником. Последний был собутыльником отца Фотия и вместе с ним пьянствовал; понятно, что вмешательство Фотия было неприятно попу.
«Дня через три, либо менее, — писал Филарет деду [151], — сойду я на другую квартиру, именно к дворнику Рождественского попа, к такому же пьянице, как и сам поп... Выдан указ (Синода) [152], чтобы кутейники не хватались за вино, а знали бы кутью».
Но указ не помогал, в священники продолжали пьянствовать, драться с прихожанами у кабаков и на базаре, и тиранствовать в семье. Достаточно прочитать записки Д.И.Ростиславова, чтобы убедиться в справедливости сказанного [153].
С каждым днем по выходе из семинарии, священник все более и более дичал, грубел, забывал о своих обязанностях, терял уважение к церкви и религии, и смотрел на свой сан, как на ремесло известной касты или цеха. В Уфе был священник Ласточкин, который во время Причастия громко сказал одной даме: «Что ты боишься что-ли рот-то открыть? Ну, куда я тебе лжицу просуну?»
Сконфуженная молодая дама открыла рот со всем усердием.
— Смотри пожалуй, проговорил тогда священник: она никак уж и меня с сосудом проглотить хочет [154].
Сохранилось много свидетельств об унижении церкви самим духовенством, и мы приведем одно из них. В селе Белоомуте, отстоявшем не более, как в 150 верстах от Москвы, в десятых годах настоящего столетия дьякон Евфимий Денисов в стихаре шумел, прыгал и делал такие «наглости», которые свойственны только сумасшедшим. Неоднократно выбегал он из алтаря и в присутствии прихожан, оставшихся служить панихиду, произносил ругательные слова. Случалось, что во время службы, дети запирались в алтаре, бегали вокруг престола, шумели и кричали. Причетники на горнем месте, сидя на стуле, часто стригли волосы, вытирали руки ризами, вызывали друг друга на кулачный бой, облокачивались на жертвенник и проч. «И посему, сказано в конце донесения [155], церковь наша толико уничижена, толико поругана, толико обесславлена студными их делами. что весьма прилично сказать о ней словеса Господни: «дом мой — дом молитвы наречется, вы же сотвористе его вертеп разбойникам». И святый алтарь y них не что иное, как торжище, где происходят беспрестанные счеты, поверки, крики и ругательства, что весьма обезображивает сие святое место я делает презренным для самих прихожан».
Прихожане не уважали духовенство, а дворяне и помещики смотрели на него с некоторым пренебрежением и держали в загоне. Священники же напротив относились к помещикам с подобострастием. Встречаясь, например, с детьми помещика, священник, вместо того, чтобы благословить их, говорил: «А здравствуйте, молодые господа; пожалуйте ручку» и целовал ее.
Подобные пастыри не могли иметь никакого влияния на паству. «Могли ли они указывать на сучки своих прихожан, когда из их собственных очей торчали целые бревна» [156]? Если они и поучали в известные праздники, то эти поучения не внушались ни сознанием священнического долга, не вытекали из убеждения в истине и важности проповедуемого, а были исполнением предписанного, часто внешним очищением совести.
Проповеди поучительны и полезны только тогда, когда, применяясь к потребностям времени, служат выражением господствующего душевного настроения или живым укором порока, укором, подкрепляемым всем доступными христианскими истинами. Церковь призвана к воздействию на общество живым словом проповеди, приноровленной к его потребностям и интересам. Но слово человека, не знающего и не желающего знать действительной жизни, не может быть затрагивающим, метким, интересным и поучительным. Большинство же проповедей того времени составлялось и говорилось по «Руководству к церковному красноречию, с примерами из св. Писания, Святых отец и славнейших ораторов христианских». Книга эта, как переведенная с иностранного языка, мало была пригодна для православного проповедника; но и ею могли пользоваться лишь немногие священники. Большинство не в состоянии было написать проповедь и передать со смыслом катехизические понятия. Семинаристы готовились во священники, — пишет П.С.Казанский, — «чтобы проходить эту должность так, как проходят их отцы: служить обедни, совершать требы и раз в год сказать где-нибудь в уездном соборе проповедь. Они готовились к этому, списывая лучшие проповеди учеников семинарии и, если случится — профессоров. У иного до 200 проповедей наготовлено. А подумать о том, приложимы ли эти проповеди к тем слушателям, которые будут y них, им и в голову не приходило. И знаю из многих примеров, что написать проповедь священнику самое величайшее мучение. Даже не то, что написать, но и переписать готовую не в состоянии иные благочинные Московской епархии. Тем менее можно ждать от них беседы со своими прихожанами в храме Божием» [157].
Если бы такие пастыри стали поучать народ, то при их положении и низком уровне нравственности, они были бы похожи на того пастора, которому духовный сын его намекнул, что человек, преследующий пьянство с кафедры, должен бы был прежде всего сам вылечиться от этой болезни.
— Любезный друг, — отвечал пастор, — мне платят триста талеров в год за то, чтоб я отучал вас от крепких напитков, но чтобы мне самому не пить их... да я за это не возьму с тебя и грех тысяч [158].
При таких условиях сельское духовенство не могло оказать пользы ни нравственности, ни религии. Черное духовенство того времени было в общем не лучше белого. «Духовные сделались совершенными торгашами, — писал М.Невзоров князю A.Н.Голицыну [159], — стараются только умножить свои доходы отдачею в наймы домов, подвалов, огородов и подобного. Свидетельством тому служат все подворья архиерейские и монастырские в Москве, составляющие гнезда трактиров, харчевен, постоялых дворов и лавок к единой роскоши служащих. Религию же Христову и богопочитание они (духовные) заключают только в умножении золота, парчей и жемчугов церковных, почему явные грабители, делающие в монастыри и церкви вклады, становятся y них лучшими христианами; истинные же поклонники Иисуса Христа, старающиеся о распространении истинного духа евангельского, почитаются от них безумными, фанатиками и подвергаются гонению... Всего же чуднее, что начальствующие монахи ныне начали явно говорить, что они не монахи, а начальники и правители церкви, а постригаются в монахи только для поддержания религии». — Для чего же они постригаются, — спрашивал Невзоров, — для чего дают страшные обеты и клятвы? Неужели таким явным клятвопреступлением поддерживается вера Христова, и не служит ли это явным соблазном и развратом?
Конечно, между темными пятнами были и светлые точки, даже звезды, резко выделявшиеся из всего сословия, но и они отдали дань своему веку.
Когда, в начале настоящего столетия, по преобразовании духовных училищ, учреждали на новых началах Петербургскую духовную академию, то, за неимением отечественных ученых, решено было на некоторые кафедры пригласить ученых из-за границы. В числе приглашенных на кафедру еврейского языка был известный ориенталист, доктор философия Игнатий Фесслер, находившийся тогда в Берлине. Прежде католический монах, потом принявший лютеранство и женившийся, Фесслер был масон и по приезде в Петербург завел y себя домашнюю масонскую ложу. Около этого же времени появился в немецких журналах разбор его сочинения «Терезия», в котором сказано было, что Фесслер прошел все степени веры, сомнений и знаний, потерял первую, отринул последние и сделался идеалистом. Влияние Фесслера на своих учеников было обширно. «Я помню, — говорил Филарет [160], — что один студент вышел из академии без веры в Искупителя, как Бога». Фесслер признавал Иисуса Христа не более, как величайшим философом. Он был удален из академии после того, как подал конспект по древностям восточной церкви, где между прочим высказал мысль, что богослужение слагается из двух элементов: лирического и драматического.
He один, впрочем, Фесслер вселял в своих учениках такого рода идеи, но еще до преобразования духовных училищ в Петербургской академии было много неверующих студентов [161].
Граф M.М.Сперанский свидетельствует, что во время пребывания его в Александро-Невской семинарии был учитель, который или был пьян, или трезвый проповедовал учения Вольтера и Дидеро [162]. С такою подкладкою ученики переходили и в Петербургскую духовную академию. В Киевской, — по словам И.Ф.Тимковского, — студентам не воспрещалось читать всякого рода книги, и он два раза сряду прочитал как благовестие — не как поэму — «Юнговы ночи», в переводе Гамалея. За «Юнговыми ночами» последовало чтение «Oeuvres spirituelles par Fenelon» и проч. [163] Мистические сочинения читались с большим увлечением и в С.-Петербургской духовной академии, в особенности сочинения Ю.Штиллинга и Эккартгаузена. «Св.Отцов, — говорит Фотий [164] — не давали читать из академической библиотеки, ибо никто совета не подавал и примера. Толковники на св. писание были рекомендованы и выдаваемы немецкие и прочие иноверные, более ко вреду, нежели на все полезные».
Наиболее образованное духовенство как белое, так и черное, само увлекалось тогдашним общественным движением: переводило творения Жан-Жака Руссо [165] или с увлечением читало мистические сочинения. В числе последователей мистицизма или по крайней мере сочувствовавших ему были: митрополиты Платон, Амвросий [166] и Михаил; архиереи: Феофилакт (Русанов), Иона тверской, Даниил могилевский и витебский, Симеон Крылов тульский, Онисофор вологодский, одесский архимандрит Феофан и в молодости Филарет, впоследствии митрополит московский. Из белого духовенства мы можем назвать: священника в Балте Феодосия Левицкого, подольского —Федора Лисеевича и наконец дошедшего в этом отношении до фанатизма иеромонаха Иону, законоучителя Морского кадетского корпуса.
Из всех этих лиц наиболее выдающимся деятелем в религиозном движении начала столетия был епископ калужский Феофилакт, стоявший во главе партии нецерковного направления [167], занимавшийся преподаванием в С.-Петербургской духовной академии антихристианской эстетики [168], переводивший Боэция, Ансильона и составивший руководство Богословия, заимствованное из лютеранской книги Буддея.
Земляк Ломоносова, школьный товарищ Сперанского, Феофилакт Русанов окончил курс в Невской семинарии и, по выходе из нее, довершил свое образование изучением новейших иностранных языков. Знакомый с богатою французскою литературою и с философиею Канта, Феофилакт любил говорить по-французски и оттого получил в обществе название «французского архиерея», а среди духовенства — Бриена [169]. Это был скорее светский человек, чем архипастырь, увлекавшийся западным движением и большой поклонник Фенелона.
«О Фенелон! — писал Феофилакт [170], — какой блистательный ум за честь бы себе не поставил быть творцом твоих произведений! Какое доброе сердце не поревнует тебе в делах живыя веры! Признаюсь вам, почтенный и любезный мой друг, что до сего времени слегка только знал я о сем тайнике благодати, и вы ничем лестнее одолжить меня не могли, как заманчивым вызовом короче с ним мне познакомиться. О, когда бы мог я сблизиться с вами по таинствам выхваляемой им духовности, сколько лобызаю нежную и горячую его любовь ко Христу! Но ощущаю в душе моей нечто нас разделяющее, и это меня тревожит. Мне кажется, что никогда не должно ходить по крайностям; и духовные сочинения Фенелона всеместно почти отзываются чрезвычайностью».
Эту чрезвычайность Феофилакт находил в стремлении Фенелона уничтожить все действия природы на человека, заставить умертвить самолюбие, отказаться от земного благополучия и восстановить сообщение с божеством, то сообщение, которое имел первый человек до грехопадения — словом, свести рай на землю.
Бывая часто y своих родственников в Тульской и Калужской губерниях, князь A.Н.Голицын, еще до назначения обер-прокурором Синода, имел случай узнать полезную административную деятельность Феофилакта. С поднятием вопроса о преобразовании духовных училищ, кн. Голицын вызвал Феофилакта в Петербург, и ему повелено было присутствовать в Св.Синоде. Поддержанный двумя близкими ему лицами — кн. A.Н.Голицыным и M.М.Сперанским — Феофилакт с самого вступления своего в Синод занял там первенствующее положение. Изящные манеры, бойкость речи и обширное образование привлекли на него всеобщее внимание. Он очень понравился императрице Марии Феодоровне и очаровал ее правильною и бойкою французскою речью. Познакомившись с религиозно-мистическим настроением кн. Голицына и Сперанского, архиепископ Феофилакт часто беседовал с ними об известном шведском мистике и духовидце Сведенборге, которому сам сочувствовал и советовал прочитать его Филарету, тогда еще молодому иеромонаху. Склонный к увлечению всем таинственным, Филарет последовал совету, ознакомился с мистическими сочинениями, и первые его проповеди наполнены были мыслями главнейших представителей мистицизма.
Митрополит Михаил по воспитанию своему принадлежал к Новиковскому «Дружескому обществу», учился там вместе с А.Ф.Лабзиным, и через священника Малова находился в сношениях с сектою Татариновой. Проповеди Михаила имели вполне мистический характер. Хождение в церковь, поклоны, чтение наизусть молитв, совершение обрядов он называл наружным богослужением, знамением истинного богослужения, не составляющим его самого. — Наружное богослужение, по его словам, только тогда приятно Богу, когда соединено с внутренним, а без такого соединения оно ничто, пользы не приносит и угодно Богу быть не может [171].
— Мы, говорил Михаил в одной из своих проповедей, — с духом сокрушенным и с сердцем смиренным должны служить Богу не только тогда, когда во храме находимся, когда молитвы деем, но должны тако служить всегда, во всякое время и на всяком месте. — Внутренность наша должна быть походною церковью, а внутренний человек священником, всегда в ней перед Богом служащим, всегда себя Ему в жертву, в чистоте и святыне приносящим. — Такое расположение сердца, таковое положение духа, таковое служение внутреннего человека имеет важные последствия; оно действительно может участвовать в соединении с Богом и следовательно в наслаждении вечным блаженством.
Возвышая внутреннее богослужение на счет внешнего, митрополит Михаил, конечно, признавал равенство всех исповеданий, не давал предпочтения ни одному из них и вместе с мистиками подрывал значение внешней церкви.
Таково было направление блестящих духовных единиц того времени. Все же остальное черное духовенство коснело в невежестве, ограничивая свою деятельность духовным регламентом и грозными преданиями Петровского времени.
Английских миссионеров удивляла терпииость нашего духовенства и его безучастие в вопросах религии. — «Если только, — писал Пинкертон [172], — вы удержитесь от спора относительно исхождения Св. Духа, числа таинств, призывания святых, молитвы за умерших и проч. — вы можете выставлять все жизненные учения Евангелия, без опасения, чтобы труд был отвергнут духовными властями».
«В нашей обрядной церкви, говорит Н.И.Пирогов [173], по крайней мере во время моего детства, а в деревнях, как вижу, и теперь еще Евангелие считается попами и прихожанами священным не по содержанию, не по мыслям и изложенному в нем учению, а священным, как предмет формально; так и слова молитв считаются священными, как слова, — слышанные, прочитанные они должны оказать благодатное и спасительное действие на слушателя и читателя».
Растолковать слова Евангелия, внушить народу истины религии и бороться против безверия духовенство было не в состоянии. Правда, что в начале настоящего столетия появилось несколько духовных сочинений, направленных против неверия, но они, не разъясняя истин религии, имели часто полемический и даже юмористический характер.
Первым по времени сочинением, направленнмм против учения философов и мистиков, было появившееся в 1803 году сочинение священника Московской единоверческой церкви Ивана Полубенского под заглавием: «О внешнем богослужении и наружных действиях человека христианина». Автор задался обширною программою: дать ясное и точное понятие об истинном смысле и разуме Евангелия тем, которым оно не ясно; указать на слабые места философских систем; опровергнуть мнения иностранных писателей по церковным и богословским вопросам; писателям книг религиозных дать необходимые наставления; открыть секрет, узнать антихристовых служителей; научить узнавать, кто уклоняет в сторону истинный смысл Христова учения; представить в ясном виде внутреннее течение христианства; сокрушить ложночтимые истуканы; иерихонские стены греха гласом трубным поколебать и проч. проч. Автор изложил свои мысли в трех томах, но, к сожалению, при всех своих достоинствах, сочинение это написано в ироническом, сатирическом и комическом тоне [174]. Самая книга посвящена театралам, потому что церковь всегда будет не доверять театральной нравственности, медикам — потому что христиане по телу имеют большую связь (сношение) с ними; следовательно, чтобы всякий знал, что церковные учреждения соображены с натурою человека и с правилами самой медицины и что благонамеренная медицина не может противоречить церковным учреждениям. Наконец книга посвящалась еще и всем отъезжающим за границу. «Многие, — говорит автор, — отъезжают на долгое время и с переменою места переменяют отечественные мысли в рассуждении самого закона (христианского). Для многих путешественников медики и театральные служат вместо духовников: по совету одних управляют они свою наружность, а по наставлению других свою внутренность. Для того предложены по возможности все нужные сведения, чему там (особенно в Париже) полезному в рассуждении религии научиться можно и от чего вредного предохраниться. По многим причинам мы советуем путешествующим — на границе французской прочитать про себя символ веры и в мысленных вместительных (скобках) включить следующее: «Распятаго же за ны при (французе) Понтийстем Пилате», прибавив к тому в мысли Руфиново замечание: «Iulianus in Gallia Christum abnegavit, т. e. Юлиан в Галлии Христа отвергся». Сие сказано по великому множеству французских книг, предосудительных для христианства».
В таких вопросах, как религия, ирония и юмор не уместны; только спокойное и беспристрастное изложение может принести пользу, и книга Полубенского не достигла той цели, с которою писалась. Напротив, многие осуждали такой прием, как не соответствующий цели. В подобной полемике некоторые, в том числе и M.М.Сперанский, видели тот главный недостаток, что авторы говорили в своих сочинениях не с истинными христианами, а с безбожниками и деистами.
«Я считаю, — писал М.М.Сперанский преосвященному Феофилакту [175], — что первое нужнее бы было, нежели последние; мне кажется, что всякий пастырь должен стараться сохранить и усовершить стадо, ему вверенное; должно стараться, чтобы те, кои называются верными, были таковыми не именем только, но и самым делом; а чтобы неверные или овцы иже не суть от двора его приведены к нему были... Я не думаю, чтоб спор и препинание с противниками были лучшим к тому средством. Споры возбуждают только пытливость духа и редко производят убеждения».
Феофилакт не разделял этого убеждения и говорил, что ревностный пастырь должен действовать против деистов, «которые своими издевками все испровергают» [176]. Он забывал, что в общей сложности деистов было меньше, чем лиц, приверженных к религии, исполнявших всю обрядовую ее сторону, но незнакомых с внутренним ее содержанием, по ведостатку толкований и наставников.
— Приставленные ко мне дядьки, — говорил император Александр квакеру Греллэ-де-Мобилье [177], — имели некоторые добрые качества, но не были верующими христианами, и потому первоначальное воспитание мое не было соединено с какими-либо глубокими нравственными впечатлениями. Сообразно с обычаями нашей греческой церкви, меня приучили формально повторять утром и вечером известные заученные молитвы; но этот обычай, нисколько не удовлетворявший внутренним потребностям моего религиозного чувства, скоро надоел мне. Случалось между тем не раз, что я, ложась спать, живо чувствовал в душе свои грехи и разные нравственные недостатки своего образа жизни; возникавшее при этом сердечное раскаяние пробуждало во мне потребность встать с постели и среди ночной тишины броситься на колени, чтобы со слезами просить y Бога прощения и силы для большей бдительности над собою на будущее время. Это сердечное сокрушение продолжалось несколько времени; но мало по малу, при отсутствии нравственной поддержки со стороны окружающих лиц, я стал реже и слабее чувствовать в себе эти спасительные движения благодати; вместе с мирскою рассеянностью, грех стал более и более владычествовать в моей душе.
Воспитатель его, Лагарп, мог сообщить ему лишь смутные представления о Боге. Законоучитель протоиерей Самборский, человек сам не богословского образования, заботился только об аккуратном исполнении обрядов православия. Тем не менее потребность в религии выработала в Александре универсальную религию сердца, одинаково мирившуюся со всеми вероисповеданиями и ни одному из них всецело не принадлежавшую, близкую более к протестантскому мистицизму, чем к православию. Желание познакомиться с внутренним содержанием религии заставило Александра, под предлогом осушения болот Петербурга, выписать из Англии квакера Даниила Виллера.
— Не осушение болот, — говорил Александр впоследствии квакеру Греллэ-де-Мобилье, — и не другая какая-либо нужда была причиною того, что я вызвал сюда некоторых из ваших друзей, нет, мною руководило желание, чтоб их истинное благочестие, их честность и другие добродетели послужили для моего народа примером к подражанию [178].
He один император Александр, но в многие другие были утомлены формами и обрядами внешней церковной жизни и искали внутреннего, существенного и действительного наставления в вере. Но духовенство было немощно и бессильно, чтобы прийти на помощь к этим людям, в сущности идолопоклонникам, и почин в разъяснении внутреннего содержания религии приняли на себя люди светские. Они впали в крайности, быть может, много пересказали лишнего в своих догматических толкованиях, но принесли обществу несомненную пользу на пути его нравственного очищения, духовного возрождения и усовершенствования. В числе таких толкователей видное место занимает Александр Федорович Лабзин.
ІV.
Рождение и юность А.Ф.Лабзина. — Поступление в Московский университет — Первая служба. — Любовь к чтению книг св. писания. — Первые литературные шаги — Мысль о необходимости издавать религиозно-нравственный журнал под заглавием «Сионский Вестник». — Сочувствие к журналу со стороны общества. — Затруднения в издании в причины тому. — Прекращение журнала.
Лабзин был сын бедной дворянской семьи, имевшей всего четыре души дворовых людей. Он родился в Москве 28-го апреля 1766 года и с самых ранних лет обнаружил большую любознательность и охоту к наукам. «Я начал учиться арифметике, говорит он, будучи еще лет шести, для того только, что учитель, который приходил учить меня писать, в разговоре сказал мне, что можно узнать, сколько раз колесо от Москвы до Петербурга обернется и сколько иголок на дороге уляжется. Сие показалось мне невероятным. Как можно, думал я, перечесть такую бездну иголок и успеть пересчитать, пока колесо вертится?... Учитель мне отвечал, что есть такая наука, помощью которой сие удобно исчислить можно».
— Какая эта наука? спросил Лабзин.
— Арифметика, отвечал учитель.
— Можно ли ей научиться?
— Можно.
— Можете ли вы научить меня этой науке?
— Могу.
— Батюшка, вскричал ребенок: — учи меня арифметике. С этих пор математика была любимым предметом Лабзина, а затем он чувствовал влечение к чтению священного писания и духовных книг. Еще до поступления в школу, он несколько раз прочитал Четьи-Минею и, как сам впоследствии говорил, «ребяческим образом обрек себя на служение Богу» [179].
Десяти лет А.Ф. поступил в гимназию при Московском университете, основательно изучил латинский язык и через два года переведен был в университет. Здесь он, как и многие из его товарищей, увлекся новейшею литературою и явился одним из заметных ее деятелей. Обладая прекрасным даром слова, легким стилем в изложении своих мыслей и способностью к стихотворству, Лабзин, будучи всего 15 лет от роду, принимал участие в издании «Вечерней зари», служившей продолжением «Утреннего света» и изданной в трех частях в Москве в 1782 году [180].
Занятия новейшею литературою и тогдашняя мода привели его к изучению Вольтера и к некоторому колебанию в религиозных убеждениях. Но явился, говорит Лабзин, как ангел благовестник, покойный профессор Шварц, и как солнце расточил туман вольнодумства и неверия.
В самый разгар того времени, когда молодые люди с жадностью перечитывали модных писателей, Шварц, по собственному побуждению, открыл лекции в своем доме, с целью поднять упавшую религию. Разбирая произведения Гельвеция, Руссо, Спинозы, ла-Метри [181] и других, он сличал их с противными им философами и, показывая различие между ними, учил своих слушателей находить достоинства и недостатки в каждом писателе. Лабзин с особенным чувством благодарности вспоминает ту счастливую эпоху, которая составила все счастье его жизни.
Лекции Шварца произвели поразительное впечатление на слушателей, и простое задушевное слово его вырвало из рук многих безбожные книги и заменило их Библией, которую до того считали книгой пригодной только для церквей [182]. Теперь же Библия появилась в университете, и студенты, ученики Шварца, считали своей обязанностью в свободные минуты читать из нее что-нибудь. В числе их был и Лабзин [183].
Занимаясь в университете преимущественно изучением языка древних классиков, а впоследствии основательно познакомившись с их произведениями, Лабзин сохранил к ним навсегда любовь и глубокое уважение. «Учась в университете, говорит он [184], — я читывал древних, как обыкновенно их там читают только для языка и по выходе из училища бросил их, ибо кто ныне любит читать латинские и греческие книги? Но однажды, случайно, прочтя только Цицеронову книжку «О должностях» я поражен был его чистыми понятиями о нравственности, и, обратясь к чтению других авторов, с удивлением увидел, сколь древние вообще были ближе к понятиям и истинам христианским, нежели мы, имеющие писанное Евангелие и называющиеся христианами!»
Можно ли, спрашивает Лабзин, сравнивать понятия Цицероновы о должностях, о справедливости и честности, с понятиями, например, всеми прославляемого Бентама, y которого все права основаны на купеческих рассчетах и барышах и который составил даже бухгалтерию для совести [185].
Ближайшее знакомство с древними философами совершило переворот в духовной природе Лабзина, и он признал в истинной философии единственную науку, распространяющуюся на все знания. По его мнению, чистая философия, «склоняясь к красотам природы», делается поэзией; изъясняя с силою ощущения свои — красноречием; сообщая о свойствах и разделении в природе вещей — естественною историею, физикою, химиею и проч. [186].
— Прочтя Оригеновы опровержения на возражение против христианства Цельсовы, говорит Лабзин, удобно видеть можно, как мал был Вольтер против Цельса, в том самом, в чем они были одинаковы. И при всем том многим казались Вольтеровы насмешки и порицания неопровержимыми, тогда как Цельсовы, несравненно сильнейшие, достаточно были уже опровергнуты. Возвратясь после Цицерона к чтению древних философов, я перестал удивляться новым и думаю, что крайнее уважение к ним происходит либо от того, что за кучами нововыходящих книг, древних не читают, либо от того, что их не понимают [187].
Предавшись всею душою чтению священных книг, Лабзин 23 апреля 1783 года вступил в общество мартинистов и через пять дней, 28 апреля, в день своего рождения, дал торжественный обет на служение Богу [188]. В 1784 году, по выходе из университета, он поступил переводчиком при Московском губернском правлении и в следующем году произведен в губернские секретари; в 1787 году, в чине коллежского секретаря, Лабзин перешел в Московский университет переводчиком при конференции. Летом этого года императрица Екатерина ІІ, возвращаясь из путешествия в Тавриду, прибыла в Москву, и 28 июня Лабзин, вместе с многими другими [189], приветствовал ее торжественнною песнью [190]. Эта песнь обратила на автора внимание императрицы, и он в течение последующей службы неоднократно был награждаем денежными выдачами. Владея бойким, по тому времени, стихом, Лабзин перевел в том же 1787 году «Женитьбу Фигаро», в 5-ти действиях, соч. де-Бомарше и в следующем году «Судью» в 5-ти действиях, соч. Мерсье.
Принадлежа к ограниченному в то время обществу масонов-мартинистов, Лабзин имел нескольких сильных покровителей, служивших преимущественно по почтовому ведомству (Ф.П.Ключарев и другие), и в 1789 году перешел в секретную экспедицию С.-Петербургского почтамта.
Перед отъездом в Петербург с ним случилось одно обстоятельство, в котором он видел Промысл Всевышнего, направляющий его по пути проповеди, для поднятия упавшей религии. Беседуя с одним из неверующих, А.Ф. с одного раза обратил его на путь истины и притом с такою убедительностью, что тот возненавидел все земное, выразил желание отдать все свое имение наставнику, а сам пойти в монастырь. «Происшествие сие, — говорит Лабзин, — случилось совсем неожидаемо, когда ни обращенный, ни обратитель ни малейшего не имели о том намерения и когда они вместе были в бане. Оно так поразительно было для самого действующего лица, что он снова подтвердил обет свой и при сем невольно как-то вырвались y него слова молитвы: «не ввери мя человеческому предстательству»; и потому он тут же дал обещание предаться так воле Вышнего, чтобы не только не искать ничего земного, но ниже искать чьего-либо покровительства. Случай сей представился ему такою святынею, что он не только не усомнился отречься от предложения своего приятеля, но не захотел принять ни малейшего от него за то воздаяния, ниже какой другой услуги».
В Петербург Лабзин приехал хотя и 22-х лет от роду, но с совершенно установившимся характером и убеждениями. Это был человек среднего роста, с продолговатым лицом, толстый и хромоногий. Он говорил бойко и обладал прекрасным даром слова [191]. В.И.Панцев говорит, что, прийдя однажды в гости к Державину, y которого собралось до 30 человек, он был поражен даром слова одного из гостей, заставлявшим всех его слушать [192].
— Кто это? спросил Панаев своего соседа.
— Лабзин, отвечал спрошенный.
Своим красноречием и обширными познаниями он оказывал громадное влияние на лиц, его окружающих, и на тех, с которыми приходилось ему сталкиваться. «Судьба послала мне человека, говорит M.А.Дмитриев в своих записках [193], который впоследствии имел большое влияние на настроение души моей и вообще на мой образ мыслей. Это был А.Ф.Лабзин».
Страстный по природе, он не мог любить в половину, предавался человеку весь, но за то требовал и себе всего человека. Многие считали его таким хитрецом, который проведет кого угодно [194]. Деспот в душе, Лабзин был горд, самолюбив, имел необыкновенно твердый, хотя и строптивый, характер. Постигшая его впоследствии невзгода (ссылка) не смутила и не опечалила его: он остался таким же непреклонным в своих мнениях, каким был и прежде. Сознавая сам недостатки своего характера, Лабзин часто говорил: «если бы не вера и не благодать Господа, то я был бы подобен сатане» [195]. С низшими себя он обходился вежливо и ласково, но всех, кто стоял выше его, терпеть не мог и держал себя с такими лицами грубо, за что и пострадал впоследствии. Впрочем, «его неукротимый характер нисколько не влиял на прекрасные качества его сердца и еще менее на чистоту его стремлений» [196]. Он искренно любил Россию и все русское; будучи человеком талантливым и образованным и притом отлично владея пером, Лабзин неутомимо и бескорыстно трудился на пользу своего отечества, которому несомненно принес значительную пользу. «Он оставил множество трудов и переводов, которые в значительной степени способствовали обогащению стиля и прибавили в русском языке много научных терминов, созданных им или истолкованных яснее» [197]. Заслуги Лабзина были оценены современниками, и впоследствии он был избран почетным членом Московского университета.
Прослуживши в почтамте десять лет, Лабзин 17-го апреля 1799 года, в чине статского советника, был переведен в государственную коллегию иностранных дел и вместе с тем 6-го сентября того же года назначен конференц-секретарем Императорской академии художеств. В то же время ему было поручено, вместе с Александром Вахрушевым, составление истории державного ордена св. Иоанна Иерусалимского, которая и издана была в пяти частях, в промежуток времени с 1799—1801 г. Император Павел I, особенно следивший за этим изданием, пожаловал Лабзину две тысячи рублей, две табакерки с брильянтами и 1-го января 1801 года назначил его историографом этого ордена.
Рядом с литературною деятельностью Лабзин уделял часы и для педагогической. Как конференц-секретарь, он приглашал к себе по воскресеньям воспитанников, учил и заставлял их петь русские песни [198], устраивал для них домашние спектакли и беседы религиозно-нравственного характера. Бывая y Лабзина, воспитанники, среди его христианских бесед, проводили время с большим удовольствием.
— Внешняя свобода наша, — говорил им Лабзин [199], — зависит от обстоятельств и от общества, в котором мы живем, от людей, с коими имеем дело, и потому не всегда во власти нашей; внутренняя состоит в освобождении ума от неправильных мыслей и понятий, сердца — от неправильных чувствований в склонностей. Человек завистливый, раздраженный не так вещи видит; человек предубежденный не верит самым очевидностям; в мутном источнике едва видно самое солнце в полудни.
Итак, для достижения сей свободы нужно уму просвещение, сердцу — очищение. К первому содействуют науки, ко второму — нравоучение и религия.
«Я видел в Лабзине, — говорит А.Л.Витберг, — очень умного и пламенного человека. Предметы религиозные весьма занимали меня. Часто суждения его об обрядах греко-российской церкви имели на меня большое влияние, и я решительно увидел, что ежели для церкви обряды нужны, то они всего лучше в греческой церкви, ибо заключают столь много глубоких указаний» [200].
Оставаясь конференц-секретарем, Александр Федорович 26-го октября 1804 года был переведен из коллегии иностранных дел к министру военных морских сил директором департамента, и в апреле 1806 года назначен членом в государственный адмиралтейский департамент. Служба по двум ведомствам не мешала Лабзину, по его выражению, служить и Богу, и он деятельно занимался переводом и изданием сочинений религиозного содержания [201]. Но в числе книг, трактующих о благочестии и религии, он не находил ни одной, которая была бы сообразна с духом св. писания, исключая книг мистических. В них он нашел все, что нужно для внутренней жизни человека, все, что говорит сердцу, «научает соединяться внутренно с Богом, входить в самого себя, отрекаться от всего, не слегка перевязывать рану, но доходить до корня зла [202].
В конце прошлого и в начале настоящего столетия читающей публики было так мало и число русских книг для чтения так ограничено, что библиотеку каждого легко было выучить наизусть.
«В целой Москве, — говорит Лабзин [203], — существовала одна только университетская типография и та стояла почти без дела; книжные не лавки, но лавочки были только на Спасском мосту. Новая книга была тогда редкость, и, наконец, весь запас чтения состоял из одних романов и нескольких исторических книжек, так что предприятие печатания книг духовного содержания не только не представляло никаких выгод, но еще вело к явным убыткам, ибо надлежало родить прежде в читателях новый вкус. Я помню, как один любитель чтения, пришедши в университетскую книжную лавку купить новеньких хорошеньких книжек и находя в оной (только) творения Августина, Фомы Кемпийского и подобные, с досадою вышел вон и пошел к содержателю типографии с выговором, для чего ныне не печатаются хорошие книги.
— Какие под сим названием вы разумеете? спросил скромно хозяин гостя.
— Например: «Маркиз Глаголь», «Клевеланд», «Железная маска», «Девица Гарви», отвечал посетитель.
— Что делать, отвечал смиренно содержатель типографии, — мы печатаем то, что переводчики нам принесут, а ныне таких книг они к нам не приносят».
При таких условиях издание духовных книг было сопряжено с большою жертвою и убытком, тем более, что их осуждали и никто не читал. Любителям духовного просвещения приходилось выдерживать насмешки, нести издержки на плату переводчикам, на печатание и затем дарить эти книги даже богатым людям, чтобы только приучить их к чтению религиозных сочинений. Упорно преследуя цель, Новиков и его последователи, в том числе и Лабзин, достигли однако же того, что книги духовного содержания стали выходить на русском языке одна за другою. Такое насильственное, так сказать, распространение их произвело некоторый переворот в обществе: явились охотники переводить, явились и читатели, но нельзя было не сознать, что распространение христианских истин производилось все-таки без системы, при помощи издания случайных сочинений. Их читали лишь немногие; большинство же общества или оставалось равнодушным, или злобно подсмеивалось над ними. Молодой писатель Пнин напечатал стихи, в которых подсмеивался над истинами веры, говоря просвещенному своему другу: «Ты не мыслишь, как невежды, будто небо смеживается с землею, как глазам простолюдина кажется; для тебя не нужво, чтобы кто сходил с неба, дабы сделать тебя добродетельным и благополучным».
Старший цензор, Иван Осипович Тимковский, человек религиозный, не пропустил этих стихов, но Пнин жаловался в главное управление училищ, которое, основываясь на §22 тогдашнего цензурного устава, разрешило их напечатать. Будучи давнишним в искренним другом Лабзина, Тимковский рассказал этот случай и тем причинил ему такую боль, «как бы кто поранил его в самое сердце» [204]: Чувство оскорбленного самолюбия, грусть и какое-то уныние овладели Лабзиным.
«До изобретения книгопечатания, — писал он, — одни творения великих умов или особливых гениев разносились в народе и сохранялись в памяти, преданиях и летописях; прочие же редко пользовались сею честию. Тогда писал только тот, кто имел особенные дарования, и тогда книга была плод глубокого размышления и опыта, и была действительно подарком для человечества; чувство и истина были видны на каждом листе ее. Потому-то сии книги пережили веки, несмотря на политические превратности, несмотря на разность обычаев и языков разных народов.
«С изобретением книгопечатания знания полились рекою во все концы и быстрым своим потоком испровергли многие здания ума, подмыли и подрыли самые основания долголетних опытов и наводнением своим иные места запрудили, другие опустошили. Мелочи всплыли наверх и скрыли под собою не мелочные произведения; люди стали ловить, что всплывало, а что всплывало, то стало ловить людей; родилась страсть к писанию, явились подражатели и копиисты, явились подражания подражаниям и копии с копии, а оригиналы исчезли, и творческий ум как бы притиснут стал типографским станком.
«Прежде страсти и заблуждения имели свой предел; развратник и заблужденный мог заражать только свой круг, свой век, и пороки его исчезали и погребались вместе с ним в гроб. Злоупотребление же книгопечатанием увековечило разврат и глупости, посрамляющие человечество, и воздвигло им памятники. Все, что только исходит из разгоряченной головы какого-либо бумагомарателя, все то печатается, обнародовается, рассылается, и идет во все стороны света заражать и будущее потомство отдаленных краев. Одному вздумается испровергнуть веру, другой захочет потрясти столбы законов, третий передать свои грёзы, четвертый порочные ощущения сердца и — все это читается и поглощается: читается слабыми умами, поглощается страстными сердцами»... [205]
— Всякий ли желудок, — спрашивает Лабзин, — в состоянии переварить все, что человек съест? Всякий ли рассудок в состоянии порядочно рассудить все, что человек прочтет? A между тем литераторы, как исправные повара, приправляют свое стряпье модным снадобьем, чтобы лучше расщекотать вкус своих читателей. Но какие же меры употребить противу вредных или опасных книг, чтобы люди не заражались? Приведем здесь пословицу: клин клином выбивать должно. Когда есть книги или соблазнительные или развратные, пусть будут книги поучительные и нравоучительные; когда есть противохристианские, пусть выходят и христианские, а свобода воли человеческой, которую и Бог не утесняет, пусть избирает себе любое, и не станем осуждать того, кто выберет не наше; не станем сердиться, если кто осудит наше! [206].
Под влиянием таких мыслей Лабзин задумал издавать «христианский журнал», какого ни на каком языке еще тогда не было.
— Если позволяется писать против религии, — говорил он, то тем больше нельзя запретить писать за религию.
Сознание в необходимости такого издания укрепилось еще более, когда переводчику Рейналя — известного вольнодумца — выдана была субсидия и книга издана на казенный счет [207]. Предпринимая издание, Лабзин и Тимковский согласились: первый писать против неверия и разврата, а второй, по своему положению цензора — помогать ему всеми силами. He скрывая от себя, что предприятие это может навлечь много хлопот, они рассчитывали «на благость правительства и свободу, которую дарует оно умам и сердцам». Им казалось, что «опасение, в другое время основательное, ныне будет уже излишнее; что всякому дозволено приносить пользу своим соотчичам, чем кто может; что в христианской нации христианину о христианстве рассуждать и говорить можно, и разве против оного, а не в пользу оного писать возбранено быть может» [208]. Но если бы предположения их оказались ошибочными и они встретили бы затруднения, то все-таки решились преодолевать их до времени, лишь бы только иметь возможность следить за всеми сочинениями, направленными против религии, и писать в защиту ее.
Прежде всего подобное издание должно было стать в полную зависимость от духовенства, которое, не принимая никакого литературного участия в обсуждении вопросов религии, могло сильно тормозить дело.
В указе Сенату 9-го февраля 1802 года было сказано: «Что принадлежит до книг церковных и вообще к вере относящихся в издании их поступать на точном основании указа 27-го июля 1787 года, коим запрещается в частных типографиях печатать церковные или к священному писанию, вере, либо толкованию закона и святости относящиеся книги. Таковые должны быть печатаны в Синодской или иных типографиях, под ведомством Синода состоящих, или же от комиссии народных училищ с Высочайшего дозволения изданы и впредь издаваемы будут» [209].
На этом основании в цензурном уставе 9-го июля 1804 года была включена 8-я статья, по которой «все сочинения до веры относящиеся и подлежащие печатанию в духовных типографиях должны быть рассматриваемы духовной цензурой, находящейся под ведением Св.Синода и епархиальных архиереев».
Указ 1787 года и учреждение для духовных книг особой специальной цензуры в Московском Донском монастыре служили огромным препятствием для их издания и распространения. Присылка рукописей из всей России в Москву и печатание их в одних синодальных типографиях, естественно, были большими затруднениями для издателей. Были примеры, что книги не выпускались потому, что в них находились идеи противные философии Вольфа или богословию Буддея, которые тогда преподавались во всех наших духовных училищах. Нередко случалось, что весьма хорошие религиозно-нравственные сочинения не пропускались цензурой потому, что были написаны или переведены светскими лицами, тогда как духовенство, само не писавшее ничего, находило, что только оно одно и может издавать духовные книги.
Все эти обстоятельства и затруднения заставляли Лабзина устранить свое издание от духовной цензуры, и он успел в этом, хотя и не без некоторых затруднений.
Во второй половине XVIII столетия появилось много сочинений о религии, изданных светскими людьми и напечатанных в частных типографиях. Сначала правительство не обращало на это особенного внимания, видело в них даже некоторый противовес распространившейся тогда философии и учению энциклопедистов, но вспыхнувшая французская революция вызвала иной взгляд на эти книги. В них стали находить попытки к распространению учения, чуждого вере и истинам, почерпаемым единственно из чистейшего учения Иисуса Христа.
Указ 27-го июля 1787 года остановил распространение таких книг, подверг преследованию их издателей, и издание религиозно-нравственных сочинений подчинили духовной цензуре. Но французская революция давно окончилась, политические страсти улеглись, и общество, сознавая, что без религии жить невозможно, стало само противодействовать распространению безбожия.
В то время, когда Вольтер и его последователи наводняли Европу множеством антирелигиозных книг и рассылали их всюду за самую дешевую цену, в той же самой Европе составлялись общества с целью таким же способом подкреплять истины христианства. В Голландии образовалось «Общество для защищения христианской религии», которое ежегодно предлагало задачи и выдавало премии за защиту и объяснения христианства. В России, хотя и не официально, масонство получило право на свое существование и, наконец, в Англии, еще в 1795 году, по почину частного человека, образовалось «Библейское общество», членами которого были люди всех христианских вероисповеданий. Несмотря на различие религиозных убеждений членов относительно догматов и правил религии, английское библейское общество действовало с величайшим единодушием и успехом.
С 1795 года и по конец 1804 года оно роздало бедным Библий и Нового Завета более 179.000, других же духовных книг более 500.000 экземпляров.
Таким образом противодействие антирелигиозному учению было начато не духовенством, а людьми светскими, и на этом основании Лабзин просил, чтобы ему было разрешено издавать журнал с разрешения гражданской цензуры. Он опирался на общие постановления цензурного устава, состоявшие в том, чтобы в издаваемых книгах не было ничего противного высочайшей власти, гражданским законам, христианской религии, установлениям церковным, благопристойности, лично каждого и общественной безопасности.
Получив на то разрешение, Лабзин приступил к изданию журнала под заглавием: «Сионский Вестник». Он назвал журнал свой прямо христианским, дабы самое слово сие, вышедшее, так сказать, из употребления, сделать обыкновенным, по крайней мере наравне с другими философскими, учеными и литературными терминами. Лабзин не имел и не искал себе помощников или сотрудников; но «предав дело свое Промыслу, принялся за оное без размышления и, так сказать, безрассудно» [210].
Не имея никаких денежных средств для начала такого дела и занимая две административные должности, А.Ф. ежедневно исписывал по нескольку листов, сам хлопотал в типографии, цензуре и впоследствии вел обширную переписку с разными лицами по возбуждаемым ими вопросам. 1-го января 1806 года явился первый номер «Сионского Вестника», им одним составленный и написанный. Поздравляя читателей с новым 1806 г., Лабзин так объясняет цель своего издания:
«Сколько поздравлений, говорит он [211], и желаний расточаем мы в сей день, без мыслей, без разбору! И сколько сами принимаем их. Иной наделяет нас честью и богатством, другой здравием и долголетней жизнью, иной всеми благами времени и вечности: но все сии щедрые дары оставляют каждого из нас в такой же нужде и бедности, в какой кто был. Един Всевышний не дарит тщетным и Его даяния не состоят в пустых желаниях, а потому и обратимся лучше к Нему с нашими желаниями и о себе, и о других, и с благоговением попросим: да даст Он друзьям и врагам нашим добродетелей исполненный год! Да сохранит и тех и других, первых к услаждению, а вторых к исправлению нашей жизни! Да увеличится в сей год между нами слава Его, и истинное христианство, да проникнет оно в чертоги, равно как и в хижины. Да благословит Он воспитание детей наших в их возрастании, мужей в их подвигах и старцев в их немощах. Да постыдит каждого раба пороков и поможет каждому подвизающемуся во благе. Да утешит всех скорбящих, болящих, умирающих и да будет к нам милостив. Мы же сами себя, и друг друга, и весь живот наш Ему предадим.
«Вот наши желания и поздравления читателям нашим. Остается нам принесть им дар какой-либо, и в сей дар посвящаем мы им представляемый ныне журнал наш, прося всех и каждого принять оный дружески и благосклонно, пользуясь им, если в нем найдут для себя что угодное и не гневаяся, если мы в чем не угодим их вкусу. «Мы начинаем его отнюдь не в намерении учить или наставлять кого; a, по свойственной человеку сообщительности, хотим только поделиться с ближним нашим тем благом, которое сами любим и дорого ценим, и которое может быть и ему столь же любезно. Книги есть всякие и на нашем языке: кто любит читать, может сам избирать себе чтение; кто сего не любит для того и наш журнал не помеха: сего же рода книг, кажется, y нас не довольно и христианского журнала никогда еще не бывало, хотя в других землях сие не так необыкновенно... Чувствуя сами нужду заимствоваться по сим материям от иностранных писателей, вздумали помочь и другим чувствующим ту же нужду и не имеющим, хотя впрочем пустого, но по обстоятельствам важного преимущества, — знания чужих языков. Позволено, я думаю, будет нам сказать, что россиянину-патриоту даже обидно вообразить, что его соотчич, по неимению только потребных для него книг на природном его языке, осужден не знать и не иметь тех прав, какими пользуется иногда слуга его, если он иностранец; тем более оскорбительно было бы дозволить ему одни и те же книги на чужом языке читать, а на своем нет, через что всякий явно побуждаем был бы предпочитать чужие языки своему».
Обещая посвятить свое издание христианству, т. е. религии и Св.Писанию, Лабзин высказывал надежду, что журнал его «не так-то будет скучен, как может быть иной, по содержанию его себе представляет»; что он будет заимствовать подходящие сведения из других журналов и книг, и что наконец содержание журнала будет приспособлено ко вкусам читателей, которых издатель делил на три категории: 1) ученых, которым христианство не противно и которые желали бы в нем увериться; 2) ученых, которые верят христианству и любят его, и 3) просто верующих, которым все то, что говорится о Спасителе, приятно, угодно и любезно [212].
Первая книжка «Сионского Вестника» была встречена с большим сочувствием. Тогдашние издатели журналов имели обыкновение прилагать список подписчиков поименно. Если сравнить число их с числом подписчиков «Сионского Вестника», то Лабзин имел полное право гордиться успехом своего журнала. По выходе первой книжки, он получил 400 руб. «от восхищающегося его изданием»; зная, что подобный журнал на первых порах не может вознаградить трудов и издержек на печатание, приславший деньги выразил желание участвовать «пером и добром своим». Преосвященный Феофилакт, епископ калужский, еще до выхода первого номера, только по одному объявлению, подписался на 30 экземпляров «Сионского Вестника», а по выходе второй книжки было уже 93 подписчика в Москве, и из них 33 человека духовных особ. Митрополит с.-петербургский Амвросий выразил свое сочувствие журналу и не только рекомендовал духовенству читать его, но в письме к лицу, просившему о пропуске одной духовной книги, советовал исправить ее по примеру «Сионского Вестника». — «Да простится издателю сия нескромность, писал Лабзин [213], когда он скажет, что редкий муж, достопочтенный наш отец Филарет (впоследствии митрополит московский), бывший тогда еще в Сергиевской лавре, переписывал для себя «Сионский Вестник», не имев возможности его купить». — Тогдашний митрополит московский Платон домогался узнать имя издателя [214], сам читал и другим поручал читать с тем, что не найдут ли они в «Сионском Вестнике» чего-либо противного вере, говоря, что журнал этот пристыжает духовенство тем, что человек светский принял на себя роль проповедника.
To же сочувствие к изданию разделяли и другие духовные особы, занимавшие высшие пастырские должности, и о которых мы упомянули выше. Только один митрополит киевский Евгений, знаменитый ученый того времени, находил в журнале некоторые недостатки.
«Теперь скажем два слова о «Сионском Вестнике», писал он [215]. Я его получаю и читаю часто до чувствительного умиления и даже до благодарности Богу, вложившему мысли г. Л(абзину) издавать сей журнал. Он многих обратил, если не от развращения жизни, to по крайней мере от развращения мыслей, бунтующих против религии, а и это уже великое благодеяние человечеству! Большая часть сего журнала переводная с немецкого из Штилинговых сочинений, а нечто и из мартинистских — и это жаль, что в чистую воду примешивается и отрава секты... Но за многое хорошее, высокое и трогательное в его журнале, я охотно извиняю его...»
Как бы то ни было, но это издание, первое в своем роде на Руси, приобрело множество читателей и продолжалось при громе шумных рукоплесканий [216].
«A propos о «Сионском Вестнике», писал Лопухин M.М.Сперанскому. Ведь хороший журнал. — Желательно, чтобы ход его не остановился. — Издателю спасибо» [217].
По словам известного юрьевского архимандрита Фотия, книги, написанные Лабзиным, «почти все ученые читали с удовольствием, в семинарии выписывали, хвалами превозносили его яко учителя веры. Архиереи, ректоры, архимандриты, протоиереи и прочие многие из духовных, князья, бояре, ученые потворствовали и желали иметь как бы некую тайну учения и просвещения от него».
«Сему идолу-человеку кланялось начальство С.-Петербургской духовной академии и Синод его чтил» [218].
Красноречие, ясность и страстность изложения [219] привлекли к «Сионскому Вестнику» всеобщее внимание, заставили говорить о нем и несомненно произвели некоторое влияние на тогдашнее русское общество. Всякая новость нравится и увлекает и, по словам Д.П.Рунича, со времени св. Павла благородные дамы любят вмешиваться в штат всякого начальника пропаганды. «Переводы и статьи Лабзина сгруппировали около него знаменитости и ничтожности, кающихся Магдалин и матерей семейства. видевших в его трудах противоядие для философии» [220].
Книжки «Сионского Вестника» стали быстро расходиться, и издатель был в праве сказать, что не обманулся в своих предположениях, что любители христианского чтения есть и найдутся еще новые. Ободренный таким успехом, Лабзин напечатал в мартовской книжке статью «Дaнь благодарности», в которой говорил, что, приступая к изданию журнала, он не скрывал от себя тех трудностей, с которыми сопряжено подобное предприятие. Друзья говорили ему о том же, но внутреннее убеждение ободряло его и уверяло, что «Сионский Вестник» найдет читателей, одобрителей и подкрепителей [221].
Надеясь на сочувствие общества и будучи готов во всякое время прекратить издание, Лабзин оставался зрителем, ожидающим последствий своей работы. Последствия не замедлили выказаться и с выходом первых двух книжек Вестника, министр народного просвещения, граф Завадовский, признал, что «Сионский Вестник», как по своему, названию, так и по статьям, содержащим рассуждения о религии, должен подлежать рассмотрению духовной цензуры, и поручил попечителю Петербургского учебного округа H.Н.Новосильцову предписать о том цензурному комитету. Исполняя приказание министра, Новосильцов счел, однако же, необходимым просить разъяснения следующих вопросов:
1) Если «Сионский Вестник», по своему названию, подлежит рассмотрению духовной цензуры, то необходимо определить, все ли книги с заглавием, заимствованным из Священного Писания, должны быть рассматриваемы также духовной цензурой. К таким книгам Новосильцов относил Мильтоновы поэмы: «Потерянный рай» и «Возвращенный рай», трагедии Расина: «Есфирь и Атолия», «Размышления о величии Божием» и многие другие. Такие издания, говорил он, всегда подлежали рассмотрению гражданской цензуры.
2) Приняв за основание, что сочинения, касающиеся вопросов религии, с цитатами из священного писания, подлежат духовной цензуре, надо допустить, говорил Новосильцов, что многие книги, не только до метафизики и нравственности относящиеся, но и самые повести и романы должны также подлежать духовной цензуре.
«Из множества примеров, писал он [222], я приведу здесь только один, именно, Матильду, — новый французский роман в шести томах, отменно одобряемый со стороны нравственности и стиля, взятый из Крестовых походов и содержащий в себе рассуждения о религии христианской и весьма многие доводы и цитаты из священного Писания. Но прилично ли духовной цензуре рассматривать сие и подобные книги, которых большей частью главный предмет любовная интрига».
Новосильцов находил, что по смыслу §8 цензурного устава ведению духовной цензуры подлежат только книги церковные, проповеди, катехизисы и богословские сочинения, все же остальные, как например, переложения духовных псалмов и даже жизнь Иисуса Христа печатались всегда в светских типографиях и с разрешения гражданской цензуры.
«Ожидаю на все сие разрешения вашего сиятельства, добавлял Новосильцов в своем заключении, которое тем нужнее, что цензоры, не имея точных сведений о том, что принадлежит к цензуре духовной и что следует к их рассмотрению, невольным образом могут учинить отступление от данного им предписания и через то навлечь новые неприятности».
Граф Завадовский был поставлен в крайне затруднительное положение и в течение трех недель не отвечал H.Н.Новосильцову. Наконец 21-го апреля он сообщил мысль свою, «что цензура должна руководствоваться в рассмотрении оных (духовных книг) 22-м пунктом Устава о цензуре, в котором скромное и благоразумное исследование всякой истины, относящейся до веры, предоставлено рассмотрению гражданской цензуры» [223].
Пока шла переписка между попечителем учебного округа и министром народного просвещения, Лабзин отпечатал апрельскую книжку и, не получая разрешения на ее выпуск, заявил Новосильцову, что если журнал его вместо «чаемой им существенной пользы приносит мнимый вред», то он без ропота готов прекратить его издание, но при условии: 1) дозволить ему объявить подписчикам, что он не сдерживает данного публике слова не по своей вине и 2) возвратить подписавшимся деньги обратно, о чем и объявить в газетах.
He давая окончательного решения, Новосильцов поручил цензурному комитету отправить апрельскую книжку «Сионского Вестника» на рассмотрение С.-Петербургского митрополита Амвросия, который не встретил никакого препятствия к ее выпуску [224], и 12-го апреля она была выпущена [225].
Задержка апрельской книжки отозвалась и на майской. Встретив затруднение в издании, Лабзин намерен был прекратить журнал и, пока не получил разрешения на выпуск апрельской, не составлял майской книжки; она также опоздала, что и заставило издателя выяснить читателям причину замедления в выходе и свое трудное положение. В статье: «Извинение, благодарение и ответ», Лабзин откровенно высказал все встреченные им затруднения, свою готовность прекратить журнал и то ободрение, которое он встретил со стороны митрополита Амвросия [226]. В заключении этой статьи он писал: «как не было еще на свете такой книги, которая бы всем без исключения нравилась, то без сомнения и «Сионский Вестник», как имеет своих приятелей, так имеет и неприятелей. Первые всякому милее, и потому мы с ними только говорить и будем, а последним с почтением доложим, что «Сионский Вестник» ни на кого своим мнением уз не налагает: всякий мысли, рассуждай и действуй, как ему лучше кажется. Той же свободы он и себе просит. Издатель имеет, однако же, удовольствие видеть, что число благоприятствующих «Сионскому Вестнику» до ныне превосходит число неприятельствующих. Он просит и y неблагосклонных к нему любви и снисхождения, ибо он хочет жить в мире со всеми, и если бы кому угодно было написать критику на «Сионский Вестник», то он готов поместить оную в самом «Сионском Вестнике».
Эти первые слова майской книжки, говорит Лабзин, «показывают точное состояние издателя. Они написаны в ночь после исповеди перед Св. Причащением и лились на бумагу некаким потоком. Вместо ослабления от тревог, он чувствовал в себе такую бодрость и крепость, каких дать (сам) себе не может и он, соблюдая пословицу: куй железо, пока горячо и не отлагай дело до другого дня, торопился издать сколько можно книг, предчувствуя, что наставшая гроза над главой его разразится» [227].
Гроза эта давно уже подготовлялась; за «Сионским Вестником» тщательно следили и находили в нем много отступлений от учения православной церкви. Так митрополит Евгений находил [228], что, говоря, будто бы во всех религиях, под разными только символами, существует истинная религия, Лабзин проповедует индифферентизм; что, в изъяснениях Троицы и других таинств откровения, он вносит объяснения мистико-масонские; что, желая яснее представить читателям духовность, издатель смело принимает грубые объяснения: сравнивает Евхаристию с какою-то воплощенной солнечной эссенцией, вездеприсутствие Божие — с воздухом, а неделимость — с пламенем; допускает беспредельность тела Христова, а что пагубнее всего — приписывает шаровидную форму и духу. Другие находили, что он признает правителем земли не Бога, а солнце (стр. 3), Иисуса Христа называет не Богочеловеком, а божественным человеком (стр. 209); что ветхозаветных праотцов он не отличает от мудрецов языческих, что он считает богами мифологических Меркурия, Цецеру и Цибелу, сходивших с небес, живших на земле и учивших людей мудрости (стр. 41); что Аполлон был послан с небес на землю отцом своим в виде грешника; Купидон или Амур, существо небесное, был любовником Психеи или души человеческой и в темноте ночной давал ей лобзания (стр. 42, 43).
Следя за страницами и строчками, противники Лабзина находили много мест более или менее противоречащих истине, приводящих в недоумение, рождающих сомнение и даже неприличных. Все эти накоплявшиеся замечания сносились с разных сторон к тогдашнему обер-прокурору Синода, князю Александру Николаевичу Голицыну.
Прямой потомок воспитателя Петра Великого, князь Александр Николаевич Голицын родился 8-го декабря 1783 года и через две недели лишился отца. Первоначальное воспитание он получил под руководством матери, урожденной Хитровой, замечательной по уму и высокому образованию. Имея весьма ограниченное состояние, мать была сильно озабочена будущей судьбой сына, но знакомство с доверенною камер-юнгферою императрицы Екатерины II, известной Марьей Савишной Перекусихиной, вывело ее из затруднительного положения. Перекусихина показала однажды императрице девятилетнего князя, весьма бойкого и острого на ответы. Мальчик понравился Екатерине, и она приказала поместить его в Пажеский корпус. Там он выучился хорошо танцевать и говорить по-французски, словом, получил только светское воспитание и очень плохое научное. Покровительствуемый Перекусихиной, князь A.Н.Голицын был привозим по праздникам из корпуса во дворец, где и играл с малолетними тогда великими князьями Александром и Константином Павловичами. Одаренный от природы наблюдательным и пытливым умом, живым характером и неистощимой веселостью, князь Голицын нравился всем и скоро заслужил особую любовь и расположение к себе Александра и был связан с ним тесной дружбой. Императрица заметила их взаимную привязанность, и когда Александру Павловичу исполнилось 12 лет, она назначила князя Голицына кавалером к его высочеству. Через четыре года для женившегося Александра был составлен особый двор, и князь Голицын назначен камер-юнкером.
В тесном, интимном придворном кружке он усвоил себе то блестящее и утонченное светское образование, которым отличался до глубокой старости и «сделался царедворцем в полном смысле этого слова, со всеми хорошими и дурными сторонами этого положения. При пытливом уме и необыкновенной живости характера, не получив солидного образования, он всецело предавался каждому из увлечений, овладевавших им [229].
Незадолго до кончины императрицы Екатерины, 23-х-летний князь Голицын был назначен камергером и в первые три года царствования Павла I пользовался его милостью настолько, что был пожалован командором мальтийского ордена. Вскоре, однако же, он подвергся опале за резкие и острые слова, дошедшие до государя. Уволенный от службы, кн. Голицын был выслан в Москву, где пользовался громадной библиотекой графа Бутурлина, сгоревшей в 1812 году. Пристрастившись к чтению, он, с молодых лет вольтерианец и поклонник идей французских энциклопедистов, еще ближе познакомился с ним, но вместе с тем, сошелся с митрополитом Платоном, который, несомненно, имел влияние на религиозное настроение Голицына.
С воцарением Александра I, князь был вызван в Петербург, и на вопрос государя, какую должность желает занять, отвечал, что единственное его желание — быть безотлучно при императоре и проводить с ним каждый день вместе по нескольку часов. Оставленный в таком положении, он вел жизнь праздную, рассеянную, как истый эпикуреец. Как-то однажды, во второй половине 1803 года, он только вдвоем обедал с государем.
— Я, Александр Николаевич, имею на тебя виды, сказал государь.
— Готов исполнить повеление Вашего Величества, отвечал Голицын.
— Я назначаю тебя обер-прокурором Святейшего Синода. Князь Голицын чистосердечно сознался, что вовсе не приготовлен к этой должности, и что государю известны и образ его мыслей, и образ жизни.
— Ты можешь отговариваться как тебе угодно, говорил Александр, — но все же ты будешь синодским обер-прокурором.
Голицын повиновался воле императора, и 21-го октября 1803 года последовало его назначение [230].
«Князь Голицын», писал M.М.Сперанский [231], есть один из весьма добрых людей, весьма известен государю и пользуется особенным высочайшим вниманием и доверенностью».
Сам не зная, как попал, говорит Стурдза, «в святилище и в заветную область христианских идей», князь Голицын, несмотря на недостатки образования, на скудость познаний, в особенности, по вопросам религии, на праздную и крайне рассеянную жизнь, по врожденному чувству приличия сразу остепенился. отказался от суетных забав, принялся за труд, обуздав колкость своего языка, бросил кощунство и переменил все наружные приемы.
Только теперь и, притом, в первый раз, он принялся за чтение Нового Завета, и «никто не мог тогда подумать, что через несколько лет в этом придворном ветрогоне произойдет такая резкая перемена»; что человек этот сделается чрезвычайно набожным и, с свойственным его характеру увлечением, вдастся в мистицизм и дойдет до хлыстовщины.
Под предлогом новых занятий, князь Голицын, уклоняясь от развлечений, стал знакомиться с лежащими на нем обязанностями и с учением православной церкви. Но, совершенно незнакомому с догматами религии, ему трудно было в начале своей деятельности и собственными силами разгадать «Сионский Вестник»; поневоле приходилось подчиниться постороннему влиянию и смотреть на журнал чужими глазами. Впоследствии князь сам сознался, что многие статьи журнала были написаны языком для него непонятным. Вместо того, чтобы обратиться к совету людей опытных, князь A.Н.Голицын, по собственным его словам, стал в положение людей, которые всегда думают, что все то, «что не понятно или не существует, принадлежит к мистике — слово, которое мир не любит и все, что ему противно, сим словом знаменует. В сих понятиях возмнил я, что оный журнал есть произведение какого-нибудь тайного общества, ищущего вредить религии, а может и правительству и, смотря с ложной точки, я, думая защищать церковь, сделался гонителем духа ее и вследствие сих заключений представил Вашему Величеству о запрещении «Сионского Вестника» [232].
Император Александр поручил тогдашнему министру просвещения, графу Завадовскому, и Новосильцову ближе познакомиться с этим изданием. Оба они отстаивали журнал настолько, насколько можно стоять за дело им совершенно чуждое и которым они мало интересовались; но с выходом июньской и июльской книжек «Сионского Вестника» и они лишились этой возможности.
В июньской книжке явилась статья «О предсказании Данииловом», в которой делалось сравнение между апокалипсическим Аполионом и императором Франции Наполеоном. Объясняя Навуходоносору сон, Даниил, будто бы, предсказывал о появлении Наполеона, который покорит все царства. Впрочем, прибавлял Лабзин от себя, основываясь на толковании этого пророчества, сделанном Юнгом Штиллингом, «северные земли и все царства, которые не принадлежали Римской империи, не должны быть полагаемы в числе тех, кои истребятся» Наполеоном [233].
Последний в то время находился во враждебных отношениях к России и апогее своей славы. Его прославляли во Франции до того, что в одной из проповедей было сказано, что сам Бог, создав Наполеона, так утомился, что после столь совершенного дела своего почувствовал нужду в отдыхе.
Французы много занимались разными предсказаниями и пророчествами о Наполеоне и выдумали даже особое слово для этой способности человека, назвав ее clairvoyance instinctive — ясновидение, врожденная прозорливость или прозорливость по инстинкту. В 1806 году Федор Буис, бывший профессор ниеврской центральной школы, издал книгу под заглавием «Nouvelles considérations, puisées dans la clairvoyance instinctive de l'homme sur les oracles, les sybilles et les prophètes, et particulièrement sur Nostradamus [234] sur ses prédictions» [235]. В этой книге, между прочим, были помещены предсказания о кончине Людовика ХVІ, королевы и дофина; о возвышении Наполеона до звания императора Франции, долготе его царствования, покорении им всей земли, об его могуществе и завоевании Англии.
Упоминая о выходе этой книги, Лабзин поместил в июльской книжке «Сионского Вестника» особое «Примечание», в котором сказано [236]:
«Штиллинг в XI книжке своего «Угроза», писанной еще в 1801 году, говорит о некоем властелине, который явится в Европе из низкого состояния и покорит себе все царства древней Римской империи; и сказывает притом, что главной его целью будет уничтожение всех исповеданий веры и восстановление на место оных нового, дабы овладеть всем человечеством, если можно, и со стороны религии также, как со стороны политики. Разум, нынешняя философия, нынешнее просвещение, говорит он, будут первыми его поспешниками. Наружные его поступки, ложные добродетели, необыкновенный ум прельстил так, что план его о введении натуральной религии, с исключением всякой другой, будет одобрен, принят и признан за величайшее благодеяние человечеству».
В поручении Наполеона кардиналу Мори сочинить такую всеобщую религию Лабзин видел исполнение пророчеств Штиллинга и представлял себе, как она могла понравиться крикунам и льстецам, удерживаемым только уздою религии от обоготворения порока и разврата! «Вероятно вымышленная религия, прибавлял издатель «Сионского Вестника», на первый случай составлена будет для христианских только исповеданий и потом применяема будет — как французская конституция, к чему она в началах своих и приспособлена будет, — так, что сначала пришьется к ней, может быть, иудейская, потом магометанская, а потом и всякая языческая. Пышность, великолепие и всякое услаждение чувств, без сомнения, будут столпы ее, театральные зрелища — украшением ее; основанием же мнимое просвещение, а божеством ее — разум человеческий, ибо она будет его чадо, а не порождение Божие.
«Штиллинг, между прочим, говорит, что в сем предприятии новому сему Магомету (Наполеону) особенно способствовать будет некое великое тайное общество, всюду распространившееся, глава которого будет его (Наполеона) министром. Сей обоготворит своего монарха, заставит поклоняться ему, яко видимому божеству на земле, утверждая, что когда надобен людям чувственный предмет поклонения, то всего приличнее покланяться благодетелю мира. Дай Бог, чтобы хотя в сем Штиллинг ошибся! Только все обстоятельства так согласуются с его предсказаниями, что кажется они верны. Самое тайное общество — иллюминатское под владением Бонапарта сильно распространилось во Франции; известно же, что оно не было бы терпимо, если бы не было орудием его».
Кроме этих двух статей в №№ 5 и 7 «Сионского Вестника» были помещены: «Пневматологический анекдот», «Пример действия простоты сердца», статья об Эккартсгаузене и его кончине, «О даре прозорливости», содержавшая в себе фантастические пророчества, «Пример доброго духовника», который особенно хвалился тем, что был неученый священник, и некоторые другие. Все они признаны были несообразными с духом правительства и с §15 правил цензурного устава, и потому H.H.Новосильцов получил высочайшее повеление объявить выговор цензурному комитету с тем, чтобы он впредь в рассмотрении сочинений и переводов был осторожнее и осмотрительнее. Комитету предписывалось не дозволять печатать ничего такого, что с одной стороны противно здравому рассудку, а с другой может произвести вредные впечатления в публике, «особенно же в простолюдинах большей частью суеверных и охотно читающих книги, содержащие в себе подобные нелепости» [237].
Лабзин протестовал против такого обвинения, по его мнению, не заслуженного.
«Ваше превосходительство, писал Лабзин Новосильцову [238], объявить мне изволили, что журнал мой в другой уже раз наводит вам большие беспокойства. Дабы не случилось сего и в третий раз, я, как при первой тревоге, тотчас предложил мою готовность прекратить его, так и ныне то же повторяю.
«Всякая вещь к суждению о себе представляет две стороны, и для справедливого суда положительный закон есть тот, чтобы выслушать обе: я же слышу судящих о том, что в моем журнале находится худого; но не слышу, чтобы кто делал при том вопрос: нет ли в нем чего и доброго? Почему почитаю себя обязанным объяснить несколько сие дело, не с тем, чтобы я домогался продолжения журнала, которое не принесет и мне ничего, кроме тягости и новых огорчений; но с тем, чтобы успокоить несколько тревогу сию, если оная есть.
«Обвинение против меня, как ваше превосходительство мне объявили, состоит в том:
«1) Что в моем журнале говорится о пророчествах, а чрез сие я способствую рассеванию пустых толков.
«2) Что от сего те, которые таким толкам верят, могут придти в уныние и бездейственность, и
«3) Что упоминая о Бонапарте, тем самым я как бы склоняю людей на его сторону.
«Я имею честь представить объяснение:
«На 1-е. Из первой строки первой моей о том пьесы, помещенной в июне месяце, видна причина, почему она была написана. Прежде еще нежели существовал мой журнал, о Бонапарте были уже разные толкования и y нас и в других землях. Пред тем ходили по городу, и не между бородачами одними, толки о сходстве имени Наполеон с апокалиптическим словом Аполлион. Сие обстоятельство захотел я обратить в пользу, не к устрашению, а к успокоению, если бы кто сими толками и тревожился; ибо пьеса моя заключена тем: «что и по самым сим пророчествам могущество ни Наполеона, ни Аполлиона не коснется Северных земель». Я думаю, сего нельзя справедливо почесть за устрашение.
«Написал я о сем по сим убеждениям: 1) что журналу свойственно содержать в себе материи, которыми на то время в публике занимаются; 2) что даже полезнее писать о том, о чем говорят, думают и чем занимаются, нежели говорить о том, о чем слушать не хотят, и 3) что самое правительство удобно может употребить такие журналы к благотворным своим видам, к направлению или поправлению общего мнения, или заблуждения; особливо если б нашелся такой писатель, который снискал доверенность y публики, и который бы тем лучше мог употреблен быть самим правительством к своим целям.
«Из сего извлекается и причина, почему сии пьесы так написаны, как они написаны; ибо журналы пишутся не для правительствующих особ, а для народа; а потому, чтоб быть им полезными, они должны и приноровлены быть к понятиям и вкусу народа. Правительство и народ в понятиях своих часто весьма разнятся; что для первого есть маловажно, или сущий вздор, то для последнего не кажется вздором. Предсказаниям хотя большая часть и в народе не верят, но всегда были и есть люди, которые им отчасти доверяют. Для первых никакие пророчества не соблазнительны, для вторых одно простое уверение, что они вздор, не убедительны, и они столько же оному не поверят, сколько те не поверят пророчествам. Согласясь же с ними в понятиях, вывесть из тех же начал доброе заключение, я не думаю, чтобы сие было вредно; полезно же быть может потому, что сим способом убедить можно, а противоречием никак.
«Отвергать вовсе пророчеств я не мог, потому что чрез сие я подвергся бы и осуждению народному, и осуждению законному; ибо сие было бы противно и мнению народа, и Св.Писанию, в котором и Новый Завет весь наполнен сказаниями о пророчествах. В таком случае не только духовная власть, но и светская могла бы справедливо потребовать от меня отчета: почему я отвергаю то, что утверждено Св.Писанием?
«На 2-е. В каждом человеке всегда найдется более склонности не верить, нежели верить неизвестному, и между читателями «Сионского Вестника», без всякого сомнения, также гораздо большее число найдется первых, нежели вторых. Но издатель не рассевал никаких пророчеств, а говорил только о тех, которые уже были. Между пророком и сказателем о пророчестве, без сомнения, есть великая разность; такими сказателями бывает иногда целый город, и если предполагается, что легковерные могут от того придти в уныние и бездейственность, то почему ж равно не предполагать, что оно может послужить и к ободрению их? Ибо сказать: «что и по самым пророчествам мы безопасны», кажется, ведет не к унынию, а к бодрости.
«Те, которые говорят о сем унынии, без сомнения, сами не придут от сего в уныние; а те, о которых они так думают, не найдут причины унывать, когда слышат, что не только они сами безопасны, но и другие народы будут находить между ними убежище, что Россия одна остается верным пристанищем для всех притесняемых и изгоняемых властителем Франции, и сие тем паче утверждает славу ее. Тот, кто ободрялся мужеством от одной мысли, что он сражаясь за дом Пресвятыя Богородицы, если падет на поле брани, наследит себе царствие небесное, тот, не с большим ли еще мужеством поднимает оружие при сей мысли, что он идет точно против врага Христова, или антихриста? Я думаю, полководцы иногда пользовались такими мнениями воинов: для тех же, которых мужество одушевляется иными побуждениями, такие мысли и останутся только суеверием, для них безвредным;
«Из сих двух мнений утверждаемое здесь, кажется мне, гораздо вероятнее, нежели противное; по крайней мере, для суждения о сем должно оба принять в рассуждение, а не одно первое.
«На 3-е ответствовать после сего мне ничего не остается. О Бонапарте говорят по всему свету, и он сделался всеобщей материей разговора. Написанное о нем в журнале не только не наклоняет никого на его сторону, но предупреждает всякого против него, если кто с автором будет согласен. Но как может иногда и дозволенное законами быть непозволительно по обстоятельствам, то правительство может всегда объявить о том свое запрещение, и я надеюсь, что не поставлено будет в вину частному человеку, что ему не все политические виды правительства известны.
«Впрочем, в собственном деле никто не должен быть судьею, и мое намерение есть только то, что, как при обвинении человека, тотчас являются усердные голоса, — даже и из тех, которые и дела сего прямо не знают, и судить о нем иногда не в состоянии, — к осуждению, а не к защищению его, то чтобы по крайней мере представить и другую сторону для правильного суждения.
«В заключение имею честь повторить, что нет моего намерения домогаться продолжения журнала; но почитаю долгом моим прибавить к сему:
1) «Что таковой журнал, если б правительство избрало писателя, меньше для него сомнительного, может послужить к большой пользе, как то в других землях само правительство и употребляет сие средство.
2) «Что журнал таковой, для успеха и приобретения доверия, должен непременно писан быть в духе народа и применяясь к его понятиям, а не к понятиям только философским.
3) «Что такому журналу нужно явное, хотя малое, свидетельство благоволения правительства, а ни с которой стороны не может быть выгодно показать, что частный писатель как-будто в споре с правительством. Кажется, нигде нельзя меньше бояться вреда от книг и журналов, как y нас; ибо, во-первых, y нас и читателей, и писателей мало; во-вторых, здесь писатель всегда в руках правительства и не может никогда избегнуть от воли его, если б оному не благоугодно было что написанное им; и русскую книгу, не так, как французскую или немецкую, нельзя напечатать в других землях, и нельзя найти ей читателей, кроме России.
4) «Впрочем, никакая книга, какого бы рода ни была, не может избегнуть того, чтобы нельзя было найти в ней чего-либо, противного тому, или тому; и когда сама власть будет находить сие противное, тогда и все будут находить в ней только противное. Если же та же власть то же самое одобрит, тогда и все порицатели сами оправдывать книгу станут. Сей способ правительство имеет всегда в своей власти и может, по благоразумию своему, и подлинное зло обратить тем во благо.
«Наконец, я смею заключить, что кому известна жизнь моя, я уверен, что из таковых никто, и самый враг мой, если не будет иметь особливой причины вредить мне, засвидетельствует обо мне, что и он не почитает меня даже способным к чему-либо бесчестному или бездельническому. Я уверен также, что мудрое правительство пощадит честь гражданина и доброе имя, которого он никогда не потерял, почему смею просить ваше превосходительство обратить внимание правительства на положение гражданина, который предан ему и по чувству, и по долгу, и по частным своим правилам. Смею просить довесть сие мое объяснение до сведения Его Императорского Величества; может быть, милосердие Его не отвергнет вовсе причин, мною представляемых, усмотря из сего, что если я и навлек на себя Его монаршее неблаговоление, то, по крайней мере, без намерения.
«Что касается до неблагорасположения ко мне некоторых особ, или некоторой особы, я не удивляюсь тому, ибо я писал не в угодность чью-либо, а по собственному убеждению в истине, и легко быть может, что не попал на ее мысли. В таком случае, мне остается желать сей особе, чтобы и она вступила на правый путь. Мой долг терпеть, молчать и молиться за ненавидящих и обидящих меня и исполнить то, что я не суетно написал, после отражения первых нападений на мой журнал, на первой странице месяца мая».
Отправив это письмо, Лабзин был в крайне удрученном состоянии. Он сознавал, что многие не сочувствуют его изданию, сам видел, что некоторые вымарывали в его журнале те места, которые им не нравились [239], видел, что даже и любители «Сионского Вестника» читают его не так-то внятно и не понимают еще цели издателя или не верят ей, и решился отказаться от продолжения издания. Выпустив сентябрьскую книжку, тогда уже напечатанную, он объявил, что прекращает издание журнала по обстоятельствам немаловажным и не от его воли зависящим.
Еще в марте, видя скопляющиеся над собою тучи и ожидая грозы, Лабзин, рядом с изданием «Сионского Вестника», издавал ежемесячно сочинение Штиллинга «Угроз» и перевел сочинения под заглавием: «Преосвященный пастух» — Флейшера, «О самопознании», «Пастырское послание», «Начальные основания деятельного христианства» и «Краткие правила на каждый день года». Преследуя одну и ту же цель — выпустить по возможности, более книг религиозного содержания — он трудился неутомимо, без устали; три типографии работали на него в одно и то же время. Усиленные труды и перенесенные огорчения надломили здоровье Лабзина, и он тяжко заболел...
V.
Масонская ложа Лабзина и его взгляд на масонство. — Мистицизм в проповедях. — Влияние отечественной войны на мистическое настроение императора Александра и общество. — Мысль о возобновлении „Сионского Вестника". Сознание князя Голицына в том, что он был неправым гонителем и виновником запрещения первого издания журнала. — Рескрипт императора А.Ф.Лабзину и пожалование ему ордена св.Владимира 2 степени. — Объявление об издании „Сионского Вестника". — Интерес, возбужденный журналом. — Лабзин находит, что заслуги его недостаточно ценятся правительством. — Желание его быть сенатором и тайным советником. — Назначение вице-президентом Академии Художеств.
C прекращением издания «Сионского Вестника» Лабзин, как человек с твердой волей, определенным направлением и посвятивший себя на «служение Богу» не мог оставаться праздным. Последователь Новикова и ученик Шварца, он с грустью смотрел на современное направление, принятое масонством, и решился основать особую ложу, или скорее братство.
Новиков и его друзья в свое время принесли огромную пользу религии, делу воспитания юношества, распространению просвещения, помощи страждущим и благотворному противодействию сильному тогда учению энциклопедистов. Но попытка Новикова установить масонство в России на прочных началах не увенчалась успехом, и он сам, как известно, подвергся преследованию правительства. В начале нынешнего столетия масонство получило y нас совершенно иной характер. Оно не было разрешено официально, но было терпимо отчасти потому, что, являясь лишь тенью того, что было при Новикове, не вызывало опасений со стороны правительства.
Между позднейшими масонами было много таких, которые в мутной воде ловили рыбу, — или пользуясь сотовариществом с выдающимися и влиятельными лицами, рассчитывали получить через них выгодную должность, чин или орден [240].
Недовольные своим общественным положением лица, воскрешая масонство в Петербурге, надеялись обратить на себя внимание и составить себе партию приверженцев. Основывая ложи, они вербовали в них неопытных новичков полезных для их личных интересов.
«Несколько братьев, московских калек, — говорит Д.П.Рунич [241], — помогали им, и с разрешения правительства основалось в Петербурге несколько масонских лож, под управлением гроссмейстеров, не знавших даже катехизиса и более невежественных, чем ученики. Образовалась русская ложа и немецкая ложа, вмещавшие в себе братьев всех оттенков. Бездействие нашло убежище против скуки, и шампанское заставило забыть ничтожество цели этих собраний. Уже не боялись прослыть за масонов, и полиция убедилась более, чем когда-либо, что она могла спать спокойно во время масонских собраний».
В них не удары молотка, а звук от раскупоривания бутылок, возбуждал всеобщее внимание и призывал братьев к деятельности.
— Лабзин не мог сочувствовать такому направлению и образовал особое братство, ближе подходившее к истинному масонству, на которое он не смотрел как на детскую игру, или на маску, прикрывающую политические стремления. Членами его ложи были: Поздеев, граф Разумовский, князь Гагарин, Зверев, Граббе, законоучитель Академии Художеств Сперанский, пастор 2-го кадетского корпуса Эвенгоф, законоучитель морского кадетского корпуса Иов [242], А.П.Мартынов и другие. Секретарем братства был Беляев, отец декабриста, друг и приятель Лабзина, в обращении которого с братьями был слышен тон господина и повелителя [243].
Лабзин видел в масонстве только первые ступени, по которым человек мог бы возвыситься до нравственного усовершенствования и внутреннего очищения, без чего «масонство сделалось бы, — говорит Д.П.Рунич [244], — как это доказывают факты, столь же ненужным, как внешняя религия, не отражающаяся на действиях того, который исповедует ее, и не проводящая в жизнь доктрин, которым она учит. Все Евангелие говорит только об обновлении, воскресении, о телесной смерти, за которой следует нравственная или духовная жизнь».
Разъяснение этой духовной жизни и составляло всю суть деятельности Лабзина. Как глава, как гросмейстер своего небольшого кружка, он умел наэлектризовать братьев, и они, веря в чистоту его намерений, в правильность его взглядов, легко подчинялись грубости его манер и дерзости в обращении, происходивших от необузданности его характера. Лабзин не церемонился с своими учениками и считал их. своими покорными слугами. Деспотизм был так развит в этой ложе, что Лабзин, например, заставил А.П.Мартынова играть на сцене в тот день, когда он получил известие о кончине отца.
— Мужчине стыдно поддаваться грустному чувству, — говорил он Мартынову.
Такое обращение возбуждало страх в молодом С.Аксакове, и в ложе Лабзина он видел какой-то католический фанатизм, напоминающий тайные и инквизиторские судилища средних веков. Здесь все обряды масонства соблюдались самым строгим образом: употребляли церемонии при принятии новых членов, пели соответствующие стихи во время занятий и за ужином [245].
Лабзин не мог допустить в своей ложе того шарлатанства, которым проникнута была большая часть масонов начала XIX века, и позднее высказался неодобрительно против такого направления общества.
«Ныне, — писал он князю A.Н.Голицыну [246], — правительством дозволены или терпимы масонские ложи. Развелось множество лож и каждая ничего более не делает, как только принимает новых членов, которых напринимано теперь уже более тысячи. Что в этом? Хорошо ли правительству попускать обирать деньги ни за что, ни про что? Кажется, либо не позволять ложи, либо поставить их на хорошую ногу, а то, — я могу сказать вашему сиятельству, — есть управляющие ложами люди весьма вредные, не только не верующие, но и не скрывающие своего неверия. За что ж давать развращать молодых людей, вступающих иногда туда и не с худым намерением? He рассудите ли, ваше сиятельство, представить о сем государю, хотя не как о деле, а между разговорами.
«Не та моя цель при сем, чтобы побудить опять запретить ложи, ибо с одной стороны я боюсь, чтобы, исторгая плевелы, иногда не повредить и пшеницы; с другой — представляется мне, что не по слепому же может быть случаю, то, что так строго в России запрещалось, так свободно ныне производится. A моя цель только та, как если бы ваше сиятельство увидели, что попы, исправляющие службу, сами смеются над тем, что делают, нили бы вместо обхода вокруг купели, при крещении, плясали в присядку, (то) не пожелали ли бы вы переменить сих попов? Впрочем, может быть, гораздо лучше употребить во благо те способы, которые почему-то стали возможны, позволительны и угодны многим, нежели приискивать, придумывать и изобретать новые.
«Мое дело было исполнить нудящее меня какое-то побуждение сказать вам это; впрочем, все сие предоставляю совершенно вашему благорассуждению.
«Я пишу сие единственно для вашего сиятельства. Я написал, но вы не слушайте меня, если что не так, ибо я и сам не хочу, чтобы было все по-моему, потому только, что по моему».
Строго религиозный Лабзин не мог видеть пренебрежения к религии, в каком бы виде оно ни проявлялось, и утешал себя только тем, что деятельность его по изданию «Сионского Вестника» не прошла бесследно и отразилась в духовной литературе.
Отголоски мистицизма, говорит П.Знаменский [247], слышны были в тогдашних проповедях «сохранившихся в многочисленных по духовным семействам рукописях и отчасти в изданных в печати; многие духовные лица успешно усваивали язык мистиков и очень близко подражали статьям «Сионского Вестника». Наиболее самобытным деятелем в этом направлении был Филарет (впоследствии митрополит московский), увлекавший тогдашнее общество своими проповедями.
«Отврати, говорил он [248], верующая душа, очи твои, еже не видети суеты; обратися в покой твой и в тайне ищи тихого безмятежного царствия Божия в себе самой. Царствие Божие внутрь вас есть (Лук. 17, 21). В живой вере и в твердом уповании, в чистой совести, в ангельской любви — здесь царствие Божие».
Здесь, по словам Филарета, зачинается, рождается, обитает и владычествует Христос; здесь нет никаких бед, ни голода, ни жажды, «ибо Царь наш питает рабов своих манною сокровенною» (Апок. 2, 17); нет ни скорбей, ни уныния — Он есть радость; ни болезней, ни смерти — Он есть жизнь; ни гонений и угнетения, — «идеже бо Дух Господень, ту свобода» (2 Кор. 3, 17). Небесное дыхание сего Духа, освежая воздух души, вливает благовонный мир в сердце. В нем, наполненном Духом Господним, всегда ясное небо: ни тучи сомнений не закрывают света Божия, ни гром гнева Его не потрясает слуха внутреннего.
Проповедь эта произвела громадное впечатление на слушателей. Многие, и в особенности мистики, с восторгом радости и удивления к таланту проповедника, встретили живое слово, дотоле ими не слыханное; все читали эту проповедь, выпрашивали себе ее экземпляры, старались познакомиться с Филаретом [249]. Последний произносил свои проповеди преимущественно на большие праздники, когда в Александро-Невскую лавру собиралось много молящихся. Сюда приезжали слушать его князь Голицын, Лабзин, A.Н.Оленин, А.И.Тургенев, A.С.Стурдза и другие. Филарет сразу приобрел себе поклонников, покровителей, но и врагов. В числе последних и наиболее сильный был Феофилакт Русанов, епископ калужский.
До появлении Филарета он пользовался в Петербурге славою первого проповедника. Сделавшись монахом не по убеждению, а по совету, Феофилакт по своему направлению был совершенно светский человек, старавшийся вторить в такт тогдашним либеральным стремлениям государственных людей и тем заслуживший их расположение. Он привлекал столичную публику новостью содержания проповедей, которые отличались, впрочем, странными особенностями. Феофилакт говорит, например, о картинах, на которых изображалась Божия Матерь, любил делать намеки на современность и не редко рассуждал о политике [250]. Как противоположность сухим проповедям остального духовенства, слова Феофилакта вызывали одобрение слушателей, но религиозной пищи в них было мало. И вот явился новый проповедник, который приковал к себе всеобщее внимание. Он высказывал тоже самое, что говорилось в «Сионском Вестнике» 1806 года, в мистических творениях Александра Ковалькова [251] и других русских авторов, которые хотя и не далеко удалялись от западных протестантских мистико-религиозных сочинений, но были применены к понятиям тогдашнего общества, и заманчивым содержанием подкупали читателей. В них шла речь о легчайшем пути ко спасению, предлагались «лествицы от земли на небо» и указывались «двери благодати». Все они читались с большим увлечением, потому что соответствовали потребностям общества и давали ответы на возбужденные им вопросы.
Хотя Филарет никогда не был мистиком, в полном значении этого слова, а впоследствии был одним из первых противников мистицизма, но в 1810 году, не понятый вполне, он являлся как бы сторонником этого учения. В самом деле, вышеприведенная проповедь его трактовала о царстве Христовом, и в ней проводилась мысль, что царство это не от мира сего и внутри нас есть — все то, что нужно было мистикам, — что задевало живую их струнку и вызывало горячее сочувствие к Филарету, в котором они видели своего сторонника и могущественного защитника.
— Князь Голицын просил митрополита Амвросия чаще поручать Филарету произносить проповеди, и в 1811 г. он произнес семь проповедей. — Из них слова на день «Пятидесятницы» и на «Рождество Христово» заслуживают наибольшего внимания по мистическому их характеру. Здесь затронуты были самые живые вопросы мистики: о возрождении духовном, о действиях духа в сердцах верующих, о просвещении внутренним светом, о самоуничижении, необходимом человеку для устройства внутри себя храма Божия.
— Человек тогда только сносен, говорит Сперанский, когда он в бессилии; силы или искание силы в начале его погубило и губит впоследствии; в бессилии он соединяется с Богом, в силе воюет против него.
To же самое говорили мистики, то же самое говорил и Филарет в 1811 году в слове на Рождество Христово.
«Нет высшей мудрости, как отречься от мудрости для Иисуса; нет большей славы, как разделять бесчестие с Иисусом; нет избыточнейшего состояния, как нищета Иисуса; нет совершеннейшего возраста, как младенчество Иисуса; нет лучшего украшения для души, как видеть себя чужду всех украшений, подобно яслям Его... Бог творит из ничего: доколе мы хотим и думаем быть чем-нибудь, дотоле Он в нас не начинает своего дела. Смирение и отвержение себя есть основание в нас храма Его: кто более углубляет оное, тот выше и безопаснее созиждет... Кто дал нам сердце, не довольствуется большей или меньшей его долей: оно все должно принадлежать Владыке всяческих. Он отвергает всякую любовь, которая не основывается на любви к Нему; всякое наслаждение, в котором ищем себя, есть огорчение для Него; всякая мысль, наклонная к тварям — измена Ему; всякая рассеянность — удаление от Него. Строгая токмо над собою бдительность может возвести к блаженному с Ним соединению и удержаться в Нем... Блаженни чистии сердцем, яко тии Бога узрят — и где? в самом сердце своем» [252].
Слова эти вызывали восторг слушателей, и известность Филарета росла, а с нею вместе росла и зависть Феофилакта, понявшего, что молодой проповедник может затмить его славу. Приверженцы Феофилакта стали распускать слух, что в проповеди на Благовещение Филарет обокрал известного французского проповедника Массильона; проповедь на день Св.Пасхи в 1811 году называли одой, а проповедь «О дарах Св.Духа», сказанную в праздник Св.Троицы, Феофилакт назвал неправославной, а наполненной пантеизмом.
В то время, когда происходила борьба за первенство между Феофилактом и Филаретом, явилось третье лицо, не поддававшееся модным идеям, не следовавшее за общим течением и осуждавшее проповедническую деятельность того и другого. To был инспектор С.-Петербургской духовной академии Иннокентий (Смирнов), человек очень умный, строгий ревнитель православия, проповедник не столько блистательный, сколько теплый наставник в благочестии [253].
«О, какие мы недостойные учители и проповедники слова истины! говорил он. Любодей любодействует не ради деторождения, а для насыщения нечистой своей похоти, так и проповедник слова Божия, когда проповедует не ради рождения чад духовных по закону, но чтобы, сказав слово, токмо двнжением рук, эхом голоса и произношения слыть за проповедника или почесать сердце свое щекотанием, слухом чести, мзды и отличия, то же он делает, что и любодей: тот любодействует телесно, а сей духовно. A когда в проповеди есть еще примесь неправого учения и духа, тогда как матерь во чреве своем убивает дом младенца, так и проповедник ядом заблуждения паче убивает, нежели воспитывает, во утробе матери церкви чад духовных. Видит Бог, как в настоящих духовных витиях и проповедниках бывает нечисто, нерадиво, суетно проповедническое слово! Многие ли ныне своими словами, речами и поучениями, витиеватыми, высокими и таинственными (мистическими), делают то назидание, какое св. отцы наши древле производили своими простыми, немногими, краткими словами и беседами? Чают многие навыкнуть проповеди слова Божия не от дел, но из школьного научения и покушаются проповедывать слово о царствии Божии не от вышнего разума, а от земного мудрования и явления плоти и крови... Но всего суетнее и пагубнее то, что некоторые из верных сынов царствия почивают на западных и новейших словесниках и витиях, а вод благодатного учения в Св.Златоусте Иоанне, Василии Великом, Григории Богослове и прочих св. отцах и учителях церкви не хотят и видеть, будто они не нужны для людей нывешних. Ужели, Массильон, Боссюэт, Бурдалу, Флешье более и лучше заключают в себе живых вод, чем студенец, истекший из уст св.Златоуста и иных отцов церкви и богомудрых учителей?» [254].
Обвинение в любодействе словом заставило молодого тогда Филарета просить подвергнуть критической оценке его проповеди и в особенности проповедь «О дарах Св.Духа». Просматривавшие ее митрополит Амвросий, известный догматик Мефодий тверской, M.М.Сперанский и кн.A.Н.Голицын не нашли в ней ничего неправославного и решили немедленно напечатать эту проповедь. Она была представлена императору, и в конце июня Филарету пожалован драгоценный наперстный крест «за отличие в проповедании слова Божия». Через неделю он, имея всего 28 лет от роду, был посвящен в сан архимандрита.
Приписывая столь быстрое возвышение Филарета митрополиту, Феофилакт старался представить Амвросия ретроградом и в одной из проповедей своих говорил исключительно о человеке престарелом, обремененном службою, из-за которого всеми делами митрополии управляет молодой монах. Это был ясный намек на Филарета и митрополита Амвросия. Последний был в крайне неприятном положении, не знал, как выйти из него, но Филарет указал ему на способ прекратить на будущее время проповедническую деятельность Феофилакта. Молодой архимандрит напомнил митрополиту 20-е правило VI Вселенского собора, которым воспрещалось проповедовать в чужой епархии. Амвросий предложил это указание самому Феофилакту в заседании Синода, и голос калужского архиепископа не раздавался более в церквах Петербурга [255]. За то проповедническая кафедра Филарета была всегда окружена множеством публики из столичной знати.
Самым горячим поклонником и почитателем Филарета был князь A.Н.Голицын, совершенно подчинившийся его влиянию и просивший даже быть его духовным отцом, от чего Филарет однако уклонился. Это уклонение не мешало их взаимному сближению; князь A.Н.Голицын часто посылал за Филаретом и в беседе с ним проводил многие часы. «В продолжение осени, писал Филарет отцу 28-го ноября 1811 года, я несколько раз бывал y князя Александра Николаевича и в его иногда экипаже. Он подарил мне духовные творения Фенелона на французском (языке). Теперь он нездоров, помолитесь о нем, он истинный ревнитель веры и церкви», — церкви внутренней, мистической, прибавим мы.
Собственно говоря мистическое движение, не будучи никогда народным, захватывало только образованное, преимущественно аристократическое общество и укрепилось в нем под влиянием последовавших вслед затем тяжких испытаний Отечественной войны 1812 года. Москва была занята неприятелем, многие губернии разорены и остались без правителей; сообщение с армией на несколько дней прекратилось, и в Петербурге не знали, что делается в значительной части центральной России.
Там Наполеон, совершенно неожиданно, наткнулся на новую неведомую ему силу — на преданность русского народа царю и родине и на его религиозность, незнакомую ни с мистицизмом, ни с каким другим учением, кроме преданий отцов и дедов.
— О! мои бородачи, говорил император Александр впоследствии Шуазель-Гуфье — они гораздо лучше нас. Они сохраняют патриархальные нравы, веру в Бога и безграничную преданность своему государю [256].
Только глубокая вера в Бога, в каком бы виде она ни выражалась, в состоянии подвигнуть каждого на самопожертвование, и в ней одной живой источник силы и средства к сопротивлению врагу, сопряженному всегда с опасностью жизни. Успехи войны приписывались всеми Промыслу Божию, карающему нечестивого оскорбителя, насильно вторгшегося в наше отечество и нанесшего ему столько бедствий. Наполеон представился всем антихристом, для сокрушения которого был послан Богом, как тогда называли, «ангелоподобный» Александр. Но последний, не приписывая ничего себе, в добровольно сожигаемых селах, городах и, наконец, в зареве Москвы, увидел все величие своего народа, преклонился перед ним и перед «перстом Божиим».
— Пожар Москвы, говорил государь прусскому епископу Эйлерту [257], — осветил мою душу, и суд Божий на ледяных полях наполнил мое сердце теплотой веры, какой я до тех пор не ощущал.
Александр I понял, что одних гражданских добродетелей, тех, в которых он сам был воспитан, т.е. гуманности, любви к ближнему, понятия о равенстве и братстве, недостаточно для совершения великого подвига самоуничтожения на пользу отечества; что для этого надо что-то высшее, идейное или духовное, — и религия, охватив внутреннего человека, дала императору иное направление, переродила его.
— В 1812 году, говорил он [258], Господь, по любви и милосердию своему, снова призвал меня к себе, и прежние движения благодати возобновились в сердце моем с новой силой.
С получением известия о вступлении Наполеона в Москву, многие жители Петербурга стали укладывать свои вещи и собираться к выезду, будучи уверены, что французы скоро явятся в Петербург. «Среди общего беспокойства, писал Филарет отцу [259], один человек удивил меня своим великодушием. Тогда как многие оставляли свои дома, кн.Александр Николаевич (Голицын) строил в своем доме церковь и переделывал свой дом. Завистливые люди старались оклеветать его в глазах государя и навести подозрение в измене отечеству.
— Голицын, спрашивал однажды Александр, что ты делаешь? Что это значит? Все собираются бежать, а ты строишься?
— Да, отвечал князь, место, где я теперь, так же безопасно, как и всякое другое, куда бы я мог бежать; Господь защита моя, на Него я уповаю.
— С какого времени, спрашивал государь, y тебя так много надежды на помощь Божию, и на чем основано твое упование?
— Сердце мое о том свидетельствует, отвечал кн.Голицын, и вот та боговдохновенная книга, которая подтверждает непреложность моего упования.
Он хотел подать государю Библию, но она упала нечаянно на пол и раскрылась.
— Позвольте же мне, сказал князь, прочитать вам именно то место, на котором раскрылась Библия.
Это был 90 псалом: «Живый в помощи Вышнего, в крове Бога небесного вдоворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и прибежище мое, — Бог мой, и уповаю на него»...
Слушая чтение этого псалма, государь оставался неподвижным и был в крайнем изумлении. В ужасные дни тревог и волнений, среди бедствия, постигшего отечество, Александр невольно, в словах Библии, почувствовал некоторое утешение и видел в этом озарение свыше [260].
— Тогда я познал Бога, говорил он епископу Эйлерту, как его описывает Св.Писание. С тех только пор, я понял Его волю и Его закон, и во мне созрела твердая решимость посвятить себя и свое царствование Его имени и славе.
Князь Голицын передал государю Библию и советовал ему приняться за чтение Св.Писания.
— Я пожирал Библию, говорил Александр, находя, что слова ее вливают новый, прежде никогда не испытанный, мир в мое сердце и удовлетворяют жажде души моей. Господь по благости своей даровал мне духом своим уразуметь то, что я читал; этому-то внутреннему назиданию и озарению обязан я всеми духовными благами, приобретенными мною при чтении божественного слова, — вот почему я смотрю на внутреннее озарение или наставление от Святого Духа, как на самую твердую опору спасительного богопознания.
Последующие события и обстоятельства еще более укрепили государя в справедливости его мнения и направили по этому пути. Будучи в Казанском соборе, он опять услышал чтение того же 90 псалма и спросил священника, кто подал ему мысль читать его?
— Никто, отвечал спрошенный, но я молился Господу и просил внушить мне, что именно избрать и прочесть из Его божественного слова для ободрения и утешения моего государя, и мне казалось потом, что этот псалом был именно гласом Божиим к Вашему Величеству.
Видя в этом особое знамение, император весь предался воле Божией, преклонился пред промыслом Всевышнего и приучил себя читать Библию каждый день утром и вечером.
— Вера побудила меня, говорил Александр однажды кн.Мещерской, отдаться Тому, Кто говорил мне в псалме 90, и внушала мне уверенность, давала силы совершенно для меня новые. При каждой трудности, при каждом вопросе, я преклонялся к ногам моего небесного Отца или, углубляясь на несколько минут в себя, взывал к Нему из глубины сердца и все чудесным образом устраивалось; все затруднения исчезали перед Господом, Который шел впереди меня.
С этих пор Александр часто предавался созерцательной молитве и особенно любил беседовать о внутреннем действии Св.Духа и его влиянии на человека, т. е. именно о том, о чем твердили все мистики. Такое настроение государя поддерживалось и последующими обстоятельствами.
1-го октября, в день Покрова Пресвятыя Богородицы, Филарет освящал домовую церковь кн.Голицына, в присутствии Св.Синода и блестящего собрания дворянства. В то время Наполеон не покидал еще Москвы и, под впечатлением тяжелых дней, проповедник указывал на необходимость всегдашней готовности к принятию в себя Царя славы.
«И между тем Господь при дверех, говорил Филарет. Какой раб может пренебрегать посещением владыки своего и какой владыка может снести такое пренебрежение? Может ли богатый оставить нищего толцать в ворота свои от утра и до вечера и нищий не проклясть жестокосердого? Но ты, Господи, с неизреченными сокровищами щедрот Твоих, с того времени, как воссиял надо мною свет Евангелия Твоего, стоишь y вечных врат души моей, а я не внемлю Твоим кротким толцаниям, и вратами тления убегаю скитаться по миру, и просить y врагов Твоих моей погибели» [261].
Если припомнить, что слова эти произносились среди губительной войны, при получении отовсюду известий об оскорблении святыни и осквернении православных храмов, то можно представить себе, какое впечатление должна была эта проповедь произвести на присутствовавших и притом таких, в которых, по словам Филарета, с почтением можно было видеть примеры благочестия.
23-го октября Филарет опять служил в церкви князя Голицына, и его убеждали повторит ту же проповедь, «но я, говорит он [262], не мог себя принудить к тому и говорил вместо того Беседу [263], которую присем прилагаю». Беседа эта была повторена в том же храме 30-го ноября в присутствии императора Александра и вызвала полное его одобрение.
«Что мя зовете Господи, Господи и не творите яже глаголю? говорил Филарет. Страшный гнев Господа открывается нам, слушатели, в сем изречении Евангелия! Он укоряет не только тех, которые хулят и забывают святое имя Его, но и тех, которые с благоговением обносят оное в устах своих. И так неужели Бога оскорблять можно и молитвой? Можно, если устная молитва не сопутствуется сердечной, а сердечная не сопровождается творительной молитвой...»
Далее касаясь прошения: да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, Филарет спрашивал: «не многие ли из нас в легкомысленных мечтаниях созидают здесь каждый собственное царство? Сын силы думает начертать другим закон страха и унижения (Наполеон); мнящийся быть мудрым хочет владычествовать пером в царстве мнений; легкомысленный мечтает быть законодателем в удовольствиях и забавах; корыстолюбивый устрояет темное царство и собирает бездушных подданных своих в сокровищницах» [264].
Неудивительно, что после этой проповеди Филарет слышал со строны высочайшей особы такие слова кротости, которые растопляли его, как воск; такие слова благочестия, которые воспламеняли его.
Борьба с Наполеоном и победы, одержанные русским народом, дали России первенствующее политическое положение среди европейских держав, а императору Александру — имя освободителя Европы. Неожиданные последствия войны, превышавшие самые большие желания и самые отважные предположения, естественно приписывались Божественной силе, действовавшей наперекор земным рассчетам. Все преклонились перед этою силою и в ней одной видели свое спасение. Сам Александр I, отрицая значение своего влияния, смотрел на себя, как на орудие Провидения, и на медали, учрежденной в память 1812 года, повелел начертать следующие высокознаменательные слова: «Не нам, не нам, но имени Твоему даждь славу».
Глубокое чувство благодарности и смирения привело государя к самоуглублению, к внутренней молитве — словом, к мистицизму. В этом, как мы видели, он нашел большую поддержку в товарище своего детства, князе Голицыне. Это был уже не тот человек, каким мы знали его, когда он просил о запрещении «Сионского Вестника». По природе мягкий и восприимчивый, кн.Голицын легко поддавался постороннему влиянию и, окруженный как духовными, так и светскими мистиками, легко пошел по пути внутренней религии, отрицая внешнюю. Божественная заповедь любви к ближнему сделалась постоянным спутником и руководителем его сердца. Он не понимал разностей догматических, канонических или обрядовых, разделяющих между собою различные исповедания, и для него не было ни католика, ни протестанта, а существовали только христиане в общем значении этого слова. Основываясь на Евангелии, сближающем всех без различия вероисповеданий, князь A.Н.Голицын принял под свое покровительство все секты, не исключая «людей Божиих» и даже скопцов.
«Ничто, говорит И.Чистович [265], не было более противно ему, как фанатизм, религиозная нетерпимость и мертвое благочестие обряда и внешней формы. Стремления князя Голицына наклонялись к тому, чтобы вывести русский народ из того усыпления и равнодушия в деле веры, какое казалось ему повсюдным, пробудить в нем высшие духовные инстинкты и через распространение священных книг ввести в него живую струю внутреннего понимания христианства, между тем как русское общество, по его мнению, довольствовалось одним внешним исполнением обрядов и одною внешней набожностью».
Желая очистить религию от внешних обрядностей и воспользовавшись внутренним настроением императора, кн.Голицын убедил его основать «Библейское общество». Мы не имеем в виду входить здесь в подробное описание задач и деятельности этого общества, но заметим, что император Александр сам записался в его члены, внес 25 тыс. руб. и обязался ежегодно вносить по 10 тыс. рублей; что главными деятелями и руководителями русского Библейского общества были англичане-пасторы Пинкертон и Петерсон; что членами общества были масоны, мартинисты, мистики и представители всех вероисповеданий, находившихся в России. Президентом общества был князь A.Н.Голицын, вице-президентами: граф В.П.Кочубей и граф К.Разумовский, секретарями: В.М.Попов, А.И.Тургенев и А.Ф.Лабзин. Членами общества были: митрополит с.-петербургский Михаил, ректор С.-Петербургской духовной академии Филарет (впоследствии митрополит московский) и С.-Петербургской семинарии Иннокентий; митрополит римско-католических церквей Сестренцевич-Богуш, протестантский генерал супер-интендент Рейнбот, пастор англиканской с.-петербургской церкви Питт, сарептского евангелического братского общества пастор Шерль, голландский пастор Янсен, масоны и мистики P.А.Кошелев, Г.Плещеев в другие. Все они имели одинаковые права, и члены русского православного духовенства не пользовались никакими преимуществами перед духовенством других вероисповеданий. «Не странны ли, писал A.С.Шишков, даже не смешны ли в библейских обществах наши митрополиты и архиереи, заседающие вместе с лютеранами, католиками, кальвинами, квакерами, словом со всеми иноверцами? Они с седою головою, в рясах и клобуках, сидят с мирянами всех наций, и им человек во фраке проповедует слово Божие!»
Что казалось странным Шишкову и некоторым другим, то для членов Библейского общества было делом естественным, полезным и необходимым. В Библейском обществе видели арсенал или оружейную палату, где ковался вещественный меч слова Божия, владеть которым предоставлялось воинам Христовым. В идее основания Библейского общества видели «новое излияние Св.Духа на всяку плоть» и думали, что с помощью одной книги можно будет христианству «расторгнуть обветшалые пелены, обойтись без церкви и достигнуть соединения в духе и истине.»
Последующие политические события заставили императора Александра I пробыть долгое время за границей. В Силезии община моравских братьев поразила его мягким характером религиозности, и он ставил ее потом образцом истинного христианства. В Бадене Александр виделся с Юнгом Штиллингом [266] и долго беседовал с ним о том, что во всех христианских исповеданиях есть доля истины, но что ни одно из них не выражает универсального высокого идеала христианства. Приблизиться к этому идеалу и было заветной мечтой Александра.
— Отчего это, — говорил он Шуазель-Гуфье, — все государи и народы Европы не условятся жить по-братски и помогать друг другу в своих нуждах. Торговля сделалась бы общим достоянием этой громадной семьи. Члены ее, хотя бы и различались вероисповеданиями, но веротерпимость соединяла бы их. Для Бога я думаю безразлично — призывают ли его люди на греческом или на латинском языках, лишь бы только они исполняли свои обязанности в отношении Его, да были бы честны. He всегда длинная молитва бывает приятна Богу [267].
Еще в 1813 году при первых неудачах в борьбе с Наполеоном Александр вместе с королем прусским Фридрихом-Вильгельмом, тоже мистиком, сознали, что только рука Всевышнего могла спасти Германию, и решились в случае успеха гласно заявить всему свету, что только одному Богу они обязаны благополучным исходом в борьбе с Наполеоном. Последующие превратности войны вплоть до 1815 года еще более убеждали императора в необходимости исполнить данное обещание.
— Я оставляю Францию, говорил он г-же Крюднер в 1815 году, но до отъезда хочу публичным актом воздать Богу Отцу, Сыну и Св.Духу хвалу, которой мы обязаны Ему, и призвать народы стать в повиновение Евангелия. Я желаю, чтобы император австрийский и король прусский соединились со мною в этом акте богопочтения, дабы люди видели, что мы, как восточные маги, признаем верховную власть Спасителя.
Так явился известный акт «Священного союза», по которому подписавшие его три монарха согласились оказывать друг другу услуги и почитать себя членами единого народа христианского. Они взаимно обязались, как во внутреннем управлении, так и в политических отношениях руководствоваться заповедями Св.Евангелия, подданных своих считать как бы членами одного семейства и управлять ими в духе братства, по заповедям любви, правды и мира.
Сообразно с этим, все три монарха убеждали своих подданных «утверждаться в правилах и деятельном исполнении обязанностей, в которых наставил человеков Божественный Спаситель, яко единственное средство наслаждаться миром, который истекает от доброй совести и который един прочен».
В России манифест о Священном союзе был принят с большим восторгом, и 9-го ноября 1815 года Филарет сообщал отцу [268]: «Думаю, не писал еще я к вам, что он (Александр) с императором австрийским и королем прусским заключили союз, которым они признают Царем-Царей Христа; самым спасительным законом — закон христианский; себя — приставниками Царя-Христа y своих народов; свои народы — тремя отрослями одного христианства и братьями, и к сему приглашают и прочих государей. И так, наконец, стали принадлежать царства мира Господу нашему и Христу Его, как говорит оригинальный текст Апокалипсиса («Ныне бысть спасение и сила и царство Бога нашего и область Христа Его» Апок. 12,10).
Сам император Александр был в восторге от акта Священного союза и повелел копии с манифеста выставить на видных местах во всех церквах Империи. Духовенству приказано заимствовать из него мысли для своих проповедей и научать прихожан братской любви к ближнему. В этих проповедях часто переходилась граница приличия, и Александр в устах духовенства получал такую характеристику, которая не свойственна человеку. Архиепископ Филарет назвал его вселенским проповедником благочестия [269], другие пошли еще далее и вызвали протест со стороны самого государя.
«В последний мой проезд по губерниям, писал император Александр в указе Св.Синоду [270], в некоторых из оных, должен был, к сожалению моему, слушать в речах, говоренных духовными лицами, такие несовместные мне похвалы, кои приписывать можно единому Богу. Поколику я убежден в глубине сердца моего в сей христианской истине, что через единого Господа Спасителя Иисуса Христа проистекает всякое добро и что человек, какой бы ни был, есть единое зло, — следовательно, приписывать мне славу в успехах, где рука Божия столь явна была целому свету, было бы отдавать человеку то, что принадлежит всемогущему Богу.
«Для того долгом считая запретить таковые неприличные выражения, поручаю Св.Синоду предписать всем епархиальным архиереям, чтобы, как они сами, так и подведомственное духовенство, при подобных случаях, воздержались от похвал, толико слуху моему противных, а воздавали бы единому токмо Господу сил благодарение за ниспосланные щедроты и умоляли бы о излиянии благодати Его на всех нас, основываясь на словах священного писания: Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков.»
Прошло шесть лет после этого указа, и в 1823 году тот же Филарет, будучи митрополитом московским, на случай встречи императора, писал Гавриилу тверскому: «в речи не хвалите государя, а говорите что-нибудь полезное и правдивое» [271].
Но мы опередили события и должны сказать, что с тех пор как Александр І стал во главе религиозного движения, в наших гостиных стали чаще говорить о внутреннем соединении человека с Богом, о внутреннем возрождении и внутреннем хождении по пути религии и нравственности.
Прежнее вольнодумство было покинуто обществом, и кто не был истинно благочестив, тот старался казаться таковым. Идея возрождения и обновления внутреннего человека завербовала себе многих дам высшего круга, из коих некоторые, как например: кн.Голицина, кн.Мещерская, гр.Толстая, Хвостова, фрейлина Стурдза — имели большое влияние на государя и императрицу Елизавету Алексеевну. Религиозное настроение охватило многих лиц, стоявших во главе администрации, не исключая духовенства, сочувствовавшего деятельности тех, которые своим служебным влиянием или путем литературы распространили мистическое учение.
С каждым годом число выходящих мистических книг значительно увеличивалось: выходили или новые издания прежде вышедших книг или новые переводы и новые оригинальные сочинения. Некоторые из них были посвящены высочайшему имени и даже изданы на счет государя [272]. На этом поприще трудились: Лабзин, Уткин, Шамшин, Сахаров, Лубяновский, сенатор 3. Карнеев, Хвостова, княгиня Мещерская и друг. В десятилетие с 1813 по 1823 год вышло до 60-ти мистических сочинений, из коих приходилось на долю Эккартсгаузена более 25, Гион — 9, Ю.Штиллинга — 4, Таулера — 2, и до десяти сочинений других иностранных писателей, причем «Философия» дю-Туа ценилась мистиками едва ли не выше Евангелия. В числе оригинальных сочинений были: «Плод полюбившего истину» — Лопухина; «Мои мысли о Символе вере» и «Мысли при чтении молитвы Господней» — сенатора Карнеева: «Письма к другу» и «Совет души моей» — Хвостовой и другие. Словом, мистическая литература настолько обогатилась, что один из переводчиков мог сказать: «Благодарение Богу! y нас теперь довольно вышло и выходит мистических книг, так что в средствах нет недостатка». К этому надо прибавить, что сверх книг издавались еще и мистические журналы: «Друг Юношества» Невзорова (1807—1815) и «Духовный год жизни христианина» (1816 г.).
Все эти издания, выходившие без участия духовной цензуры, встречались русским обществом с большим сочувствием, дали перевес над учением православной церкви и послужили к основанию нескольких тайных сект, в числе которых была секта и известной Татариновой.
Между тем, Библейское общество быстро распространялось и, в виде местных отделений, охватило почти всю Россию. В короткое время все уголки ее были переполнены книжками и брошюрами общества; но изданные без всяких вероисповедных примечаний, оне не имели никакого значения для народа, валялись по шинкам и кабакам, и даже были употребляемы на обертки. Все это убеждало некоторых в необходимости, не нарушая устава Библейского общества, иметь в стороне его руководящий орган, который давал бы необходимые объяснения основ религии, давал бы тон, направление и объяснял деятельность библейских отделений. Таким органом в глазах А.Ф.Лабзина мог бы служить возобновленный под его редакцией «Сионский Вестник».
— Человек есть l'animal sociable и требует общества, говорил он князю A.Н.Голицыну. Но какие есть y вас общества? Человек молодой и хорошо воспитанный, вступив в свет, встречает все то, что опровергает или, по крайней мере, противоречит внушенным ему правилам. Куда он денется: хочет есть и пить — есть трактиры, хочет танцевать — есть балы и клубы, в карты играть — везде есть сообщники. Но если бы он искал сообщества для украшения себя в добродетели, в вере, познании истины — где найдет он такое общество? Они подозрительны, они преследуются; самый малый кружок сошедшихся таких людей всегда подвержен какому-то страху, и, если не прямо гонению, то тайному или явному надзору и притеснению. Нельзя ли, по крайней мере, правительству не связывать людям руки добро делать?
Одним из видов такого добра А.Ф.Лабзин признавал издание религиозно-нравственного журнала и предлагал свои услуги. Он уверял князя Голицына, что ничего более не желает, как получить простор и разрешение на проповедание людям Слова Божия. «Есля и государь соизволит признать меня, — писал Лабзин [273], как признают некоторые, годным на служение Господу и братьям нашим, то нужно, чтобы я поставлен был на такой пост или приведен (бы) был в такое состояние, чтобы мог действовать с большим успехом и безбоязненно».
Прошлая деятельность Лабзина, как издателя журнала, подверглась, как мы виделя, осуждению, но теперь обстоятельства совершенно изменились. Князь А.Н.Голицын из врагов сделался человеком, сочувствующим взглядам бывшего издателя «Сионского Вестника». Теперь было такое время, когда Лабзин мог напомнить министру, что только по его представлению бывший издатель находится под гневом государя и оглашен перед публикой человеком не только вредным, но и злоумышленным.
— Если осуждение это правильно, говорил Лабзин, — тогда пусть оно так и останется, если же нет, то справедливость требует снять клеймо, которое тяготит меня, и снять таким же гласным образом, каким оно было наложено. Если нельзя возвратить потерянное, то пусть останусь живым свидетелем того, как легко нанести другому долговременный вред и как трудно оный вознаградить, при всем добром желании.
Эти последние слова, при тогдашнем внутреннем настроении князя Голицына, его честности и душевной чистоте, должны были лечь на него тяжелым укором, как на виновника несчастья человека, давно уже шедшего по тому пути, который теперь призван был им самим единственно правильным в жизни каждого христианина. Князь Голицын просил Лабзина доставить ему все книжки «Сионского Вестника» и всю переписку по журналу в 1806 году. Познакомившись ближе с характером и направлением «Вестника», он сознался, какую ошибку сделал тогда, требуя прекращения, по его теперешнему мнению, столь полезного издания.
В течение этого времени, писал князь императору Александру [274], «милостью Господа и обстоятельствами, Ему единому известными, почувствовал я в сердце своем развязку всего того, что прежде удивляло мой рассудок, и между прочим обратил я свое внимание на «Сионский Вестник»,о котором мне много говорили. Перечитав все места, на кои указано было в замечаниях, сделанных цензуре [275], я ужаснулся, сколько от невежества моего в духе Св.Писания отяготил я судьбу невинного.
«Не имел я никакой личности тогда, но считал, что исполняю свою должность; одна тому причина, что был во тьме, следовательно, и делал все ощупью. Свет Господень просветил меня, и я ясно увидел, что гнал то, что церковь апостольская и древние отцы учили. Я оставляю правосудию вашему, всемилостивейший государь, рассудить, следует ли возвратить доброе имя тому, y кого оное невинно отнято».
Получив предварительное согласие государя на возобновление «Сионского Вестника», князь Голицын всеподданнейшей собственноручной запиской, от 18-го ноября 1816 года, испрашивал официально высочайшее на то разрешение.
«Десять лет протекло от сего происшествия, говорил он, и во все сие время издатель считается под некоторым замечанием, как вредный писатель; то я долгом счел войти во все подробности сего дела и прочесть как те места в «Сионском Вестнике», на которые сделаны были замечания, так и переписку, по сему делу происходившую, и не только не нашел ничего противного христианству, но, напротив, чрезвычайно назидательное сочинение, так что надобно сожалеть о столь долгом молчании сего журнала, и я иначе не могу представить Вашему Величеству как то, чтобы его скорее восстановить для пользы любящих духовные занятия.
«Вопрос можно сделать: от чего я в 1806 году представлял о запрещении сего издания, а ныне нахожу его превосходным? — От того, что я был в совершенной тьме, а ныне, хотя и не могу сказать, чтоб я был уже просвещенным, но по крайней мере ищу света в истинном источнике.
«Не зная духа священного писания, все то, что было в сем духе, казалось мне сокровенным языком какого-нибудь общества, ишущего вредить религии, а может в правительству. От сих начал я стал действовать и, думая служить церкви, гнал дух ее.
«Для лучшего усмотрения прилагаю здесь июнь и июль месяцы 1806 г. «Сионского Вестника», на которые указано г. Новосильцовым. и вы сами увидите истину моего нынешнего заключения.
«Остается одно затруднение, что Высочайшим Вашим именем сделано вышеписанное замечание, но так как не видно было, что оное последовало по моему представлению, то ежели Вы изволите найти изложенное мною заслуживающим уважения, можно будет дать такой оборот в рассуждении издания, чтоб видна была моя ошибка, по которой последовало замечание; ибо не возможно Вашему Величеству цензуровать журналы; основались же Вы на заключении управляющих министерствами просвещения и духовных дел.
«Обязанностью своей также считаю при сем случае ходатайство-вать пред Вами о возвращении доброго именя тому, y которого отнято оное было по моему невежеству, каковым-либо вознаграждением.
«Я не говорю о том, что всякая оказанная Вами милость издателю успокоила бы мою совесть, но осмеливаюсь сказать, что оное бы было правосудно и со стороны Вашего Величества.
«Я оканчиваю мое признание благодарением Господу, что Он меня допустил исповедать пред Вами на письме мои заблуждения».
Император Александр не только разрешил возобновить издание «Сионского Вестника», но выразиле готовность оказать не-которое пособие для первоначального ведения этого дела.
— С своей стороны, говорил князь Лабзину, — я радуюсь, что мог истине отдать справедливость, не приписывая оного себе, а единственно милости Господней, меня просветившей.
Все еще чувствуя себя как бы виновным и желая окончательно очистить свою совесть и искупить грех запрещения журнала, князь Голицын испросил Лабзину в награду орден Св.Владимира 2-ой степени, который и был препровожден при следующем замечательном рескрипте (от 12 декабря 1816 года), составленным самим князем.
«Признавая истинной заслугой обществу всякий подвиг, совершаемый для распространения и укоренения в народе истин, служащих к их временному и вечному благу, с особенным удовольствием обратили Мы внимание на добровольную ревность и неусыпные труды, употребленные и употребляемые вами для издания на отечественном языке многих книг, руководствующих к образованию духа и жизни по началам религии, единым твердым и истинным.
«Вследствие сего, всемилостивейше жалуя вам знаки второй степени ордена Святого Равноапостольного князя Владимира, при сем препровождаемые, повелеваем возложить на себя и носить по установлению.
«В уверении, что сие изъявление Нашего благоволения вновь утвердит вас в упражнениях ваших, и что вы продолжите способствовать соотечественникам различными стезями познания умудряться во всеобъемлющую простоту христианства, пребываем Императорской Нашей милостью вам благосклонны».
Такая оценка предыдущей деятельности настолько ободрила Лабзина, что он, с свойственными ему увлечением и самонадеянностью, проектировал издание на широких началах. Он просил «Сионскому Вестнику» те же привилегии, которые даны были «Северной Почте», «Русскому Инвалиду» и H.М.Карамзину при издании его «Истории», т. е. чтобы журнал был избавлен от предварительной цензуры и чтобы типография, в которой, будет печататься «Сионский Вестник», не останавливала печатание книжек «за другими встречающимися делами», точно так, как подобное повеление дано было относительно «Истории» Карамзина [276].
Обнадеженный поддержкой и пособием, Лабзин говорил, что желание сделать журнал достойным той цели, которой он посвящается, заставляет его сознаться, что он один не в силах сделать это, и ему необходимы помощники.
— Надо много читать, прибавлял он, — делать выписки, много переводить, хлопотать с типографией, цензурой и переплетчиками. Все это приходится делать с крайней поспешностью и на срок, так что издателю периодического сочинения не позволяется и занемочь. Почему я необходимо должен иметь помощников и притом не одного, а многих. Но отыскать их весьма трудно: во-первых, если и есть y нас трудящиеся в сочинениях и переводах, то совсем другого рода, а писателей духовных книг я совсем не вижу; во-вторых, если такие и встречаются, то в таком классе людей, которые или заняты службой или заниматься сим трудом постоянно не захотят; наконец, в-третьих, кто из порядочных людей согласится пойти в службу к частному человеку, без того чтобы он не принужден был удовлетворять их втрое и вчетверо против казенного жалованья. Сверх того, занятия должны происходить в ночное время; по ночам же собирать мне своих сотрудников, когда один будет жить, например, на Литейной, другой в Коломне, а третий на Петербургской стороне — невозможно. Самое дело требует, чтобы они жили, ежели не со мною, то подле меня и вместе, дабы если в нужное время не случилось бы одного дома, другой мог заменить его. Следовательно, нужно мне нанять дом поблизости меня и, если можно, поместить всех моих сотрудников вместе.
Основываясь на благоволении и сочувствии государя, Лабзин не считал уже издание «Сионского Вестника» предприятием частным, а делом государственным, предпринятым на общественную пользу. Поэтому он находил своевременным и приличным учредить при министерстве просвещения или при главном управлении духовными делами особый департамент для издания духовных книг.
В ожидании образования такого департамента, Лабзин просил князя Голицына причислить к одному из управляемых им министерств народного просвещения или духовных дел следующих лиц, которых он избирал себе помощниками:
1) Коллежского ассесора Егора Чиляева, известного по своим добрым свойствам и христианским правилам. Чиляев служил в министерстве финансов в департаменте податей и сборов. Лабзин просил сохранить ему получаемое жалованье и прабавить 600—700 руб. за занятия по «Сионскому Вестнику».
2) Титулярного советника Алексея Иконникова, находившегося в отставке и потому соглашающегося поступить на службу с жалованием в 500 руб.
3) Второго кадетского корпуса поручика Юрия Бартенева, с переименованием его в чин титулярного советника и с назначением жалования по 600 руб.
4) Того же корпуса волонтера Василия Спичакова, ожидавшего выпуска и по слабости своего здоровья и склонностям желавшего быть выпущенным 14 классом, для определения в гражданскую службу. По мнению Лабзина, он годился только для переписки набело, и ему достаточно было жалования по 400 руб., при готовой квартире.
5) Статского советника Василия Кожина, — старика, служившего прежде в почтамте и вышедшего в отставку с пенсиею. Он готов был трудиться из-за одной квартиры. «Сей, говорил Лабзин, был бы мне полезен по самому нездоровью своему, ибо, имев несчастье переломить прежде ногу, он потому сидит всегда дома, a притом знает не один язык иностранный».
Хотя широкие замыслы Лабзина и не осуществились, но, обнадеженный будущим покровительством, он торопился приступить к делу и 2-го января 1817 года появилось объявление об издании «Сионского Вестника» [277].
«Почтенной публике уже известно, — сказано в нем, — сколько издатель, за предприемлемые им для нее труды ободрен милостью благочестивого Монарха, в воле которого познает он волю Правящего судьбами человеческими; и, между тем, как все тщание его было собрать все свои силы, чтобы достойно смиряться пред Тем, пред Кем ничто высокое не велико, и никакое смирение не довольно, — он получил новое свидетельство монаршего о сем благоволения, изъявленного ему в отношении господина главноуправляющего духовными делами разных вероисповеданий, от 22 декабря сими словами:
«Его Императорское Величество, по зрелом дела сего рассмотрении, Высочайше указать мне соизволил: чтоб не только дозволить «издание «Сионского Вестника», но, по христианскому духу сего журнала, поощрить вас к оному.
«Я уверен, что появление опять «Сионского Вестника» возрадует «всех христианских читателей: с моей стороны, я счастливым себя «считаю, что мог быть орудием воли нашего Благочестивого Государя, ишущего всеми средствами истину. Возблагодарим за сие Господа Иисуса Христа, управляющего сердцем царевым, коему честь «и слава да будет во веки!»
«Под сим эгидом вступая ныне в сие поприще, издатель может надежнее уверить своих читателей в усердии, которое не преставал он являть на самом деле в течение 18 лет, влеком будучи как бы понудительной некой силой, нудившей его не прерывать трудов своих и тогда, когда все внешние обстоятельства, казалось, требовали прекращения оных. Сие побуждение его, бывшее для многих, отчасти ж и для самого его —сомнительным, ныне оправдано, одобрено, утверждено и, смею сказать, благословлено изволением на высоких Живущего и на смиренных Прозирающего, благоволением благочестивого Монарха, благорасположением и заступлением добродетельных душ, и благосклонностью христианских читателей, кои добрыми своими отзывами о трудах издателя и добрыми своими желаниями, видеть продолжение оных, низвели на него сие благословение.
«Издатель снова препоручает себя благосклонности и снисходительности христианских читателей; просит всех своими благословениями и добрыми желаниями напутствовать его на предприятие предлежащего ему поприща; просит всех, особливо духовных особ и занимающихся духовными упражнениями, подкреплять его своими советами, наставлениями и помощью, да не в суд и осуждение токмо обратится ему предприемлемое им дело, но да послужит к общему порадованию и удовольствию, или пользе; к утешению веры каждого и всех; к соединению разделенных сердец и умов союзом согласия и братолюбия, и к чести и славе Того, о Немже несть разнствия Иудееви и Еллину; — несть Иудей, ни Еллин, ни раб, ни свободь, ни мужеский пол, ни женский: но вси едино суть. И дабы всякий, кто только пожелает сообщить что-либо издателю, мог беспрепятственно к нему относиться, он, не имея более нужды скрывать своего имени, которое сделалось всем уже известно, подписывается настоящим своим именем Александр Лабзин.»
Последовавшее в самом конце 1816 года разрешение издавать «Сионский Вестник» лишало издателя возможности начать его с первой январской книжки, и потому Лабзин, занимавшийся в то время переводом жизни Юнга Штиллинга, решился заменить ею первые три книжки журнала. Описанная в пяти книгах жизнь Штиллинга содержала: 1) детские и 2) молодые его лета; 3) странствование; 4) домашнюю или хозяйственную его жизнь, и 5) ученую деятельность. Издатель предлагал читателям получить в январе первую книжку жизни Ю.Штиллинга, в феврале две следующие, в марте — две последние и только с апреля начать собственно издание «Сионского Вестника».
Представляя объявление на усмотрение князя A.Н.Голицына, Лабзин говорил, что силы его уже не те, какие были десять лет тому назад, что глаза отказываются служить ему, и часто одного усердия бывает недостаточно, когда дух стеснен разного рода нуждами и хлопотами. Словом, он намекал. что для полного успеха дела ему необходимо некоторое денежное пособие. Впрочем, еслибы вопрос о пособии хотя несколько затруднил кн. Голицына, то Лабзин просил его не говорить о том государю, «ибо я надеюсь, прибавлял он, что Господь Бог, толь явно благословивший труды мои, при первом издании моего журнала, без всякого со стороны человеческой пособия и покровительства, не оставит меня и ныне своею святою помощью».
Помощь была оказана, и по приказанию императора князь A.Н.Голицын вытребовал из Кабинета «на известное Его Величеству употребление» 15.000 руб. и передал их Лабзину на вспомоществование по изданию «Сионского Вестника».
Лабзин благодарил князя Голицына за оказанную помощь и содействие.
— Исполнить волю моего монарха, прибавлял он, — есть долг для меня священнейший. Быть полезным братьям моим есть обязанность для сердца моего сладостная. Молю Бога, да подаст он мне во истину обрести того небесного вестника, который бы приносил от Сиона глаголы истины. Я уже счастливым себя почту, если и моя малая лепта в дар Богу и ближнему послужит для той цели, для которой я готов трудиться до изнурения сил и до истощения всей моей возможности. Итак дело сие по воле царя земного да совершится во славу Царя небесного.
Возобновленный журнал был встречен большим сочувствием всех классов общества и во главе подписавшихся стояли имена императора Александра, великого князя Константина Павловича, кн.A.Н.Голицына, графов Разумовских, графини Гурьевой, сенатора Хитрова и других [278]. Затем шел длинный список духовных лиц: архимандритов, ректоров семинарий, духовных академий, университетов, отделений библейских обществ и проч. Одна С.-Петербургская духовная академия с ее ректором Филаретом выписала 11 экземпляров.
Журнал нашел подписчиков по всей России и рассылался по всему пространству от Архангельска до Астрахани, Херсона и Одессы, от западных губерний до Екатеринбурга и отсюда до Иркутска, Нерчинска и Троицко-Савска [279]. Его читали с увлечением и светские и духовные. Духовенству нравилось направление журнала, его полемика против вольнодумства и возвышенное, увлекательное понимание христианства.
«Мы помним еще, пишет Цветков [280], несколько таких лиц из московского духовенства. Они были, надобно правду сказать, лучшими людьми между своими и пользовались общим уважением. A большинство — мы также и большинство помним — ничего не знало кроме семинарской латыни. Но для них «Сионский Вестник» был самым приятным материалом для чтения, по чистоте и нравственности идей и необыкновенной для того времени легкости слога. Старики до гроба вспоминали об этом журнале с восторгом».
У книгопродавца Глазунова сохранялись письма многих священников, которые нетерпеливо желали знать, скоро ли выйдет следующая книжка журнала [281].
«Сионский Вестник» стал предметом разговоров в гостинных, и в самое короткое время имя его издателя сделалось популярным. Лабзин принимал многочисленные похвалы с достоинством и как справедливую дань своим заслугам.
— О «Сионском Вестнике» я должен вам сказать правду, говорил он князю Голицыну — такого журнала ни на каком языке нет. Это хвастливость с моей стороны, скажут мне. Пусть так. Хвастливость ли, трусливость ли —все порок; но во внутренних моих чувствованиях я отвечаю только Богу, люди же должны меня судить по самому делу, так ли это, или нет.
Таким образом приписывая весь успех издания себе одному и слыша отовсюду похвалы, Лабзин, при громадном самолюбии, стал скоро, однако же, подозревать, что заслуги его на пользу общества не достаточно ценятся правительством. Поводом к такому подозрению послужило неудавшееся ходатайство о назначении его сенатором и производстве его в тайные советники.
При назначении A.Н.Оленина президентом Академии Художеств, государь поручил ему ознакомиться с причинами, приведшими в упадок Академию, изыскать средства к их устранению и, если представится нужным, составить проект нового устройства Академии. Пользуясь тем, что с кончиною Чекалевского место вице-президента оставалось незанятым, A.Н.Оленин считал более полезным заменить его должностью директора Академии, главным образом потому, что должность вице-президента при президенте делалась ничтожной.
Лабзин же считал, что, по праву преемства [282], он должен быть назначен вице-президентом и, в непредставлении его на эту должность, видел личное оскорбление и нерасположение к нему президента Академии. С своей стороны A.Н.Оленин, находя полезным упразднить звание вице-президента и не желая обижать Лабзина, просил кн. A.Н.Голицына исходатайствовать ему чин тайного советника и звание сенатора [283]. Император Александр не согласился ни на то, ни на другое и приказал назначить Лабзина вице-президентом Академии, «что и будет — прибавлял кн.Голицын — мною исполнено в Москве» [284].
Такое назначение теперь не удовлетворяло уже Лабзина, и он считал его не соответствующим по своим заслугам.
«Не знаю, писал он Василию Михайловичу Попову [285], можно ли почесть достаточным воздаянием за претерпенное данные мне знаки второй степени Владимира, когда я и Анну с бриллиантами и 3-го Владимира давно уже имел и когда те же знаки даны Уварову, который не только всем меня моложе, но не имел еще никакого ордена; когда Жуковскому в то же время за писательство дана пенсия в 4.000 руб., когда Карамзину даны чин, лента и 60.000 руб., несмотря, что он историю свою писал, получая за то жалованье, а я трудился на своих хлебах».
— Я поднят теперь на какую-то высоту, говорил Лабзин В.М.Попову, — с которой стал виднее, и всякий бросает в меня грязью и каменьями и стрелы пускает, а я должен дело делать. Следовательно, мне нужно подкрепление, чтобы думали, по крайней мере, что государь ко мне расположен. Князь (Голицын) замарал меня в мыслях y государя, который прежде сам меня рекомендовал в директоры к Чичагову [286]. Князь пустил меня на десять лет пресмыкаться и терпеть; но, бывши врагом моим, наконец усовестился и хоть что-нибудь для меня сделал.
Лабзин надеялся, что и теперь князь настоит на назначении его сенатором и на производстве в чин тайного советника.
«Обстоятельства сделали мне его необходимо нужным, писал он Голицыну [287], и я убедительнейше прошу ваше сиятельство исходатайствовать мне оный. При множестве восстающих на меня и борющих мя, защитой служит мнение, что ваше сиятельство покровительствуете мне и государь благоволит ко мне. Сенаторство мое разнеслось не только по городу, но по городам, так что еще 30 августа меня с сим званием премногие поздравляли, и ныне, 12-го декабря, меня присылали поздравлять с сенаторством же Горголи, Пукалов и Василий Степанович Попов. И так, ежели я ни сенаторства, ни чина тайного советника не получу, сие будет значить, что и государь и вы не удостоиваете меня того, чего противник мой (A.Н.Оленин) и публика почли меня достойным, и это меня много уронит и повредит моему делу.
«Прошу о сем ваше сиятельство весьма».
Просьба эта, после отказа государя, не могла быть исполнена и, чтобы несколько успокоить Лабзина, В.М.Попов писал ему, что наводятся справки, нет ли кого старше его.
«Не правда, мой любезный друг, отвечал Лабзин, чтобы чины давались по старшинству. Пример тому Галахов, Тургенев, вы сами: будто не было старше вас, когда вас производили? Баранов, недавно пожалованный сенатором, был экзекутором в Сенате, когда я был уже в настоящем чине. Сколько людей младших меня произведены в тайные советники».
Лабзин указывал, что когда он был действительным статским советником, то братья Моллеры были флотскими капитанами, а теперь уже вице-адмиралы: даже бывший y него казначеем, коллежский асессор Ребиндер, переименованный в военный чин, произведен уже в генерал-майоры и, по преимуществу военных чинов перед статскими, стал выше его. Говоря, что ему стало стыдно служить, Лабзин просил припомнить, что еще императрицей Екатериной II пожалован он был в надворные советники, а в чине действительного статского советника служит уже 14 лет.
— Чин теперь мне непременно надобен, хоть с сенаторством, хоть без сенаторства.
«В десятилетнее мое безвременье, писал он вместе с тем к князю Голицыну, в которое я был под тяжким гнетом, потерпел я в здоровье моем и в спокойствии, потерял много против сверстников моих по службе, и в чинах, и в местах, и в наградах по оным. Теперь, когда опала моя кончилась (буде она кончилась), я должен надеяться, что тот, который ввел меня в оную и после вывел из нее, сам постарается возвратить мне мои потери и откроет мне дорогу к таким местам, которыя ведут к сим вознаграждениям. Ибо когда фарисей в Евангелии говорит: «Господи, если я кого обидел, то вдвое заплачу»; христианин ли не почтет сего долгом своим? Я говорю сие князю-христианину, надеясь, что он не перескажет сего князю-министру, который может иногда оскорбиться сим напоминанием, или, по крайней мере, скажет ему, что я человек недокучливый (?), просить о себе не люблю (?) и желал бы никогда не иметь нужды в том. Но что ж делать, когда я не из счастливцев, которым остается только или отказываться от милостей, или благодарить... A между тем я вступил на шестой десяток лет; теперь уже в одной сажени не распознаю знакомого человека, скоро совсем ослепну и работой достать хлеб себе буду не в состоянии. Тогда мне открывается прекрасная перспектива: слепой и слабый старик, без приюта, ибо y меня нет ни двора, ни кола, ниже родственников каких, кроме тех, кои от меня же зависят, так что, вышедши в отставку, я не буду знать, где мне поселиться, в Казани, или в Астрахани, ибо ни там, ни там мне жить причины не будет. Но если мне заикнуться о сем моем положении, то, без сомнения, откроются невозможности, которые для других легки и маловажны, но для меня не могут таковыми показаться».
Опасаясь, что не получит ни чина, ни сенаторства, и подозревая, что Оленин будет настаивать на учреждении должности директора, Лабзин просил назначить его скорее хотя вице-президентом.
«Граф Кушелев, муж не весьма важный, писал он, сотворил для покровительствуемого им Бажанова новое место, а мой покровитель лишает меня и того, которое уже есть и которое по линии мне достается.
«Все сие я говорю не для того, чтобы я хотел непременно остаться в Академии, а только для того, что буде не хотят сделать мне обиды и вреда, то должно уже переменить меня на такое место, которое было бы лучше вице-президентского. Тогда только прекратятся все толки, почему мне сего места так долго не давали, а иначе 18-тилетняя моя служба при Академии не только беспорочная, но и с такой честностью сопряженная, какой никто из моих предшественников не заслужил, не представится беспорочной».
Наконец желание Лабзина было исполнено, и Высочайшим указом 12-го января 1818 года он был назначен вице-президентом Академии Художеств.
Справедливость требует сказать, что, поставленный на этот пост, он принимал горячее участие в судьбах искусства и его деятелей. Родители поручали ему своих детей, как родному отцу, и Лабзин, принимая все меры для успешного образования учеников, старался развить в них вкус ко всему изящному. С этой целью он устраивал домашние спектакли, в которых играл сам, сочиняя легкие пьесы в стихах [288].
По-видимому, дела приняли желаемый оборот, Лабзин временно успокоился, но не на долго. Явились порицатели его издательской деятельности и вызвали ряд крупных для него неприятностей.
VI.
«Сионский Вестник» 1817—1818 гг. и его направление. — Противники журнала и вообще мистицизма: Степан Смирнов и его записка императору Александру. — Преосвященный Иннокентий. — Неизвестный автор «Беспристрастного мнения о Сионском Вестнике». — Кн.Ширинский-Шихматов и А.Стурдза. — Подчинение «Сионского Вестника» духовной цензуре. — Переписка Лабзина с князем Голицыным по этому поводу. — Прекращение журнала. — Краткая оценка деятельности Лабзина.
Первая апрельская книжка «Сионского Вестника» 1817 г. явилась с особым посвящением [289] и в начале ее была напечатана статья «Христос Воскресе!» Во второй статье: «О познании себя» Лабзин восставал против гордости, любостяжания, зависти, гнева и клеветы, проповедывал смирение, кротость, любовь, милосердие и терпение.
Поставив главной задачей своего журнала христианскую нравственность, Лабзин написал статью «Дух и Истина», предназначая ее для таких читателей, которые незнакомы с философией и истинами религии, но которые, не будучи рабами общественного мнения, проводят жизнь не в усыплении нравственном, не в легкомыслии и лености, по, внемля внутреннему голосу, желают быть «наставлены о будущем их назначении». В этих статьях читатели должны были найти все, что касается нашего спокойствия, блаженства, облагорожения и усовершествования души и всего человека [290].
При помощи такого усовершенствования, по мнению «Сионского Вестника», можно было достигнуть общения с миром небесным.
Средством к тому служит магнетизм, дающий возможность освободить душу от тела и дать ей средства возноситься к истинному свету. На этом основании «Вестник» признавал только одно таинство возрождения, т.е. приближение человека к Богу, совершенно отрицал пользу остальных и в особенности монашества.
— Люди, говорил Лабзин, обыкновенно считают лучшим оставить все и удалиться в монастырь; там мучат себя наружным постом, поклонами, власяницами, веригами и прочим сему подобным. Они не думают при этом о внутренней борьбе с мыслями, о переломлении своей воли, воздержании языка и не имеют понятия о внутревнем человеке, живущем верой, надеждой и любовью к Богу и людям. Они забавляют себя единственно наружными делами: украшают образа или ризы, льют колокола, строят церкви, думая, что за все это, как за добрые дела, наследуют рай на небе.
В доказательство ошибочности такого взгляда, Лабзин приводил слова митрополита московского Платона: «не угоднее ли Богу пощадить одну невинную душу, нежели построить несколько церквей? Многие причиненные разорения и убийства могла ли прикрыть монашеская ряса? И без пострижения всякий христианин обязывается по Евангелию отрещися самого себя, — то тем самым должен он отрещися от честолюбия, корыстолюбия, кольми паче с обидою других» [291].
Распространяя учение мистиков со всеми его тонкостями, Лабзин говорил, что вся религия и нравственность состоит во внутреннем общении и соединении человека с Богом, помимо всех внешних форм и обрядностей.
Вера Христова, говорилось в журнале, не знает никаких разделений верующих от неверующих, ветхого человека от нового [292]. И y самого Иисуса Христа «мы не найдем никаких толков о догматах и таинствах церковных, а одни практические аксиомы, поучающие, что делать и чего удаляться и возвещающие смерть плотскому мудрованию разума и злой воле, или собственной жизни человека» [293]. Поэтому нет никаких оснований к разделению христиан на различные исповедания. Надо оставить лицемерие, которым люди желают угодить Богу мнениями, обрядами и одними только наружными действиями [294]. Истинным христианином может назваться только тот, кто, отвергшись от мира имеет своей целью одного Христа. Для этого не нужны никакие обряды, потому что всякий в своей совести найдет путь ко спасению [295].
Этот путь приводит мистиков к полному безразличию вероисповеданий и к убеждению, что христианство существовало от сотворения мира, и что не было ни язычников, ни идолопоклонников. Мистики делили церковь на внешнюю и внутреннюю и, не признавая значения первой, видели спасение во второй. Только нерукотворный храм, находящийся в душе каждого и обитаемый самим Христом, может чрез него привести к беседе с Богом-Отцом.
В сентябрьской книжке «Сионского Вестника» 1817 года [296], было напечатано, что в колониях, Саратовской губернии, Дух Божий явился на 86 детях, молившихся в поле; что однажды отец застал свою дочь, молящуюся в конюшне, и сказал ей, что она могла бы и в комнате молиться.
— О! конечно, — отвечала она, — но конюшня не святое ли место? Ведь Спаситель родился в яслях.
В статье «О разделениях между христианами» [297], Лабзин писал, что разделение церквей и сект основано единственно на гордости разума, который исказил истинное христианство. Отрицание разума вело к отрицанию в религии догиатического, обрядового и всякого нравственного —обязательного содержания. Оно служило укананием, что издатель «Сионского Вестника» стремится к уничтожению святости преданий нашей церкви. Увлекаясь учением квакеров, Лабзин поместил в своем журнале «Догматы английских и американских квакеров» [298]. В этих догматах излагается учение о внутреннем откровении или внутреннем слове, которое выше слова внешнего, т.е. Св.Писания. Последнее «не приводит человека к спасению, ибо буквы и начертанные слова, как вещи неодушевленные, не могут иметь силы просвещать сердца человеческие и соединять их с Богом. Священные книги приносят только ту пользу читающему, что возбуждают и наставляют сердце его внимать внутреннему слову и приготовляют оное к принятию учения, внутрь Христом преподаваемого, или, что все одно: Священное писание есть немой наставник, указующий знаками на живого учителя, обитающего в сердце».
Люди неграмотные, по словам «Сионского Вестника», лишены только некоторого средства по пути к спасению, ибо, если они обратят внимание свое к внутреннему наставнику, учителю и слову, то от него могут почерпнуть все нужное. Вот почему церковь Христа беспредельна: она заключает в себе весь род человеческий, и все смертные, имеющие в сердце своем Христа, в какой бы грубости и неведении христианского закона ни обретались, могут быть через Него блаженными в сей и будущей жизни. В догматах квакеров «Сионский Вестник» видел ту именно церковь, которая признает, что христиане должны составлять одно семейство; что церковь эта не знает никаких иных догматов, кроме догмата о возрождении и соединении человека с Богом; что только в возрождении находится сущность христианства и существенный долг христианской жизни. Возрождением образуется царское священство и избранный народ Божий, назначенный к вечной жизни [299].
Как христианские народы ведут свое летоисчисление от Рождества Христова, так мистики, т.е. внутренние истинно-духовные христиане, должны считать время своей жизни от воплощения в них Христа [300]. Если духовно-возрожденные живут не сами, а живет в них Христос, то молитвенный дом их в сердце каждого.
«Ко Христу не нужно ходить ни на небо, ни в бездну, но y каждого человека есть в сердце и в устах слово Божие, которое вочеловечилось и есть Христос Божий [301]. Но чтобы правильно идти по пути внутренней жизни, соответственно откровенному слову, необходимо верное истолкование последнего. Священное писание есть хранилище истины, но эта истина должна быть раскрыта в своем внутреннем глубоком смысле. — Тогда истинное понимание священных книг открывается созерцанию духовного человека, имеющего возможность принимать и разуметь божественное, и иметь самый ум Христов [302]. Впрочем, никакая книга не может ни дать, ни отнять опытного дознания внутренней сокровенной жизни. Чтобы истинно познать Христа, надобно самому начать жить Его жизнью, и мы постольку будем познавать Его, поскольку этой жизни будет пребывать в нас [303]. Все это достигается только внутренней церковью: а внешняя — это толпа оглашенных, низших христиан, имеющая вид греха, подобная Иову на гноище [304]. Поэтому внешняя церковь, со всеми своими таинствами, оказывалась совершенно ненужною и не признавалась ни мистиками, ни «Сионским Вестником».
Появление последующих книжек журнала, в которых Лабзин нападал на злоупотребления или обнародовал истины, которые духовенство не могло переносить равнодушно, дало возможность противникам обвинить его во многом. По городу стали ходить рассказы о противорелигиозном направлении «Сионского Вестника» и ханжестве его издателя. Указывали, что таинство крещения он объясняет по-своему и несогласно с учением православной церкви; точно так же, как и таинства причащения и покаяния. Такое крайнее направление журнала было названо противным учению православной церкви и вызвало протест сначала со стороны духовенства, а потом и светских лиц, считавших себя ревнителями православия.
Мы видели, что первым по времени противником мистики был священник Иван Полубенский [305], а затем Филарет, восставший против крайнего мистицизма. Если вначале он сам увлекался этим учением, то впоследствии «обладая глубоким в светлым умом, диалектическим анализом, замечательной строгостью к себе, к каждой своей мысли и даже выражению, Филарет имел полную возможность критически относиться к современным увлечениям и удерживать только то, что было доброго и хорошего в тогдашнем мистицизме» [306].
Заметив уклонение общества от господствующей религии, Филарет употреблял все свои силы, чтобы возвратить его на путь истинного православия. «Что принадлежит до нас, обитателей Лавры, писал он отцу [307], — мы единым сердцем и едиными устами, елико можем, проповедуем Христа Распята. — Да будет Он нам недостойным Божия сила и Божия премудрость».
Правда, что первые проповеди Филарета затрогивали самые живые вопросы мистики: о возрождении духовном, о действиях Св.Духа в сердцах верующих, о просвещении внутренним светом и проч. Тогда мистики увлекались этими проповедями и не замечали того, что они были строго православны.
Они не замечали, что Филарет старался внушить необходимость получать утешение именно в храме Божием, в богослужении церковном и порицал тех, которые считают возможным приблизиться ко Христу и соединиться с ним помимо церкви.
«О! коль близок есть в нас Христос повсюду, — говорил Филарет [308], и наипаче в церкви Своей. Только твари окружая нас отвсюду и тесняся между Им и нами, не допускают нас прикоснуться к Нему. Но дерзай, ищущая своего спасения, душа. He уступай сей смятенной толпе, которая сама не знает, куда влечет тебя. Употребляй все усилия проложить себе прямой путь к вожделенному твоему Спасителю; простирай к Нему то крепкие вопли покаяния, то тихие воздыхания молитвы, то плачевные желания любви. Приближайся к Нему преимущественно в сем доме молитвы и таинств, где, хотя Он также закрывает свое присутствие некоторыми наружными видами, но вместе и являет оное торжественнейшим образом. Здесь ежедневно слышатся глаголы Его, которые, хотя для чувствительных человеков суть чувственные звуки и письмена, но для верующих дух суть и живот суть (Иоан. VI, 63). Здесь тайно действует тело Его, коего святое приобщение не только приближает к Нему верующих, но и совершенно с ним соединяет» [309].
«Бог вездесущ, говорил Филарет в другой проповеди [310], и наипаче здесь во храме есть имя Его, и очи Его, и сердце Его. Если Бог вездесущ, то и дом Его везде. Долго ли надобно искать того, чего потерять не где? Те, которые стали бы говорить таким образом, через сие самое признались бы, что еще они, как должно не искали жительства в доме Господнем. Иначе не думали бы обладать оным так беспечно».
Проповедник указывал на необходимость прилепляться к св. церкви, в ее храмовом богослужении находить в нем для себя духовное освящение, а не искать его, полагаясь на вездесущие Божие, где бы то ни было, в любом человеческом жилище. Филарет советовал не увлекаться учением мистиков и следовать учению православной церкви. — «Есть многие и благолепные гласы, говорил он [311], поражающие внутренний слух, но не все есть глас Господа Бога, ходяща в раи, — дано было в раи глаголать и змию. Есть многие и светлые виды, встречающиеся духовному оку, но не все есть истинный свет Христов, — и сатана преобразуется в ангела светла. Познай же, куда обращаться должно, чтобы не быть увлечену призраками. Имамы известнейшее пророческое и апостольское слово, дабы внимать ему яко светильнику чистейшего света».
Признавая всю пользу мистического учения в духе православия, Филарет был противником всякого уклонения его от этого направления. Он ясно понимал, что в мистике самый важный вопрос — это отношение ее к церкви и церковным учреждениям. Всякая обособленность могла принести только вред, а не пользу. Точно такого же мнения был и M.М.Сперанский. Он находил, что современный ему мистицизм зашел слишком далеко, вообразил, что открыл какой-то особый путь к истине, наиболее удобный и более чистый, чем тот, который представляет нам церковь со всеми ее установлениями. Сперанский видел в этом заблуждение и гордое и плачевное.
«Лабзина, — писал он [312], — еще при мне подозревали в каких-то сокровенностях, но я думал, и теперь еще думаю, что он сам распустил о себе сии слухи, по свойственному ему самолюбию и чванливости. Как бы то ни было, вообще нельзя не желать, чтобы менее было мистицизма и более приверженности к истинной вере и любви к человекам, ибо в сем одном состоит, по моему мнению, вся тайна нашей религии.
«Как будто, — писал Сперанский П.А.Словцову [313], — отвергнув слова, фигуры, формы и изображения, церковью принятые, мудрецы сии не принуждены были ввести также свои слова, формы и изображения, церковью не принятые; как будто перед Богом метафизическая наша истина всегда словами, т. е. формами и умственными начертаниями, представляется чище и ему угоднее, нежели обряды церковные, и как-будто сей чистейший дух понимает метафизическое наше лепетание и им измеряет наши пред ним достоинства. Установления церковные по истине удовлетворяют всем человеческим положениям. Одна литургия Иоанна Златоустого или Василия Великого может занять на всю жизнь и даже поглотить в себе все размышления самого глубокомысленного испытателя, если только он будет размышлять с надлежащим совести и духа очищением».
Таковы были противники, нападавшие на общее направление тогдашнего мистицизма, а вслед за тем явились лица, горячо осуждавшие направление «Сионского Вестника» и деятельность Лабзина вообще. Его обвиняли в расколе и говорили, что он вводит учение, противное обрядам и установлениям Вселенских Соборов, не соглашается с истинами Символа веры и объявляет себя противником внешней церкви.
«Если бы половина того, что вам сказали о Лабзине, — писал Сперанский [314], — была правда, то он был бы чудовище. Как мало еще просвещения в Петербурге! Из письма вашего я вижу, что там еще ныне верят бытию мартинистов и иллюминатов. Старые бабьи сказки, коими можно пугать только детей.
«Впрочем, писатель, который в течение двадцати лет непрестанно занимается изданием христианских книг, по необходимости должен быть ненавидим и злословим. Для меня сие не новость, а сие злословие именно составляет его достоинство. Люди без религии никак не понимают, как можно ею заниматься постоянно, не быв сумасшедшими или лицемерами»...
Такое лицемерие и любочестие видели в Лабзине его враги — защитники православия. Еще до возобновления «Сионского Вестника» многие порицали его деятельность по переводу книг мистического содержания.
«В прошлом 1815 году, — писал Степан Смирнов императору Александру [315], — на российском языке издана книга под названием «Победная повесть», в коей, под видом изъяснения Апокалипсиса, содержатся оскорбительные хуления христианства, наипаче греческого исповедания. Все древние ереси нагло проповедуются в сей книге, именно: отрицается Божество Иисуса Христа, приписуется ему неведение будущего, христианские храмы называются языческими, святые иконы — идолами, вселенские соборы и учители церкви почитаются преобразователями христианства во язычество. Сверх того, отвергается вечность мучений, магометанство смешивается с христианством, предвозвещаются революции всему христианству, подобные французской; наконец, в противность запрещению Господа, назначается год, именно 1836-й, в который якобы воспоследует второе пришествие Господа».
Перечисляя ряд книг, изданных в 1815 и 1816 годах [316], Смирнов говорил, что все они имеют благовидную наружность, но гибельную внутренность, ведущую к потрясению христианства, престолов и к образованию тайных обществ. стремящихся владычествовать над всем миром.
«Всемилостивейший государь! — писал Смирнов в заключении своего письма, — не попусти в Богоспасаемой России владычествовать завету беззаконников. С верой к Богу исчезнет верность и к гражданским уставам. Хаос смятений и расстройство поглотит тогда народное благо. Появление богоотступных и возмутительных книг пронзает горестью сердца благомыслящих твоих подданных».
Такое обличение оказывалось пока рановременным; реакция еще не наступала. Князь Голицын был в полной силе, разделял и сочувствовал учению мистиков, и по ходатайству его, спустя год после письма Смирнова, стал выходить «Сионский Вестник». Первым явным противником журнала явился известный уже нам ректор Петербургской семинарии, преосвященный Иннокентий (Смирнов). Он написал письмо князю A.Н.Голицыну, в котором говорил: «вы нанесли рану церкви, вы и уврачуйте ее». Князь Голицын отправился к митрополиту Михаилу и, показывая ему письмо, прибавил: «вот что пишет ваш архимандрит». Митрополит призвал к себе Иннокентия, выговаривал ему, но тот отвечал, что действует по убеждению [317]. Михаил приказал, однако же, Иннокентию съездить к князю Голицыну и извиниться, но это мало помогло делу. Партия противников Лабзина росла и, с выходом каждой новой книжки, его все более и более упрекали в проповедовании богоотступного учения. Возможность такого явления в нашей литературе объясняли тем, что не только «Сионский Вестник», но и другиея издания Лабзина, печатались с дозволения гражданской цензуры в частных типографиях, и что, наконец, сам он был светское, а не духовное лицо.
«Страсть блистать вымыслами и остроумием, — говорилось в одном из критических разборов «Сионского Вестника» [318], — часто увлекает писателей светских за границы строгой нравственности и приличия. Ласковыми и красивыми словами, говорит апостол, обольщают сердце простодушных (Римл. 16,18)». Такое обольщение читателей видел и автор рукописи под заглавием: «Беспристрастное мнение о «Сионском Вестнике» 1817 года» [319]. Критик останавливается прежде всего на том, что журнал этот, — учитель христианского смиренномудрия, — как печатающийся вопреки устава с разрешения гражданской цензуры [320], ознаменовал первый шаг свой законопреступлением, ибо «противляяйся власти Божию повелению противляется».
«Сионский Вестник», — сказано далее, — посвящен Господу Иисусу Христу. Посвящение это занимает особый листок, точно в той же фигуре [321], как и обыкновенное посвящение при книгах знатным особам или друзьям. Этот церемониальный вид потому замечателен, что ни одна еще христианская книга не отличалась таким началом. Обыкновенно в церковных книгах начинается просто, в строку, следующими смиренными словами: «Во славу Святыя единосущныя, животворящия и нераздельныя Троицы, Отца и Сына и Св.Духа». Но есть причины думать, что посвящение «Сионского Вестника» не может быть Иисусу Христу жертвою благоприятною, ибо в «Сионском Вестнике» находятся статьи, не имеющие никакого отношения к славе имени Иисуса Христа. Таковы суть монгольские сказки, догматы квакеров, разрушающие христианство, акростих Хвостовой [322] и т. п.
«Писать сказки «Сионскому Вестнику», который должен заниматься одними священными предметами Сиона Божия, не есть ли это пренебрежение дела Божия? Кольми паче посвящать сказки Господу Иисусу Христу, — это не есть ли вид посмеивающегося нечестия?»
Следя подробно за книжками «Сионского Вестника», делая из них выписки и указывая на извращение текстов Св. Писания, критик пришел к следующим наиболее важным заключениям: 1) что «Сионский Вестник» не только не признает христианскую религию единственным путем спасения, но даже не дает ей никакого преимущества перед прочими верами; 2) что он насмехается над словом воплощение; 3) противу свидетельства евангельского, уверяет своих читателей, что Иисус Христос не говорил о догматах и таинствах; 4) отрицает таинства крещения, евхаристии, откровения и уничтожает евангельскую проповедь; 5) таинство священства называет внешним обрядом, приводит пастырей в недоверие и обращает в посмеяние чин монашествующих; 6) дает прямо уразуметь, что не признает догмата об исхождении Св.Духа и готов думать по-католически, что Дух Святой исходит от Отца и Сына («Сионс. Вест.» кн. III и VII); 7) называет апостола Павла сатаною и над ним насмехается (кн. VII, стр. 111 и 112) [323].
В отношении гражданства и общества «Сионский Вестник», «помещая одну вздорную сказку о дочери отменно сиятельного царя», простирает свои посягательства на священность земной власти (кн. I, 25) [324].
«Беспристрастие требует сказать, — писал критик в своем заключении, — что «Сионский Вестник», не взирая на обольстительное имя его, есть сочинение душепагубное, зловредное, злоумышленное и постыдное для времен наших. Без сомнения, этот отзыв некоторых людей озлобит, других удивит, иных же опечалит. Сие троякое почувствование покажет нам разные качества трех сортов людей. Те, кои озлобятся, будут единомышленниками «Сионского Вестника», ведающие цель его; те, кои удивятся — это будут простодушные, предубежденные в пользу «Сионского Вестника» похвальной молвой, рассеваемой его сообщниками, но сами не читавшие оного или читавшие без размышления; те, кои опечалятся — будут немощная братия, иже погибают в разуме брата своего (посл. к Коринф., гл. VIII, ст. 11), те несчастные, которые очаровались благочестивым звуком прелестника и, так сказать, противу воли своей отдали ему свою доверенность, исторженную образом благочестия. Первые никаких от нас представлений не примут — это такие люди, кои обещали уже вражду и мщение всякому своему противнику, обещали прежде, нежели его знают. Но страх от убивающих тело не должен воспретить воздать Божия Богови. Вторые, узнав причину вышеизложенного нашего отзыва, или обратятся к безмолвному равнодушию, или преложат свое удивление в благочестивое сетование. Третьи — так это вы несчастная братия, но любовная и потому всему веру емлющая! К вам, к вам поспешаем мы на помощь! Вы очаровались благовидной наружностью прелестника и преклонили к нему ухо ваше с полной доверенностью.
«Но вы теперь видите, что «Сионский Вестник» говорит не языком святой матери нашей православной церкви, но дивиими и нелепыми гласами. Вы видите, что мнимый «Сионский Вестник» есть лжеименный прелагатай, враг Сиона, разрушитель отеческих наших уставов, клеветник пастырей и учителей наших, нечестивый смеситель не только еретических вероисповеданий с православным, но даже самого жидовства, магометанства и язычества с христианством. Вы видите, что это отступник от веры во Иисуса Христа, ядовитейшим образом посмеивающийся воплощению Бога. В таком изверге можно ли искать каких-либо правил? Их нет и в нем! По отношению к гражданству он также изверг, дышащий крамолами и поругающийся властям предержащим. Видите ли, любезные братие, всю глубину той пропасти, в которую хотел повергнуть вас прелестник? Вы содрогаетесь от ужаса, но между тем очарование прелести еще действует над вами и накладывает тени на осязаемую истину...
«Плоды духа Христова — мир и союз, единение мыслей. Плоды духа антихристова — крамолы и нестроения, рождение распрей, разрушение единомыслия. Истинный ученик Христов зиждет, а не колеблет; собирает с Иисусом Христом, а не расточает освященное благоволением его сокровище дому его».
Почти одновременно с этой запиской была составлена другая Степаном Смирновым и передана одному из самых ярых противников Лабзина — князю Сергию Александровичу Ширинскому-Шихматову, впоследствии иеромонаху Аниките.
Князь Сергий Александрович Ширинский-Шихматов родился в 1783 году Смоленской губернии, Вяземского уезда, в сельце Дернове. С самых ранних лет он читывал псалмы и молитвы во время всенощных, которые перед всяким праздником совершались в доме родительском, «и таким образом, — говорит биограф, — с одной стороны, навыкал в славословии Всевышнему, а с другой — неприметно знакомился с неподражаемыми красотами наших священных и церковных книг» [325]. Десяти лет от роду он лишился отца, оставившего девять сыновей и три дочери. Весьма ограниченные средства матери заставили ее определить двух старших братьев в Морской кадетский корпус, а Сергия отдать в дом Дарьи Ивановны Уваровой, которая и воспитывала его вместе со своими сыновьями. Через год он поступил в тот же корпус и в октябре 1800 года произведен в мичманы. Совершив несколько морских кампаний, князь Шихматов в 1804 году был переведен в Морской кадетский корпус, в должность воспитателя, в каковой и оставался до увольнения от службы. Он отличался таким глубоким знанием славянского языка, что с ним могли сравняться только немногие из наших филологов.
Князь Шихматов очень рано почувствовал склонность к поэзии и написал несколько стихотворений, в числе коих были и религиозного содержания [326]. Пользуясь покровительством тогдашнего президента Российской академии, A.С.Шишкова, он в 1809 году, 26 лет от роду, был сделан действительным ее членом, и при самом учреждении «Беседы любителей русского слова» поступил в это общество.
«Он верил твердо христианскому учению, — говорит его биограф, — и силою убеждения, которым сам был проникнут, приводил других к сей спасительной вере. Как ревностный сын церкви, он не скрывал, в угождение миру, своей к ней привязанности, обнаруживал при всяком случае строгое православие, почитал и любил лиц духовного и, в особенности, монашеского сана».
Князь Шихматов часто посещал храмы Божии, навещал больных и заключенных. Получая довольно значительное содержание и довольствуясь самым малым, он употреблял его на дела благотворительности. В праздничное время он приготовлял угощение для нищих, собирая всякий раз до 40 и более человек. Сам он употреблял пищу два раза в день, отказался от мяса, пил только воду и спал не более пяти часов. Соблюдая строго посты, он довольствовался одними кореньями и сухоядением, и непременно каждый пост говел и причащался [327].
Создав себе монастырь в стенах Морского корпуса, на Васильевском острове, он зорко следил за всем, что помещалось в «Сионском Вестнике».
Случайно познакомившись с A.С.Стурдзой и зная его, как сторонника православия, князь Шихматов решился наконец высказаться. Явившись однажды к Стурдзе, он завел речь о новых переводах духовных книг и о «Сионском Вестнике», укорял его в молчании и требовал действий, несмотря ни на какие отговорки.
— Вот вам, — говорил князь Шихматов, — готовый критический разбор самых вредных статей «Сионского Вестника». Это труд Смирнова в Москве, затворника мало кому известного. Вы знаете, что печатать подобные возражения при нынешней цензуре невозможно, да и мало было бы от этого пользы. Займитесь же этой рукописью, сличите ее с номерами «Сионского Вестника», которые я привез вам, и сами решите, должно ли долее терпеть такие нападения на святую истину и святую церковь? Вы напрасно отговариваетесь тем, что не читали «Сионского Вестника»; как грешно иному читать, так вам грешно не читать его.
Познакомившись с рукописью, A.С.Стурдза убедился в справедливости слов князя Шихматова и, поддаваясь его увещаниям, решился выступить на защиту православия. Пользуясь знакомством и расположением князя A.Н.Голицына, Стурдза написал ему обвинительный акт против переводов Лабзина и, выписками из книг, доказывал, что переводчик виновен не только за перевод книг враждебных церкви, но и за усиление и искажение подлинников.
Мы не имели в своих руках ни записки Смирнова, ни акта, подписанного Стурдзою, но имеем современную рукопись «О книгопечатании» [328], близко подходящую к тому, что говорит Стурдза.
«По §8 цензурного устава 1804 года, — сказано в этой рукописи, — все книги и сочинения, до веры относящиеся, подлежат печатанию в духовных типографиях и должны рассматриваться духовной цензурой, находящейся в ведении Св.Синода и епархиальных архиереев. Но в период времени с 1813 по 1816 год были изданы многие книги, как по заглавию, так и содержанию своему именно касающиеся религии, которые были напечатаны с разрешения гражданской цензуры и в частных типографиях.
«Сие преступление закона оказало те печальные последствия, которые предотвращались присным хранением онаго, ибо в помянутых незаконно изданных книгах находятся разные вредные мнения, которые, быв избраны и поставлены одно подле другого, представляют полный круг богоотступного учения. Такое учение приводит к сомнению: 1) о достоинстве греческого исповедания, 2) в истине христианства вообще, 3) в божественности Иисуса Христа, 4) к деизму, 5) к материализму и, наконец, 6) к манихеизму и к учениям бесовским».
В подтверждение такого обвинения сделаны точные выписки из разных сочинений религиозных, мистических и масонских. Мы приведем здесь только те, которые взяты из книг, переведенных и изданных Лабзиным: 1) От греческой церкви тогда можно ожидать добра, когда она от сна воспрянет (Жизнь Штиллинга, ч. I, введен., стр. 7). 2) Во времена от Константина Великого до Карла Великого языческие храмы превращены в христианские идолы — в образа; вместо множества богов стали обожать святых, и чудотворным образам и мощам не было конца. За сие греческая церковь пала... Co времен Константина Великого вкралось в христианство идолопоклонство, так что сатана мог паки воздвигнуть престол свой в самом храме Божием... Соборы и учители церковные сделали христианство суеверным язычеством (Победной повести стр. 30, 32, 411). 3) Духовенство есть второй зверь апокалипсический, говорящий по-змеиному: — слепые вожди слепых людей. Сей зверь во всем несчастном своем наряде и убранстве появился со времен императора Константина Великого. Синоды и Вселенские соборы суть третий зверь апокалипсический (Таинство креста, стр. 208 и 209). 4) Бог есть все: тьма и свет (Путь ко Христу, стр. 174).
«Таков круг богоотступного учения, — сказано в конце записки, — распределен по означенным книгам, кои украшаются христианскими заглавиями и в коих жестокий вред погружен по большей части в средине книги, между христианскими рассуждениями...
«Да возмогут истины сии проникнуть до подножия престола справедливейшего из владык, преклонить внимание кротких правителей и укрепить благодетельный свет древних нравов, поглощаемый вредною тьмою новизн нашего времени» [329].
Стурдза убеждал князя Голицына в необходимости положить конец такому соблазну, которому цензура, очевидно, потворствует.
«Голицын был поражен, — пишет он [330], — внял голосу моему или, точнее, голосу истины, запретил перепечатку изобличенных книг и тем доказал мне, что ошибался дотоле неумышленно.
«Меня ободрил неожиданный успех. Я тотчас испросил y князя аудиенцию. Мне назначили день и час. Я вошел в просторный кабинет его, с кипою тетрадей и журналов. Мы уселись, и чтение началось. Князь любил и умел читать вслух. Каждая страница Смирнова поверяема была подлинными статьями. Министр горячо вступался за мысли Лабзина, старался придавать им благоприятный смысл; но преткновения час от часу становились виднее и опаснее. Наконец, дошли мы до одного места, где Лабзин извращал значение и силу таинства евхаристии, дерзко основываясь на словах Спасителя: «глаголы Моя дух есть... плоть не пользует ничесоже».
Здесь чтение остановилось. Князь Голицын был смущен, но с свойственным ему прямодушием перестал защищать своего любимца и сознался, что сделал ошибку, приняв на себя цензуру «Сионского Вестника».
— Вы правы, — сказал он Стурдзе, — я виноват в том, что принял на себя занятие, несовместное с моими обязанностями. Но как теперь помочь этому? Давно ли правительство провозгласило Лабзина первым духовным писателем в России, пожаловав ему орден св. Владимира 2-й степени? Нельзя вдруг запретить ему писать, тем паче, что я почитаю его сочинителем отличным и полезным, погрешающим ненамеренно.
— Не смею оспаривать вашего мнения, — отвечал Стурдза, — хотя думаю о Лабзине совершенно иначе; но осмеливаюсь предложить вам средство самое верное для узнания истины, оно прекратит соблазн и вместе оградит честь и достоинство правительства...
— Да говорите скорее.
— Вот мой секрет: не угодно ли будет вашему сиятельству, с ведома и соизволения государя, объявить формально Лабзину, что впредь поставляется ему в обязанность обратиться с изданием «Сионского Вестника» в духовную цензуру установленным порядком. Если он без ропота покорится законному распоряжению, то ваше выгодное мнение о нем будет оправдано. Напротив, если он станет отказываться и роптать, то злонамеренность его обнаружится во всей наготе своей.
Князь Голицын остался доволен таким советом и 26 июня 1818 года писал Михаилу, митрополиту новгородскому и с.-петербургскому [331].
«Издание «Сионского Вестника», яко подобное многим другим сочинениям духовно-нравственного содержания, производилось доныне под рассмотрением гражданской цензуры. Однако, глубокие материи, содержащие в себе нередко мысли и мнения довольно необыкновенные и смелые, побудили меня пересматривать самому весьма большую часть из статей сего журнала прежде окончательнаго выпуска из цензуры [332]. Co всем тем находя, что при многих назидательных статьях появляется в сем издании часу от часу более материй таинственного в духовном смысле и такого содержания, что иные статьи вовсе не следуют быть доводимы до общего сведения; вообще же многое в них касается и до догматов церковных, а иногда и мнения частные по духовным материям, — то я признал просмотрение сих книжек более приличным для лиц духовного ведомства.
«Государь император по докладу моему о сем изволил найти сие замечание основательным. Вследствие того сделано мною распоряжение, дабы гражданская цензура отныне не принимала более на себя просмотрение книжек «Сионского Вестника», но предоставила издателю представлять оные в духовную цензуру, при здешней духовной академии учрежденную».
Попечителю Петербургского учебного округа поручено было сообщить о таком Высочайшем повелении Лабзину, а с.-петербургскому генерал-губернатору наблюдать, чтобы типографии принимали это издание к печатанию не иначе, как по одобрении духовной цензуры [333].
Распоряжение это произвело самое удручающее впечатление на Лабзина.
— Врагам моим отдали меня, — говорил он. — Не пойду на суд людям, которые затворяют дверь царствия небесного, сами не входят и других не пускают туда [334].
«Вот наше христианство, — писал он 3.Я.Карнееву, — и даже мирская честность! Заставить человека делать дело и после зато его винить. Ежели я не хорошо исполняю сделанное мне поручение, то следовало бы меня от оного уволить и препоручить оное другому, а не отдавать меня в руки врагов моих, ибо я не сам затеял журнал мой, а по явному повелению. Чем же я виноват? Все это сделано тайно, не призвав меня и не предупредив о том; а чтобы более уязвить меня, послано такое же отношение и к министру полиции, дабы наблюдать по типографиям, чтоб я не стал печатать без цензуры. И так я стал hors de loi, и прежде вины моей делают меня мошенником. Вот участь моя: что-то Господь из всего сего сделает» [335].
Пытаясь избавить «Сиоиский Вестник» от духовной цензуры, Лабзин решился обратиться к князю Александру Николаевичу Голицыну и указать ему, что духовная цензура установлена для учебных книг, а его журнал не учебная книга.
«Неприязненные мои обстоятельства, — писал Лабзин [336], — выводят меня на жестокий опыт искушения, где я, неся уже на себе неблаговоление главного моего начальника, может быть и просьбою сею, вынужденного самою необходимостью, умножу еще его на меня неудовольствие...
«Сиятельнейший князь! Я сделался писателем единственно из страстной моей любви к делу христианства, поселенной в меня еще в самых молодых летах; — сделался писателем тогда, когда религия не была еще в моде, — не имея себе никакой другой подпоры, кроме, с одной стороны, чувства собственного сердца моего, а с другой, Высочайше утвержденного устава о цензуре, в котором сказано, что такого рода сочинения не токмо не подвергаются ни малейшему стеснению, но еще поощряются, яко служащие к просвещению.
«Опыт и постоянное изучение истин, в слове Божием откровенных, научили меня, что Самого Господа воля есть на то, чтобы мы поучались познавать Его из творений рук Его; что не на одной букве токмо основанные познания сближают человека с Богом, и что таковые познания не только делают нас блаженными в вечности, но способствуют человеку к усовершенствованию его и в мирских должностях, на него возлагаемых. Сие удостоверение составляло и поныне составляет главное мое счастье в жизни. Чувствуя от сего великое благо, я вознамерился поделиться оным и с ближними моими, в том уповании, что ежели случится мне кому-либо и из малейших братий моих подать чашу воды студены, то я счастлив!»
Так, по словам Лабзина, и случилось: один офицер, совсем ему незнакомый, находившийся под арестом в Витебске, писал, что случайно попавшийся ему в руки «Сионский Вестник» обратил его к Богу и служит ему отрадою в его несчастии. He имея ни средств, ни возможности купить журнал, офицер просил издателя подарить ему и выслать «Сионский Вестник».
«Таким образом, — прибавлял Лабзин, — извлекая истины из буквы и руководясь духом Святого Писания, я изливал приобретаемые мною познания на бумагу пред очами Божиими, предавая их на волю верующим и не верующим, желающим и не желающим, предоставляя успех моего ревнования в волю Высочайшего промысла.
«Таковы были начальные побуждения моего писательства, и такого ли писателя можно подозревать в злоумышлении против церкви? Для меня неудивительны были сии толки; но удивительно то, что не усматривают, откуда сия странная и братоненавистная мысль происходит? и может ли истинно верующий допустить в себя оную, когда сам Спаситель уверяет, что церкви Его и врата адовы не одолеют. Что же может сделать ей человек, толь мало значащий, как я, если бы он имел сей злой умысел? He есть ли мечта сия против всякого вероятия?»
Напомнив князю Голицыну о тех неприятностях, которые он испытывал в течение десяти лет со времени первого запрещения «Сионского Вестника», как он был оправдан самим же князем и ему вновь разрешено издавать журнал, Лабзин говорил, что детски радовался этому событию в его жизни. Но, приступая к изданию, он сознавал всю трудность возложенной на него обязанности и не мог не видеть, что мнение о нем людей не переменилось, что истины для ушей не привыкших к ним не только бывают соблазнительны, но и оскорбительны. Подделываться же к ложным мнениям и предубеждениям людей он не мог потому, что это было противно его совести и самой истине. Приказание возобновить журнал по образцу прежнего не было бы исполнено, если бы издатель перестал быть тем, чем он есть.
«Мне не оставалось иного выбора, — писал Лабзин, — как или остаться верным Божию Промыслу и Его милосердному о мне назначению; или, побоясь человеков, изменить воле Его и познанной мною истине, и перестать быть тем, что (чем) я был, и что, по 10-тилетнем моем терпении, чудесным, можно сказать, образом было во мне оправдано и одобрено без моего искания. Co всем тем тогдашние мои предчувствия ныне сбылись, и я опять подвергаюсь участи, прежде меня угнетавшей.
«Сиятельнейший князь! Жизнь моя, состояние мое, счастье и несчастье в руках властей вышних, самим Богом надо мною поставленных; но способности мои и силы, душевные и телесные, не в моей власти. Если в журнале моем, вместо признанного прежде христианского духа, предполагается ныне дух противу-христианский, в таком случае стоило бы только сложить с меня сделанное мне препоручение и возложить дело сие — буде оно нужно — на другого, который может быть лучше меня уметь будет соответствовать вашим видам; а не предавать меня в руки тех, кои по самому роду дела суть мои главные противники, и часто подают повод к напоминанию сказанного: и сами не идут и хотящим возбраняют.
«Когда ваше сиятельство, призвав уже в журнале моем дух христианский, утомились защищать его противу судящих о нем инако, то чего могу я ожидать от тех, которые никогда толь благосклонно о нем не судили, и которым самая передача оного в их руки служить будет побуждением умножить против него всякую строгость, которой силы писателя вынести не могут?..
«Всякий писатель пишет по своим чувствам и по своему образу мыслей, как он вещи видит, знает или понимает; или как он научился от тех авторов, которых избрал себе образцами. Мои образцы суть между прочими Бем, Штиллинг, Сен-Мартен, которые сами будущим моим цензорам не нравятся, следовательно, и все пьесы мои будут отвергаемы. Я уже не раз, и в продолжение вашего ко мне благорасположения, подвергался тяжким болезненным припадкам, побуждавшим меня помышлять о прекращении моего журнала, как труда, при беспрерывном напряжении сил человека, чрезмерно изнурительного. A как весь капитал мой и семейства моего, и других прикосновенных к оному заключается именно в моей жизни и моем здоровье, то и убеждения домашних моих и долг попечения о своих присных побуждают меня желать и просить увольнения от продолжения оного.
«Читатели «Сионского Вестника» как и прежде разделялись, так и ныне делятся на два класса: одни его не терпят и гонят; другие любят и уважают много; и, по особенной судьбе моей, и та и другая сторона приписывает мне и добро и зло более, нежели чего я стою. Так, противники мои присваивают мне даже намерение подкопать церковь; а противники их отзываются о сем же журнале с похвалами необыкновенными. Некто писал ко мне, чтобы я не пренебрегал особенного данного мне дара поражать неверие, суеверие и невежество. Один из архиепископов отзывался ко мне, что он читает «Сионский Вестник» с благоговением. Другой неизвестный, по-видимому, также из священников или монашествующих — ибо письмо его наполнено не только латинскими и греческими, но и еврейскими словами — писал ко мне из Москвы, что он в «Сионском Вестнике» находит дух и учение древних святых отцов; что некоторые места из оного они перелагали на славянский язык и посылали к закоренелым старообрядцам, что и те почли оные за места, выписанные из древних церковных отцов.
«Таким образом толки о «Сионском Вестнике», как прежде были, так и ныне есть, разные. Ваше сиятельство при возобновлении оного совершенно отклонили слух свой от толков моих противников и признали в нем дух христианский; а ныне склоняетесь опять более к крикам восстающих на меня.
«В предписании о «Сионском Вестнике» ваше сиятельство говорить изволите, что оный наполняется пьесами необыкновенными, смелыми, таинственными и касающимися до догматов, также мнениями частными.
«Что касается до пьес, названных необыкновенными, мне кажется достоинство всякого сочинения, тем паче журнала, в том состоит, чтобы в нем было что-нибудь или новое, или любопытное; а не одно то, что уже тысячу раз сказано и прочитано было, которого следовательно никто и читать не захочет. К христианству же и обыкновенное и необыкновенное равно принадлежат.
«О пьесах, названных смелыми, скажу: что ни одной из них не было смелее, как напечатанная в октябрьской книжке прошлого года, которую некоторые из духовенства приняли за критику на себя. Но сия пьеса не только была предварительно рассмотрена и пропущена вами, но и, когда по выходе книжки, я доносил вашему сиятельству о сем ропоте духовных лиц, ваше сиятельство от 18-го ноября из Москвы отвечать мне изволили: «О сей пьесе надобно было ожидать, что некоторая часть читателей будет ею недовольна, но не надобно сожалеть, что оная напечатана; ибо в ней великие истины для тех, кои читать ее будут без предубеждения».
«Таковый отзыв министра служил мне не только одобрением, но и поощрением жертвовать изложению истин людскими пристрастиями и предубеждениями; и ежели вашему сиятельству угодно бы было ныне прочесть сию пьесу, то бы вы сами уверились, что я не писал ничего смелее после того».
Указывая сам на наиболее резкие места в объяснении догматов, Лабзин говорил, что он руководствовался актом священного союза, в котором сказано, что христиане всех вероисповеданий суть только отрасли одного семейства.
«В рассуждении пьес глубоких и таинственных, — прибавлял он, — я могу то представить, что, извлекая дух из буквы, открываешь глубину и таинственность, и что глубина и таинственность особливо принадлежат религии христианской.
«Впрочем и в самых сочинениях светских, одного содержания, как например история, мысли и слог не бывают одинаковы. Например Юлий Цезарь писал свою историю простым рассказом, Тит же Ливий писал слогом ораторским и помещал мысли возвышенные; Тацит отличается глубокомыслием философа, и каждый из них имеет свое достоинство и преимущество. Но если бы Юлий Цезарь захотел подражать Титу Ливию или сей первому, то бы они оба не только цели своей не достигли, но и сделались бы смешны. «Что касается до частных мнений, то всякого писателя мнение есть, конечно, частное, которое разве со временем может учиниться общим.
«Господа Бога призываю в свидетели на душу мою, что в «Сионском Вестнике» нет ни строки, которая была бы писана в духе противничьем христианству; самая пьеса о земле, которая вашему сиятельству так не понравилась, взята из писаний С.Мартена, которого, я надеюсь, и ваше сиятельство не поставите в числе писателей антихристианских; а переменять что-либо в таких авторах, которые лучше меня ведали и разумели истину, по справедливости будет значить falsifier les choses.
«Сиятельнейший князь! Если способность любить и славить Господа на всех языках и всеми образами, как кто умеет, не есть дело противозаконное, и если малые мои способности тому отвечают, то я всепокорнейше прошу позволить мне всю ответственность за мои книги и пред Богом, и пред людьми снять на одного себя и говорить сродным мне языком, ибо дух не терпит оков; самое Св. Писание говорит, что дух не вяжется, что идеже дух, ту свобода. Замолчать я могу, но мыслить чужим умом я не умею; все пьесы мои одинаким духом писаны и, следовательно, все могут быть почтены негодными.
«Если же дух мой изменился и из христианского сделался антихристианским, в таком случае всепокорнейше прошу уволить меня от продолжения «Сионского Вестника» и дозволить мне подписавшимся на оный объявить, что я, по случившимся мне болезненным припадкам и нужде отлучиться на некоторое время из города (в чем я действительно имею нужду, и прошу ваше сиятельство меня уволить на обыкновенный двадцати-девятидневный срок по регламенту), далее продолжать моего журнала не могу, и за остающиеся месяцы выдаю им деньги или заменю оные другими книгами, буде кому то угодно.
«Звание писателя y нас не лестно, ибо вместо того, что в других землях он трудами своими приобретает себе и уважение, и честь, и славу, y нас писатель вступает тотчас в состояние как бы подсудимого, который о своей книге должен тягаться как бы в каком судебном процессе, беспрестанно подвергаясь ответам за каждую мысль, за каждое слово, как бы злоумышленник, что не может никому быть лестно; ибо терпеть огорчения или причинять оные другим без нужды не может быть желательно.
«При сем я должен также донести вашему сиятельству, что как журнал обыкновенно печатается так, что с окончанием одной книжки начивается печатание следующей, то и теперь, как мне не известно было намерение ваше переменить цензуру, следующая книжка на июль месяц была между тем уже начата из пьес, которые вашим сиятельством были просмотрены и потому цензором подписаны и мне отданы. Книжки сей уже набрано шесть листов, и на первом листе по обыкновению выставлено имя прежнего цензора. Засим ежели сии отпечатанные листы представлять вновь на утверждение другой цензуры, то, с одной стороны, я почитаю даже неприличным представлять рассмотренное министром на дальнейшее рассмотрение кому-либо из подведомственных ему мест и лиц, а с другой стороны, ежели новая цензура, которая, по самой передаче моего журнала в ее руки, вероятно, почтет обязанностью своей употребить новую строгость, станет делать еще какие перемены, и мне должно будет листы сии перепечатывать, то я потерплю от того большой убыток, ибо каждый лист стоит мне около 150 рублей; к тому же я должен буду за недостающие месяцы возвратить подписавшимся деньги, которых я не имею, ибо число подписавшихся менее, нежели чего мне стоит печатание журнала сего».
Князь Голицын отвечал [337], что передача «Сионского Вестника» на рассмотрение духовной цензуры вызвана самим Лабзиным, «ибо, — писал князь Голицын, — в продолжение некоторого времени от возобновления «Сионского Вестника» легко можно было вам приметить, чего требовала гражданская цензура и что принужден был наконец и я подтверждать, отменяя иные пьесы или выкидывая из других некоторые места. Сие было столь же мало гонением на «Сионский Вестник», как и поручение его по-том рассмотрению духовной цензуры, когда издание сие упорно продолжаемо было в духе восставания противу внешней церкви. Какое правительство и в каком государстве согласилось бы попустить, чтоб наружные установления церкви и духовной власти, коими необходимо поддерживается в общем составе народном привязанность ко всему тому, что до религии касается, было судимо, критикуемо и отвергаемо в публичных сочинениях, и еще в таких, кои суть духовного содержания? Христианство не позволяет нам судить никого, кольми паче установленную власть, духовную ли то или гражданскую. A что издатель сего журнала к тому наклонен, то доказывает и самое нынешнее ваше письмо, в котором между прочим жалуетесь на поручение журнала вашего духовной цензуре, называя сие преданием вас в руки главных ваших противников, которые будто бы и сами не идут и хотящим возбраняют. По истине, я сожалею о сем недостатке христианской любви, которая допускает до таких мыслей и отзывов о ближних своих, кольми паче о членах церкви и установленной духовной власти. Право, какое имел Господь Спаситель произнести слово сие на тех, кого Он находил сие заслуживающими, не можем мы никак себе присваивать, имея сами нужду в оправдании. Но я нахожу сверх того между разными чиноначалиями духовенства столько почтенных, христиански-мыслящих, поступающих и учащих особ, что никак не постигаю причины подобному в общем лице осуждению их. Другого рода пьесы, кои должно было также останавливать, имели содержанием своим некое указание, что как бы y издателя сего журнала можно найти настоящую церковь, истинное христианство и высокую премудрость. He будучи в сем убежден, не мог я никак по обязанности звания моего и места, мною занимаемого, давать позволение на то, чтоб члены установленной и принятой в государстве церкви явным образом отвлекаемы были от оной к неизвестным учреждениям, коих чистота источника еще подлежит сомнению. Таковые и тому подобные материи могут ли быть признаны за дух, который оживотворяет, как вы пишете? Напротив того, они скорее могут почесться за букву, убивающую истинный дух христианства, истинную любовь, коея определение толь ясно видно в послании святого апостола Павла, сию любовь, без которой в пророчество, и тайны все, весь разум и вся вера, ничтоже суть. Я не скажу никак, чтобы в «Сионском Вестнике» не было пьес, преисполненных истины и христианского духа; но потому самому они и не были никогда останавливаемы: для таковых токмо материй было дано вам и позволение к возобновлению сего журнала; для них и ныне он не запрещается, но токмо предоставляется рассмотрению духовной цензуры, коей более прилично и удобно судить о духовных материях, наипаче когда оне становятся глубоки, таинственны, касаются до догматов. Когда вы не имеете намерения восставать против установленной церкви, на что вам почитать и членов духовной власти противниками своими? Ибо и они, по крайней мере, не менее всякого другого готовы поспешествовать распространению истинного духовного ведения и духа христианства».
При этом князь Голицын вновь подтвердил, что издание «Сионского Вестника» может быть продолжаемо не иначе, как с разрешения духовной цензуры, и если Лабзин решится прекратить его, то объявление о том должен представить ему для просмотра.
Лабзин пробовал восстановить свое право при помощи личных объяснений, но и это не помогло делу.
— Если мне позволять все то, что вы пишете, — говорил князь Голицын, — то я подам повод думать, что и я принадлежу к вашей ложе, как то уже и говорят, а я министр.
Лабзин указывал на пользу, приносимую «Вестником», и похвалы, которые он получал с разных сторон.
— Вам льстят, — отвечал на это князь Голицын, — a вы верите тому по самолюбию; самолюбия же отвергаться должно.
Таким образом «Сионский Вестник» признан был официально изданием вредным, и сам Лабзин —человеком, подкапывающимся под основы православной церкви.
«Мы ошиблись, — писал он 3.Я.Карнееву [338], — если подлинно наружных христиан почитали за истинных. Что касается до В(асилия) М(ихайловича) П(опова), он не что иное, как секретарь, человек угодничающий из своих выгод и сделавший себе из слабости своей христианскую добродетель, смирение и послушание, чем и успокаивает свою совесть. Он никогда не разнится в мнении с своим командиром, и ежели к(нязь) скажет: надобно Л(абзину) нос откусить, он без зазрения совести побежит и скажет: пожалуйте ваш нос, мне велено его откусить, и текст подведет — «всяка душа властям предержащим да повинуется, и противляющийся власти Богу противляется»; — а тот текст, коим велено любить ближнего, как самого себя, и на ум не вспадет. Так, он не только писал и подписывал все бумаги против меня, но ниже предварил меня о строющихся против меня ковах, еженедельно со мною видевшись, в чем он также оправдывается обязанностью хранения канцелярской тайны».
Сложившиеся неблагоприятно обстоятельства и нежелание подчинять журнал духовной цензуре заставили Лабзина прекратить издание «Сионского Вестника». Составленное по этому поводу об-явление было представлено князю Голицыну и затем явилось в газетах в следующем виде:
ОБЪЯВЛЕНИЕ О «СИОНСКОМ ВЕСТНИКЕ».
«Издатели журналов, долженствующие издавать книжки свои на срок, и потому работающие, так сказать, на подряд, вообще обременены и озабочены более всякого другого писателя. Малейшее препятствие в деле их (не только) [339] останавливает успех оного, отнимая y них время (но и расстраивает и самый дух, который от многих помешательств изнемогает и теряет наконец свою способность). Издатель «Сионского Вестника» и содержанием своего журнала, и исправностью выхода оного доказал, что он предпринял труд, силам одного человека несоразмерный. Здоровье его неоднократно от того терпело, и ныне он принужденным себя находит объявить почтенным любителям его журнала, что он продолжать свой журнал (как по состоянию своего здоровья, так и по встретившейся ему нужде отлучиться на некоторое время от столицы) далее не может.
(Словом: всему есть время говорить и есть время молчать. Для издателя настало время молчать; и налагая на себя сие молчание он, принося) [340] «чувствительнейшую благодарность за лестное ободрение и подкрепление, которые он неоднократно получал от многих любителей его журнала, равно благодаря и всех вообще удостоивших подписаться, предлагает им за недостающие месяцы сего годичного издания получить обратно свои деньги, или, буде угодно, заменить сей недостаток другими из книг его, присылая для сего свои билеты или извещения к нему с надписанием на оных своих требований (в то место, где кто подписался)».
С появлением этого объявления в газетах «Сионский Вестник» прекратился или, как выразился Лабзин, «испустил свой дух». По словам Невзорова, еще за месяц до прекращения журнала московское духовенство и многие светские, «по санам своим известные», с торжеством предвещали падение журнала, а когда это совершилось, то праздновали как особое событие [341]. В Москве рассказывали тогда, что правительство, покровительствовавшее доселе изданию мистических книг, наконец, увидело свою ошибку и решилось прекратить их печатание.
Рассказы эти были далеко не справедливы, но они указывают на то значение, какое имел тогда Лабзин в духовной литературе, и на трудность борьбы с ним.
Теперь, по прошествии трех четвертей столетия, мы с полным спокойствием и беспристрастием к отжившим деятелям можем определить, была ли деятельность Лабзина вредной и его «Сионский Вестник» был ли направлен к тому, чтобы поколебать учение православной церкви. Напротив, воодушевленный гуманностью, теплым чувством любви и уважения к человеку и его убеждениям, Лабзин свято чтил религию, и мы видели, что образованное духовенство не чуждалось мистиков, уважая в их учении те стороны, которые связаны с внутренним влечением к Богу человеческого сердца.
Лабзин не навязывал никому своих мыслей и не считал их непогрешимыми.
— В беседах наших, — говорил он, — могут встретиться мнения, не согласные с обыкновенными. Испытай их прежде, нежели осудишь, или отложи в сторону то, что не признаешь за истину, а возьми себе то, что тебе неподозрительно.
«Сионский Вестник» старался привлечь к христианству язычников, магометан и иудеев, привлекал верующих и неверующих; он являлся истолкователем религии для среднего класса людей и как противодействие религиозному либерализму или, лучше сказать, безверию нашего высшего общества.
«Мистицизм, — говорит г.Цветков [342], — не был какой-либо особой сектой в смысле религиозном, а только известным направлением в христианском обществе. Учение Иисуса Христа, возвышаясь над обыкновенной земной жизнью и всеми ее мелкими интересами, влечет ум и сердце человека в тот таинственный и идеальный мир, где он чистым и свободным приближается к Богу, отрешаясь от треволнений и забот жизни. Мученики христианства, менявшие все блага земли на страдание и смерть, пустынники первых веков, удалившиеся от прелестей жизни для уединенной постоянной молитвы, для голода, жажды и труда, — были не те же ли мистики, доводившие свои убеждения до осуществления на деле!»
Чистая мистика есть идеал истинно-евангельской жизни, по на одном созерцательном погружении в Бога нельзя построить не только церкви, но и никакого религиозного строя жизни, даже секты или школы. С другой стороны, мистика составляет необходимый элемент в области христианского учения и жизни, обусловливаемой сущностью Евангелия, но, как элемент не самостоятельный, в противном случае впадающий в заблуждение. Мысли о вечном откровении и вечном христианстве, о превосходстве внутреннего слова над Св.писанием, о бесполезности внешней церкви, — все это составляет увлечение и мистику нечистую. Чистая же мистика «развила в последователях внутреннее, сердечное и искреннее благочестие, которое не ограничивается исполнением внешних дел благочестия, но стремится достигнуть чистоты души и сердца, благодатного освящения всего человеческого существа» [343].
«Сионский Вестник» увлекал наших отцов простотою изложения, доступной пониманию каждого и, по свидетельству многих современников, чтение этого журнала имело благотворное влияние на их нравственность: облагораживало душу и смягчало сердце.
— Во всех своих деяниях, — говорил Лабзин, — истинные мистики сообразуются с справедливостью, все делают бескорыстно для Бога, ближним служат усердно, искренно, охотно, не с другим каким намерением, как только чтобы исполнить волю Божию. Они живут тихо, уединенно, и все свои надежды устремляют к небесному своему отечеству. Строги к себе, снисходительны к другим; они не выставляют себя, но и не прячутся, когда их ищут. Послушны начальству, добродетельны и услужливы друзьям и врагам, малым и великим; совестливы в своих поступках, осторожны против всех нечистых побуждений и небесное уважают более земного. Язык их простой, без искусства, не ученый, язык уверенности и правды. Мистические писания объясняют, что происходит в душе человека, который решится истинно вступить на сей путь, показывают распутия, которых избегать должно, обманы и искушения, которым подвергается путник, и как поступать с ними. Они остерегают от пагубных обольщений духовной гордости, подкрепляют малодушных, умножают духовные силы. Одно y них всего важнее и о сем одном настоят они, как о главном деле, а именно: о совершенном предании своего сердца и воли Богу, о беспредельном уповании на Бога, крайней недоверчивости к самим себе и к собственным силам, через что укрепляются они в постоянном бдении и молитве. Вот учение так называемых мистиков. Читайте их писания, и вы сами в том уверитесь. Каждый истинный христианин есть мистик и каждый мистик есть христианин [344].
В конце прошлого и в начале настоящего столетия мистицизм явился протестом против упадка христианского благочестия, против преобладания формы и обряда, которыми прикрывалось отсутствие истинной религии. Он привлекал к себе той теплотой, которая ощущалась при чтении мистических книг и статей «Сионского Вестника» и была противоположна холодности, рутинности и равнодушию нашего духовенства. Большинство последнего коснело в невежестве, бездеятельности и было не двигателем, а тормозом всякому стремлению вперед.
Наше духовенство придерживалось старым православным традициям, по упрямству и приверженности к букве. Во всяком нововведении оно видело нарушение предания и находило странным, что вопросами религии занимаются люди светские. Ревнители обрядового, внешнего благочестия защищали старину во что бы то ни стало, и мистические сочинения, трактовавшие о церкви внутренней, казались им написанными только с целью подорвать православие. Лабзин и другие переводчики, конечно, не имели этой цели, не посягали на православие, а желали только поднять религиозное развитие общества и расширить понимание религиозных вопросов. «Но для людей, которым печатный каждый лист быть кажется святым, достаточно было нескольких фраз, не совсем обычных, несколько смелых выражений протестантского автора, чтобы обвинить русского переводчика в явном намерении подрыть православие и ввести в России реформацию» [345]. Люди, смотревшие на дело более трезво, как например, Филарет митрополит московский, понимали заслуги Лабзина и ценили его.
— Он был добрый человек, — говорил Филарет [346], — только с некоторыми особенностями в мнениях религиозных. Мы ему говорили: сколько прекрасных вещей, которые бы можно было напечатать с пользой для других, не касаясь особенностей религиозных. Но он отвечал: всякая птица своим голосом Бога хвалит.
И Лабзин хвалил Его, как умел. В разговорах своих он обнаруживал такой широкий объем христианской религии, «которого я, — говорит M.А.Дмитриев [347], — и не подозревал, такое согласие частей, такую связь духовного мира с вещественным, о каких я не только не имел ни малейшего понятия, но до чего даже и не подозревал возможности проникнуть и воображением, не только разумом. A его разум представлял все это просто и ясно, и основывал все на законах необходимости, и на законе, соединяющем видимое с невидимым, земное с небесным. Итак, думал я, есть наука религии — это для меня было большое открытие».
Поучения Лабзина были назидательны и открывали свет многим, в особенности молодому поколению, воспитывавшемуся под его наблюдением и руководством. Таковы, например, известные художники: Солнцев, Витберг и другие, образовавшиеся в школе Лабзина и всегда с благодарностью о нем вспоминавшие.
— Суждения Лабзина, — говорил лютеранин Витберг, — об обрядах греко-российской церкви имели на меня большое влияние, и я решительно увидел, что ежели для церкви обряды нужны, то они всего лучше в греческой церкви [348].
Многим он открыл путь к познанию Бога и истинного христианства, и его «Сионский Вестник» если не уничтожил, то значительно пошатнул влияние вольтерианства и энциклопедизма в русском обществе. Он возбудил любовь к чтению книг духовного содержания и к изучению основ истинной религии, ограничивавшейся прежде одним заучиванием текстов Священного писания, без понимания их внутреннего смысла и значения. В статьях «Сионского Вестника» ощущалась теплота чувства, и в них многие находили обильную пищу для души и сердца.
Конечно, как Лабзин, так и его последователи заблуждались во многом, но пока существует род человеческий, ошибки неизбежны. Каждый век имеет свои особые заблуждения, ему одному присущие, и напрасно мы стали бы утешать себя в непогрешимости перед судом потомства. Быть может, и нас упрекнут за односторонность, за мелочность и прозаичность жизни и слишком большое поклонение золотому идолу. Правильность человеческих поступков и мысли выясняется только постепенно, с годами, и притом с разных сторон и разными путями. На каждом из этих путей мысль оставляет частицы правды, которые в общей совокупности приближают нас к истине. Она одна, но способы достижения ее различны, разнообразны и часто сопряжены с увлечениями. He был изъят от этих увлечений и А.Ф.Лабзин; но, окончив свою литературную деятельность, он, конечно, вполне мог разделить слова, написанные в память его М.А.Дмитриевым:
Всю жизнь он верен был учению Христову,
Как веровал, так жил,
И, братьям путь открыв к Спасителеву слову,
Он запад дней своих страданьем освятил.
Об этом страдании нам и остается сказать несколько слов.
VII.
Болезнь А.Ф.Лабзина и влияние ее на последующую его деятельность. — Происшествие в академии художеств. — Увольнение Лабзина от службы и ссылка на жительство в Сенгилей. — Жизнь в Симбирске. — Кончина.
Усиленные труды при издании периодического журнала, испытанные огорчения и весьма крупные неудовольствия сильно расстроили нервы А.Ф.Лабзина, и он стал страдать падучей болезнью. — «Двоекратно случившиеся со мной нечаянные припадки, — писал он A.Н.Оленину [349], — угрожающие самой моей жизни и тем опаснейшие, что они приходят внезапно, без всякой предшествующей телесной болезни, чем свидетельствует, что причина оных гнездится в самой душе, — побуждают меня уважить совет медиков и просьбы моего семейства, чтобы испытать перемену климата и образа жизни и устранением от дел дать успокоенному духу поправить и телесные мои силы и для того с наступающей весною отправиться к водам».
Прося отпуска на полгода, с сохранением содержания, Лабзин прибавлял, что по ограниченности средств он может поехать или на Андреопольские воды г.Кушелева, в Тверскую, или на Семеновские г.Нощокина в Московскую губернию.
Письмом от 12 марта 1819 года A.Н.Оленин уведомил Лабзина, что ему разрешен отпуск не только с сохранением содержания, но что государь пожаловал ему сверх того три тысячи руб. на путевые издержки [350].
Отпуск и лечение водами не улучшили однако же здоровья Лабзина; припадки усиливались и учащались, нервы, под влиянием слагавшейся обстановки, все более и более расстраивались.
Во внутренней политике государства стал замечаться поворот в противоположную сторону; издание религиозно-мистических книг подвергалось преследованию, секты — гонению, и в 1822 году последовало запрещение масонских лож. Всем начальствующим лицам поручено было отобрать от подчиненных им лиц сведения, кто и к какой ложе принадлежал и взять подписку, что ни к какому тайному обществу на будущее время принадложать не будет. Оленин собрал всех членов академии художеств, и Лабзин приехал в собрание после чтения Высочайшего указа. Президент хотел повторить чтение, но приехавший объявил, что указ ему известен, и передал свою подписку [351].
— Что тут хорошего? — спрашивал при этом Лабзин. — Сегодня запретили ложи, а завтра принудят в оные ходить. Ложи вреда не делали, а тайные общества и без лож есть, вот y Кошелева тайные съезды, и кн.Голицын туда ездит. Черт их знает, что они там делают.
В этих словах слышится мнение, противное тому, что несколько лет назад Лабзин писал кн.Голицыну по поводу тех же масонских лож. Но противоречие легко объясняется болезнью Лабзина, его нервно-возбужденным состоянием, вызванным переменой обстоятельств, лишавших его возможности продолжать религиозно-миссионерскую деятельность. Нервное расстройство и подозрительность настолько развились в нем, что в A.Н.Оленине, старавшемся сделать ему только добро, Лабзин видел своего личного врага по одному тому, что он не сходился с ним в мнениях.
«Он (A.Н.Оленин), — писал Лабзин кн.Голицыну [352], — главный тайный мой враг, ибо, по явности, мы не только никогда с ним не ссорились, ниже разлада какого между нами не было, — а только потому, что y нас и правила и сентименты разные и что я в 23-хлетнюю мою бытность при академии успел заслужить, что меня и учащие и учащиеся, и начальствующие и подчиненные до последнего служителя, женщины и ребенки в академии все любят и уважают. A о нем едва ли найдется одна душа, которая бы, если дана будет совершенная свобода, без страха отозвалась довольною. Примером сему может служить наш эконом, креатура его, им определенная, который едва ли долго останется без меня в академии, также и некоторые другие. Ho A.Н.(Оленин) есть враг не одному мне, а и всем тем, которые в академии некоторый вес имеют. Для подпоры себе он приманил Мартоса, обещал ему, сказывают, мое место в академии».
Все это, конечно, слова желчного и раздраженного человека, каким был Лабзин под конец своей жизни. Услышав стороною, что президент намерен сделать публичное собрание в академии художеств, Лабзин говорил ему, что в этом году академии нечего представить публике, и он не видит необходимости созывать собрания.
— Какая же цель будеть нашего нынешнего собрания? — спрашивал он. — В 23-х летнее мое служение, академия, сообразуясь со всеми учебными заведениями, дающими ежегодно публике отчет в успехах своих воспитанников, также представляла свой отчет каждый год. Как предмет ее — изящные художества, то мы не приглашали публики на экзамены в грамматике, математике, истории, географии и проч., а собственно в художествах. Для того академия ежегодно отворялась, и зрению каждого представлялись работы ее учеников, а также и самых художников, буде кто желал свое произведение представить публике. Академия исполняла сие сверх обязанности своей, ибо по уставу от нее требуется, чтобы она делала сии выставки через два года в третий, а она делала их ежегодно, не считая преступлением закона сделать более повеленного. Прежде мы отличали и поощряли тех воспитанников, которые так пристращались к художеству, что в праздничные дни и в гулевые часы предпочитали заниматься лучше своими работами, нежели гульбою и резвостями. Так сформировались y нас Егоровы, Шебуевы, Варники; а ныне самая склонность молодых людей к художествам вменяется иногда им в порок и почитается за ослушание.
Выслушав эти слова A.Н.Оленин решил, что вечером 13 сентября собрание будет не публичное, а чрезвычайное, в которое будут приглашены только почетные любители и члены.
Целью собрания было избрание на открывшиеся вакансии новых почетных любителей и членов.
«Как и в самых клубах, — говорил Лабзин [353], — где собираются только есть, пить и в карты играть, при предложении новых членов встречаются иногда неудовольствия для тех, кои не бывают избраны, тем паче могло что-нибудь подобное случиться там, где самое ограничение числа заставляло некоторым отказать, то я сам предложил президенту, предварительно, прежде собрания собраться нам и устроить все, что в собрании происходить должно, дабы в оном не произошло никакой остановки. Согласились, и мы сошлись вечером накануне».
Заседание началось пересмотром списка почетных любителей, и оказалось только три вакансии. Кандидатов было человек до десяти, и некоторые из присутствовавших предлагали это звание самому президенту, от которого A.Н.Оленин однако же отказался. Тогда предложили: графа Аракчеева, Гурьева и Кочубея. При наименовании их президент выразил некоторое неудовольствие, «объявя, что все трое его неприятели и что одного из них он якобы вызывал даже однажды на дуэль за то, что он зачернил его y государя» [354].
— Вам, господа, — прибавил A.Н.Оленин, — вольно назначать кого хотите, а я сей свободы не имею, ибо меня может, например, князь П.В.Лопухин или граф M.А.Милорадович спросить, почему они обойдены?
— Если избирать по чинам, — заметил на это Лабзин, — в таком случае граф Н.П.Румянцев, князь П.В.Лопухин и митрополит могут иметь над другими преимущество.
Собравшиеся отвергли вопрос о старшинстве и говорили, что о чинах думать нечего.
— Так как все предлагаемые одинаких чипов, — говорил Лабзин, — то следует избирать из них тех, которые являют более любви и могут более оказать покровительства художествам. — A как при сем упомянуто было, что Д.П.Татищев, который подарил академии оригинальную картину испанской школы и за то включен в число почетных членов, по неимению тогда вакансии почетного любителя, и обижается этим, — то я предлагаю переменить его на открывшуюся ныне вакансию почетного любителя.
На другую вакансию Лабзин предлагал Д.А.Нарышкина, любовь которого к художествам свидетельствовалась заведением y себя картинной галлереи, а на третью, — графа A.А.Аракчеева, — оказавшего любовь к художествам сооружением в своем Грузинском имении памятника императору Павлу I и изваянием для тамошнего собора статуи апостола Андрея Первозванного. Мартос настаивал на избрании графа, Аракчеева, Гурьева и графа Кочубея. Лабзин спрашивал, почему он отдает им преимущество перед другими.
— Они близки к государю, — отвечал Мартос.
«Почитая, — писал Лабзин князю Голицыну, — что и все особы, которые были предлагаемы, и граф Милорадович, и князь П.В.Лопухин, особливо князь П.M.Волконский (который также был на листе) близки государю, и что не нам судить, который из них ближе, я не нашел ответа Мартоса удовлетворительным. И как притом случилось, что президент, перечитывая имена прежних почетных любителей, изъявил свое негодование, что прежде приняты были в почетные любители граф Кушелев, граф Растопчин и граф Кутайсов (к чему тотчас пристал и Мартос), которые также были приняты потому, что были близки к покойному государю, — тогда я, чтобы показать Мартосу несообразность его ответа, сказал ему, что, судя так, можно предложить в члены и Илью кучера, потому что и он близок к государю».
— A разве он вам знаком? — спросил шуткою Оленин.
— Хотя и не знаком, — отвечал Лабзин, — но в моем понятии всякий честный человек, верно служащий своему государю и хорошо исполняющий свою должность, во всяком сословии достоин уважения; а как кучер есть тот человек, y которого часто бывает в руках не только здоровье, но и жизнь наша, то для того, кому здоровье государя дорого, и кучер Илья человек почтенный. К тому же по табели о рангах императорский лейб-кучер положен в чине полковника.
— Но он мужик, — заметил Мартос.
— Кулибин был мужик, — отвечал Лабзин, — однако же член академии наук; Власов также из крестьян был членом медико-хирургической академии.
— Согласны ли вы, — спрашивал Оленин, — чтобы я довел до сведения тех особ, что вы равняете их с кучером Ильей?
«На сей странный вопрос, — писал Лабзин, — не показывающий ничего иного, кроме одного недоброжелательства, трудно было отвечать, и он смутил меня, ибо, во-первых, я сравнивал Илью кучера с Кулибиным и Власовым, во-вторых — в самодержавном государстве разве человек низкого состояния не может быть возведен на высшие степени? Кто не знает истории князя Меншикова? Фр.Ник.Кличка, умерший курским генерал-губернатором, в начале служил скороходом y партикулярного человека — графа Фермора, и в наше время И.А.Алексеев, бывший сенатор и член Государственного Совета, вышел из солдатских детей. Сколько есть других тому примеров! В третьих, слова мои, как бы их ни взять, больше ли были оскорбительны для сих самых особ, нежели его (Оленина), когда он называл их своими врагами и одного из них своим оклеветателем перед государем, за что будто бы он вызывал его на дуэль».
— Я от вас этого не ожидаю, — говорил Лабзин, несколько оправившись, Оленину, — a впрочем, если вам угодно, то делайте свое дело, а я сих господ но боюсь. В самодержавном государстве нет причины кого-либо бояться кроме одного государя, и сами сии господа, если дойдет до них сей извет, будут столь великодушны, что либо презрят оный, либо, по крайней мере, не осудят меня, по одному пустому слуху и сплетням, которым кто не подпадал иногда?
Так происходило дело по словам Лабзина, но не так раcсказывали его по городу. Говорили, что когда предложили выбрать в почетные любители графа Аракчеева и графа Гурьева, то Лабзин отозвался, что этих людей он не знает и о достоинствах их не слыхал, а когда назвали графа Кочубея, то он выразился еще более резко.
— Кочубей и двух копеек не стоит, — сказал, будто бы, Лабзин. — Сей человек надутый и ничего не значащий.
Спустя несколько дней Лабзин узнал, что про него рассказывают небывалые вещи, и он решился разъяснить возникшее недоразумение.
— He слыхали ли вы того, что до моих ушей дошло, — спрашивал он A.Н.Оленина. — Выносить прежде времени то, что в каких-либо совещательных собраниях происходило — прибавлял Лабзин — самыми законами воспрещено, и рассеивающий слухи во вред другого, особливо с ложными прибавками, в самых законах называется клеветником и похитителем чести другого и признается за оскорбителя.
— Я не в первый уже раз замечаю, — отвечал Оленин, — что все происходящее y нас в академии разглашается по городу. He только я тоже слышал, но и граф Милорадович приезжал сам ко мне и спрашивал, как это было? Получа от его сиятельства вопрос письменный, я и сам отвечал ему письменно.
И так дело это приняло официальный характер. — 19 сентября 1822 года граф Милорадович просил Оленина уведомить его письменно о том, что происходило в академии художеств.
«Когда я объявил совету, — писал Оленин [355], — о надлежащем выборе трех почетных любителей, на каковые места в привилегии, сей академии данной, предписано помещать из знатнейших особ, и когда я выбор сей предоставил общему согласию гг. членов академического совета, отказавшись сам от сего выбора, то вице-президент Лабзин, не соглашаясь долго на утверждение предназначенных советом трех новых особ, а именно: графа Гурьева, графа Аракчеева и особенно упорствуя в выборе графа Кочубея, заключил свой спор тем, что если совет полагает выбрать сих трех новых членов по той причине, что они имеют доступ к высочайшей особе, то он, Лабзин, с своей стороны предлагает в почетные любители также близкую государю императору особу, а именно государева кучера Илью».
Так как все это происходило в присутствии более чем 20 художников и слова Лабзина произнесены были в присутственной комнате, то, прибавлял Оленин, желая дать оборот делу не столь серьезный, сказал Лабзину, «что я не премину известить новоизбранных членов в почетные любители о чести, которую им сделал Александр Федорович, предложением к совместному с ними выбору кучера Илью. — Сей неожиданный ответ мой произвел в собрании невольный общий смех, который привел Лабзина в некоторое негодование, ибо он с сердцем отвечал мне: «Извольте им это сказывать, я их не боюсь».
Препровождая письмо Оленина императору Александру, бывшему тогда в Вероне, граф Милорадович, не спросив Лабзина, приложил и свою записку, в которую внес и все городские сплетни [356]. Лабзин оспаривал справедливость сделанного на него доноса и просил суда.
«Я не знаю, — говорил он [357], — как описал A.Н.(Оленин) сие происшествие, но по воспоследовавшему со мною несчастью могу заключить, что оно описано не точно так, как было, и несчастье мое так велико, что я имею право просить, чтобы сие дело было исследовано. Мы не одни с A.Н.(Олениным) тут были; пусть скажут другие, как что было, и, хотя по пословице: «Les absents ont toujours tort», при всем том я уверен, что найдутся некоторые, которые не захотят торговать своими совестями и даже присягнут в том, что никакого дерзкого, тем паче буйного поступка от меня не происходило и никаких оскорбительных речей ни на чей счет произносимо мною не было, как то, по-видимому, донесено Его Величеству, особливо ежели ваше сиятельство, для достижения истины, примете на себя труд или поручите доверенной вами особе председательствовать в том собрании, в котором сие разыскание предпринято было бы.
«По крайней мере сие сходбище наше или так назову пробу будущего собрания, столь же мало можно назвать академическим собранием, сколько пробы и репетиции представляемых на театрах пьес не почитаются самыми спектаклями, хотя и на оные те же актеры собираются; но сверх слов, принадлежащих к самой пьесе, говорятся иногда и другие речи и происходят действия, к самой пьесе не относящиеся. Так и y нас разговоры сии происходили не в формальном заседании, так что иные сидели, другие стояли, иные ходили, и самые речи президента показывают, что он не почитал сего сходбища нашего за формальное академическое собрание».
Тем не менее 20 октября 1822 года последовал указ Сенату, в котором было сказано: «Вице-президент академии художеств действительный статский советник Лабзин отставляется от службы». — Князю A.Н.Голицыну повелено было сделать выговор Оленину [358] за неумение сохранить порядок в заседании и недонесение начальству, а гр.Милорадовичу приказано выслать Лабзина из столицы в деревню с запрещением выезда из нее без особого на то разрешения [359]. — «Если же, — писал кн.Волковский графу Милорадовичу [360], — не имеет он никакого нигде поместья, то, по сношению вашему с управляющим министерством внутренних дел, избрать один из уездных городов отдаленной губернии для жительства его и отослать туда под особенный надзор, с запрещением выезжать из оного без особого на то Высочайшего разрешения».
Никаких поместий y Лабзина не оказалось, и граф Кочубей избрал местом ссылки город Сенгилей, Симбирской губернии, преимущественно окруженный татарским населением, и коего полициймейстер (бывший улан, по имени Дзичканец) пользовался репутацией очень строгого человека... «Высылка этого человека, — писал Кочубей, — составляет теперь предмет всех разговоров и, можно сказать, что никто этим не удивлен» [361].
Более всех удивлен был сам Лабзин, когда, 7-го ноября, узнал от графа Милорадовича о несчастии, его постигшем. Все случившееся он приписывал интриге Мартоса, желавшего и надеявшегося получить его место. Едва дотащившись до своей квартиры, Лабзин написал письмо Милорадовичу, в котором сообщал, что не имеет никаких средств для отъезда. Положение его в этом отношении было действительно безвыходное, и обстоятельства сложились так, что мнимый недруг его первый пришел к нему на помощь.
«Узнав вчера от вас, — писал A.Н.Оленин А.Г.Ухтомскому [362], — что А.Ф.Лабзин, при крайнем его несчастии, находится в крайней будто бедности, я решился ему помочь по долгу христианскому, несмотря на великое огорчение, которое он мне нанес необдуманным своим поступком, и на многие другие огор-чения. Бог с ним! Он теперь несчастлив, и другого я в нем не вижу. И так, вот расписка моя в жаловании моем на 300 руб., ибо денег y меня теперь нет. Возьмите сию сумму посредством сей расписки y Д.И.Воробьева и отдайте А.Ф.Лабзину; но с тем, чтобы как он, так и его близкие отнюдь бы не знали, от кого сии деньги присланы. Скажите, что вы их нашли для него, а отдаст их, когда захочет. Я надеюсь на вашу честность и уверен, что вы меня не огласите. Прошу мою записку тотчас истребить».
Получив деньги, Лабзин так и не узнал имени своего первого и самого искреннего благотворителя. Вслед за тем кн. A.Н.Голицын, имевший всегда от государя некоторую сумму денег для раздачи бедным, прислал ему 2 т. руб. на путевые издержки [363]. Знакомая г-жи Лабзиной девица принесла ей 800 руб., а бывший ученик академии - 200 руб., и с этими деньгами Лабзины отправились в путь.
Сборы в дорогу были непродолжительны и в 2 часа пополудни 13 ноября Лабзин выбыл из академии с женою Анной Евдокимовной и с воспитанницей Софьей Мудровой. В квартире его с вещами и мебелыо остались на временное жительство сестры его Анна и Елизавета Федоровны Лабзины [364]. Граф Милорадович прислал коляску настолько плохую, что в ней нельзя было доехать и до Царского Села. Один из приятелей дал свою карету, в которой Лабзин с семейством и сопровождавший его полицейский офицер и отправились в путь. В Тверь приехали, когда Волга стала, но переезжать по льду еще было пельзя. Hа утро лед был прорублен, экипажи перевезены на пароме, а путешественники перешли по льду. Под Москвой верстах в двух от ст.Черные-Грязи карета опрокинулась в ров; с Лабзиным случился припадок падучей болезни, а его супруга повредила себе ногу, и ее пришлось нести на руках до самой станции. В Москве все семейство Лабзина остановилось y его приятеля, известного доктора Мудрова, обязанного Лабзину помощью во время студенчества и занятий за границей. Будучи масоном, Мудров был связан долголетней дружбой с Лабзиным и передал ему на воспитание свою племянницу [365], с которой Александр Федорович и приехал теперь в Москву. Мудров приготовил комнаты в своем доме для принятия гостей, испросил разрешение иллюминовать свой дом, встретил приезжих на крыльце с низким поклоном и оказал первую медицинскую помощь супруге Лабзина [366].
На следующее утро к Мудрову явился полициймейстер, потребовавший, чтобы гости его немедленно выехали из первопрестольной столицы. Ни состояние здоровья супруги Лабзина, которую носили по комнате в креслах, ни порча кареты, требовавшей починки, не были приняты в уважение, и Лабзина гнали из Москвы, как заразу. Заменив карету двумя санными повозками, изгнанники отправились в дальнейший путь. На третий день они дотащились, почти по голой земле, до Владимира. Клязьма встала, но переехать по льду было еще нельзя, и губернатор разрешил Лабзину отдохнуть в городе двое суток [367].
В начале декабря Лабзии прибыл в Симбирск, где был встречен довольно сочувственно. «Вообще, — писал он кн.Голицыну [368], — в моем несчастии я счастлив: меня привел Господь в такую губернию, которая отличается, кажется, согласием населяющих ее, — одного письма знакомого мне довольно было, чтобы всех расположить ко мне дружески. Многие просили полициймейстера уведомить их тотчас, как я приеду, и потому, лишь я въехал, стали являться ко мне люди с вопросами о моих нуждах и с предложением услуг своих. Некоторые даже ожидали меня в том трактире, где мне пристать надлежало. Но все это в губернском, а не уездном городе, из которых в одном, здешней же губернии, я не нашел ни калача, ни простого пива. Губернатор (которого вообще здесь хвалят) показался и мне человеком добродушным. Он, думая, что я сам местом жительства моего выбрал г.Сенгилей, удивился тому и, рассказывая мне о невыгодностях оного, предлагал даже ходатайство свое об оставлении меня в Симбирске, предполагая поводом к тому, что грузинские князья, присланные также к нему, и некоторые, без сомнения, опаснее меня живут в Симбирске. Но я, опасаясь, чтобы благорасположение ко мне добрых сердец не раздражило паче сердца моих гонителей, просил его сего не делать».
Из Сенгилея Лабзин отправил кн.A.Н.Голицыну письмо, в котором просил «приголубить» сопровождавшего его полицейского офицера, оказавшего многие услуги во время путешествия, и, повергая себя милосердию государя, просил ходатайства о сложении с него «тягостного гнева» императора.
В Сенгилее Лабзин и его супруга поместились в избе, состоявшей из одной комнаты, имевшей аршин восемь в квадрате, рядом с кухней, «откуда чад и тараканы беспокоят нас» писал он [369]. При 13 градусном морозе они сидели в нетопленой комнате и дрогли, не потому, чтобы дров не было или купить их было не на что, а потому, что труба лопнула, и поправить ее было некому. He говоря о том, что во всем городе не было архитектора, но даже каменщика, печника и трубочиста. За печником пришлось посылать за 35 верст к помещику, чтобы починить трубу и, в ожидании его приезда, дрогнуть. В Сенгилее можно было получить тогда многое даром, но за то часто и за деньги нельзя было достать того, что необходимо для самых первых потребностей жизни. Симбирский помещик Петр Петрович Тургенев, по старинной масонской связи прислал Лабзину воз домашних и другой лекарственных припасов, без которых обходиться было трудно. Когда, вскоре после приезда в Сенгилей, Лабзин занемог, то за доктором пришлось посылать в Симбирск; он приехал на другой день, прописал лекарство, но в городе не было аптеки, и надо было снова посылать в Симбирск. Таким образом прошло несколько дней прежде, чем можно было оказать первую помощь больному. Сравнивая свое прежнее положение с настоящим, Лабзин находил, что дешевизна в Сенгилее хуже дороговизны в каком-нибудь другом городе.
He имея средств к существованию. посланный туда, где трудами своими не мог снискать пропитания Лабзин, с полной покорностью жил «с тараканами в дыму и чаду» [370].
«Ах! какая разность, — писал он Хвостову [371], — между тем, чтоб учить и давать другим советы и исполнять то самому! Можно налагать на других бремена тяжка, а самому и пальчиком не пошевелить. Я сам около 40 лет проповедовал другим о крестоношении: может быть, востребовалось от меня показать тому пример на практике самым делом, и что ж? да будет воля Его! Я обнимаю крест, а не бегу от него. Слава Ему, слава Ему преблагому!» [372].
— Я становлюсь историческим лицом — говорил Лабзин, — о котором судить будут потомки. Господь укрепляет немощные мои силы, и я твердо положил: что бы со мною ни последовало и хотя бы стало еще хуже, никого из человеков, а особливо из великанов земли об облегчении участи моей не просить, предавая себя в полную волю Отца моего небесного и доказывая им на опыте, что верующий и без их милостей жить может.
В Сенгилее Лабзин оставался до половины мая 1823 года, когда по ходатайству кн.Голицына и по просьбе оставшейся в Петербурге сестры его Анны Федоровны ему пожалована была пенсия в 2 т. рублей [373] и позволение переехать в Симбирск на жительство.
Ни постигшее Лабзина несчастье, ни трудная, полная лишений жизнь в Симбирске не изменили его характера.
«По избранию ли, попущению ли Господню, — говорил он, — но около 40 лет я работником в Его винограде, и Его уже дело отрубить ли меня от лозы своей, как ветвь негодную, или отеребить ее, дабы больший плод принесла. A работники винограда Господня состоят под иными законами, часто не согласными с мнениями человеческими. Апостолы не могли бы исполнить порученного им дела, если бы слушались суждений и мнений человеческих, — их дело терпеть и страдать. Произнеся раз от всей полноты сердца то, что мы всякий день в церкви слышим: сами себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим, я во всю жизнь мою старался иметь сие постоянным себе правилом. Посему ни за какими земными благами не гонялся, не человекоугодничал и вся моя жизнь была не что иное, как сплетение разнородных крестов, которых я не бегал. Все призванные в состояние Апостольское, — говорит г-жа Гион, — не должны заграждать уст своих молчанием от страха гонений, но должны говорить тем дерзновеннее. Терпение в гонениях есть вернейший признак обитающей в душе истины Божией. Терпение и постоянство более обратили людей в христианство, нежели самые чудотворения и кровь мучеников сделалась семенем христиан; ибо чудесам и сатана подражать может, но не терпению. He должно удивляться тому, что злоба человеков изгоняет служителей Божиих, кои сеяли благое семя; напротив того, зная, что и с самим Иисусом поступлено было так же, души Апостольские должны паче радоваться, нежели печалиться, видя себя осуждаемых, обвиняемых, изгоняемых и преследуемых правды ради.
«Вот, милостивый государь, — прибавлял Лабзин в письме кн. Голицыну [374], — сколь различны правила духовных людей от правил обыкновенных человеков! Ежели они истинны, то надобно же кому-нибудь руководствоваться ими; а ежели это заблуждения, то на что же и выпускать такие книги в свет и заблуждения выдавать за важные и великие истины?
«Я предвижу, что и сим письмом не угожу вашему сиятельству, но что ж мне делать? He отвечать на благосклонное письмо ваше было бы невежливо; а отвечать не то, что y меня в сердце и голове, для меня совестно. Быв всю жизнь мою служителем истины, под старость приниматься за лицемерие и лесть мне уже поздно. Я знаю, что мы все, не только цари и вельможи, не любим возражений, а любим только поддакивание, следовательно, для приобретения благосклонности чьей бы то ни было, по мирскому суду, нужно бы было последнее, особливо в моем положении. Но ежели я, и зная свою выгоду, жертвую оною даже с риском, то сие самое не показывает ли, что я движим высшим каким-то побуждением, а не одним своекорыстием? По мнению вашего сиятельства, оправдываться есть как бы грешно; неужели же обвинять человека, не исследовав дела до пряма, душеспасительно? A я до сих пор не знаю, что на меня представлено, правда, или нет? И это не мудрено было бы исследовать, пока еще все те люди, при коих сие происходило, живы. Оправдываться не есть противно никакой морали, никакой философии, никакой религии, тем паче христианской, которая вся основана на милосердии, правде и истине. He только Апостолы и мученики оправдывали себя в иных случаях; но и сам Спаситель, который за тем и нисходил на землю, чтобы пострадать и умереть, и который не хотел было и отвечать Пилату, но когда архиерейский слуга безвинно ударил Его в ланиту, сказал: аще зле глаголах, свидетельствуй о зле; аще ли же ни, что мя биеши? т.е. требовал же справедливости. После сего примера можно ли такое требование почитать противным христианскому смирению? Напротив того, если б я обнесен был какому приятелю моему; то, буде дружба его для меня ценна, я должен искать пред ним оправдаться, и скорее я погрешу против смирения, если б я не захотел пред ним оправдаться. Тем паче пред государем, коего милость, по всем отношениям, должна быть драгоценна для верноподданного! Уже многие опыты показывали мне, а последний утвердил, что я в мыслях Его Императорского Величества весьма очернен, и это ли вина, что я ищу избавить себя от напрасного гнева моего государя, избирая к тому не побочные какие пути, а прибегая к помощи бывшего моего начальника, полагая обязанностью подчиненного иметь прямую доверенность и откровенность к своему начальнику; а долг доброго начальника — защищать и покровительствовать своих подчиненных.
«Впрочем (на основании Иоан. XVIII, 36), будучи ни к чему земному, ни к самой жизни здешней не привязан, лишение временных благ я не почитаю большим уроном, и зная, что к блаженству истинному призываются более бедные, нищие и труждающие, нежели счастливцы и любимцы мира, я, по милости Господней, переношу горестное мое положение с твердостью и терпением, какими немногие похвалиться могут, будучи твердо уверен, что если Господу моему угодно будет уделить мне что-нибудь и от временных Его благ, то, как сердце царево в руце Божией, Господь внушит царю и другие обо мне мысли, и тогда окружающие монарха, как теперь не могут подать мне руку помощи в моем страдании, не в состоянии будут воспрепятствовать моему благополучию, которым я хочу обязан быть токмо Богу и государю. Господь до сих пор меня не оставляет, может быть, и государь когда-нибудь обратится ко мне с милостью. Ежели же им это не угодно, я готов все переносить и терпеть по гроб без ропота. Ваше же сиятельство покорнейше прошу сестру мою, которую и вы нашли и христианскою и смиренною, с прочими остающимися там моими домашними, принять под ваше покровительство и не допустить отягчить еще их участь высылкой из квартиры; ибо я, оставаясь в нищенском положении, ни там, ни здесь устроить благосостояние их еще не могу, лишен будучи даже способов руками своими доставать себе пропитание; ибо мне не в портные и сапожники, или не в столяры уже идти; а мое ремесло здесь ни для кого не надобно».
В Симбирске Лабзин был встречен весьма радушно бывшими масонами. Здесь прежде была масонская ложа «Ключ к добродетели», великим мастером который был кн.Баратаев, приходившийся с родни Лабзину. Бывшие масоны встретили его с большим уважением, старались предупредить его желания, но, раздраженный несчастием и больной, сам Лабзин смотрел на них с недоверием, подозрительностью и принимал их не особенно ласково. Так, когда губернский почтмейстер Лазаревич, желая истинно быть ему полезным, предложил получать на его имя письма и писать через него, то Лабзин заподозрил в этом дурной умысел. — «Если вам, батюшка, — сказал он Лазаревичу, — угодно быть надо мной шпионом, вам никто не мешает».
Лазаревич не оскорбился таким ответом, да и вообще, — говорит М.А.Дмитриев [375], — «надобно отдать справедливость тогдашним жителям Симбирска, они терпеливо переносили первоначальную раздражительность изгнанника и добились его искренней признательности и искреннего чувства дружества. Они берегли его, как больного ребенка, как бедную душу, оскорбленную судьбою, и много помогали ему, но так искусно, что он и сам никогда не догадывался».
В Симбирске Лабзин прожил не долго и 59-ти лет от рождения скончался 26 января 1825 года. Он похоронен в Покровском монастыре, настоятелем которого был его приятель, архимандрит Серафим. На могиле его поставлен крест из дикого камня и на нем помещены вырезанные на бронзовой дощечке стихи M.А.Дмитриева, приведенные нами в конце предыдущей главы.
Примечания
1
„Христианское Чтение" 1889 г., № 1, 84.
(обратно)2
Чтения в Московском обществе истории и древностей 1859 г., кн. II, стр. 124. См. также „Учение Канта о церкви" А.Кириловича. „Вера и Разум" 1893 г., № 13-15.
(обратно)3
„Сионский Вестник", 1806 г., февраль, стр. 212.
(обратно)4
„Христианство и французская революция". „Христианское Чтение" 1889 г., январь—февраль, стр. 71 и 80.
(обратно)5
„Moniteur", 14 Mai 1796.
(обратно)6
„Nouveau Dictionnaire". — Discours préliminaires.
(обратно)7
Торжественное восстановление католической религии во Франции. „Вестник Европы" 1802 г., ч. III, № 9, стр. 79.
(обратно)8
Один из консульских советников
(обратно)9
„Сионский Вестник" 1806 г., апрель (№ 4), стр. 72.
(обратно)10
„Христианское Чтение" 1889 г., № 2, стр. 322, 328.
(обратно)11
„Полное собрание сочинений И.В.Киреевского". Изд. 1861 г., II, 322, 323.
(обратно)12
„Русский Архив" 1868 г., стр. 1726.
(обратно)13
Ф.Терновский „Материалы для истории мистицизма в России". Труды Киевской духовной академии, 1863 г., т. III, 162.
(обратно)14
Русские мистики—иллюминаты. „Духовная Беседа", 1863 г., т. XIX № 50.
(обратно)15
И.Чистович „В память графа M.М.Сперанского", „Христианское Чтение", 1871 г., т. 160, № 12, стр. 1012.
(обратно)16
„Духовная Беседа", 1863 г., т. XIX, № 50, стр. 645-647.
(обратно)17
Лабзин рассказывает, что в одной книге титул римского сената — Patris conscripti был переведен отцы сонаписанные.
(обратно)18
Цейеру в 1814 году, „Русский Архив", 1870 г., стр. 176.
(обратно)19
В его „Истории русской словесности древней и новой", изд. 1880 г., стр. 392-460.
(обратно)20
От 5-го сентября 1804 г., „В память графа M.М.Сперанского". Издание Императорской публичной библиотеки, стр. 373.
(обратно)21
„Сионский Вестник" 1806 г., ч. II, июнь, стр. 242.
(обратно)22
И.Катетов. „Граф M.М.Сперанский, как религиозный мыслитель" „Православный Собеседник", 1869 г., № 6, стр. 312.
(обратно)23
„Сионский Вестник", 1817 г., т. VI, стр. 1.
(обратно)24
„Русский Архив", 1870 г., стр. 180.
(обратно)25
„Русский Архив", 1870 г., стр. 186.
(обратно)26
„Русский Архив", 1868 г., стр. 1110.
(обратно)27
Тоже, 1870 г., стр. 125.
(обратно)28
Там же, стр. 201.
(обратно)29
Письмо M.М.Сперанского С.М.Броневскому от 13-го февраля 1818 г. из Пензы. „В память графа Сперанского". Изд. Имп. пуб. библиотеки, стр. 488.
(обратно)30
„Духовный Вестник", 1862 г., т. II, 381.
(обратно)31
В письме от 20-го ноября 1805 г. „В память графа M.М.Сперанского". Изд. Имп. пуб. библиотеки, стр. 391—393.
(обратно)32
„Сионский Вестник", 1817 г., т. VI, 148.
(обратно)33
„Духовный Вестник", 1862 г., т. II, 392.
(обратно)34
См. статью „Дух и Истина", „Сионский Вестник", т. IV, 148.
(обратно)35
В письме В.Г.Анастасевичу от 3-го сентября 1820 г. „Русский Архив", 1889 г., № 7, стр. 369.
(обратно)36
„Русский Архив", 1870 г., стр. 174-177.
(обратно)37
„Время школьного учения". Сто-одного. „Русский Вестник", 1876 г. № 10, 826.
(обратно)38
Беседы Василия Великого. „Творения", ч. IV, издания 1892 г., стр. 320.
(обратно)39
Чтения в московском обществе истории и древностей 1859 года. Кн. II, 124.
(обратно)40
Записки Роммеля. „Южный Сборник" 1859 г. № 10, стр. 47 и 48.
(обратно)41
В письме В.И.Македонцеву „Русский Архив" 1870 г. T. I, стр. 861.
(обратно)42
„О новых благородных училищах, заводимых в России". Письмо из Т. „Вестник Европы" 1802 года № 8, стр. 363.
(обратно)43
Министру народного просвещения графу Разумовскому в июне 1810 г. Васильчиков. „Семейство Разумовских". T. II, 253.
(обратно)44
„Мое определение на службу". Ф.Тимковского, „Москвитянин" 1853 г. № 20, стр. 61.
(обратно)45
А.Н.Пыпин. „Общественное движение при Александре" стр. 69.
(обратно)46
„Русская Старина" T. VII, стр. 124.
(обратно)47
Воспоминания А.П.Бутенева. „Русский Архив" 1881 г. Кн. III (1), стр. 33.
(обратно)48
О книжной торговле и любви к чтению в России. „Вестник Европы" 1802 г., № 9, стр. 59.
(обратно)49
„Русский Архив" 1891 г. № 8, 148. См. также „Русский Архив" 1875 г. Т. I, стр. 19.
(обратно)50
Дед мой помещик Сербин, „Русский Вестник" 1875 г. № 11, стр. 65-71.
(обратно)51
Князь А.П.Оболенский в своих воспоминаниях. „Хроника недавней старины из архива князя Оболенского-Нелединского-Мелецкого", стр. 91.
(обратно)52
В селе Никольском, в 50 верстах от Симбирска, принадлежащем H.А.Дурасову, содержался французом пансион для дворянских детей. („Русский Вестник" 1875 г. № 5, стр. 181).
(обратно)53
Записки С.Н.Глинки. „Русский Вестник" 1863 г. № 4, стр. 397.
(обратно)54
В статье „О легкой одежде модных красавиц XIX века". „Вестник Европы" 1802 г., № 7, апрель, стр. 250-256.
(обратно)55
В.Н.Каразин, в записке, поданной императору Александру в ноябре 1806 года.
(обратно)56
Для биографии И.П.Сахарова. „Русский Архив". 1873 г. Т. І, стр.903.
(обратно)57
„Вестник Европы" 1823 г. № 5, стр. 11—20. Барсуков, жизнь Погодина, кн. I, стр. 223.
(обратно)58
„Исторический Вестник" 1893 г. № 6, стр. 702.
(обратно)59
Обедая однажды y графа Остермана, С.Н.Глинка был поражен тем, что за столом не слыхал ни одного французского слова. (Записки Глинки. „Русский Вестник" 1865 г. № 7, стр. 264).
(обратно)60
Письма из России в Ирландию 1805-1807 гг. „Русский Архив" 1873 г. T. II, 1842.
(обратно)61
Письма из России в Ирландию 1805—1807 гг. „Русский Архив" 1873 г. T. II, стр. 1860, 1861.
(обратно)62
А.Н.Пыпин. „Общественное движение при императоре Александре" стр. 68.
(обратно)63
Записки Ф.Ф.Вигеля. „Русский Архив" 1891 г., № 8. Приложение, стр. 139
(обратно)64
Васильчиков. „Семейство Разумовских", т. II, стр. 79.
(обратно)65
Хроника недавней старины из архива князя Оболенского-Нелединского-Мелецкого, стр. 88.
(обратно)66
„Русский Архив" 1883 г., кн. III, стр. 17; 1889 г., № 3, стр. 399.
(обратно)67
Из Прошлого. „Русский Вестник" 1868. г., № 4, стр. 444.
(обратно)68
Записка о недостатках нынешнего воспитания российского дворянства. По некоторым данным записка эта принадлежит графу Витту и подана императору Николаю в 1826 году.
(обратно)69
Исследования и статьи М.И.Сухомлинова, т. II, стр. 239.
(обратно)70
В.И.Македонцеву 16-го мая 1804 г. „Русский Архив" 1870 г., т. І, стр. 838.
(обратно)71
„Мое определение в службу". И.Ф.Тимковского. „Москвитянин" 1852 г., № 17, стр. 6. См. также Воспоминания Е.Ф.Тимковского. „Киевская Старина" 1894 г., № 3.
(обратно)72
Сочинения Державина, т. VIII, стр. 59.
(обратно)73
Посмертные записки Н.И.Пирогова. „Русская Старина" 1884 г., № 11, стр. 270.
(обратно)74
„Дед мой помещик Сербин". „Русский Вестник" 1875 г., № 11, стр. 70.
(обратно)75
„Время школьного учения". „Русский Вестник" 1876 г., №10, стр. 825.
(обратно)76
Посмертные записки Н.И.Пирогова. „Русская Старина" 1884 г., № 11, стр. 270 и 271.
(обратно)77
„Сионский Вестник" 1818 г., февраль, стр. 223.
(обратно)78
В письме деду, от 20-го мая 1816 года. Письма Филарета родным, стр. 211.
(обратно)79
„Первые годы жизни до поступления в школу". „Русский Вестник", 1876 г., № 5, стр. 105.
(обратно)80
В первой части Кормчей книги, в правиле 69-м, шестого Вселенского собора, сказано: „Не достойне никому же от всех в мирстем житии живущих внутрь священного Алтаря входити, токмо же сие никако же не возбранено есть царстей власти и господству, егда хощет принести дары создавшему его Богу, по некоему преданию древних отец".
(обратно)81
В 57-м параграфе устава Благочиния было сказано: „Управа Благочиния мир и тишину православныя Святыя церкви сохраняет", и в пункте 59-м — „Управа Благочиния имеет бдение, дабы всяк в церкви Божией почтителен был, да войдут в храм Божий со благоговением и да пребывают в оном во время службы Божией со страхом, в молчании, тишине и во всяком почтении".
(обратно)82
В 1814 году, в беседе на 24 неделе по Пятидесятнице. См. Сочинения Филарета, т. I, стр. 199.
(обратно)83
„Записки Ф.Вигеля". „Русский Архив", 1891 год, № 8 Приложение, стр. 131.
(обратно)84
„О воспитании юношества", Москва, изд. 1807 г., стр. 7—9.
(обратно)85
„Мое определение в службу", Ф.Тимковского. „Москвитянин", 1852 г. № 20, стр. 62.
(обратно)86
Записка о недостатках нынешнего воспитания, поданная императору Николаю в 1826 году.
(обратно)87
„Молодик" на 1844 год. Украинский литературный сборник, издаваемый И.Бецким, стр. 226. Контракт этот вторично напечатан в „Pyсской Старине", 1873 г., № 6, стр. 858.
(обратно)88
Очерк помещичьего быта в начале нынешнего века. „Русский Архив", 1868 г., стр. 530.
(обратно)89
Домашний памятник Н.Г.Левшина. „Русская Старина" 1873 года, т. VIII, стр. 830.
(обратно)90
Сочинения кн. Вяземского, т. I, стр. XV.
(обратно)91
Домашний памятник Левшина. „Русская Старина" 1873 г., т. VIII, стр. 830-833.
(обратно)92
Записки Вигеля. „Русский Архив", 1891 г., № 6. Приложение, стр. 40; № 8, стр. 132.
(обратно)93
Сочинения кн. Вяземского, т. 1, стр. XV.—См. также статью; „Из бесед графа Блудова". „Русские Ведомости" 1864 г., № 117.
(обратно)94
Записки Н.И.Греча, стр. 128 и 135.
(обратно)95
Записки Муравьева. „Русский Архив" 1386 г., № 2, стр. 80.
(обратно)96
Воспоминания А.П.Бутенева. „Русский Архив" 1881 года, кн. ІІI, стр. 15.
(обратно)97
Домашний памятник Н.Г.Левшина. „Русская Старина" 1873 г., т. VIII, стр. 831 и 832.
(обратно)98
Записки M.А.Бестужева. „Русская Старина", т. 32, стр. 603.
(обратно)99
Сочинения кн. Вяземского, т. I, стр. XIV и XV.
(обратно)100
В своей автобиографии, писанной в 1805 г. „Арх. кн. Воронцова", кн. V, стр. 12.
(обратно)101
„Друг Юношества", 1808 г., № 11, стр. 70.
(обратно)102
В записке о недостатках нынешнего воспитания, поданной императору Николаю в 1826 году.
(обратно)103
Исследования и статьи М.И.Сухомлинова, т. II, 238, „Друг Юношества" 1810 г. № 10. Письмо гр. Ростопчина графу Воронцову, 23 августа 1803 г. „Русский Архив" 1887 г., № 2, 176.
(обратно)104
Сочинения гр. Ростопчина, издание Смирдина, 1853 г., стр. 8.
(обратно)105
В одной Москве „Мысли в слух" разошлись более чем в семи тысячах экземпляров. См. Описание жизни сановников, управлявших министерств. иностр. дел Терщенки, изд. 1837 г., ч. II, 218.
(обратно)106
Сборник постановлений по министерству народного просвещения, т. I, 632.
(обратно)107
Васильчиков. „Семейство Разумовских", т. II, стр. 88.
(обратно)108
Сборник постановлений по министерству народного просвещения, т. I, 696.
(обратно)109
„Русский Вестник" 1811 года, часть XV, № 7, стр. 119—121.
(обратно)110
Н.Барсуков „Жизнь М.П.Погодина", кн. I, 88.
(обратно)111
„Семейство Разумовских". T. II, 69.
(обратно)112
Записки Ф.Вигеля. „Русский Архив" 1891 г., № 8, 148.
(обратно)113
„Православное Обозрение" 1862 г. T. VII, № 1, Заметки, стр. 29.
(обратно)114
Из записок графини Эделинг. „Русский Арх." 1887г., №2, стр. 200.
(обратно)115
Васильчиков. „Семейство Разумовских". T. II, стр. 68.
(обратно)116
„Друг Юношества" 1809 г, № 1.
(обратно)117
„Сионский Вестник" 1816 г., февраль, стр. 212, 1817 г., ч. VI, октябрь, стр. 54 и 55.
(обратно)118
Для биографии Сахарова. „Русский Архив" 1873 г., т. I, 902.
(обратно)119
A.Галахов. „История русской словесности древней и новой", изд. 1880 г., т. II, стр. 163.
(обратно)120
Записки Роммеля. „Южный Сборник" 1859 г., № 10, стр. 47.
(обратно)121
Во всеподданнейшей записке, поданной императору Александру I в ноябре 1806 года.
(обратно)122
Когда назначенный в 1803 году обер-прокурором Св.Синода князь А.Н.Голицын пришел первый раз в заседание, то слушались такие дела, „которые во всяком случае могли служить богатою конвою для самой соблазнительной хроники. На тот раз предложены были процессы о прелюбодеяниях во всех их подробностях". — (Рассказы кн. A.Н.Голицына, „Русская Старина" 1884 г. 1, стр. 127).
(обратно)123
Журнал путешествия из Москвы в Нижний. „Чтения" 1870 г. Кн. I стр. 42
(обратно)124
Отношение генерал-прокурора Обольянинова обер-прокурору Синода Д.И.Хвостову 2 июня 1800 г.
(обратно)125
Тоже, 17 мая 1800 г.
(обратно)126
В своих записках. „Русская Старина" 1880 г. Т. 27, № 1, стр. 9.
(обратно)127
„Из прошлого" П. М. „Русский Вестник" 1868 г. № 4, стр. 451.
(обратно)128
От 31 октября 1802 г. Препровождая этот рапорт митрополиту Амвросию, министр юстиции Г.Р.Державин сообщил ему высочайшую волю, „относительно умеренного обхождения с духовными чинами".
(обратно)129
Своеволие светских властей относительно наказаний духовных лиц не всегда проходило даром. „Александр, протопоп в Володимире Дмитриевского собора, — записал кн.И.М.Долгоруков, — человек, от которого я сильно пострадал в моей жизни. Это тот самый поп, который зашел однажды ко жне на бал мертвецки пьян и которого я велел посадить на съезжу, пока вытрезвится, потому что архиерея в то время в городе не было. Сие пустое обстоятельство, не заслуживающее ничьего внимания, так горячо было принято у двора, потому что поп Александр был в родстве с сильным и знаменитым Сперанским, что наряжено следствие, которое рассматриваемо было в Сенате Московском. В оном приговорили отдать меня под суд за оскорбление святыни; но при докладе о сем государю, ему угодно было без суда написать в конфирмации, чтобы меня отставить. И так история негодного этого попа, которого, ни мало не оскорбляя религию, всегда назову таким по его худому поведению, будет мне так же, как и он сам, во всю жизнь памятна". (Капище моего сердца. „Русский Архив" 1890 г. № 1. Приложение, стр. 10 и 11).
(обратно)130
Если секретарь был с характером и ему удавалось приобрести доверенность архиерея, то он пользовался всеми благами мира. В начале двадцатых годов секретарь Черниговской консистории, Васниевский, нажил себе прекрасное состояние, приобрел земли и крестьян. Говорили, что он имел секретную лавку, в которой продавались подарки искателей его милости. (Воспоминания Иосифа Самчевского. „Киевская Старина" 1894 г., № 1, стр. 24 и 25).
(обратно)131
Воспоминания И.Самчевского. „Киевская Старина" 1891 г., № 1, стр. 24 и 25.
(обратно)132
Архив Синода.
(обратно)133
В записке, представленной при всеподданнейшем письме от 23 ноября 1826 года.
(обратно)134
По этой расценке родители платили и за своекоштных. Отец Фотия платил за него в Новгородскую семинарию шесть рублей за помещение, пищу и учение. (Автобиография. „Русская Старина" 1894 г. № 4, стр. 100).
(обратно)135
Воспоминания семинариста. „Православное Обозрение" 1879 года № 9, стр. 118 и 119.
(обратно)136
Из прошлого. „Русский Вестник" 1868 г. № 4, стр. 447.
(обратно)137
Автобиография Фотия. „Русская Старина" 1394 г. № 4, стр. 104.
(обратно)138
Чтения в обществе истории и древностей 1866 г. кн. I. „Смесь", стр. 71 и 72.
(обратно)139
В своих записках. „Русская Старина" 1880 г. т. XXVII, № 1, стр. 15.
(обратно)140
Пали — это удар из всей силы линейкой по концам всех пяти пальцев руки, сложенных вместе.
(обратно)141
„Нижегородские губернские ведомости" 1849 г. Из прошлого. „Русский Вестник" 1868 г. № 4, стр. 450.
(обратно)142
В своих воспоминаниях. „Православное Обозрение" 1879 г. № 9.
(обратно)143
В записке, представленной при всеподданнейшем письме от 23-го ноября 1826 года.
(обратно)144
Воспоминания П.С.Казанского „Православное Обозрение" 1879 г. № 9, стр. 104 и 105.
(обратно)145
Дневник A.В.Горского с примечанием С.Смирнова, изд. 1885 г.. стр. 88. Часть этого дневника была напечатана в „Православном Обозрении" 1868 г., под заглавием: „Из воспоминаний покойного Филарета, митрополита московского, записанных А.Г.". — To же самое было напечатано в „Русском Архиве" 1888 г. № 12, под заглавием: „Рассказы митрополита Филарета, записанные A.В.Горским".
(обратно)146
„Православное Обозрение" 1879 г. № 9, стр. 107 и 108.
(обратно)147
Протоиерей Г.П.Павский. „Русская Старина" 1888 г., т. 27, № 1 стр. 115.
(обратно)148
За молебен с акафистом платилось 10 коп., без акафиста 5 коп. По сделанному в 1824 г. в канцелярии Синода расчислению доходов, приходилось средним числом в год на целый причт 10 руб. 84 к. („Русский Вестник" 1876 г. № 5, стр. 110. „Правосл. Собеседник" 1894 г. № 1, стр. 30)
(обратно)149
Первые годы жизни до поступления в школу. „Русский Вестник" 1876 г. № 5, стр. 110.
(обратно)150
См. Чтения в Московском обществе любителей духов. просвещения 1870 г. кн. XII, 320.
(обратно)151
В конце апреля или начале мая 1800 г. Письма к родным, стр. 4.
(обратно)152
Предписавший архиереям принять меры к искоренению пьянства в духовенстве.
(обратно)153
См. „Русскую Старину", т. 28, стр. 37—41.
(обратно)154
Рассказы из недавней старины И.Е.Листовского. „Русский Архив" 1884 г. № 2, стр. 290.
(обратно)155
Донесение о неблагочинии. „Русская Старина" 1878 г., т. 22, № 7, стр. 476—479.
(обратно)156
Первые годы жизни до поступления в школу. „Русский Вестник" 1876 г. № 5, стр. 110.
(обратно)157
Воспоминания семинариста П.С.Казанского. „Православное Обозрение" 1879 г., № 9, стр. 109.
(обратно)158
Первые годы жизни до вступления в школу. „Русский Вестник" 1876 г., № 5, стр. 111.
(обратно)159
В письме от 27 января 1819 г. Рукопись Императорской публичной библиотеки. О. III, № 73.
(обратно)160
Из воспоминаний Филарета. „Православное Обозрение" 1868 г., № 8, стр. 617.
(обратно)161
To же, стр. 518.
(обратно)162
„Духовный Вестник" 1862 г., т. II, стр. 374.
(обратно)163
Мое определение в службу И.Ф.Тимковского. „Москвитянин" 1852 г., № 18, стр. 6. Статья эта перепечатана в „Русском Архиве" 1874 г., тетр. 6, стр. 1378.
(обратно)164
„Вестник Европы" 1878 г., т. VI, стр. 35.
(обратно)165
Протопоп В.М.Протопопов переводил его для типографщика Селивановского. „Я люблю, — писал при этом Протопопов, — Жан-Жака (Руссо) не так, как антагониста религии, а как умеющего трогать душу и разговаривать с сердцем чувствительного писателя". („Духовный Вестник" 1862 г., т. III, стр. 373).
(обратно)166
Еще в 1787 году митрополит Шатов произнес в Успенском соборе слово на день Благовещения. Он имел целью установить истинное понятие о различии между царствием Божиим и царствием земным. Слово же его, произнесенное в Чудовом монастыре, говорит о рождении духовном. Здесь Платов старался поставить внутреннее возрождение христианина необходимым условием явления в вас и среди нас царствия Божия и царствия Христова. Митрополит Амвросий проповедовал об истинном блаженстве, проистекающем от соединения с Богом.
(обратно)167
Из воспоминаний Филарета, записанных А.В.Горским. „Православное Обозрение" 1868 г., № 8, стр. 518.
(обратно)168
„Вера и Разум" 1884 г., декабрь, кн. II, стр. 762.
(обратно)169
Имя французского епископа, участвовавшего в революции.
(обратно)170
Сперанскому 16 ноября 1804 г. „В память M.М.Сперанского". Изд. Императорской публичной библиотеки, стр. 381.
(обратно)171
Беседы митрополита Михаила, т. IV, 427.
(обратно)172
A.Н.Пыпин. — Российское библейское общество. — «Вестник Европы» 1868 г. № 11, стр. 235.
(обратно)173
В своих посмертных записках. «Русская Старина» 1884 г. № 12, стр. 472 и 473.
(обратно)174
Вот образчик юмора «Неудивительно, что y Бога не всякий без разбора будет в раю и что для тех, которые не хотели быть Ему y себя царем, есть особливый смирительный Мальмезон (т. I, 50).
Приглашая грешника к покаянию, автор дает ему такие советы: «Не теряй времени, сделай последнее усилие, подвигни твое произволение хотя малейше на страну спасения и мудрости, чтоб потому можно было Христу Спасителю приняться излечить застарелую «неизлечимую» твою болезнь.— Ты сделай сие, буде хочешь, по-философски, только в другом виде. Подвигнись, хотя через силу, обернуться ко Христу так, как умирающий Вольтер употребил последнее усилие отворотиться от священника и так умер. Мы тебя не обязываем слишком к строгому покаянию русскому во всей строгости слова. Пусть на первый раз покается по-немецки, кто грешил по-русски. Пока до времени ligneus esto (т. I, 54).
(обратно)175
От 5 сентября 1804 года «В память графа Сперанского». Издание Императ. публич. библиотеки, стр. 371 и 372.
(обратно)176
Письмо Феофилакта Сперанскому от 20 сентября 1804 г. Там же, стр. 370.
(обратно)177
Записки квакера «Русская Старина» 1874 г. № 1, стр. 18.
(обратно)178
Записки квакера о пребывании в России, „Русская Старина" 1874 г., № 1, стр. 14.
(обратно)179
Собственноручная приписка Лабзина в письме его к Новосильцову в сентябре 1806 г.
(обратно)180
„Вечерняя Заря" — ежемесячное издание, заключающее в себе лучшие места из древних и новейших писателей и проч. Издали: Антоновский, Максимович, Давыдовский и проч.
(обратно)181
Один из крайних энциклопедистов.
(обратно)182
„Сионский Вестник" 1818 г. февраль, стр. 223.
(обратно)183
Приписка Лабзина в письме его в Новосильцову.
(обратно)184
„Сионский Вестник" 1806 г. ч. I, январь, 22—23.
(обратно)185
„Сионский Вестник" 1806 г. ч. I, 22.
(обратно)186
„Сионский Вестник" 1806 г. стр.12.
(обратно)187
„Сионский Вестник" 1806 г. ч. I. стр. 23.
(обратно)188
Собственноручная приписка Лабзина в письме к Новосильцову.
(обратно)189
Так представлены были императрице оды от Московского университета (М.Хераскова, Зыбелина, Роста), от благородного университетского пансиона (Н.Сипягина), от славяно-греко-латинской академии и от Перервинской семинарии (см. ст. Н.Безсонова, „Русский Архив" 1866 г. стр. 820).
(обратно)190
„Торжественная песнь Екатерине II императрице и самодержице Всероссийской на вожделеннейшее Ее Величества прибытие в столичный град Москву из предприятого путешествия в приобретенную, в благословенное ее царствование, Тавриду и другие области, во всерадостный день восшествия на всероссийский императорский престол, совершающий двадцатипятилетие преславного ее царствования".
(обратно)191
Моя жизнь и художественно-археологические труды. Рассказы академика Ф.Г.Солнцева. „Русская Старина" 1876 г. № 1, стр. 118.
(обратно)192
„Вестник Европы" 1867 г. т. III, 248.
(обратно)193
Из записок M.А.Дмитриева. „Русский Архив" 1866 г. № 6, стр. 837.
(обратно)194
„Встреча с мартинистами" С.Аксакова. „Русская Беседа" 1859 г. т. I, стр. 52.
(обратно)195
Воспомин. о пережитом и перечувствованном А.П.Беляева. „Pyсская Старина" 1880 г. т. XXIX, № 9, стр. 4.
(обратно)196
Записки Д.П.Рунича. „Русское Обозрение" 1890 г.№ 8, стр. 246.
(обратно)197
Записки Д.П.Рунича. „Русское Обозрение" 1890 г. № 9 стр. 246.
(обратно)198
Записки Ф.Г.Солнцева. „Русская Старина" 1876 г. № 1, стр. 118.
(обратно)199
В речи 1-го сентября 1803 года. — „Московские Bедоmoctи" 1803 г. № 73.
(обратно)200
Записки академика Витберга. „Русская Старина", т. V, 521, 548.
(обратно)201
В 1803 году он перевел из сочинений Эккартсгаузена: „Отрывки"; „Путешествие молодого Костиса от востока к полудню", выдержавшее три издания; „Наставление мудрого испытанному другу", выдержавшее два издания. В 1804 году — „Ночи или беседы мудрого с другом"; „Облако над святилищем или нечто такое, о чем гордая философия и грезить не смеет"; „Ключ в таинствам натуры"; „Важнейшие иероглифы для человеческого сердца"; „Дифирамб на бессмертие души", соч. Делиля. В 1805 году он приступил к переводу сочинений Штиллинга и прежде всего появились: „Краткие нравоучительные правила на каждый день для друзей христианства" и „Приключения по смерти".
(обратно)202
„Сионский Вестник" 1817 г., т. VI, стр. 173.
(обратно)203
„Сионский Вестник" 1818 г., февраль, 224, 225.
(обратно)204
Письмо Лабзина Новосильцову без года и числа.
(обратно)205
„Сионский Вестник" 1818 г., кн. II, февраль, стр. 209—211.
(обратно)206
„Сионский Вестник" 1818 г., кн. II, февраль, стр. 219.
(обратно)207
Письмо А.Ф.Лабзина H.Н.Новосильцову без года и числа.
(обратно)208
Записка Лабзина, посланная в канцелярию H.Н.Новосильцова для отправления, куда следует, в марте 1806 года.
(обратно)209
Полное Собрание законов, т. XXVII, № 20139.
(обратно)210
Записка Лабзина Новосильцову, поданная в марте 1806 года.
(обратно)211
„Сионский Вестник" на 1806 г. месяц январь, стр. 6 и 7.
(обратно)212
„Сионский Вестник" на 1806 г. январь, стр. 10.
(обратно)213
В приписке на письме к Новосильцову.
(обратно)214
Лабзин не выставлял своего имени на книжках журнала, а под статьями подписывался Феопемет Мисаилов. Имя свое, по его словам, он скрывал „для того, чтобы суждение о журнале могло быть беспристрастнее, ибо когда мы знаем автора, то судим обыкновенно о сочинении его по нашему о нем самом понятию, и одобряем или охуждаем оное потому, как расположены к сочинителю. В деле же сем, по таковому побуждению предпринятом, издатель искал, сколько можно, остаться самому равнодушным. (Из записки А.Ф.Лабзина H.Н.Новосильцову в марте 1806 г.).
(обратно)215
В письме к неизвестному 7-го июля 1806 г. „Москвитянин" 1848 г. IV, № 8, 173.
(обратно)216
Из записок Стурдзы. „Русская Старина" 1876 г. № 2, 269.
(обратно)217
От 19-го июня 1806 г. „Русский Арх." 1870 года.
(обратно)218
Записки архимандрита Фотия. „Русская Старина" 1894 г. №9 стр. 216.
(обратно)219
Фотий сознается, что Лабзин „писал чисто и ясно сочинял".
(обратно)220
Записки Д.П.Рунича „Русское Обозрение" 1890 г. № 9, 245.
(обратно)221
„Сионский Вестник" 1806 г. Март, стр. 345.
(обратно)222
Графу Завадовскому от 31 марта 1806 г. за № 87.
(обратно)223
Письмо графа П.Завадовского Новосильцову 20-го апреля 1806 г. № 186 Арх. С-Петербургского университета, дела цензурные № 19
(обратно)224
Отношение Амвросия в С.-Петербургский цензурный комитет 31-го марта 1806 г № 57.
(обратно)225
Предписание Новосильцова цензурному комитету 12-го апреля. № 96.
(обратно)226
„Сионский Вестник" 1806 г., май, стр. 234.
(обратно)227
Приписка на письме к Новосильцову.
(обратно)228
„Москвитянин" 1848 г ч. IV, № 8, 137.
(обратно)229
„Из прошлого". „Русский Вестник" 1868 г, № 4, стр. 479, 480.
(обратно)230
„Кн. Александр Николаевич Голицын и его время". „Исторический Вестник" 1882 г., № 4, стр. 9
(обратно)231
Костромскому епископу Евгению 12-го ноября 1803 г. „В память Сперанского". Издание Императорской Публичной библиотеки, стр. 353.
(обратно)232
Собственноручная всеподданнейшая записка князя Голицына 1816 г., без месяца и числа.
(обратно)233
„Сионский Вестник" 1806 г., № 6, стр. 311.
(обратно)234
Искусный врач и астроном, живший в XVI веке в бывший в большом уважении y французских королей — Генриха II и Карла IX.
(обратно)235
„Новые рассуждения, почерпнутые из врожденной прозорливости человека об оракулах, сибиллах и пророках, и особенно о Нострадамусе и его предсказаниях".
(обратно)236
«Сионский Вестник», 1806 г., ч. III, июль, стр. 115—117
(обратно)237
Предписание Новосильцова цензурному комитету 24-го августа 1806 г.
(обратно)238
В письме от 20-го августа 1806 года.
(обратно)239
„Сионский Вестник", 1806 года. Ч. III, стр. 233—235. „И сие не удивительно, говорил он, ибо для чувственного человека, самостью одною водимого и который не находит нужным переменить свой образ мыслей, не только деяния, все св. писание будет не что иное, как только сатира на него и, следовательно, безвкусная книга, почему оная и не читается" (намек на кн. Голицына).
(обратно)240
„Встреча с мартинистами". С.Аксакова. „Русская Беседа", 1859 г., т. I.
(обратно)241
В своих записках. „Русское Обозрение", 1890 г. № 9, стр. 243.
(обратно)242
Этот Иов, бывший также в секте Татариновой, 18 мая 1818 г. лишился ума и умер сумасшедшим.
(обратно)243
„Воспоминания Беляева". „Русская Старина". 1880 г. № 9, стр. 4; „Встреча с мартинистами". С.Аксакова „Русская Беседа", 1859 г., т. I, 51.
(обратно)244
„Русское Обозрениеи, 1890 г., № 9, стр. 244.
(обратно)245
„Встреча с мартинистами". С.Аксакова, „Русская Беседа", 1859 г., т. I, стр. 55—59.
(обратно)246
В письме от 23 мая 1816 г. Троицын день, 10 часов вечера.
(обратно)247
«Чтения из истории русской церкви за время царствования императора Александра I». П.Знаменского, стр. 179.
(обратно)248
В 1810 г., в своей проповеди на день Благовещения. См. «Сочинения Филарета», т, изд. 1873 г., т. I, стр. 134.
(обратно)249
«Петербургский период проповеднической деятельности Филарета». «Вера и разум», 1884 г., июль, стр. 23.
(обратно)250
Из воспоминаний митрополита Филарета, записанных A.В.Горским. „Православное Обозрение" 1868 г. № 8, стр 516.
(обратно)251
Мистические творения эти написаны в период времени с 1809—1812 г. и изданы в 1815 году с разрешения цензора И.Тимковского.
(обратно)252
«История русской словесности древней и новой», соч. А.Галахова, т. II, стр. 454.
(обратно)253
Иннокентий на 26 году от роду был уже архимандритом и инспектором С-Петербургской духовной академии при ректоре Филарете.
(обратно)254
«Обзор рус. духов. литературы Филарета Черниговского». Издание 1884 г., ч. II, стр. 425.
(обратно)255
Из воспоминаний Филарета. „Православное Обозрение" 1868 г. № 8, стр. 516.
(обратно)256
«Русская Старина» 1877 г. т. XX, стр. 603.
(обратно)257
В 1818 году. „Чтения из истории русской церкви за время царствования императора Александра". П.Знаменского, стр. 26.
(обратно)258
Квакеру Греллэ-де-Мобилье в 1819 г. Записки квакера «Русская Старина» 1874 Г. № 1, стр. 18.
(обратно)259
От 2-го декабря 1812 г. Письма Филарета родным.
(обратно)260
Записки квакера «Русская Старина», 1874 г. № 1, стр. 22.
(обратно)261
Сочинения Филарета, Издан. 1873 г. т. I, 182.
(обратно)262
В письме отцу от 2-го декабря 1812 г.
(обратно)263
Беседу о Молитве Господней. См. Сочинения Филарета изд. 1873 г. т. I, стр. 21.
(обратно)264
Там же, стр. 25.
(обратно)265
«История перевода Библии на русский язык». И.Чистовича. — «Христианское Чтение» 1872 г., № 11, 405.
(обратно)266
Результатом свидания было то, что сын Ю.Штиллинга был принят в русскую службу с чином коллежского асессора. «Историческ. Вестн.», 1882 г. № 4, стр. 12.
(обратно)267
«Русская Старина» 1877 г., т. XX, стр. 603.
(обратно)268
Письма Филарета к родным, стр. 200.
(обратно)269
В торжественном собрании конференции духовной академии. „См. Историю С-Петербургской духовной академии" Чистовича, стр. 231.
(обратно)270
От 27 октября 1817 г. из Москвы.
(обратно)271
„Душеполезное Чтение" 1869 г. Ч. 1 (март) стр. 114.
(обратно)272
Высочайшему имени были посвящены переводы: „Христианской философии" дю-Туа (1815—1817 г.) и „Благоговейнейших размышлений о жизни и страданиях Христа Спасителя" Таулера (1823 г.); последний перевод был издан на счет государя.
(обратно)273
В письме от 28 мая 1816 года, Троицын день, 10 часов вечера.
(обратно)274
В собственноручном всеподданнейшем письме 1816 года без месяца и числа.
(обратно)275
Замечания эти, как мы видели, относились исключительно до №№ 6 и 7 „Сионского Вестника" 1806 года.
(обратно)276
Записка Лабзина, приложенная при письме его кн.Голицыну от 3 января 1817 года.
(обратно)277
Объявление было напечатано в морской типографии.
(обратно)278
Письма H.М.Карамзина к И.И.Дмитриеву, стр. 212.
(обратно)279
„Русский Архив" 1866 г. № 6, стр. 834.
(обратно)280
„Духовный Вестник" 1862 г. T. II, стр. 404.
(обратно)281
История русской словесности А.Д.Галахова. T. II, стр. 126.
(обратно)282
Чекалевский был назначен вице-президентом из конференц-секретарей.
(обратно)283
Записка Оленина, приложенная к письму его к кн.Голицыну от 16 августа 1817 г. № 32, Арх. Акад.Художеств, дело 1817 г. №43.
(обратно)284
Письмо кн.Голицына Оленину 11 сентября 1817 г. Там же.
(обратно)285
В письме от 14 декабря 1817 г. Попов был директором департамента духовных дел и человек весьма близкий к кн.A.Н.Голицыну.
(обратно)286
Морскому министру.
(обратно)287
В собственноручном письме, от 30 декабря 1817 года.
(обратно)288
„Русский Архив» 1866 г. № 6, стр. 835
(обратно)289
Посвящение это, вызвавшее впоследствии порицание, было следующего содержания: „Господу Иисусу Христу, бывшему, сущему и грядущему, вечному возродителю и обновителю всяческих о Его же имени, всяко колено поклонится, небесных, земных и преисподних, прах и пепел, чающий обновления своего, со всеми купно припадая и поклоняяся, в достоинстве своем, с трепетным благоговением сей труд свой и самого себя посвятить дерзает".
(обратно)290
„Сионский Вестник" 1817 г. апрель, стр. 37. С такою точно целью была написана и статья „О невидимом".
(обратно)291
„Сионский Вестник". T. II, стр. 279.
(обратно)292
„Сионский Вестник", 1817 г., октябрь, стр. 4.
(обратно)293
„Сионский Вестник" 1817 г., октябрь, стр. 19.
(обратно)294
Там же, стр. 33.
(обратно)295
Там же, стр. 35.
(обратно)296
„Сионский Вестник", стр. 417 и 422.
(обратно)297
„Сионский Вестник" 1817 г., октябрь.
(обратно)298
„Сионский Вестник" 1817 г., декабрь.
(обратно)299
„Сионский Вестник" 1818 г. июнь, стр. 305.
(обратно)300
То же, январь, стр. 4.
(обратно)301
О чтении духовных книг, „Сионский Вестник" 1817 г., август.
(обратно)302
Дух и Истина, „Сионский Вестник" 1817 г., сентябрь.
(обратно)303
Там же, октябрь, стр. 66—67; декабрь, стр. 312, 316.
(обратно)304
О союзе Бога с человеком, „Сионский Вестник" 1818 г. №1.
(обратно)305
Издавший в 1803 г. книгу под заглавием: „О внешнем богослужении и наружных действиях человека-христианина". См. „Русскую Старину" 1894 г. № 10-й стр. 122.
(обратно)306
Граф M.М.Сперанский, И.Катетова. „Православный Собеседник" 1889 г. № 6, стр. 307.
(обратно)307
В письме от 5 декабря 1813 г. Письма Филарета, стр. 181.
(обратно)308
Слово в неделю 24-ю по Пятидесятнице, говоренное в 1814 году на текст: „и рече Иисус, кто есть коснувыйся Мне".
(обратно)309
Сочинения Филарета, митрополита московского. T. I., изд. 1873 года, стр. 79.
(обратно)310
Слово на освящение домовой церкви графа A.К.Разумовского 30-го июля 1816 г. Соч. Филарета, стр. 227 и 228.
(обратно)311
Слово на день Введения во храм Пресвятой Богородицы, говоренное 21-го ноября 1814 г. в домовой церкви князя A.Н.Голицына. Там же, стр. 211.
(обратно)312
В письме Столыпину от 26-го июня 1818 г. „Русский Архив" 1871 г. T. I, 437.
(обратно)313
«Библиографические записки». Т. III, 532.
(обратно)314
В письме Столыпину от 22 февраля 1818 года из Пензы. „Русский Архив" 1870 г., № 6, стр. 1151.
(обратно)315
В письме от 17 августа 1816 года. „Чтения истории и древностей" 1858 г., кн. IV, стр. 189. Смирнов был губернский секретарь, переводчик Императорской медико-хирургической академии.
(обратно)316
Таковыми, по его мнению, были: 1)„Победная повесть", 2)„Агафоклес или письма из Рима и Греции", соч. г-жи Пиклер, 3) „Наука чисел", соч. Эккартгаузена, 4) „Приключения по смерти", соч. Штиллинга, 5) „Угроз Световостоков", 6) „О истлении и сожжении всех вещей", 7) „Мученики", соч. Шатобриана. В ней сказано, что человек, не могший обуздать возродившееся насилие, выдумал богов, и таким образом изобретена вера. „Тираны (т. е. все вообще власти) оною воспользовались. Человек, забыв происхождение Богов, вскоре им поверил".
(обратно)317
Из воспоминаний покойного Филарета, митрополита московского „Православное Обозрение" 1868 г., № 8, стр. 523.
(обратно)318
„Архив Синода". Отделение рукописей № 435/323
(обратно)319
„Архив Синода". Отдел рукописей № 284/373
(обратно)320
Обвинение это, как мы выше видели, не вполне справедливо.
(обратно)321
См. выше примечание, стр. 56
(обратно)322
Акростих не заключал в себе ничего противного религии и даже ничего замечательного. Критик упоминает о нем вероятно потому, что Хвостова считалась сектанткою и ученицею Лабзина (см. Записки Фотия. „Русский Архив" 1873 г, т. II, 1441). Печатая акростих, Лабзин прибавил, что „стихи сии помещаются единственно потому, что присланы из тюрьмы". Вот они:
Храни Господь в твоей деснице
Всаженну в сердце ей любовь,
Отраду сирым и вдовице,
Страдальцу помощь и покров,
Терпящим бедство — услажденье!
О Боже, зрящий с небеси,
В сей жизни дай ей утешенье,
A в будущей — ее спаси!
(обратно)323
В статье „Иоанн Бюниан", на стр. 111 и 112, было напечатано: „Я повергся перед Господом и вопиял: Господи! Сатана говорит, будто милости Твоей в крови Христовой не довольно для спасения моего. Верить ли ему, Господи! Я верую, что Ты можешь и хощешь спасти меня!" Надо очень большую натяжку, чтобы сказать, что автор называет Павла сатаною.
(обратно)324
Вот эта страница: „Образ есть любостяжание или сребролюбие, которое одно хочет иметь все, и ежели бы оно имело мир и небо, то захотело бы обладать и адом; оно желает более, нежели потребно ему для временной жизни, и не имеет в себе никакой веры к Богу. Оно не оставляет человека в покое и есть собственный враг свой, ибо оно наполняет себя болезнью и беспокойством и помрачает y человека смысл, так что он не может познавать, что все происходит от руки Божией. Оно потемняет человеку свет жизни его и снедает тело его, лишает его божественных чувств и славы, и приносит ему временную и вечную смерть. Оно влечет темное существо в благородный образ человека, делает его из ангела яростным диаволом. Оно причиняет войну и ссоры; оно устрояет земли и царства и паки разоряет их, и гонит человека во всегдашний труд и беспокойство. Оно есть сердце и воля диавола; без него не было бы никакой муки".
Нам кажется, что и здесь трудно видеть посягательство на священность земной власти.
(обратно)325
О жизни и трудах иеромонаха Аникиты, в мире князя Сергия Александровича Ширинского-Шихматова. Спб., изд. 1838 г., стр. 3.
(обратно)326
Таковы: „Ночь на гробах", „Песнь сотворившему вся", „Иисус в Ветхом и Новом Заветах" или „Ночи y Креста", „Псалтирь десятострунный" и другие.
(обратно)327
В ноябре 1827 года князь Шихматов вышел в отставку, в начале 1828 года поселился y Фотия в Юрьевском монастыре и 25 марта 1830 года постригся в монашество с наречением Аникитою.
(обратно)328
Рукопись Императорской публичной библиотеки. Т. III, № 45, лист 96.
(обратно)329
Рукопись эта по другому списку и в измененном виде напечатана в „Чтениях" под заглавием „Записка о пропущенных цензурою книгах, наполненных богохульством". „Чтения" 1870 г., кн. I, стр. 184 (смесь)
(обратно)330
О судьбе православной церкви русской в царствование императора Александра I. (Из записок Стурдзы. „Русская Старина" 1876 г, № 2. стр. 275).
(обратно)331
Архив Св. Синода.
(обратно)332
„Усматривая, — писал князь Голицын комиссии духовных училищ, — в сем сочинении некоторые материи, содержащие в себе нередко мысли и мнения довольно необыкновенные и смелые, я долгом почел потребовать от цензора, статского советника Тимковского, дабы он прежде выпуска в печать показывал мне самому выходящие книжки сего журнала".
(обратно)333
Отношение министра духовных дел и народного просвещения с.-петербургскому военному генерал-губернатору 27 июня 1818 г, № 1365.
(обратно)334
Вообще, по мнению тогдашних издателей книг религиозного содержания, передача рукописи в духовную цензуру была равносильна ее уничтожению. „В духовную цензуру не отдам, — писал И.Лопухин графу A.К.Разумовскому, — для того, что это бы все равно было, как в огонь манускрипт бросить. Она, между вами сказать, только прилежно смотрит, чтоб как-нибудь не пробился благий дух в сердце. Ныне уже за что хватилась: не только того не пропускать, что по их недостаточному, превратному или мрачному понятию о истинной духовности кажется противным, но что-де бы и можно и хорошо, да светским писано, а это-де бы нам писать, так это нам бесчестье — не пропустим. Вот какая жалость!" (Письмо Лопухина от 22 августа 1812 года).
(обратно)335
Из письма А.Ф.Лабзина 3.Я.Карнееву 10 июля 1818 г.
(обратно)336
Князю Голицыну от 17 июля 1818 г.
(обратно)337
Письмо князя Голицына Лабзину 12 августа 1818 г.
(обратно)338
От 27 августа 1818 г.
(обратно)339
В скобках заключены как здесь, так и ниже, слова и выражения, зачеркнутые князем Голицыным в рукописном объявлении, ему представленном.
(обратно)340
В печатном объявлении сказано: „За сим принося чувствительнейшую и т. д.".
(обратно)341
Письмо Невзорова князю Голицыну 9 декабря 1818 года. „Рукописи Императ. публичной библиотеки". Ф. III, № 73.
(обратно)342
„Духовный Вестник" 1862 г., т. II, 404.
(обратно)343
„Православное Обозрение" 1872 г., № 6. См. ст. Смирнова „Русская литература о сочинениях с именем св. Дионисия Ареопагита".
(обратно)344
„Сионский Вестник" 1817 г., ч. VI, стр. 61-67.
(обратно)345
Российское библейское общество. A.Н.Пыпина. „Вестн. Европы" 1868 г., № 11, стр. 237 и 241.
(обратно)346
Дневник A. В. Горского. Издание 1885 г., стр. 106.
(обратно)347
„Русский Архив" 1866 г., № 6, стр. 841.
(обратно)348
Записки Витберга. „Русская Старина" 1872 г., т. V, 521 и 522.
(обратно)349
В письме от 20 февраля 1819 г. Архив академии художеств, дело № 43.
(обратно)350
Впоследствии и именно 31-го июля 1822 года Лабзину было пожаловано по 3.000 рублей в год столовых денег, сверх получаемых им окладов. (Там же, дело № 42).
(обратно)351
Всеподданнейшая записка гр.Милорадовича 22-го сентября 1822 г. „Русская Старина". 1885 г. № 11, стр. 384.
(обратно)352
В письме от „ " декабря 1822 г.
(обратно)353
В письме кн. Голицыну от „ " декабря 1822 г. из Сенгилея.
(обратно)354
Там же.
(обратно)355
Графу Милорадовичу 21 сентября 1822 г. «Русская Старина» 1875 г. № 10, стр. 293, 1885 г., № 11, 382.
(обратно)356
Записка от 22 сентября 1822 г. „Русская Старина" 1885 г. № 11, 383.
(обратно)357
В письме кн.Голицыну в декабре 1822 из Сенгилея.
(обратно)358
Высочайшее повеление кн.Голицыну 20 октября. — Всеподданнейший рапорт кн.Голицына 10 ноября 1822 г. („Русская Старина" 1885 г. № 11, стр. 385 и 386). В письме кн.Голицыну от 7 ноября A.Н.Оленин писал: „Гнев государя императора праведен, ибо государь справедлив! — Мне, конечно, следовало прервав неуместную речь Лабзина, вместо обращения оной в шутку, написать его слова в журнал и донести вашему сиятельству; но я не решился этого сделать — истинно из единого сострадания к ближнему. — Я подумал: «Лабзин наказан Богом тяжкой падучей болезнью! У него нет пристанища без службы, и я составлю несчастье того человека, который меня почитает своим врагом. — Нет лучше и этот крест я понесу на себе и не осрамлю академии художеств оглашением наглости, оказанной ее вице президентом».
(обратно)359
Высочайшее повеление кн.Голицыну 20 октября 1822 г. „Русская Старина" 1875 г. № 10, стр. 294.
(обратно)360
В письме от 20 октября 1822 г. „Русская Старина" 1885 г. № 11, стр. 385.
(обратно)361
Всеподданнейшее письмо графа В.П.Кочубея 10 ноября 1822 г. „Русская Старина" 1881 г. № 12, стр. 881.
(обратно)362
„Русская Старина", 1875 г. № 10, стр. 295.
(обратно)363
Лабзин не упоминает об этих деньгах. См. „Pyс. Архив" 1892. № 12, 371.
(обратно)364
Рапорт полициймейстера Жукова A.Н.Оленину от 13-го ноября 1822 г. Архив академии художеств, дело № 43.
(обратно)365
Впоследствии вышла замуж за г.Лайкевича.
(обратно)366
Воспоминания о Лабзине M.A.Дмитриева „Русский Архив" 1866 г. № 6, стр. 838.
(обратно)367
Письмо Лабзина кн.Голицыну 27 ноября 1822 г. из Владимира.
(обратно)368
От „ " декабря 1822 г. из Сенгилея.
(обратно)369
В письме 3.Я.Карнееву. «Pyс. Арх.» 1892г. № 12 стр. 368.
(обратно)370
Письмо его 3.Я.Карнееву «Pyс. Арх.» 1892 г. № 12, стр. 367.
(обратно)371
От 29 января 1823 года.
(обратно)372
Почти то же писал он и З.Я.Карнееву. См. «Pyс. Арх.» 1892 г. № 12, стр. 367.
(обратно)373
Такая же пенсия пожалована была и сестрам Лабзина.
(обратно)374
В письме от 3-го июня 1823 г. из Симбирска.
(обратно)375
«Русский Архив» 1866 г. № 6, стр. 839 и 840.
(обратно)






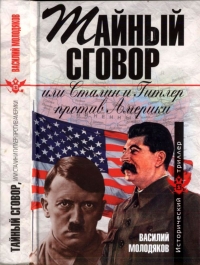
Комментарии к книге «Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник"», Николай Федорович Дубровин
Всего 0 комментариев