Жан Фавье Столетняя война
Введение
Вот история одной войны. Войны Столетней, если только в этом противостоянии, растянувшемся на пять-шесть поколений, можно увидеть что-либо кроме последнего акта трехсотлетней войны, начавшейся во времена прекрасной герцогини Алиеноры. Войны, в отношении которой можно задаться вопросом, длилась ли она сто лет или на этот век пришлось просто-напросто несколько последовательных конфликтов, разных по природе и ограниченных по локализации. С дальнего расстояния, которое выбирает историк с целью разглядеть тенденции и проанализировать глубинные изменения в обществе, война представляется одним из многих факторов, обусловивших как экономическую депрессию, так и политическое строительство. А с близкого расстояния, откуда историю видит тот, для кого эта история — жизнь, воспринимается ли война как одни только правильные сражения, которые и сами по себе редки, и редко имеют решающее значение?
Время историка — это и время, в котором он находит средства для наблюдения за феноменами, и вместе с тем время, в котором те же феномены ощущали и переживали люди. А ведь война, которая в долгосрочной перспективе выглядит отголоском глубинных напряжений и окказиональным пароксизмом вековых движений, не меньше знакома и тем, кто смотрит на нее вблизи, — как один из кризисов, а иногда главный кризис, которые вызывают исторический скачок.
Дабы избежать поверхностности при анализе минувших времен, историк обязан обращать внимание на чаяния и неудачи, на радости и страдания отдельного человека, то есть спускаться до его уровня.
Не надо думать, что укрепление такого-то города и разорение такой-то деревушки заметны лишь в ограниченном масштабе: это человеческий масштаб. Может быть, разграбление полей или уничтожение армии — факты, имеющие значение только для данного момента, но при виде опустошения люди перестают сеять, а армия, ожидающая боя, обходится столь же дорого, как и армия, идущая на убой. Долгосрочная перспектива, необходимая историку, когда он оценивает эволюцию глубинных сил, плохо подходит для понимания истории на том уровне, на котором ее переживают и воспринимают современники. Два года неурожая и год перепроизводства в итоге дают экономический баланс только на статистических графиках, выражающих усредненные оценки. В жизни это — смерти и разорения, спекулянты и безработные. Историку следует выбирать средства для анализа в обоих измерениях — как вековых перемен, так и повседневности.
И как выражение глубинных перемен, и сама по себе как феномен война становится определяющим фактором изменений в истории, как только дворянин и клирик, горожанин и крестьянин начинают соотносить с этой войной свои мысли и действия. Реальная она или предполагаемая — тут значения не имеет. Людям часто кажется, что война ближе, чем это на деле соответствует картографической реальности. Военный психоз, сын памяти, поскольку порожден давними опустошениями и известными по рассказам боями, — продукт слухов, безрассудного страха и коллективного возбуждения. Пусть какая-то деревня никогда не видела солдата — значит ли это, что война обошла ее стороной, если пять поколений здесь дрожали и никто не желал тратить деньги на перестройку домов и обновление инвентаря? Есть пустыни, опустевшие только благодаря молве. И многие «набеги» нанесли больше вреда в результате представления, которое о них сложилось, чем из-за реальных убытков от продвижения войск на один лье.
Таким образом, век войны — это не просто «морщина» в истории, и отрицать это — значило бы забывать, насколько эволюция форм социальной жизни связана с ментальными установками, как индивидуальными, так и коллективными. От этих установок в той же мере зависит искусство любить и искусство умирать, как и маршруты торговых путей или интенсивность исхода населения из села.
Столетняя война — это противостояние двух держав в долгом контрапункте, в качестве тем включавшем заботы всех людей, и первого президента парламента, и ткача. По мере развития этого контрапункта происходил не только переход от войны во Фландрии к войне в Бретани или от набега на Нормандию к битве за Гасконь. При этом еще и конфликт из-за наследства сменялся столкновением наций, феодальная война — монархической. За войной, где побеждали лучники, следовала война, где тон задавали пушкари. И тем не менее это был один и тот же конфликт, которому век, порой смешивая все карты, придавал новое обличье.
Контрапункт, взаимодействие, переплетение — настоящая сеть сложных соответствий. Политический кризис монархии Валуа, власть которой долгое время была не очень прочной и часто испытывала потрясения, непрестанно накладывался на внутренний кризис французского рыцарства — кризис как политической и экономической, так и военной неприспособленности. Глубинные причины перемен, такие как демографический спад и его влияние на сельскохозяйственную экономику и размер заработков, сочетались и комбинировались с поверхностными повреждениями системы, сетью трещин, быстро разбегавшимися в результате военных действий. Опять-таки в долгосрочной перспективе потери и разрушения, которые оставляет после себя война, — последствия менее важные, чем постепенный коренной переворот в структурах семьи, производства или финансов. А для современников эти последствия войны привносят оттенки в такой переворот или видоизменяют его, делают его ощутимым либо смягчают настолько, что он не ощущается. Совсем не факт, что резкий скачок зарплат после эпидемии Черной чумы оставил своих современников в убеждении, что они переживают век экономического застоя.
Точно так же в глубинах душ и в суматохе ассамблей драма религиозного сознания, порожденная расколом церкви в ходе Великой схизмы, перекликалась с драмой политического сознания, порожденной распадом Франции как вследствие соперничества принцев, так и вследствие поражения. В долгосрочной перспективе то и другое — не более чем краткие эпизоды в долгой истории зарождения и идентификации галликанства и соответственно истории столкновения прав Короны с правами королевской крови. Просто эти эпизоды пришлись на время жизни одного поколения.
Когда наблюдаешь за этим формированием и распадом группировок, возникает соблазн рассматривать всех, кто в политике действует заодно, как союзников. Но вглядываясь в эти группировки — союзные они или враждебные, — можно четко отличить договорные союзы, обусловленные вассальными узами и пренебрегающие национальной принадлежностью, от союзов кратковременных, имеющих намного более индивидуальный характер, но не менее договорных (в неявном виде), которые формировала клиентела принцев, начинавшая приобретать националистическую окраску. После того как столкновения перешли в войну, в развитие этого контрапункта вступила третья тема — военное ремесло. Владение им побуждало профессионалов войны сражаться за того, кто им платит, или против того, кто больше им не платит, тем самым усложняя расклад старинных приверженностей и новых зависимостей, но ни в малейшей степени не разрушая его.
Добавим сюда взаимопомощь или, напротив, корыстные конфликты, порожденные родством. Унаследованные от старинных родственных союзов или возникшие в результате заключения новых браков, эти семейные связи были одновременно фактором, обуславливающим социальные отношения, и целью при их складывании — как у принцев, так и у мясников. Генеалогические таблицы, служащие вехами в этой книге, — таблицы, а не генеалогические деревья с исчерпывающими сведениями, — позволяют выявить случаи, когда родство становилось одной из глубинных сил истории.
Как отражение коллективных ментальностей, в этой великой смене людей и идей приняли участие литература и искусство. За волеизъявлением писателя или художника всегда стоит время с его надеждами и тревогами, восхищением и ненавистью, реальностями и мифами.
В намерения автора не входит затрагивать всю историю этого столетия, охватившего часть одного века и часть другого столетия, начало которого приходится на период старости сира де Жуанвиля, а конец — на время, когда событиями впервые заинтересовался Филипп де Коммин. Многие выдающиеся произведения литературы и искусства не упомянуты здесь по одной-единственной причине, что они не были непосредственно связаны со Столетней войной. Другие, возможно, и заслуживали бы, чтобы им уделили здесь место. Но эта история войны — не антология средневековой Франции, и даже антологии всегда составляются по выбору одного человека. Так же как читатель не найдет в этой книге обратных сводов пламенеющей готики и широких складок Клауса Слютера, он не услышит в ней и церковной дискуссии об отношениях Собора и Святого престола. Но он увидит здесь пляску смерти — порождение как войны, так и чумы, и услышит драматичный спор о повиновении авиньонскому папе, расколовший политическую Францию, прежде чем расколы переместились в другие сферы из-за того, что те же люди включились в борьбу по разным поводам.
Точно так же как история любой войны — это не только история тех, кто сражается, история национального кризиса не ограничивается треволнениями столицы. Поэтому, возможно, читатель выразит сожаление, что он будет столь часто оказываться на берегах Сены, между дворцом Сен-Поль и дворцом на острове Сите, в окрестностях той самой Гревской площади, которая была одновременно местом собраний и средоточием торговой жизни. Ведь для тех французов, которые жили во время войны, вели ее или пострадали от нее, деревня или город, где родились девять из десяти этих людей, даже не упомянуты в настоящей книге.
Тем не менее воля историка, как бы он ни желал расширить свои горизонты и избежать сугубо парижского взгляда на французскую историю, не в силах переменить реальностей средневековой Франции. Париж тогда, в разные моменты, насчитывал от ста до двухсот тысяч жителей, тогда как крупнейшие города французской провинции — от двадцати до сорока тысяч. Только парижане образовали в Генеральных штатах группу влияния, способную выступать как четвертое сословие. Только они держали в своих руках одновременно трибуну и улицу. И именно в Париже, как во времена Этьена Марселя, так и во время мятежа кабошьенов, решались судьба мира и судьба монархии.
Поэтому в нашем историческом контрапункте до бесконечности возникает тема парижского фактора в развитии событий, когда Париж жил лишь за счет провинции, но провинция знала, что ее история отчасти зависит от Парижа. Справедливо будет сказать, что это во многом была история новоиспеченных парижан. Столица — место действия, но персонажи спектакля, разыгрываемого там, — жители всей Франции. Париж — это Этьен Марсель и его предки из числа крупных парижских бюргеров, но это также Жувенель, Кошон, Жерсон и многие другие, для которых столица была ступенью в их карьере. Впрочем, кто скажет, были ли парижанин Бедфорд и его жена Анна Бургундская англичанами или французами?
В истории этого воинственного века царит хронология. В большей степени, чем для других периодов, логика истории здесь основана на смене времен. Последствия поражения, естественно, приходят вслед за таковым, так же как предпосылки мира предшествуют перемирию и заключению договора. Хлебный кризис связан не только с Черной чумой, которая за ним следовала, и с Жакерией, которая его сменила еще до реакции парижских собственников и разочарования в короле Наваррском, вызванного его переходом в другой лагерь, — в диахронической истории сельской жизни он связан также с вековым застоем в ценах на зерно и с многовековым исходом из села. Поэтому, если в структуре книги предпочтение будет отдаваться последовательной связи событий во времени, это не должно вызвать удивления. При анализе я тоже рассматриваю в первую очередь время с точки зрения человека, во всей сложности и в среднесрочной перспективе. Ведь для современников все было связано — расколы двуглавого христианского мира, реформа церкви и настороженное отношение к светской власти Авиньона, реформа королевской власти и обличение финансовых растрат, враждебность к герцогу Людовику Орлеанскому и поддержка бургундской партии, компромисс с кабошьенскими мятежниками, конечная сделка с англичанами. Все это для одних и тех же людей составляло цепь политических событий, логическую ментальную последовательность.
Знаменитые или безвестные, действующие лица истории испытывали эту совокупность мотиваций и восприятий, причем в одно и то же время, сознательно или неосознанно принимая участие в едином движении. Благородный сеньор, заседающий в «суде любви», созванном, чтобы рассудить поклонников и хулителей какого-нибудь «Романа о Розе», престиж которого вдруг поколебала Кристина Пизанская, был бы очень удивлен, узнав, что это дело связано с итальянскими амбициями брата Карла VI и даже с настойчивыми требованиями реформ, которые периодически выдвигали францисканцы в противовес мирской пышности нового Вавилона. Тем не менее это так и было.
История запрещает себе судить людей, вместо того чтобы понимать их. Но, желая понять индивидов и группы во всей целостности их ментального мира, читатель, может быть, пересмотрит некоторые давние суждения истории и историографии — суждения, оттенки которых важно уточнить во времени и в пространстве, исключив их из моральных и политических систем отсчета, по преимуществу анахроничных.
Ведь что такое война? В Бордо это не то же самое, что в Париже, а в Безье — не то же, что в Вернёе. И, конечно, это разные вещи в Арфлёре и в Домреми. Что такое англичане? Не одно и то же для Жоффруа д'Аркура в 1350 г., для Протоиерея в 1360 г., для Кошона в 1420 г. и для Никола Ролена в 1435 г. Бордоский купец воспринимал англичан иначе, чем нормандский крестьянин.
Облик людей сам по себе богаче оттенками, чем кажется с первого взгляда, особенно когда их образы уже более или менее сформировались на основе привычных картинок. Как относиться к Карлу Злому, незаконно лишенному шампанского наследства, к Этьену Марселю, обманутому собственным окружением, или к Бертрану Дюгеклену, столь часто попадавшему в плен? Может быть, стоит посмотреть новыми глазами на персонажей, которые кажутся монолитными, как Аркур или Жанна д'Арк, или на таких людей сложной судьбы, как Кошон или Ришмон. Кстати, вела ли себя Жанна одинаково, столкнувшись с инертностью дофина Карла, политическим реализмом королевы Иоланды, утонченной жестокостью клириков, скептицизмом капитанов, энтузиазмом простых воинов?
Однако главное действующее лицо этой книги бесполезно искать в указателе. Это тот человек, не попавший в хронику, который в период между началом XIV в. и серединой XV в. прожил свои двадцать-тридцать лет — столько жили те, кто не умер в детстве. Он сражался, если только не дрожал. Он участвовал в мятеже, если только не устранился от него, пожав плечами. Он менял свои взгляды, толком не сознавая этого. Как на войне, так и в перемирии он спасал свою жизнь или терял все. Он роптал.
Гентский ткач за спиной Артевельде или живодер из Больших мясных рядов за спиной Кабоша, доведенный до отчаяния мужик из ватаги Большого Ферре или ищущий найма солдат из отряда Вильяндрандо, зевака, который довольствуется вином из праздничного фонтана или любопытствует, кого сегодня повесили, — он точно так же вел Столетнюю войну, как герцог Филипп — «Отец, остерегайтесь…» — и почти так же, как профессионал Ла Гир. Об этой войне, к которой чуть-чуть был причастен и он, он немало говорил. Его не всегда понимали. Мы попытаемся его понять.
Париж. 15 мая 1980 г.Глава I Истоки
Капетинги и Плантагенеты
Столетняя война — это не воинственный век, начавшийся при Эдуарде III и его старшем сыне. Черном Принце. Это третий и последний век войны, начавшейся во времена первых крестовых походов, во времена принцессы, которую звали Алиенора — или Элеонора — и которую наследство отца сделало герцогиней Аквитанской. Алиенора была красивой, умной, своевольной. Политический брак превратил ее в королеву Франции, но благочестивый Людовик VII был мужчиной очень скучным, а Алиенора знала о своем умении обольщать.
Шел 1152 год. Людовик VII уже стал посмешищем во время Второго крестового похода: его жена на виду у всего двора влюбилась в своего дядю Раймунда Пуатевинского. Вернувшись из Святой земли, Алиенора упала в объятия молодого и элегантного Генриха Плантагенета, графа Анжуйского и герцога Нормандского.
Смирившись со своим смешным положением Капетинг рисковал утратить всякий политический вес во Франции, где власть короля пока что была непрочной. К тому же Алиенора еще не даровала ему ни одного сына. Без труда нашлись несколько епископов и примкнувшая к ним группа верных баронов, обнаруживших, что король и королева были кузеном и кузиной. Брак, в который они вступили пятнадцать лет назад, оказался недействительным. Честь и достоинство короля были спасены.
Через два года Генрих Плантагенет наложил руку на корону Англии. Отныне вассалом короля Франции был король, и эта королевская корона наделила новым значением герцога Нормандского — властителя герцогства Аквитании благодаря жене.
Филиппу Августу понадобилось тридцать лет, чтобы сломить этого опасного соперника. Нужно было захватить в 1204 г. Шато-Гайяр, разбить в 1214 г. при Бувине коалицию, поддержанную германским императором, и в то же время разгромить аквитанскую армию Плантагенета. Овладев Нормандией, Анжу и Пуату, Капетинг наконец стал первым сеньором своего королевства.
Кроткий победитель в 1242 г. — Людовик Святой не пожелал изгонять англичан из Франции: Плантагенет, строго говоря, не был англичанином, и такой щепетильный король, как Людовик, не посмел отбирать у Генриха III Гиень, которая в конечном счете была наследством его бабки Алиеноры. В 1286 г. договор уладил последние разногласия, возникавшие из-за Керси и Сентонжа. Можно было полагать, что стопятидесятилетняя война завершилась.
Еще долгое время, невзирая на бесполезные усилия какого-нибудь Филиппа Красивого, впрочем, слишком занятого, чтобы позволить себе роскошь непримиримого отношения к побежденному противнику, англичане находились во Франции, потому что в Бордо правил герцог, в котором никто по-настоящему не видел иностранца, но о котором все знали, что за морем он носит королевскую корону. Владея Гасконью, Ажене, Сентонжем и всем, что в Лимузене, Керси и Перигоре когда-то принадлежало Капетингу, герцог-король в Южной Франции был его соперником, приносившим ему неопределенный оммаж.
Во фьефе какого-нибудь барона король Франции уже не упустил бы ни одного случая напомнить, что он одновременно верховный сеньор феодальной пирамиды — «сюзерен» — и суверен государства, независимого от сетей феодальных отношений. С большим основанием — и, соответственно, риском — королевские чиновники не упускали ни одного случая напомнить аквитанцам, что они живут во Французском королевстве, и герцогу Аквитанскому, что он так же, как любой другой, является вассалом и подданным Капетинга. Герцог Аквитанский был королем, но в Аквитании королем был король Франции, а не Англии.
Не просто еще одной стычкой в конфликте, имевшем к тому времени двухвековую историю, а настоящей генеральной репетицией Столетней войны стала «война за Сен-Сардо». Дело было банальным и могло остаться таковым. Его постарались драматизировать.
Деревня Сен-Сардо в самом сердце Ажене, без малейшего сомнения, принадлежала герцогу Эдуарду II. Она доминировала над долиной Ло и могла послужить заслоном для места слияния Ло и Гаронны, и все-таки на нее пал выбор людей французского короля, вовремя заметивших, что сеньором деревни был приор Сарла. Один вассал англичанина позволил себе построить здесь укрепленную бастиду. Карл Валуа от имени своего племянника, короля Карла IV, захватил бастиду и территорию Сен-Сардо. Гасконцы дали ему отпор, отбили эти места и повесили чиновников французского короля.
Карл IV сделал вид, что не услышал мирных предложений своего зятя Эдуарда II, во всеуслышание осудившего довольно неуместное рвение своих людей. 1 июля 1324 г. под предлогом, что герцог еще не принес оммажа за Гиень, парламент конфисковал герцогство. Карлу Валуа было поручено занять страну, что тот и сделал за недолгое время, не встретив никакого реального сопротивления. Помимо Бордо, Байонны и Сен-Севери французы наложили руку на все герцогство, после чего завязли в нем, оказавшись в довольно затруднительном положении.
У Эдуарда II хватало неприятностей и в Англии, где подданные вознамерились не менее чем лишить его трона. Он с легким сердцем пожертвовал принципами, чтобы спасти Гиень. Заключенный благодаря посредничеству папы договор 1325 г. предусматривал, что чиновников в герцогстве отныне будет назначать король Франции, у короля-герцога оставалась возможность лишь назначения простых шателенов. В вопросе оммажа пошли на уступки: он был принесен, но не лично королем Англии. Сделать это было поручено принцу Эдуарду, будущему Эдуарду III.
Теперь герцог Гиенский и король Англии стали разными лицами, и вопрос Гиени можно было считать решенным. Карл IV не допустил этого, предоставив принцу Эдуарду в качестве фьефа и, следовательно, вознаграждения за его оммаж лишь прибрежные области Гиени. Ажене осталось за Капетингом. Естественно, Эдуард II не согласился на это и счел нужным дезавуировать поступок своего сына. Карл IV только этого и ждал: он снова конфисковал герцогство.
Падение Эдуарда II и восхождение на престол Эдуарда III[1] изменили ситуацию на переговорах. 31 марта 1327 г. Эдуард III получил свое герцогство обратно взамен за обещание выплатить контрибуцию. Еще нужно было на деле вернуть крепости, которые уже три года удерживали чиновники французского короля.
При взгляде на карту дело становилось очевидным: за тридцать лет изматывающих действий под прочную власть Капетинга перешли богатые земли Ажене и Базаде, Перигора и Лимузена. От герцогства, признанного Парижским договором 1259 г. за Генрихом III, его правнук Эдуард III сохранил от Шаранты до Адура только прибрежные области Сентонжа и Гаскони. Бордо, этот нервный центр и оплот аквитанской экономики, оказался отрезанным от своих территорий в глубине материка. Континентальной части бывшего государства Плантагенетов просто-напросто грозило удушье.
На местах ситуация была хуже некуда. Чиновники короля Франции использовали любой предлог, чтобы оттянуть передачу территорий, возвращенных договором 1325 г. Аквитанские вассалы герцога-короля вовсю разыгрывали карту своей автономии и пользовались отсрочками за счет хитросплетений феодального права. Что угодно служило поводом для конфликта, а любой конфликт вел в суд сюзерена, иначе говоря, в Парижский парламент, тот самый «Суд короля», само существование которого напоминало Плантагенету, что в Гиени он не сюзерен и не суверен.
Каждая апелляция влекла за собой расследование. Чиновники французского короля непрестанно придирались к людям короля-герцога, а самолюбие последнего должно было смиряться с тем, что по любому поводу надо предоставлять оправдания своего присутствия и финансовые отчеты о своем управлении.
Оммаж Эдуарда III
Единственное, чем отвечал униженный вассал, — задержками с оммажем, который он был обязан принести снова, потому что его сеньор, король Франции, только что сменился. Филипп VI отправил послов в Лондон, чтобы напомнить об этой вассальной обязанности. Оммаж создавал связь личную, между человеком и человеком: как и смена вассала, смена сеньора требовала нового оммажа.
Но смена сеньора, состоявшаяся в 1328 г., имела ту особенность, что на троне Франции последнему из Капетингов наследовал сын графа Валуа. Даже если Эдуард III, который только что стал королем Англии, едва ли тогда зарился на трон, ставший вакантным после смерти третьего сына Филиппа Красивого, мысль принести оммаж своему кузену Филиппу Валуа вполне могла ему не понравиться. Разве его мать не была дочерью Филиппа Красивого и разве ужасная Изабелла не заявляла, что ее сын, «рожденный от короля», никогда не принесет оммаж «сыну графа»?
Король Франции проконсультировался со своим Советом, который выразил мнение, что конфисковать герцогство пока нельзя, но присвоить доходы с него до принесения оммажа дозволительно. В Англию был послан новый вызов. Еще раз запустили процедуру конфискации.
Эдуард III был мало заинтересован в войне на континенте, когда его власть подвергалась яростным нападкам в самой Англии. Он уступил. Было объявлено, что он принесет оммаж за Гиень.
Встреча состоялась в Амьене, в июне 1329 г. Король Англии прибыл с большой свитой. Чтобы переправить коней эскорта из Дувра в Виссан, понадобилось двое суток, — говорили, что их была тысяча. Филипп Валуа не остался в долгу и принял своего кузена в окружении особо пышного двора. Старики вспоминали празднество, состоявшееся шестнадцать лет назад по случаю «посвящения в рыцари» короля Наваррского. На новый праздник откликнется Фруассар:
Король Филипп подготовил для себя все и позаботился обо всем, дабы его принять. Близ него были король Чехии, король Наварры и король Майорки, а герцогов, графов и баронов такое обилие, что трудно было бы всех упомнить. Ибо были там все двенадцать пэров Франции, прибывших, дабы чествовать короля Англии, а равно дабы лично присутствовать при его оммаже и засвидетельствовать оный.
Королю Англии воздавали почести, но позаботились, чтобы при этом акте, напоминавшем ему о том, что его положение ниже, присутствовали свидетели!
Праздник продлился восемь дней и был великолепным. Эдуард принес оммаж 6 июня, вложив руки в руки своего сеньора — короля Филиппа VI. Но тот велел отметить, что этот оммаж не касается земель, отчужденных от герцогства Гиени Карлом IV, в частности, Ажене. Со своей стороны Эдуард III выразил протест: его оммаж ничуть не означает, что он отказывается от притязаний на эти земли. Оммаж, конечно, был принесен, но сопровождался таким количеством оговорок, условий, ограничений, что не решил никаких проблем. С тех пор Филипп стал обдумывать план выдвижения нового требования — принести оммаж, который имел бы более четкие контуры. В феврале 1330 г. в Париже собралось совещание экспертов, выложивших на стол материалы дела. Тем временем Эдуард III велел провести изыскания в своих архивах, чтобы выяснить, к чему его обязывает принесенный оммаж на самом деле.
Трудней всего было определить границы той Гиени, за которую он принес оммаж. Три года прошли в обмене посольствами. Епископы, бароны или легисты вели переговоры, опираясь как на предшествующие события, известные по архивам, так и на текущую ситуацию, выясненную теми и другими в самой Гиени. Но составить карту фьефа с переплетающимися правами оказалось делом непростым — они и ныне, в XX в., представляют собой камень преткновения для картографов, — а аквитанские вассалы герцога были всецело заинтересованы в том, чтобы усложнять дело, поскольку имели веские основания стремиться к прямой зависимости от короля Франции.
Каждый король пытался выиграть время, чтобы лучше укрепить совсем недавно надетую корону прежде, чем может начаться проба сил; поэтому безо всякого труда удавалось договориться по крайней мере об одном — перемирие постоянно продлевалось. В июле 1330 г. соглашение едва не было достигнуто, но тут разразился кризис — Эдуард отказался предстать перед парламентом. Его спасло посредничество папы Иоанна XXII: понтифик просто-напросто не отказал себе в удовольствии вмешаться в английские дела.
Мир снова казался близким в 1331 г., когда Эдуард III сделал еще одну принципиальную уступку, чтобы спасти свой фьеф: 30 марта в силу заверенного печатью акта, который он передал своему кузену Валуа, король-герцог признавал, что обязан за Гиень тесным оммажем, иначе говоря, предпочтительным, — ни один другой оммаж, ни один договор не могли получить предпочтения перед оммажем, принесенным королю Франции:
Дабы в грядущее время не было бы ни разногласий, ни вопросов по поводу сего оммажа, мы чистосердечно обещаем от имени нашего и от имени наших преемников, герцогов Гиенских, каковые будут носить сей титул некое время, что оный оммаж будет приноситься таковым образом.
Король Англии, герцог Гиенский, вложит свои руки в руки короля Франции. И тот, кто обратится к королю Англии, герцогу Аквитанскому, и кто возговорит от имени короля Франции, скажет так: «Вы становитесь непосредственным вассалом (homme lige) короля Франции моего государя, здесь присутствующего, как герцог Гиени и пэр Франции, и обещаете изъявлять ему веру и верность! Молвите: voire [да]!»
И король Англии, герцог Гиенский, и его преемники скажут: «Voire!» Тогда король Франции примет оного короля Англии и герцога Гиенского в означенный тесный оммаж (hommage lige) верой и устами, и будут соблюдены его права и права другого…
Так будет учинено, и будет сие повторяться всякий раз при принесении оммажа. И в подтверждение сего, принеся оный оммаж, мы и наши преемники, герцоги Гиенские, предоставим патенты, заверенные нашей большой печатью, ежели король Франции сего затребует.
Вслед за этим Эдуард III отправился во Францию. Чтобы обмануть наблюдателей из числа своих баронов и, может быть, даже своих советников, Плантагенет переоделся купцом и сел на судно в Дувре в сопровождении всего пятнадцати рыцарей; в объяснение своего отсутствия он велел объявить, что отправляется в паломничество. В апреле 1331 г. неподалеку от Пон-Сен-Максанса он встретился с Филиппом VI. Пятью днями позже он вернулся в Дувр.
О чем говорили оба короля? Прежде всего об оммаже, бесспорно, тесном. Потом — о Гиени. Эдуард добился, чтобы ему обещали денежную компенсацию за неправомерное разрушение замка Сент. Он получил также позволение не сносить крепости, которые обязывало его разрушить перемирие 1327 г. Он в некотором роде компенсировал на своих землях то, что терял в политике принципов.
Итак, дело казалось улаженным. Все были почти удовлетворены, в том числе папа: согласие между христианскими суверенами считалось первым условием для проведения крестового похода, ожидаемого уже сорок лет. Зашла речь даже о французском браке для того, кого через несколько лет назовут Черным принцем. Но, собравшись в Винчестере в сентябре 1331 г., английский парламент — представительный и политический орган, не имеющий ничего общего со своим французским омонимом, который был не более чем судом, — решил, что Плантагенет не вправе так легко соглашаться на сильное сокращение территории Гиени. Английский парламент не имел никакого права рассуждать о делах Гиени, но это у него надо было запрашивать кредиты, когда дела на континенте принимали дурной оборот. Поэтому Эдуард III не мог игнорировать его мнение — следовало продолжить переговоры. Может быть, удастся выторговать Ажене.
В то время как в Париже сменяли друг друга английские посольства, на местах происходили все новые инциденты. Несколько раз дело едва не доходило до войны, однако было очевидно, что ни тому, ни другому королю она в данный момент не нужна. Чиновники короля Франции притесняли в Сентонже лондонских купцов и взимали с них незаконные пошлины за провоз вина по Гаронне. Жители Дувра разграбили французское рыболовное судно, оплошно севшее на мель. В отместку французы без всяких формальных процедур захватили судно из Дувра, зашедшее в порт Кале. На всех границах территории Гиени, еще остававшейся в руках англичан, не прекращались трения, а возвращение замков, некогда захваченных Карлом Валуа, затягивалось.
В 1334 г. на миг показалось, что мир заключен. Архиепископ Кентерберийский и другие английские послы только что вернулись в свои парижские особняки под приветственные возгласы доброго народа, когда король вызвал их обратно во дворец на острове Сите: нужно было внести уточнение, что условия мира распространяются на Шотландию Давида Брюса. Прежде об этом и речи никогда не заходило.
Англичане не имели никаких полномочий вести переговоры о шотландских делах. Он вернулись в Лондон с чувством, что их одурачили.
Шотландские дела
В самом деле, уже сорок лет Шотландия была костью в горле англичан и пешкой во французской политике. Филипп Красивый разыграл шотландскую карту против Эдуарда I, которому решение в пользу Джона Баллиоля на третейском суде по трудному вопросу о наследстве Маргариты Шотландской не принесло даже верности со стороны этого короля-вассала. Король Франции вступился за побежденного Баллиоля и добился его освобождения. Уильям Уоллес, вождь баронов, восставших против жесткой английской опеки, после своего поражения в 1298 г. нашел убежище во Франции. Вступление Святого престола в игру, которую вели меж собой Англия и Шотландия, открыло Филиппу Красивому более широкие политические горизонты: канцлер Пьер Флот смог в Риме угрожать всем, и папе Бонифацию VIII, и участникам переговоров с английской стороны, прямой интервенцией в пользу Шотландии, если английский король упорно будет поддерживать других мятежников против королевской власти, какими во Франции были фламандцы. Скандальное потворство папы в отношении Фландрии тоже было плодом их сделки.
Одно время от слишком откровенного вмешательства короля Франции удерживал франко-английский мир. На английском троне друг друга сменяли капетингские принцессы; об открытой поддержке мятежников не могло быть и речи. В 1305 г. Филипп Красивый позволил арестовать и казнить Уоллеса, даже не сделав вида, что защищает его. Но непрерывная борьба, которую Эдуард II был вынужден вести против шотландских баронов и нового короля Роберта Брюса — бывшего соперника Баллиоля, — удерживала англичан вдалеке от Гиени. Пограничные конфликты, короткие военные экспедиции, беспокоящие действия на местах, — для Эдуарда II, чья рыцарская армия была разбита в 1314 г. при Бэннокберне в результате атаки шотландских крестьян, вооруженных крепкими копьями, Шотландия была настоящим оттягивающим абсцессом, который обеспечивал Франции относительное спокойствие.
К этому делу в 1333 г. вернулся Эдуард III. Но он повел дела с бесконечным терпением. Какой прок от далекого Гиенского герцогства, с нечеткими границами и откровенно урезанного, если силы Англии на самом острове подрывает явно независимая Шотландия? Филипп VI, чьим замыслам отвечало затягивание шотландского конфликта, предоставил своим традиционным союзникам выпутываться самим. Валуа не мог рисковать новыми осложнениями во Франции, зная, что его власть еще слаба. И как бы Фландрия ни дорожила связями с Шотландией, суконная промышленность крупных фламандских городов нуждалась в английской шерсти. Король Франции довольствовался ролью наблюдателя.
Временное подчинение шотландцев еще раз было достигнуто при помощи силы. На ближайшее время Филипп VI обеспечил себе мир. Но в дальней перспективе он проиграл: союз с королем Давидом Брюсом был бы полезней для Франции, если бы Брюс был сильнее и у него были причины проявлять признательность.
Тем не менее переговорный процесс застопорился. Едва Филипп VI пообещал английским послам срочно вернуть аквитанские земли, как он написал местным чиновникам, чтобы те пока занимались этим делом. Уполномоченные, отправленные обоими королями в Гиень, чтобы разобраться в деталях положенных возвратов, столкнулись с самым откровенным саботажем. Юристы без нужды усложняли все дела, а баронов мало заботило право, кроме процедуры, позволяющей все остановить и без конца направлять апелляции.
Папскую дипломатию больше интересовали шотландские дела, чем гиенские. Бенедикт XII справедливо считал, что англо-шотландская война создает главную угрозу европейского конфликта, с тех пор как в нее снова мог вмешаться король Франции. Участниками шотландского конфликта стали граф Намюрский, граф Гельдернский, граф Юлихский, направившие свои отряды в распоряжение Эдуарда III. Моряки из Дьеппа и Руана делали каперские вылазки против моряков из Саутгемптона, и вполне разумным было ожидать, что новая война разразится на Ла-Манше, а не близ Сен-Сардо.
Отдавая в своих заботах предпочтение шотландскому вопросу, папа и его нунции косвенно играли на руку королю Франции. Последний мог предоставить Давиду Брюсу, бежавшему во Францию, довольствоваться холодным приемом в Шато-Гайяре. Важны были не столько успехи шотландцев, сколько угроза, которую они постоянно создавали для Англии: Эдуард III без конца осаждал замки и заключал бесполезные перемирия, в которых папа всякий раз усматривал возможность для крестового похода на Восток.
Власть Филиппа VI укрепилась по сравнению с временами его восшествия на престол. Он не придал никакого значения тому, что многие сочли дурным предзнаменованием: в июле 1336 г. гроза разметала все приготовленное для праздника по случаю рождения его второго сына. Тянуть время больше не было необходимости. В том же 1336 г. Филипп VI Валуа предпринял ряд инициатив.
В марте он был в Авиньоне, где новый папа Бенедикт XII — цистерцианец Жак Фурнье — начал возводить мощную крепость, которая знаменовала его намерение остаться здесь, далеко от политических бурь Рима, но и за пределами Французского королевства, где его независимость была бы плохо гарантирована. Беседа папы и короля была поединком с перевернутым фронтом: король желал, чтобы крестовый поход был объявлен немедленно, папа считал это пока невозможным. Осторожность понтифика была во всех отношениях оправданной: Запад, пребывавший в состоянии глубокого раскола, не имел средств на подобное предприятие. Валуа, искренний в своем желании, был раздосадован: ведь два года назад договорились, что главой экспедиции будет он…
Французский флот стоял готовым в Средиземном море. Раз больше не требовалось идти на Восток, его послали в Северное море. Англия задрожала. Эдуард III объявил на побережьях боевую готовность. Шерифы получили приказ немедля вооружать все население. Призвали всех боеспособных мужчин в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет. Парламент вотировал субсидию, не дожидаясь обращения.
Бенедикт XII уже удержал французского короля от того, чтобы идти в крестовый поход. Он постарался отговорить его и от похода в Шотландию. В начале апреля 1337 г. Филипп VI получил из Авиньона письмо, из которого бы мог извлечь политический урок, если бы задумался над ним:
В это время смут, когда во всех частях света вспыхивают войны, следует долго думать, прежде чем отваживаться. Предпринять дело нетрудно. Но прежде надо знать — это вопрос знания и размышления, — как его закончат и какие последствия оно повлечет.
Король Франции сделал вид, что не заметил этого урока. Его послы провели в Англии совещание с послами Давида Брюса и делегацией шотландских баронов. Там говорилось больше о войне, нежели о мире. Эдуард III, узнав об этом, не мог больше питать иллюзий: его французский кузен вел себя как враг.
Бенедикт XII был настолько же терпеливым, насколько импульсивным — Валуа. Он снова навязал свое посредничество, не без труда смирив рвение Филиппа VI. Зато он помешал императору Людовику Баварскому сформировать против Франции коалицию, в которой принял бы участие Эдуард III, а потом — заключить союз с Францией, который бы угрожал Святому престолу. Такое равновесие оказалось хрупким, и гонка вооружений возобновилась с новой силой, умеряемая лишь нехваткой денег, от которой страдали и то, и другое правительства.
Весной 1337 г. война казалась неизбежной. Ни Филипп VI, ни Эдуард III, ни Людовик Баварский не были готовы ни к малейшим уступкам.
Восстание фламандцев
Тем не менее во Фландрии позиции французского короля могли считаться сильными. Войны времен Филиппа Красивого, «Брюггская заутреня» и побоище при Куртре, победа королевских войск при Монс-ан-Певеле и суровый Атисский мир 1305 г., долгие споры о неприменимых статьях этого договора[2], — казалось, все было забыто. Забыты и фландрские «осты», военные походы, которые неоднократно и с большими расходами проводили Филипп Красивый и его сыновья, чтобы заставить фламандцев уступить.
Самым упорным противником Капетинга во времена графа Фландрии Роберта Бетюнского был его сын Людовик Неверский. Случаю было угодно, чтобы он умер за несколько месяцев до отца. Поэтому Роберту Бетюнскому наследовал внук, тоже звавшийся Людовиком Неверским. Став в 1322 г. графом Фландрии, этот князь будет играть на стороне короля и сознательно опираться внутри страны на аристократию дельцов, в отношении которой было известно, что она традиционно связана с французским королем.
Его прадед Ги де Дампьерр и дед Роберт Бетюнский умели обратить себе на пользу — повернув против посягательств королевской власти — социальное напряжение, которое возникало в результате развития экономики, основанной на текстильной промышленности. Людовик Неверский, которого компрометировал союз с патрициатом, напротив, представлял собой самую удобную мишень с тех пор, как дали о себе знать первые социальные волнения.
Восстание 1323 г. поначалу было лишь невнятным ропотом в сельских местностях Приморской Фландрии. Пострадало несколько графских чиновников, несколько шателенов. Дело приняло иной оборот лишь со дня, когда восстал Брюгге. Брюгге был большим промышленным портом, который отличался как многочисленным населением — там, возможно, проживало тридцать тысяч человек, — так и свойственной портам активной жизнью, способствовавшей смешению идей и людей.
Если Брюгге был в одном лагере, Гент вступал в другой. Гентцы сохранили скорей неприятное воспоминание о том, чем заплатили другие фламандские города, последовав в 1302 г. примеру Брюгге. Зато Ипр пошел за Брюгге из принципиальной враждебности к гентцам. Конкуренция суконщиков, уже ощущавших кризис, вылилась в политическое соперничество. Заодно с Брюгге выступили Вёрне, Диксмёйде, Поперинге. Это была гражданская война.
Хотя граф Фландрский был на сей раз их противником, ремесленники вспоминали Куртре: тогда сукновалы и ткачи задали трепку французскому рыцарству, показав как социальную ненависть, так и политическую волю ограничить социальное влияние в графстве. Через двадцать лет память об этом осталась достаточно живой, чтобы придавать смелости простонародью.
Пять лет повстанцы рыскали по сельской местности. Деревни горели, города дрожали. Люди графа — прежде всего сборщики налогов — прятались, когда не могли бежать. Патрициев снова изгоняли, их дома сносили. Вскоре мертвых стало не счесть — как дворян и богатых бюргеров, зарезанных на углу улицы, так и крестьян и ремесленников, забитых до смерти у себя дома или погибших в ходе правильного сражения. В целом это были скорее пять лет беспорядков, побоищ, выплесков эмоций, даже анархии, чем пять лет революции или полевой войны.
Экономические структуры фламандской промышленности предоставляли первостепенную роль купцу-патрицию, одновременно финансисту, инвестору и организатору производства. Эта система становилась все тяжелей из-за усиления фискальных требований графа: чтобы противостоять посягательствам администрации французского короля, тянущей щупальца во все стороны, граф Фландрский должен был укреплять собственную администрацию и искать все новые средства для своего управления. Ложась тяжелым бременем на страну, где неурожаи уже привели к нищете, а неповоротливость производства — к безработице, рост налогов быстро сплотил простонародье Приморской Фландрии против всего, что в большей или меньшей степени можно было назвать властью. Начавшись как восстание людей среднего достатка, это движение превратилось в восстание против социального строя и установленной иерархии.
Волна народной ярости захлестнула и церковь. Один из предводителей восстания, Якоб Пейт, уверял, что своими руками перевешает всех священников до последнего.
Итак, это не был всплеск слепого гнева обездоленных людей, находящихся на грани выживания. Те, кого не облагают налогами, редко восстают против налогов, а разнорабочие мало задумываются об изменении общества. Скорее это было выступление средних слоев городского и сельского населения, тех, кто уже оценил выгоды экономического процветания и тяжело переживал начинающийся спад, тех, кому было что защищать от фиска и кто боялся утратить свой вес в обществе, — мелких предпринимателей и свободных ремесленников, мелких крестьян-собственников, минимально обеспеченных.
Феодалы, оказавшись лицом к лицу с опасностью, прекратили внутренние распри, как они поступят и через тридцать лет перед лицом «жаков». Для борьбы с мужичьем принцы вступили в союз. В 1328 г., видя, что один он не справится, граф Фландрский вспомнил об оммаже, который принес своему новому сеньору Филиппу VI, и попросил того о помощи. Встретив молодого короля на коронации в июне 1328 г., он снова пожаловался: горожане и деревенщина во Фландрии подрывают порядок, угодный Богу. По случаю коронации все бароны находились в Реймсе; это обстоятельство пришлось кстати. Невзирая на колебания тех, кто помнил, как неудачно закончились предыдущие походы, к которым не подготовились как следует, импульсивный Филипп Валуа решил немедленно пойти войной на восставших фламандцев. В следующем месяце в Аррасе была собрана армия. Большинство баронов не успело даже побывать дома, перед тем как занять свое место в королевском войске.
Филипп прибыл в Сен-Дени за орифламмой. На алтаре выставили раки святого Дионисия и святого Людовика. Так, не без помпезности, новый король Франции готовил будущность своей короны. Он стремился завоевать доверие принцев, своих вассалов, в том отношении, которое всегда было залогом вассальной верности: убедить их, что сеньор всегда окажет им покровительство.
Наступление на повстанцев начали с двух сторон одновременно. Верные графу и королю гентцы напали на Брюгге, сковав значительную часть сил восставших. Чтобы посеять еще больше паники, король и граф поручили маршалам провести рейд, в ходе которого была опустошена вся Западная Фландрия до самых ворот Брюгге. В то же время основные силы двинулись к Касселю.
23 августа, укрепившись на горе Мон-Кассель на высоте 157 метров, повстанцы одновременно могли видеть, как напротив них развертываются войска короля и горят на горизонте их деревни; «баталия» короля включала 29 «знамен»[3], «баталия» графа д'Артуа — 22.
Вождем восставшие избрали крестьянина, или, скорее, мелкого сельского собственника, — Николаса Заннекина. Тот захотел изобразить из себя рыцаря. Он послал гонцов, чтобы предложить королю назначить «день битвы». Ему ответили презрением. Повстанцы были «безначальными людьми», чуждыми воинской иерархии. Изысканный порядок средневекового сражения был не про них. Их просто-напросто надо было взгреть.
Маршалы вернулись. Стояла страшная жара, и приближался вечер. Не принимая в расчет драчливых мужланов, рыцари короля решили, что день кончен и пора уже отдохнуть. Они сняли доспехи, переоделись в красивые платья и принялись утолять жажду.
Повстанцы воспользовались тем, что на них не обращают никакого внимания. Они внезапно атаковали королевский лагерь. Прежде чем была поднята тревога, они уже оказались среди палаток.
Королевских солдат, наемных пехотинцев, застали врасплох, когда те безмятежно отдыхали. Солдаты нашли спасение в бегстве, причем их подгоняло воспоминание о резне при Куртре, которую фламандские ремесленники устроили их отцам. На следующий день королевская пехота, почти восстановившая боевой порядок, собралась в Сент-Омере. Ей было пора возвращаться.
Ведь французские рыцари под Касселем быстро опомнились. Одни, у кого было под рукой хоть какое-то оружие, отбили атаку крестьян. Другие поскорей нацепили кто шлем, кто кирасу. Король же в кожаном подшлемнике промчался перед армией на коне, и его длинный налатник, расшитый лилиями, развевался на ветру.
Бароны отвыкли, чтобы французский король лично рисковал жизнью в битве. Такие действия советники Филиппа Красивого считали неосторожными. А как дорого обошлись они Людовику Святому и его королевству![4] Сначала Креси, а затем Пуатье подтвердят правоту Филиппа Красивого и его советников. Но в тот день, 23 августа 1328 г., Филипп VI Валуа продемонстрировал баронам полное презрение к опасности. Впрочем, битва при Куртре был делом одного короля, систематически посягавшего на политические прерогативы баронов. Битва же при Касселе была делом всех феодалов. Никто из баронов не хотел испытать то, что выпало на долю графа Фландрского в течение пяти последних лет. Королевская пехота струсила, но рыцари спасли честь армии. В этом у них был свой интерес, и они это хорошо знали.
Контратака французов заставила людей Заннекина выстроиться в круг, локоть к локтю. Это лишило их всякой возможности отступления. Ведомые графом Эно, королевские рыцари поскакали по кругу, срубая длинными мечами головы мятежников. В ближнем бою луки были бесполезны, а отточенные ножи фламандских пехотинцев ничего не стоили по сравнению с длинными мечами всадников, разящих на всем скаку. Один за другим ряды повстанцев падали в кучу обезглавленных тел.
Из тех, кто бросил вызов королю Франции, не выжил никто. По мятежным городам прокатилась дрожь ужаса.
Королевская армия сожгла Кассель. Ипр предпочел сдаться, не дожидаясь, пока наступит его черед. За ним последовал Брюгге. Король сделал достаточно: он оставил графа Фландрского восстанавливать свою власть, и вернулся в Париж. Дело кончилось новой кровью — смертными казнями. Людовику Неверскому этого хватило.
Филипп VI сумел воспользоваться своей победой, и не только во Фландрии. Пропаганда, мало-мальски умелая, использовала ситуацию, представив сражение при Касселе как «Божий суд». Ведь Филипп Валуа был наследником Филиппа Красивого, победителя при Монс-ан-Певеле. В глазах баронов, как, впрочем, и простых людей, победа добавила легитимности Валуа. Празднества по его возвращении были соразмерны ставке в игре.
Король Франции, трон под которым все еще был непрочным, не просто добился успеха во внутренней политике. Разгром повстанцев в Приморской Фландрии за один вечер окружил Филиппа VI ореолом славы короля-победителя, заставив призадуматься его английского кузена.
Однако же главная ценность этой победы заключалась совсем в другом: она дала куда более значительную и долговременную выгоду в отношении расклада политических сил. Встав во главе французских феодалов, Филипп VI Валуа, только что миропомазанный государь, вернул власть одному из своих крупных вассалов. Граф Фландрский, один из принцев, традиционно не доверявших суверену, обратился к нему за помощью. И не прогадал — король исполнил свою роль защитника.
Выступив защитником поруганной власти, он показал себя и защитником аристократического строя. Почти везде уже сорок лет простой народ в городах, а иногда и в деревне, то и дело приходил в волнение. После трех дождливых летних сезонов в 1315–1317 гг., последствий которых, казалось, устранить так и не удастся, непрестанно нарастали и экономические трудности. Короче говоря, те, кому надо было защищать свой социальный статус, экономическую независимость, право приказывать и судить, забеспокоились. И вот новый король за один день восстанавливает порядок и дает тем, кто особо ощущал угрозу, надежду на безопасное существование.
Тогда, в конце августа 1328 г., ситуация была совсем не похожа на последние месяцы правления Филиппа Красивого и практически все царствование Людовика X, когда в стольких провинциях знать разжигала смуту. Хартии нормандцам, шампанцам, пикардийцам[5] и многим другим были рассчитаны на то, чтобы успокоить феодалов, которых по-прежнему тревожило усиление монархической власти. Чтобы покончить с этими движениями, нужно было подтвердить привилегии и кутюмы, пообещать стабильность монеты, заверить, что налоги не будут превышать оговоренную сумму.
Ради мира Капетингу в свое время пришлось пойти на уступки своим баронам. Теперь перед лицом другой угрозы, более опасной для их власти, в глазах тех же баронов французский король предстал гарантом их прав. Для того, кто только что получил от них корону и чье право на нее все еще оставалось сомнительным, это уже имело немалую цену.
Конец династии Капетингов
Сын короля (Филиппа III), брат короля (Филиппа IV Красивого), дядя королей (Людовика X, Филиппа V, Карла IV, Эдуарда II), зять короля (Карла I Анжуйского), а потом зять императора (Балдуина де Куртене, императора Константинополя) — так иногда насмешливо называли Карла Валуа: сын, брат, дядя, зять королей, но сам не король. Карл Валуа прожил жизнь в окружении корон. Сам он мечтал о королевстве Арагон, где в 1285 г. едва успел перед бегством короноваться, миропомазанный кардиналом, надевшим на него за отсутствием короны свою красную шляпу. Он мечтал о короне Константинополя и о короне Священной Римской империи. Он был папским викарием в Италии. Он правил Флоренцией, царил в Королевском совете при своих племянниках, завоевал Гиень…
От всего этого старшему сыну Филиппу достались в наследство лишь графства Валуа, Анжу и Мен. После смерти Карла Валуа в 1325 г. корона Людовика Святого оставалась еще в руках Капетингов.
Однако в течение одного поколения династическое право уже претерпело много перемен. Еще в начале века ни у кого и в мыслях не было спрашивать, кто получит престол. Со времен Гуго Капета у королей Франции всегда рождались сыновья, что обеспечивало продолжение династии. В 1179 г. Людовик VII еще прибегнул к старому ритуалу назначения соправителя, короновав при своей жизни сына, Филиппа Августа. Через сорок лет Филипп Август уже счел, что к наследованию престола общество достаточно привыкло и не стоит беспокоиться о коронации будущего Людовика VIII. Он был уверен, что никто не оспорит у Людовика VIII право на престол.
От былого избрания остался лишь обрывок, скорей литургический ритуал, чем политический жест, — возгласы одобрения, которые издавали вельможи во время коронации. Вплоть до воцарения Людовика VIII одобрение королю провозглашали перед миропомазанием. На коронации Людовика Святого в 1226 г. это было сделано после миропомазания. То есть восхождение короля на престол уже не зависело от голоса баронов.
Однако в больших и малых фьефах нередки были случаи, когда владения, ввиду отсутствия наследника мужского пола, наследовали женщины. Так, в Аквитании одно время правила герцогиня — Алиенора, графини были у власти в Тулузе и Шампани, так же как во Фландрии и Артуа. Маго, графиня д'Артуа, заседала в самой палате пэров с 1302 г.
За границами Французского королевства женщины могли играть решающую роль в наследовании корон — английской, а также короны Латино-Иерусалимского королевства. Жанна Наваррская принесла своему супругу Филиппу Красивому власть над королевством Наваррой.
Мысль, что женщина займет французский престол, не содержала ничего такого, что могло бы глубоко шокировать баронов. Ни о каком салическом законе[6] никто знать не знал. Королем Франции оказывался мужчина потому, что сыновьям отдавалось предпочтение перед дочерьми, а у королей всегда был наследник престола мужского пола.
Филиппа Красивого в сорок пять лет еще не беспокоила проблема мужского наследования. У него было три сына, удачно женившихся, не считая дочери Изабеллы, королевы Англии благодаря браку с Эдуардом II.
Старший из сыновей, Людовик Сварливый, стал королем Наваррским после смерти матери. После смерти отца он должен был стать королем Франции и Наварры. Его жена Маргарита Бургундская родила ему дочь, но она была молода, и ничто не мешало надеяться на появление сыновей. Что касается младших, Филиппа Длинного и Карла Красивого, соответственно графа Пуатевинского и графа де ла Марша, то они взяли себе в жены двух дочерей Маго д'Артуа и графа Оттона Бургундского, Жанну и Бланку. Филипп Красивый имел все основания полагать, что наследование его престола обеспечено.
Но все рухнуло весной 1314 г., когда разразился скандал с невестками короля. Поскольку мужья оказывали принцессам мало внимания, те развлекались без них. Маргарита Бургундская взяла себе в любовники молодого рыцаря по имени Готье д'Онэ. Брат Готье, Филипп д'Онэ, в свою очередь стал любовником Бланки д'Артуа. Жанна д'Артуа не принимала участия в проделках сестры и невестки, но обо всем знала.
Известно, с какой жестокостью отреагировал на это король: братьев д'Онэ поспешно осудили, а потом казнили с изощренной жестокостью, Маргарита Бургундская насмерть замерзла в башне Шато-Гайяр, Бланка д'Артуа провела десять лет в тюрьме, прежде чем до конца дней отправиться в монастырь. Даже Жанну д'Артуа на время подвергли опале.
Наследованию престола в династии был нанесен тяжелый удар. Тем не менее умышленно вызванная смерть королевы Маргариты должна была позволить королю Наварры, наследнику французской короны, вновь жениться. Но как раз летом 1314 г. у будущего короля Франции не было ни жены, ни сыновей. У него была наследница — Жанна, которой как раз нельзя было отказать в получении королевства Наварры, доставшегося Капетингу по женской линии. Но неверность Маргариты могла в один прекрасный день вызвать сомнения в легитимности Жанны. И тут уже было о чем беспокоиться.
При тогдашнем положении во Франции о воцарении маленькой Жанны нельзя было и мечтать. Это грозило тяжелейшим политическим кризисом. Любой принц в оправдание мятежа мог обвинить королеву, что она незаконнорожденная. И летом 1314 г. никто не рассматривал Жанну как удачное олицетворение будущего французской монархии.
Наследование престола оказалось под угрозой. У Филиппа Красивого было три сына, но ни одного внука. И шансов на то, что он когда-нибудь появится, было куда меньше, чем за полгода до этого. Возможно, пора было выбирать между потомками по женской линии (из союзов с каким родом?) и кузенами — Валуа или Эврё.
Осенью короля сразила болезнь, лишив его иллюзий. Уже было слишком поздно разбираться с наследованием короны — для этого нужно было время на размышление и, несомненно, созыв собрания баронов и прелатов, чьего согласия требовала бы осторожность. Франция достанется королю Наварры. Тому уже следовало бы задуматься над вопросом, кто будет наследовать ему. Во всяком случае, умирающий Филипп Красивый нашел способ показать свои предпочтения в сфере, где он распоряжался, ни с кем не советуясь: он внес изменения в апанажное право.
Апанаж — это владение, обычно фьеф (герцогство, графство, сеньория), которое король заранее выделял из своего домена одному из младших сыновей в качестве будущего наследства. Надо было позаботиться, чтобы будущий король не обделил братьев, которым не повезло родиться раньше него. Так, Людовик VIII раздал младшим сыновьям Артуа, Пуату и Анжу. Не столь щедрый Людовик Святой дал одному из сыновей Валуа, другому Перш и третьему Клермон-ан-Бовези. Филипп III сделал второго сына графом Валуа, третьего — графом д'Эврё. Филипп Красивый уже дал младшим сыновьям Пуату и Марш.
Жалованными грамотами, подтвержденными в самый день его смерти, 29 ноября 1314, он изменил статус апанажа Пуату. При отсутствии наследника мужского пола Пуату отходил к французской короне. Появляется статья о мужском наследовании.
Учитывая возможность, что оный Филипп или какой-то из его прямых или непрямых наследников — графов Пуатевинских может умереть, не оставив наследника мужского пола, чего мы бы не желали, равно как и попадания графства в женские руки, мы повелели нижеследующее: в случае, если оный Филипп или какой-то из его прямых или непрямых наследников — графов Пуатевинских умрет, не оставив наследника мужского пола, повелеваем и приказываем, дабы графство Пуатье вернулось в руки нашего преемника — короля Франции и вошло в королевский домен.
Людовик X едва успел вновь жениться. Проведя восемнадцать месяцев на престоле, он умер 5 июня 1316 г., оставив беременной новую королеву — Клеменцию Венгерскую. У нее родился мальчик, но этот Иоанн I прожил лишь пять дней ноября, и смерть его была слишком на руку некоторым принцам, чтобы в народе не пошли толки о преднамеренной смерти.
Между тем свои права на трон предъявил второй сын Филиппа Красивого. Филипп Пуатевинский находился в Лионе. Он вернулся в июле и сразу же добился, чтобы «Совет магнатов», которому временно было поручено управлять страной после смерти Людовика X, признал его регентом. Ассамблея принцев, епископов и баронов утвердила его в качестве «хранителя» королевства. Если бы королева родила сына, на время его несовершеннолетия Филипп стал бы регентом, как в свое время Бланка Кастильская. Но ребенок был бы королем с рождения.
Если же на свет появится девочка, ассамблея передаст полномочия принять окончательное решение другой ассамблее, которая соберется, как только дочери «придут в возраст», то есть достигнут тринадцати лет. Корона Франции останется «на хранении» регента, пока не будет известно… желают ли ее дочери Людовика X. Занятный момент, особенно если учесть, что герцог Бургундский, брат Маргариты и дядя юной Жанны, уже выразил протест от имени племянницы, что ей не передали сразу же Шампань — крупный фьеф, составлявший вторую половину наваррского наследства Капетингов по женской линии.
Итак, в 1316 г. положение было неясным. Никто не решался говорить, что Жанна получит все, если у нее не будет брата, но уже не шла речь и о том, что у нее вообще нет никаких прав. И количество дочерей короля — две или одна, если одна умрет, — роли не играло: кто получит корону из рук регента или принцессы, достигшей тринадцати лет, должно было выясниться лишь позже. Конечно, возникала странная перспектива междуцарствия, но для людей, которые уже полвека видели вакантным императорский трон, она была не столь уж непривычной[7].
А Филипп Пуатевинский вел себя так, словно все уже решено. Видимо, еще до рождения Иоанна I регент заказал какому-то парижскому граверу королевскую печать с изображением суверена, сидящего на троне, которую он мог бы сразу использовать, как только королева родит дочь. Иначе как объяснить тот факт, что к моменту смерти Иоанна I печать Филиппа V была уже готова?
Кончина Иоанна Посмертного все перевернула. Он царствовал пять дней, однако же царствовал. В ноябре речь шла уже не о наследнике Людовика X — этот вопрос худо-бедно решило июльское собрание. Речь шла о наследнике Иоанна I, а таковой предусмотрен не был.
С июня в политическом раскладе сил действовал новый фактор. В июне, когда умер Людовик X, Филипп Длинный находился в двух неделях пути от Парижа. В ноябре же он был в Париже. Он немедленно собрал вельмож, привлеченных в столицу рождением короля. Своему дяде Карлу Валуа и брату Карлу де ла Маршу, которые пытались противиться, он заявил, что считает себя «самым прямым наследником королевской власти». С конца ноября он принял титул короля и извлек из сундука новенькую печать. 9 января в Реймсе его миропомазали на царство.
На церемонии присутствовали далеко не все. Герцог Гиенский Эдуард II принес извинения. Герцог Бретонский извинился позже. Эд Бургундский не извинился: герцог со скандалом покинул Париж, потому что его племяннице Жанне не отдали должное. Пока в Реймсе короновали короля, к которому он метил в зятья, герцог Бургундский сколачивал коалицию недовольных и не колеблясь пошел на союз с мятежными фламандцами. В следующем году его успокоили: Жанна Наваррская, его племянница, получила ренту в пятнадцать тысяч ливров, а сам он добился, чтобы его невесте, дочери нового короля, обещали отдать графства Артуа и Бургундию, которые король, естественно, унаследовал после смерти своей тещи Маго.
В качестве подстраховки приняли решение, которое было не единственным: Жанна Наваррская на двенадцатом году жизни должна была подтвердить договор, лишавший ее Наварры и Шампани. Таким образом, все наследство Жанны I Наваррской, жены Филиппа Красивого, оценили в пятнадцать тысяч ливров.
Филипп V добился, чтобы корона не досталась его племяннице. Таким образом, возникла тенденция, чтобы мужское наследование, введенное Филиппом Красивым для одного апанажа, стало правилом и для всего королевства. Но будет неправильным предполагать, что в 1316 г. нашли четкое решение проблемы. Июльское собрание кардинальным образом не решило ничего. А менее многочисленное и еще хуже организованное ноябрьское лишь признало факт: Филипп Пуатевинский уже находился у власти.
Недостаток Жанны состоял в том, что она была девочкой, к тому же ребенком. И в довершение всего, возможно, внебрачной дочерью королевы. А Филипп Пуатевинский был зрелым человеком, способным выполнять обязанности короля. Отец ввел его в курс дел. На войне и в хитросплетениях королевской дипломатии с ним познакомились французские принцы. Человеком он был умным, хитрым, волевым. Он всегда знал, что делать.
Карл де ла Марш, третий сын Филиппа Красивого, восхождение на престол Филиппа V воспринял враждебно. С братом-графом в Совете королевы-ребенка он мог бы бороться за власть. В Совете же брата-короля он не мог рассчитывать на заметную роль. Тем не менее в 1322 г. он стал наследником брата на основе того же принципа. У Филиппа V остались четыре дочери; никому не приходило в голову, чтобы одна из них стала королевой Франции. Карл Красивый принял корону так, как будто это разумелось само собой. Никто не проронил ни слова.
Шесть лет царствования — и история повторилась. Скончавшись 1 февраля 1328 г., Карл IV оставил вдовой третью жену, находящуюся на седьмом месяце беременности. Он заранее отдал распоряжение: если жена родит сына, когда Карл уже умрет, тот станет королем при регентстве кузена Филиппа Валуа; если ребенок будет девочкой, пэры и великие бароны изберут королем того, чьи притязания на престол они посчитают самыми обоснованными. Лучшего способа умыть руки нельзя было и придумать…
Филипп Валуа
Ситуация 1328 г. не была точной копией ситуации 1316 г. Тогда Филипп Пуатевинский был одновременно ближайшим из взрослых родственником, ближайшим родственником мужского пола и старшим из близких родственников умершего короля. Карл был младше, Изабелла — еще младше, а Жанна — совсем ребенком. Остальные приходились ему лишь кузенами.
В 1328 г. Филипп Валуа не был ни ближайшим к прежнему королю на генеалогическом древе — таковой была Изабелла, королева Англии, — ни самым прямым его потомком, так как у последних Капетингов остались дочери, у которых теперь были мужья. Но граф Валуа был ближайшим из родственников мужского пола, и ему исполнилось тридцать пять лет. Он был старшим мужчиной в роду, и именно в таком качестве его все и воспринимали. Он считался мудрым. У него была репутация отважного рыцаря. Заботясь о правах других как о своих, он пользовался уважением баронов, воспринимавших его как «своего брата».
На следующий день после похорон Карла IV собрались вельможи. Похоже, Валуа тогда уже занимал должность регента. А может быть, он занял ее, когда его царственный кузен агонизировал. И собранию в полном составе оставалось лишь примириться с фактами.
С того момента юристы, к которым обращались за консультацией, неминуемо выражали сомнение, по-настоящему ли обосновано решительное отстранение женщин от наследования престола. Среди докторов гражданского и канонического права, заседавших вместе с магнатами королевства, некоторые в ходе дебатов выдвинули новое имя: Эдуард III, король Англии, — не только внук Филиппа Красивого, но и его единственный потомок мужского пола. Валуа же был лишь племянником Филиппа Красивого…
Естественно, нашелся способ отмести этот аргумент. Если бы женщины имели право на корону, то преимущество по праву первородства было бы у дочери Людовика X. Однако же ее отстранили. Если же женщины не имеют права на престол, а похоже, так оно и есть, то каким это образом Эдуард III получил от матери право, которого у нее не было?
И потом, если право Эдуарда III будет признано, быстро возникнет полная путаница. Он настроит против себя всех сыновей, которые непременно родятся у дочерей Людовика X, Филиппа V и Карла IV. Рожденный четырьмя годами позже сын одной из них, Карл Злой, часто будет напоминать в пику Иоанну Доброму, что приходится внуком Людовику X.
В реальности обсуждать этот вопрос не слишком спешили. Главное было в другом: французским баронам не хотелось подчиняться государю-иностранцу, даже если его дед был французом. И неважно, что по-французски он говорит лучше, чем по-английски! То же можно было сказать о большинстве королей, известных парижскому двору.
Никогда не видывали и не слыхивали, чтобы Французское королевство подчинялось власти короля Англии.
Добавим сюда то, о чем бароны молчали на ассамблеях, но не на тайных сборищах. Они не отвергали короля. Они хорошо знали, что король им нужен. Но слишком могущественный король — это было совсем не то, чего искали феодалы, пятнадцать лет назад объединившиеся для борьбы с злоупотреблениями монархии. Ведь ситуация с Эдуардом III была парадоксальной. За год до того он взошел на престол в результате мятежа, в ходе которого был убит его отец Эдуард II. Слишком юный — ему исполнилось семнадцать, — чтобы по-настоящему властвовать, он полностью находился под влиянием матери, Изабеллы Французской, очень сильной по натуре женщины, и барона, которого все знали как любовника королевы, — Роджера Мортимера. А французские бароны в Париже знали об этой связи, которую Изабелла даже не пыталась скрыть, и негодовали.
Короче говоря, Эдуард III был слишком слаб, чтобы иметь какие-то шансы на успех в борьбе за корону своего деда Филиппа Красивого, но потенциально слишком силен, чтобы французские феодалы нашли выгодным объединение английской и французской корон на голове этого слабого юноши.
Поэтому участники больших собраний в феврале 1328 г. сочли более естественным искать короля среди своих. Кандидатов в наследники хватало, но по-настоящему никто даже не мечтал тягаться с графом Филиппом Валуа. Он был старшим из мужчин — представителей мужской линии как сын того Карла, который представлялся в своих актах «сыном короля Франции, графом Валуа». Лишение дочери Людовика X наследства в 1316 г. в конечном счете привело к тому, что в 1328 г. королевство наследовал Филипп Валуа. Архиепископ Жан де Мариньи — брат того самого Ангеррана, которого повесили в 1315 г., — заявил об этом без обиняков перед всеми прелатами и баронами, в подтверждение применив Евангелие к геральдике при помощи риторической фигуры, привычной для схоластов:
Лилии не прядут.
Ребенок, которого ожидали, оказался девочкой. Можно было полагать, что тогда Филипп Валуа сразу станет королем. Не тут-то было, и в апреле регенту еще пришлось вести переговоры с баронами. Во время этих последних переговоров, ставка на которых уже определилась, он вел себя еще осторожней, чем в феврале. Впрочем, особого беспокойства он не проявлял: к моменту, когда вдовствующая королева должна была родить, он не побоялся уехать в Нормандию.
Регенту, чьего права на престол никто по-настоящему не оспаривал, корона стоила также уступок земли и денег, обещания вторгнуться во Фландрию — это будет Кассель — и быстро пресечь административные злоупотребления, те самые, исправить которые обещал когда-то Филипп Красивый, чтобы королевство поддержало его борьбу с папой Бонифацием VIII. В эти дни, когда впервые с 987 г. обладателя французской короны почти по-настоящему избирали, претендент действовал осторожно. Он не приказывал до срока, как недавно сделал его кузен Филипп V, изготовить королевскую печать со своим именем. Он дождался миропомазания в Реймсе 29 мая 1328 г. и лишь тогда заменил печать, изготовленную два года назад, после смерти его отца Карла — на ней был изображен граф Валуа на коне, с поднятым мечом, — на совсем новую с фигурой монарха, восседающего на готическом троне.
Эдуард III и немногие его сторонники не строили никаких иллюзий. Франция хочет короля — «уроженца королевстве». Но Эдуард ни о чем не забывал. Он заговорил о дне, когда сможет вернуть себе свои «права и наследие». С мая 1328 г. он напоминал Филиппу VI о себе как о «прямом наследнике» королевства Франции. Далее он был вынужден пойти на уступку — принести оммаж за Гиень в Амьене. Тем самым Эдуард спас то, что осталось у него от Гиени, но признал своего кузена Валуа королем Франции.
Когда на обоих берегах Ла-Манша начнут готовиться к войне, Эдуард и его окружение вновь предъявят права сына Изабеллы Французской. Созванный в Ноттингеме в сентябре 1336 г. парламент заявит о необходимости защитить права короля. «Мужской закон» на этом военном рынке ничего не стоил, но он давал больше, чем предлог: он давал оправдание.
Отметим, что к тому моменту ни у кого еще не было нелепой мысли ссылаться на древний салический закон франков, основательно забытый самими юристами. В этом тексте, в последний раз пересмотренном при Карле Великом, ничего не говорилось об организации государственной власти. Как и все «варварские» законы, как закон вестготов или бургундов, франкский закон закладывал основы общественных и имущественных отношений, назначал денежные штрафы, «композиции», в возмещение самых разных убытков, от убийства до кражи лошади, от выколотого глаза до расторжения помолвки. В статье о наследовании «свободной» земли говорилось, что женщины из него исключаются. Первым, кто вспомнил об этом правиле и применил его к французской короне, сразу после поражения при Пуатье, был один хронист, которому ничего оригинальнее в голову не пришло.
Наваррское наследство
Однако остальную часть наследства, то есть Наварру и Шампань, французские принцы не намеревались так просто оставлять Валуа. После смерти Людовика X, а потом Филиппа V предпочтение здесь всякий раз отдавалось брату, а не дочери. Карл IV умер в 1328 г. королем Франции и Наварры. Но к тому моменту уже подросла дочь Людовика X, которую в 1316 г. вельможи Французского королевства полностью лишили наследства. Она отреклась от всего, и ей возместили ущерб. Но по достижении совершеннолетия она не подтвердила отказ от Наварры, который к тому же был лишь временным.
Если дочери имели право наследовать Наварру (а как утверждать обратное?), то она была старшей из внучек королевы Жанны Наваррской, жены Филиппа Красивого. И у нее теперь был муж, способный претендовать на престол, — ее кузен Филипп д'Эврё, сын второго брата Филиппа Красивого. Если бы ветвь Валуа пресеклась, Филипп д'Эврё стал бы старшим из принцев крови. Впервые со времен Гуго Капета французская корона переходила к кузену короля, и Филипп д'Эврё был вне себя из-за того, что он — лишь второй из кузенов. Пусть хотя бы в отношении Наварры и Шампани дело пойдет иначе!
С Филиппом д'Эврё и его женой соперничали все дочери Филиппа V и Карла IV. Ведь оба этих короля тоже были королями Наварры, и их дочери не отказались, как это сделала Жанна, или, точнее, как это сделали от ее имени, от наваррского наследства отца и бабки. У кого больше прав в долгом ряду внучек королевы Жанны, принесшей Капетингам Наварру: у старшей из них или у дочери того, кто царствовал последним? Естественно, дочери двух последних Капетингов догадались напомнить, что им, в отличие от Жанны, никакого ущерба не возместили.
У этих дочерей были свои защитники. На старшей из дочерей Филиппа V женился Эд, герцог Бургундский, который тоже мог бросить на весы свое влияние. Все знали, что мать герцога была дочерью Людовика Святого, и как только заговорили о правах женщин, Эд Бургундский и его жена объединили титулы. Что касается детей последнего короля, Карла IV, они выдвинули притязания от имени собственной матери — королевы Жанны д'Эврё, третьей жены несчастного мужа, которого некогда обманывала Бланка д'Артуа. Таким образом, здесь выдвинулся род д'Эврё, который по восшествии Валуа на престол стал первой боковой ветвью французского королевского дома, но благодаря брачным союзам мог носить цвета прямых потомков Капетингов.
Во всей этой ситуации крайне мало интересовались мнением наваррцев. А ведь столицей Наварры была Памплона, а не Париж. Наваррцам надоело, что за них все решают в Париже, им прежде всего хотелось снова получить полноправного правителя. Они не могли считать Наварру придатком Франции.
В то время как где-то сговаривались без них, наваррские бароны заявили, что не признают ни одного из договоров о наследовании, заключенных после 1316 г. И, мол, во всяком случае принесут оммаж лишь дочери старшего сына своей прежней королевы. Все наваррцы без исключения стояли за Жанну и ее мужа Филиппа д'Эврё.
Едва ли они могли задаваться вопросом о принципе женского наследования. Наварру Франции принесла королева. Если даже наследницей может стать только девушка, то что в этом такого? Жанна младшая настолько же к этому способна, как и ее бабушка Жанна. Наварре уже было нечего бояться того, что пугало французов и толкало их к признанию мужского наследования, — вдруг корона случайного перейдет неведомо к какому роду. Франция не хочет короля-иностранца? Наварра же за век побывала в руках сначала шампанцев, затем Капетингов…
Впрочем, это не все. Королева Франции Жанна Наваррская продолжала заниматься шампанскими делами, но почти не уделяла времени Наварре. Жена Филиппа Красивого из Парижа могла управлять Труа, но не Памплоной. Ее сын Людовик X унаследовал оба королевства, но интересовала его прежде всего Франция. Наваррским баронам надоела зависимость от французской короны. Шампанцы все же жили в своем королевстве по ту сторону Пиренеев. А с французской династией во главе Наварре грозила опасность превратиться просто в кусочек Франции. Заявляя о выборе в пользу Эврё, наваррцы хотели получить короля, который был бы только их королем, только королем Наварры и больше никаким.
Филипп VI мог отказаться от Наварры, но не от Шампани. Всего век назад графы Шампанские создали серьезнейшую угрозу королевскому домену, и союз шампанцев с кем бы то ни было был опасен для короны. Новый король Франции не мог допустить, чтобы один и тот же принц был графом Шампанским и одновременно первым из нормандских баронов. Это стало вопросом безопасности Парижа — тем хуже было для Наварры.
Поэтому Большой совет, созванный в апреле 1328 г. в Сен-Жермен-ан-Ле, разделил наваррское наследство: Наварра достанется роду Эврё — вместе с королевской короной в утешение тем, кто едва не ухватил корону французскую, а Валуа сохранят Шампань и Бри, обязавшись дать за это компенсацию.
Филипп VI избавился от угрозы со стороны опасного восточного соседа. Но до сих пор существовал лишь один вассал короля Франции, чей вассалитет был проблематичен, потому что он сам был королем, хотя и не во Франции, — Эдуард III. А теперь появился еще один такой. Крупнейший из нормандских баронов сам стал королем.
Что касается семейства Эврё, оно совершило большую ошибку, не потребовав компенсации немедленно. Оно обменяло Шампань и Бри неизвестно на что. Когда в 1336 г. выяснится содержание этой компенсации, обнаружится, что это только нормандское баронство Мортен и, всего на время, графство Ангулемское. Сын Филиппа д'Эврё и Жанны Наваррской еще вспомнит, что его обокрали. Сын этот будет жалеть о том, что родился слишком поздно, чтобы получить долю в наследстве Капетингов, и войдет в историю под именем Карл Злой.
Родившись в 1332 г., Карл д'Эврё станет графом д'Эврё после смерти отца — по отцовской линии он был внучатым племянником Филиппа Красивого. После смерти матери он станет королем Наварры — по материнской линии он приходился внуком Людовику X. Потомок Филиппа III по мужской линии, как и Филипп VI Валуа, по женской линии он был ближе всех к последним Капетингам. Пока преимущество в наследовании будет отдаваться мужской линии, ему будет нечего сказать. Если же англичанин поставит этот принцип под сомнение, то Карл д'Эврё, он же Карл Наваррский, сможет проскользнуть в брешь.
Робер д'Артуа
Однако дело Артуа принесло Филиппу VI нового врага, совершенно далекого от борьбы за французскую корону, но готового вмешаться в эту борьбу, чтобы отомстить за ущемление собственных прав.
Погибший в битве при Куртре в 1302 г. Робер II д'Артуа, племянник Людовика Святого, оставил после себя спорное наследство по единственной причине: его сын Филипп сошел в могилу раньше него. Вместо этого сына, погибшего в 1298 г. при Фюрне, чье первенство перед сестрой Маго никто бы не оспорил, у Робера оставался теперь лишь один наследник мужского пола — внук, которого тоже звали Робер. Кандидатуру этого пятнадцатилетнего мальчика при дворе короля никто не поддержал.
Зато Маго была женой Оттона IV Бургундского — очень ценного человека, того самого разочаровавшегося во всем принца, который позволит Капетингу почти без труда присвоить имперскую землю, какую тот и не надеялся получить, — графство Бургундское, иначе говоря, Франш-Конте. В Оттоне нуждались, Маго была уже влиятельной персоной, а Людовик Святой, отдав в свое время апанаж Артуа брату Роберту, никак не оговорил, что его могут наследовать только мужчины. Известно, что во французском династическом праве такая оговорка появилась лишь в отношении Пуату в день смерти Филиппа Красивого.
Похоже, само право было на стороне Маго. Кутюмы[8] Артуа не позволяли внуку наследовать сыну по праву представления. Наследство получал тот из детей, кто пережил другого, будь то мальчик или девочка. Поэтому король и пэры графство Артуа единогласно отдали Маго, а ее племяннику Роберу было предложено удовлетвориться графством, которое едва можно было считать таковым, — Бомон-ле-Роже.
С тех пор Робер д'Артуа не упускал ни одного случая заявить, что его обокрали. В 1316 г., во время больших феодальных волнений, он возглавил баронов Артуа в борьбе против графини. От Филиппа V, заключив с ним мир, он даже добился проведения расследования, результаты которого, к его досаде, подтвердили решение 1302 г.: суд пэров в мае 1318 г. снова отказал Роберу в притязаниях на графство.
Племянник Маго пока еще был всего лишь недовольным. В основном он вел себя как французский принц и верный вассал своих капетингских кузенов. Филипп V, даром что был зятем Маго, поручал Роберу д'Артуа разные миссии. Карл IV в свою очередь осыпал его милостями и подарками. Благодаря блестящей женитьбе он стал зятем Карла Валуа и покойной Екатерины де Куртене, наследницы титула константинопольских императоров. Так Робер д'Артуа сделался свояком Филиппа Валуа, взошедшего на престол в 1328 г.
Кстати, на Совете в феврале 1328 г. он встал на сторону графа Валуа. Филипп VI об этом не забыл — сделал его пэром Франции, давал ему одну пенсию за другой. На Совете к Роберу д'Артуа прислушивались. В королевском окружении его считали доверенным человеком короля. Для общественного мнения он был другом короля, его спутником. Он мог бы довольствоваться таким положением.
Но Робер, напротив, полагал, что пришло время возобновить давнюю распрю с теткой Маго. Он рассуждал так: в свое время она взяла над ним верх благодаря своему фавору. Теперь в фаворе он. Момент благоприятный. К тому же в сфере, где обычаи создают закон, — разве не на обычаи, кутюмы, Артуа сослались в 1302 г., чтобы отстранить Робера? — а прецедент создает обычаи, произошли изменения. Граф Фландрии Роберт Бетюнский только что оставил графство Людовику Неверскому, старшему из внуков, а не кому-либо из сыновей, переживших старшего сына. Робер д'Артуа имел все законные основания думать, что этот прецедент, столь близкий как во времени, так и в пространстве, повлияет на кутюмы в его пользу.
Этот новый эпизод имел все признаки феодального конфликта: союзы между принцами, вмешательство сюзерена, приговор суда пэров. Робера поддержали герцог Бретонский и граф Алансонский, брат короля. Это был его козырь. Он связался и с теми обитателями Артуа, которых авторитарные замашки Маго побуждали плести нечто вроде непрерывных заговоров.
Кстати предложила свои услуги и бывшая подруга влиятельного советника Маго — Тьерри д'Ирсона. Ее звали Жанна де Дивион. На предстоящем процессе Роберу д'Артуа предстояло доказать, что во время женитьбы его отца Филиппа граф Робер II выразил волю: при наследовании Артуа наследники Филиппа будут иметь преимущество перед Маго. Жанна де Дивион вызвалась предоставить свидетелей.
Позже все эти свидетели в свое оправдание скажут, что боялись отказать принцу, который казался им всемогущим приближенным короля.
Смерть Маго в ноябре 1329 г. ускорила события. Филипп VI взял под охрану графство Артуа до тех пор, пока собравшийся суд пэров не вынесет окончательный приговор, как все ожидали, — благоприятный для Робера. Кстати, управлять этим наследством король временно назначил барона Ферри де Пикиньи, о котором было известно, что он не ладил со старой графиней. Что касается наследницы Маго, то это была вдова Филиппа V, та самая Жанна д'Артуа, которая в свое время была замешана в адюльтере сестры и невестки; ей позволили дать временный оммаж — тем более временный, что вскоре она умерла. Некоторые считали, что эта смерть оказалась очень на руку Роберу.
На самом же деле смерть Жанны д'Артуа больше всех устраивала главного противника Робера в суде пэров — герцога Бургундского, жена которого, дочь Филиппа V, должна была наследовать графство Артуа в том случае, если Роберу вновь откажут.
Дело оказалось настолько запутанным и так раскололо суд пэров, что Филипп VI едва не разрешил его худшим образом — оставив Артуа себе, а всем, кто имел права на это графство, то есть Роберу д'Артуа и Эду Бургундскому, выплатив компенсацию. Но эту идею заблокировали штаты Артуа, отказавшись утвердить подать, необходимую для компенсации. Вполне очевидно, что от такого решения население ничего бы не выиграло.
Итак, надо было завершать процесс, поскольку компромисс оказался невозможен из-за отсутствия денег. Процедуру возобновили. 14 декабря 1330 г. клирики парламента на слушании провели экспертизу документов, предоставленных Робером д'Артуа в подтверждение своих слов, — оказалось, что это подделки. Грубые подделки. Фальсификатора быстро разоблачили: им была Жанна де Дивион.
Нетрудно угадать, какое началось возмущение. От Робера отвернулись самые преданные сторонники. Король тотчас же его покинул. Герцог Эд Бургундский и его свояк Людовик Неверский, граф Фландрский торжествовали. Суд пэров немедленно вынес первое решение по этому гражданскому иску: Робер д'Артуа не имеет никаких прав на наследство деда. Он в третий раз проиграл.
Но теперь процесс принял уголовный характер, дав всем любителям ловить рыбку в мутной воде повод посплетничать и выплеснуть злобу. Исход подобного процесса был предсказуем — ведь изготовление поддельных королевских актов было преступлением, которое квалифицировали как оскорбление величества. Если королевское правосудие не будет применять самые суровые санкции к тем, кто использует в общественных отношениях подложные или поддельные королевские акты, что станется с доверием к королевской печати? Король не мог прощать тех, кто подрывает одно из главных средств проявления его суверенной власти — юрисдикцию, символом которой было скрепление печатью только подлинных актов. 6 октября 1331 г. Жанна де Дивион взошла на костер.
Нельзя было не привлечь к суду и Робера д'Артуа. Он понял, что ему грозит, и предпочел исчезнуть. Впрочем, теперь он остался один. Справедливо или нет, но изготовление фальшивок сочли признаком, что его дело безнадежно. Очень немногие, как аббат Везеле, дали знать злополучному принцу: подложны документы или нет, но его право на Артуа все-таки обосновано.
К тому же Робер разорился. Он хвастался, что запросто получит кредит от некоторых парижских финансистов. Но эти бюргеры поспешили заверить короля, что ничего он не получит.
Слишком желая доказать свою правоту, Робер д'Артуа сам обрек себя на несчастье. 6 апреля 1332 г. суд пэров отправил его в изгнание. Из пэров лишь один, герцог Бретонский Иоанн III, проголосовал против.
В ближайшем будущем полный крах притязаний правнучатого племянника Людовика Святого пока не скажется на франко-английских отношениях. Эдуард III уступил в вопросе оммажа, а значит, отказался от всяких притязаний на французский престол. За свое герцогство Аквитанское или за то, что от этого герцогства осталось, он признал себя ленником своего кузена Филиппа VI. А ведь в Совете короля Франции теперь было вакантное место — очень видное, которое до сих пор занимал Робер д'Артуа. Понятно, что знатные бароны, которые совсем недавно по примеру Эда Бургундского выражали некоторую симпатию к англичанам, быстро пошли на попятный.
Тем не менее Робер д'Артуа после путешествий в Намюр, Лувен, Брюссель и даже в Авиньон решил перебраться в Англию. Не то чтобы он был очень к этому склонен, но ему почти не оставалось других вариантов. Если кто-то и сможет стать орудием мести графа Робера, то только английский кузен. Ведь Робер не признавал себя побежденным:
Он стал королем с моей помощью. С моей помощью он и потеряет корону.
Переодевшись купцом, весной 1334 г. он достиг Англии. Подрывная работа началась. Какая важность, что Эдуард III пришел к соглашению с французским кузеном, — он охотно прислушается к тому, кто сулит ему изумительные союзы, если ему помогут отомстить. И то, что открыто сказал английскому королю Робер д'Артуа, пока не говорил ему ни один из французских баронов: сын Изабеллы Французской — более близкий родственник Капетингов, чем граф Валуа. Эдуард об этом догадывался и так, говорить ему это было незачем. Тем не менее слова Робера подстегнули его амбиции.
Дело идет к войне
Тогда-то и были задействованы все фигуры на шахматной доске. Весной 1336 г. Англия трепетала при мысли о французском вторжении: чтобы Валуа не вмешался в шотландские дела, следовало атаковать его на материке. Поставив под сомнение легитимность Филиппа VI, Робер д'Артуа дал всего лишь новый аргумент. На самом деле война была неизбежна уже два века. Со времен Алиеноры, герцогини Аквитанской, — вассала Франции и супруги короля Англии.
В других случаях делали все, чтобы избежать войны или побыстрее ее закончить. Когда-то — Людовик Святой, недавно — Филипп Красивый не посмели обобрать законного наследника прежних герцогов Аквитанских. Силовое решение проблемы Гиени казалось Капетингам чем-то несправедливым, недостойным сюзерена. Вторгнуться в Гиень и заставить вассала подчиниться — да. Отобрать у него землю предков — нет. Ее просто держали на голодном пайке.
Плантагенет в то же время как будто меньше всего хотел ввязываться в аквитанские войны, где, со всей очевидностью, потерял бы больше, чем приобрел. Не было ничего и близкого к коалиции, разбитой при Бувине и при Ла-Рош-о-Муане в 1214 г., — коалиции, при помощи которой импульсивный Иоанн Безземельный и его союзники из Фландрии и империи пытались взять в клещи королевский домен и столицу Капетингов. Сражаясь с шотландцами, с валлийцами, со своими же английскими баронами, король Англии давно добивался мира на своих гиенских границах.
Но внезапно ситуация резко переменилась. Дело пошло к войне. Эдуард догадался, что его баронам скучно: позволив им реализовать свою активность и жажду прибыли на материке, он на некоторое время ограждал свою корону от заговоров. Уже двадцать лет английский двор был клубком змей. Кланы боролись за власть. Каждый фаворит был ставленником той или иной клики. Сначала на вершине оказался любовник короля — Хьюго Диспенсер, потом любовник королевы — Роджер Мортимер. Казни и заговоры шли сплошной чередой.
Эдуард начал рассуждать, как когда-то папа Урбан II, провозгласивший крестовый поход: вместо того чтобы драться между собой и против власти, установленной Богом, пусть лучше они едут за море воевать против общего врага!
Филипп VI, со своей стороны, был монархом более амбициозным, он пытался организовать свое управление и выяснил то, что его дядя Филипп Красивый двадцать лет назад познал на горьком опыте после победы над фламандцами: мир — это бедность. Тогда, в начале XIV в., никто еще не был готов понять, что верховная власть нуждается в других постоянных ресурсах, помимо тех, которыми королевский домен снабжает короля как землевладельца. Естественно, как и Капетинг, Валуа располагал настоящим земельным состоянием, благодаря чему король Франции мог удерживать свое место среди феодалов. Жизнь двора, охота, приданое для дочерей, посвящение в рыцари сыновей, щедрые дары принцам и милостыня бедным — все это было обеспечено более чем прилично, король-сеньор мог быть доволен, равно как и король-сюзерен.
Но функционирование государства обеспечено не было. Королю-суверену не хватало средств для управления. Администрация, которая мало-помалу распространялась по территории королевства, правосудие, особенно апелляционное — лучший инструмент для расширения королевских прерогатив в ущерб феодалам, королевские гарантии как сделок иностранных купцов во Франции, так и соглашений между бюргерами по разделу муниципальной власти, — все это предполагало такую королевскую власть, которая имеет постоянные источники финансов, причем иные, чем домениальный доход короля-собственника и феодальный доход, который король может получить от вассалов.
А вот получать «экстраординарные» доходы обычай позволял суверену только ради «общей пользы», для обороны королевства. Со времен Филиппа Красивого они были официально признанным эквивалентом военной службы и выплачивались в случае военной угрозы. В качестве такой службы король мог предпочесть получить деньги, чем плохо экипированных и плохо обученных людей.
Во времена фландрской войны, особенно в мрачные годы после разгрома при Куртре (1302 г.), на население Франции обрушился шквал налогов. Прежде такого никогда не было. А через три года впервые заметили, что победа и мир лишают короля экстраординарных финансовых средств, благодаря которым он во время войн мог нести государственные расходы. Эти годы вновь обретенного мира стали годами различных временных решений денежного вопроса: к принудительным займам склоняли поочередно евреев и ломбардцев, тамплиеров и жителей «добрых городов».
Но сказать, что Филипп VI искал войны из потребности в деньгах, было бы преувеличением. Он просто видел, что можно приобрести, если готовишься к войне. От десятины, которую папа разрешал взимать с доходов церквей — на подготовку крестового похода, а пока он не начался, на то, чтобы покончить в Европе со всем, что этому походу мешает, — до налога на земельное имущество или на продажи, на который соглашались Генеральные или провинциальные штаты для защиты общих интересов, — все это было связано с понятием мобилизации королевства во имя доброго дела.
К тому же Филипп VI, который знал, что его власть еще недостаточно прочна, и должен был осторожно вести себя с теми, кто возвел его на престол, не мог пренебречь политическими выгодами от вооруженного конфликта. Лавры, которые он стяжал под Касселем в 1328 г., немало способствовали легитимизации выбора династии. Но они вскоре завяли.
Глава II Прерванный рост
Оба короля приходились друг другу кузенами. Многие высокородные бароны, как, впрочем, и многие простые оруженосцы, многие дворяне имели фьефы, союзы и родню по обе стороны Ла-Манша. Английская канцелярия в тех актах, которые не хотела составлять на латыни, использовала французский язык. А к «английской нации»[9] Парижского университета принадлежало столько же английских клириков, сколько их училось в колледжах Оксфорда или Кембриджа.
Различия
Все это не должно скрывать от нас глубокого различия между обеими странами. Английский воин, высадившийся на материке (он чаще говорил на англосаксонском или валлийском языках, чем на французском, языке своих военачальников), очень быстро замечал эти различия и в дороге, и в тавернах. Что же касается среднего француза из города или деревни, то поначалу он ненавидел англичанина за то, что тот — солдат, а потом за то, что тот — англичанин. Люди Черного принца еще не были оккупантами. Во многих областях оккупантами станут люди Бедфорда.
Действующие лица этой истории труднее всего воспринимали различия в политической структуре. Разглядеть их можно только с временной дистанции. Однако отмечали, что Генеральным штатам Филиппа VI и Иоанна Доброго не удалось поставить под политический контроль деятельность короля, а английский парламент это сделать смог: Штаты обессиливало мелочное соперничество между лоббистскими группами.
Зато наблюдателя, прибывшего с другого берега Ла-Манша, поражала чрезвычайная плотность населения в королевстве Валуа. Не меньше удивляли его внушительные города и феномен урбанизации.
Англия насчитывала немногим более трех миллионов жителей, возможно, трех с половиной. В то же время в королевстве Франции проживало пятнадцать миллионов человек, в нынешних границах Франции — от двадцати до двадцати двух миллионов. Валуа были богаты людьми — подданными, подсудными, податными.
Обе страны были неравномерно заселены, насколько можно верить подсчетам их населения — по числу держателей, записанному в сеньориальных документах, заседателей в юридических документах, «очагов» (feux) в налоговых документах. Эти очаги еще были лишь единицей посемейного налогообложения, и с течением времени их число имело все меньше отношения к реальности. В начале XIV в. очаг еще означал семью, горящий очаг. Но в некоторых деревнях это была почти патриархальная группа — все потомки, объединенные вокруг старейшины. В других деревнях и в большинстве городов это был супружеский очаг, включавший родителей и холостых детей, если его не составляла вдова или наследница, оставшаяся в одиночестве. В конце века все еще говорили об «очаге», но лишь как о базовой единице для раскладки налогов, на основе которой получали цифру, характеризующую деревню, приход или диоцез, цифру, которую умножали на определенный коэффициент для расчета суммы налога, подлежащей истребованию: столько-то су с очага означало, что город платит столько-то су, умноженное на число очагов, но вовсе не значило, что столько же су платит каждая семья. А число очагов было предметов торга.
На протяжении долгой истории взаимоотношений между королем и его податными людьми в конце XIV и на протяжении всего XV в. число очагов в провинции, сенешальстве, диоцезе, городе, приходе постоянно росло, а чаще всего уменьшалось. Это зависело не от того, больше или меньше становилось жителей, а от того, процветали они или разорялись, покровительствовал ли им какой-нибудь член Королевского совета или у местных чиновников были иные друзья.
Несмотря на ненадежность наших цифр, можно сказать, что в Нормандии, в Иль-де-Франсе или в Пикардии в некоторых районах проживало более сотни жителей на квадратный километр и что такой же была плотность населения на плодородных землях графства Лестершир. Некоторые территории никогда не были так заселены и в будущем не смогут восстановить численность населения 1300-х гг. Люди селились даже в затопляемых зонах низких прибрежных долин. Заселенность склонов Центрального массива превышала, причем намного, современную: в горах Мон-Дор постоянные поселения можно было встретить на высоте до 1100 метров.
Картина порой менялась за несколько часов дороги. На пахотных землях Нижнего Лангедока, вокруг Нарбонна или Безье на квадратном километре проживало пятнадцать семей; а в соседних Корбьерах или Коссе — самое большее три. В районе Гонесс насчитывалось девятнадцать очагов на квадратный километр, в Вильнёв-Сен-Жорж и Монлери — тринадцать, а в районе Шеврёза — только шесть.
Неимоверный демографический подъем тогда достиг своего предела. Триста лет людей становилось все больше. Они вырубали лес, улучшали орудия труда, объединялись, чтобы верней выжить. Болезни отступали, страх уменьшался. Население Франции выросло вдвое, а Англии — втрое. Современники Филиппа Валуа поняли, что возможно все. Они уже не видели границ для расширения мира, как и для устремления ввысь готических нефов. Ланский собор вознесся на 24 метра, собор Парижской Богоматери — на 32 метра, Шартрский собор — на 37 метров. До замкового камня свода собора в Бове от земли было 48 метров. Три столетия развития и прогресса породили свои привычки.
Мир наполнился, но современники этого еще не знали. Они не ведали, что им помешает слишком суровый климат, недостаточно развитая технология. Они дошли до предела реальной производительности, до предела возможностей обмена. Время крестовых походов и великих соборов, массовых распашек и демографического подъема было временем великих надежд. Когда эти надежды внезапно рухнут, люди XIV в. испытают горькое разочарование.
Англичане, придя на материк, делали еще одно открытие: это очень урбанизованная страна. Куда бы они ни направились во Франции, везде натыкались на город. Люди видели город в материальном смысле — на горизонте. Со своей наружной стеной, колокольнями, башнями он возвышался над равниной. Обычно он защищал дорогу, горный проход, мост. Благодаря ему порт оказывал влияние на удаленные от побережья районы. Не в меньшей степени он был представлен и в системе социальных и экономических отношений. Это был рынок, суд, зрелище. Он производил и потреблял. Он стимулировал и эксплуатировал. Деньги городов вдыхали жизнь в деревню. Энергия промышленных предпринимателей и купцов соединялась с главным движителем сельской экспансии — потребностью в пище.
В Англии было мало больших городов. Население Лондона приближалось к пятидесяти тысячам. Йорк и Бристоль насчитывали десять-пятнадцать тысяч. Остальное можно считать лишь большими поселками: три тысячи, пять тысяч жителей. Даже порт Саутгемптон, куда уже заходили итальянские судна и который был давно знаком всем морякам Ла-Манша и Северного моря, выполнять настоящие городские функции был еще не в состоянии.
Естественно, запад и центр Франции не достигли той плотности городского населения, какая была присуща промышленному Северу, большим речным долинам и даже Югу, где еще виднелись следы римской цивилизации. Однако во Франции не было ни одного региона, который бы не знал, что такое настоящий город с населением в десять-пятнадцать тысяч жителей, объединяющий все функции — интеллектуальные, религиозные, административные, финансовые, — какими характеризовались города. Такого значения достигли крупные дорожные узлы, такие, как Лион, крупные порты, как Марсель, — в политическом смысле не входящие в состав королевства, — и большие промышленные центры, как Аррас или Дуэ. Другие были близки к этому, прежде всего большие епископские города: Реймс, Альби, Эврё и еще многие.
Три города с населением тридцать-сорок тысяч человек уже были похожи на настоящие столицы. И действительно. Бордо, Руан и Тулуза охотно соперничали с Парижем. Тулузский университет оспаривал у Сорбонны право выражать мнение интеллектуалов королевства. Суд Шахматной доски Руана претендовал на положение верховного суда. Бордо ловко извлекал выгоду из особого политического положения, а также из очень плотного контроля над вывозом главного экспортного продукта Франции — вина.
Тем не менее над всей сетью городов, затянувшей Францию, бесспорно доминировал Париж. Здесь принимались решения, здесь завершались карьеры, здесь пересекались интересы. С двумястами тысячами жителей — 61098 очагов, согласно переписи 1328 г., — Париж представлял собой нечто вроде демографического монстра, это был одновременно финансовый центр, международный рынок, региональный транзитный порт, интеллектуальная и университетская метрополия, политическая и экономическая столица. Намного обогнав Милан, Флоренцию и Венецию, население которых приближалось к сотне тысяч жителей, Париж стал первым городом Западной Европы.
Рост давал о себе знать и в пейзаже. Давно используемые земли расширяли, посреди леса или ланд осваивали новые. Отступление лесов начало создавать угрозу зыбкому равновесию между земледелием и скотоводством. Каждый ел досыта, но плотники отныне тщетно искали хорошие бревна. Уже говорили не о Ла-Лей или Ла-Бьер, а о Сен-Жерменском лесе или о лесе Фонтенбло. На глазах у людей деревня и освоенная земля вытесняли лес.
Последняя волна частных распашек только что породила почти повсюду, но прежде всего в прибрежных и горных районах, прозябавшие, обособленные поселения, которым не удавалось приобрести автономию, какую имела деревня. С XIII в. новых церковных приходов в сельской местности уже не создавали. Время «вильнёвов»[10] прошло. А кое-где даже происходил откат. В Пикардии, в Артуа, в Божоле как в пространстве, так и в занятиях людей уже наметился регресс. Всего после нескольких лет обработки раскорчеванные участки вновь превращались в целину.
Динамизм эпохи
В то время как площадь освоенных земель прекратила увеличиваться, во многих регионах стал характерным следующий пейзаж: появились новые изгороди, подчеркивающие крестьянский индивидуализм и утверждающие определенный тип экономики. Так возник бокаж[11], в особенности на Востоке — в Бретани, Мене, Шаранте, — но также в горах Юры и на гребнях Центрального массива. Он будет распространяться и дальше, в течение следующих трех столетий. Это была реакция на необходимую, более или менее общинную организацию у совместно живущих людей и нарушение прав общины — особенно скотоводческой — на землях каждого из ее членов, и этот тип мышления отразился в пейзаже: появилось то, что стало символом и средством частного присвоения — ограда. Она обеспечивала безопасность домашним животным и защиту сельскохозяйственным культурам, она возводилась для животных и против животных, она представляла собой живую изгородь или длинную стену, сложенную сухой кладкой. Но смысл в ней был всегда один: каждый сам за себя.
Зачатки некоего сельского капитализма в некотором отношении способствовали «огораживанию» и зарождению ландшафта бокажей. Крестьянин уже мог располагать лучшими орудиями труда. Если он был вынужден занимать деньги, теперь ему не обязательно было обращаться к нотаблям своей деревни. Задолженность делала его таким же зависимым, как и ранее, но он менее зависел от сельской коммуны. Каждый выпутывался сам.
В этом мире, достигшем своих пределов, люди были такими же беспокойными, как и в эпоху, когда горизонты расширялись. Не прекращалось движение, толкавшее честолюбивых или изголодавшихся крестьян на поиск прибылей — предполагаемых или реальных — в городе, а находчивых торговцев и талантливых адвокатов — из маленького города в большой. Город стал жертвой демографической катастрофы, его население непрерывно обновлялось. Ведь в городе рожали мало. Из-за профессиональной нестабильности было все больше холостяков, поденщиков или слуг без семьи. Город, особенно большой город, не изобиловал своими детьми, в нем было много детей окружающей сельской местности, где уже не хватало земли с тех пор, как поля перестали расширяться.
За день можно было пройти «район притяжения» (радиусом в тридцать-сорок километров) маленького города, привлекательность которому для человека создавали прежние поездки или поселившиеся в городе кузены. Но в Перигё встречались бретонцы и пикардийцы, баски и беарнцы. Влияние метрополии распространялось далеко благодаря традициям, политической верности и экономическим путям, а в некоторых случаях даже сознательной рекламе. Париж постоянно пополнялся нормандцами, анжуйцами, пикардийцами, шампанцами, бретонцами и овернцами. Весь Лангедок изо дня в день участвовал в заселении Тулузы. А по великому южному пути через долины Роны и Соны лангедокцы, провансальцы, савояры, бургундцы, жители Франш-Конте и лотарингцы, клирики и миряне, текли в город холостяков, каковым был по преимуществу папский Авиньон.
Как маленький, так и большой город взламывал наружную стену. Стену, часто построенную еще при Филиппе Августе, за которой в течение ста лет относительного мира горожане почти не следили. Стена рушилась, бреши расширялись, ворота утрачивали створки. Снаружи к стенам лепились дома. Беззащитные в случае осады, они облегчали осаждающим приближение к стене. Но кто в 1340 г., за исключением жителей хорошо известных районов сражений (Гиени, Фландрии и некоторых других), по-настоящему беспокоился о возможной осаде?
Париж расширялся во все стороны: к Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Сюльпис — за ворота Бюси, уже не имевшие смысла, к Тамплю и Монмартру — за стену, уже отчасти разрушенную. Руан тянулся к Сент-Уэну, Орлеан — к Сент-Эньяну. Пробуждение будет тяжелым, когда крайне срочно и с большими затратами придется чинить, отстраивать и расширять эти укрепления, что в первые десятилетия войны недешево обойдется французским муниципалитетам.
Мельницы и пекарни, дубильные и черепичные производства, все, чего горожане не хотели видеть в самом городе, где места было мало, вольготно располагались за городскими воротами. Город уже не мог бы жить без предместий. Это была территория свободы — свободы предпринимательства от корпоративных ограничений, которые действовали внутри городских стен.
Франция была богата людьми. Не менее богатой она была и ресурсами земли. Нормандцы и пикардийцы обычно экспортировали пшеницу в Англию и в северные страны. Гасконское вино было одним из основных товаров, вывозимых в Саутгемптон и Брюгге. Соль из Пеккаиса, Йера и Берра продавалась в Генуе, соль из Бургнёфа, а также из Геранда — во всей Северной Европе, вплоть до Бергена и Новгорода. Эта торговля, для которой были задействованы целые флоты, обогащала региональные центры сбыта, такие как Париж, Аррас или Тулуза. Она порождала перемешивание людей, движение денег, регулярную переписку — все средства, благодаря которым человек XIV в. познавал мир лучше, чем его предки. В Ла-Рошели встречали немцев, в Руане — португальцев. В порт Бордо заходили фламандские, нормандские, бретонские, английские, байоннские и даже кастильские суда. Тосканские банкиры заправляли в Париже, и банкиров из Лукки там вскоре будет больше, чем в самой Лукке.
Скотоводство было достаточно развито, чтобы люди имели как мясо, так и тягловых животных. Рыбаки из Дьеппа и Булони снабжали треть Франции бочковой сельдью. В лесах охотились, в прудах и реках ловили рыбу. Франция кормила себя сама.
Для промышленности, по-настоящему развитой только во Фландрии (ткачи там работали прежде всего на английской шерсти), основное сырье французы находили у себя. Шерсти из Нормандии, Лангедока и Прованса хватало для местных ткацких мастерских, вайда из Пикардии и Лангедока запросто конкурировала на рынке синих тканей с дорогими красителями Востока. Франции, правда, недоставало олова, небогата она была и бронзой, но добывала железо — в Нормандии и Шампани, в Альпах и Пиренеях. В Лионской области у нее была медь, в той же Лионской области и в Комменже — свинец.
Зато хватало энергии. На всех реках теперь стояли мельницы, иначе говоря, колеса универсального назначения. Одна молола зерно, другая валяла сукно. Мельницы разжигали горны в кузницах и огонь в печах, двигали пилы, ковали железо, давили масло из конопли. Они были сердцем зарождающегося бумажного производства.
Руда, дерево, вода: этого было довольно, чтобы населить деревню «ковалями» (fevres)[12] на все руки, а города — ремесленниками с более узкой специализацией: торговцами металлическим ломом, ножовщиками, жестянщиками, точильщиками. Происходила дифференциация ремесел. На первый план выходило мастерство.
Развитие экономики еще сильно сдерживал технологический застой: за тысячу лет не открыли почти ничего нового. Наконец, во второй половине XIII в. Восток придумал пушечный порох, первое достоверное применение которого датируется 1320-ми годами. В ту же эпоху всеобщим достоянием стали два инструмента, открывшие европейцам путь в море: компас, благодаря которому теперь можно было удаляться от берега, и руль, крепившийся к ахтерштевню (по оси судна), который сделал моряка менее зависимым от ветра. Благодаря капитализму — чтобы снарядить судно, теперь объединялись, — увеличится водоизмещение судов без ухудшения маневренности.
В остальном все или почти все было знакомо с древних времен. Умели использовать колесные механизмы для передачи энергии или преобразования вида движения. Было известно зубчатое колесо, «фонарь» с параллельными перекладинами, рычаг. В то время возникло лишь одно новшество, однако достойное упоминания в эпоху, когда, кроме человека или животного, единственным источником энергии было мельничное колесо, — кулачковый вал, который превращал вращательное движение в прямолинейное. В конце века появится еще одно важнейшее изобретение — кривошипно-шатунный механизм, давший возможность возвратно-поступательного движения.
Если изобретали тогда мало, то много придумывали по мелочам. В результате орудия труда как крестьян, так и ремесленников все-таки совершенствовались. Соху сменял плуг, рычаг — винтовой домкрат, раскаленное острие — коловорот.
Циркуляция людей, информации и товаров привела к единственному прогрессу — в тоннаже судов. Всадник редко мог проехать 50 километров в день, а грузовая подвода или походные носилки обычно не делали и тридцати. Судно же преодолевало в день 100–150 километров, но его маршрут огибал сушу, и его задерживали как ожидание погрузки, так и отсутствие ветра. В зависимости от погоды и длительности дня повозка тратила две-три недели на путь из Тулузы в Париж. Кораблю требовалось три месяца, чтобы прийти из Венеции в Брюгге. Это означало замораживание вложенных средств и невысокие финансовые доходы.
Повсюду, однако, начинались перемены, которые решительно изменят лицо Франции и жизнь французов. Они также придадут новый облик экономической карте и нарушат общественные отношения, устоявшиеся в период уже завершенной экспансии.
Жизнь и смерть
Естественно, во всем объеме этого феномена не сознавали. Но люди того времени перед лицом бурного мира, где каждый день нес новые проблемы, не вели себя легкомысленно. Не был легкомыслен крестьянин, откладывая на время после Великого и Филиппова поста, с весны на осень и с осени на следующую весну свою женитьбу, которой он хотел как молодой парень, но опасался как владелец клочка земли: каким бы ничтожным тот ни был, его придется поделить между наследниками. Не меньше колебаний проявлял и ремесленник, знавший как хозяин мастерской, что прокормит работника, но две-три семьи содержать не сможет. И все знали, сколько стоит свадьба, ведь неприлично было не угостить по этому поводу родню и соседей. Богач отлынивал, бедняк отсрочивал. От этого проигрывал кюре и падала нравственность. Сожительство обходилось дешевле законного брака.
Пока безработица никому не грозила, самым бедным был обеспечен кров и пища, если они не надумают жениться: поденщик, батрак в селе, слуга городского ремесленника понимал, что не может создать семью, не влезая в долги, выплачивать которые придется лишь за счет своего труда. Взять жену означало попасть в полную зависимость от хозяина. Уж не будем говорить о девушке, которой муж сто раз напомнит, что взял ее без приданого.
К счастью, бывали «добрые хозяева». Известны случаи, когда подмастерья в день свадьбы гуляли за счет хозяина, в семье у которого их было немного. Но бывали и бедолаги, подмастерья, прозябавшие всю жизнь в каморке и время от времени утолявшие жажду любви с дешевой проституткой, бывали поденщики, не знавшие в жизни иного тепла, кроме близости животных, с которыми делили хлев или конюшню. У кого котелок был слишком мал, не спешил плодить нищету, да и котелок-то был не у всех.
Легче было бюргеру, даже если он не желал делить унаследованный или накопленный капитал. Он женился поздно, часто после тридцати. Брал девушку, которую быстро делал матерью. В восемнадцать лет незамужняя девушка начинала всерьез интересовать почтенного купца или преуспевающего адвоката. Дети рождались один за другим, но намного реже, чем хотелось бы некоторым, простодушно считавшим, что каждый год можно рожать по ребенку. Все время кормления мать была бесплодной, и уже этого вполне хватало, чтобы между рождением детей были интервалы. Те немногие приемы, которые церковь осуждала, но которым девушки учились у матерей, помогали некоторым растянуть межродовой период — в среднем до полутора-двух лет. В остальное время женщина все-таки имела жалкий вид.
Увы, смерть родами была не мифом. Женились снова. Вдовцу это было совсем нетрудно, а разница в возрасте между супругами в результате повторных браков часто росла. Но муж старел, и после женитьбы сорокалетнего мужчины на юной девушке оставалась вдова, а не вдовец.
Если вдова не наследовала ничего, она могла оказаться в затруднительном положении. Зато повторное замужество было ей обеспечено, если она получила наследство, имела лавку и инструмент, могла передать поклоннику ремесленный патент первого мужа. Двадцатипяти-тридцатилетняя вдова, если была женщиной мудрой, весьма удачно выходила замуж, тогда как старая дева того же возраста шансов уже почти не имела. Старый муж, впрочем, не питал иллюзий. Но пусть вдова не будет слишком разборчивой:
Если после меня, друг мой, у Вас будет другой муж. Вы должны будете весьма заботиться о нем. Я настаиваю, ибо, когда женщина потеряла первого мужа и вернулась к прежнему положению, ей нелегко будет найти второго по вкусу.
Иначе говоря, на вдове женились по расчету. Будь второй муж ровней первому, он и поступил бы, как тот, — женился на девушке.
Шли годы. Семейная пара, старевшая вместе, прекращала рожать детей задолго до менопаузы. Наступало время воздержания. Впрочем, честная жена предпочитала, чтобы муж иногда бывал в парильнях, проводя там время с «девушками на час», или даже содержал не слишком требовательную любовницу, чем еще беременеть в сорок лет.
Старая дева в доме отца или брата была дармовой рабочей силой или лишним ртом, в зависимости от нрава и ремесла. Зажиточная вдова жила за счет дохода и командовала зятьями. Хуже было вдове, которая была всем обязана детям: они давали ей это почувствовать. Некоторые выживали только за счет того, что собирали милостыню или торговали телом. Что касается младших сыновей, женитьбу которых не слишком поощряли, то это были слуги брата, их попрекали любой мелочью, словно чужих наемных работников, они подавались к капитанам, собирающим компанию[13].
Конечно, были исключительные семьи. Бывало, что мать рождала двадцать детей. Но это редкость. Чаще всего женщина, не умершая родами, могла гордиться, если подарила мужу шесть-восемь детей. Выживало два, три или четыре. Но это средние цифры, их надо раскидать: чуть больше детей было в деревне, где детские заразные болезни не всегда переходили в эпидемии, от каких страдали городские дети, чуть меньше в городе у бюргера-мальтузианца, намного меньше у бедняка, который не спешил жениться и чьи дети страдали как от плохой гигиены, так и от недоедания. Когда отцу приходило время задуматься о завещании, у него оставалось лишь два-три ребенка. Для всех социальных слоев Перигё — кроме бедняков, которым оставлять было нечего, — в завещаниях 187 семей насчитывается всего 491 ребенок, еще живой в то время, когда отец составлял завещание, то есть в среднем 2,6 ребенка на семью.
Теперь общество поразил и угрожал ему голод, от ежедневного недоедания до смертоносного отсутствия пищи, после того как три века роста земледелия и повышения доходов понемногу выветрили память о голоде. Он заметно дал о себе знать во время страшного мора 1315–1317 гг. И однако Франция сороковых годов еще была страной, где каждый мог есть досыта, более или менее в свое удовольствие. Ели даже довольно прилично. Но теперь снова знали, что ничто не обеспечено навсегда.
Основу питания составляло «зерно» (blés), злаковые, вид которых зависел от преобладающих в том или ином регионе почв. На столе чаще оказывался ячменный или ржаной хлеб, чем хлеб из белой пшеничной муки. Ели овсяную или ячменную кашу, гречишные лепешки. Если зерна не хватало, замечательные лепешки пекли из каштанов, а отвратительную кашу варили из желудей. Горох, бобы и вика, которые народ тоже считал зерном, представляли собой основное блюдо во многих трапезах. Что касается супа, его готовили из капусты, когда была возможность, или из «трав» (годилось все), когда наступали тяжелые времена.
Попробуем составить для поколения французов времен Филиппа VI нечто вроде «энергетического баланса». Добрую половину, почти три четверти его составляли мука и мучные изделия. На мясо и рыбу оставалось всего тридцать процентов у зажиточных людей и пять процентов у самых бедных из тех, кто не голодал. Эти пропорции, безусловно, значительно колебались в зависимости от года и от сезонных цен. Но тем не менее говядину, баранину и свинину ели довольно регулярно.
Главная роль здесь отводилась свинине — она служила регулятором распределения калорий в течение всего года. Ее солили, а запасы сала и мяса раскладывали на двенадцать месяцев. Кадка с солониной в хозяйстве успокаивала людей, знавших, что сезон на сезон не приходится. Людей, не имевших возможности съесть немного мяса раз-другой в неделю, было так же мало, как и людей, совершенно не знавших вкус белого хлеба. Не забудем о домашней птице, яйцах и, наконец, о сыре, этом дешевом белке. Они делали повседневное питание сбалансированным. Они защищали население от тяжелейшего авитаминоза.
К тому же была еще и рыба. Рыбаки из Дьеппа и Булони снабжали всю Северную Францию сельдью и скумбрией. Выбор был очень широким — от осетра, которого подавали на столы аристократов, до каракатиц, бедняцкой «рыбы», от копченой сельди, тяжелые грузы которой везли целыми обозами, до сельди «нувеле» (nouvelet), которую совсем свежей (что бы сказали мы об этой свежести?) на быстрой лошади доставляли на обильно накрытые столы, где бочковая сельдь выглядела бы жалко рядом с морским чертом, угрем и щукой.
Даже если современник Филиппа Валуа, чтобы не попасть на виселицу, воздерживался от браконьерства в лесу сеньора или в садках аббата, он все равно ел линя и карпа, равно как и крольчатину. В самых мелких ручьях, в самых крохотных прудах систематически ловили рыбу. Города наживались на своих рвах, сдавая их на год в аренду рыболовам-предпринимателям. Они брали плату за право удить из прибрежных домов, забрасывать сети в реку из пришвартованной лодки, ловить удочкой с моста.
Почвы и климат делали Францию страной, где вина всегда хватало. Виноградники встречались и в Котантене, и в Пикардии. Вино могло быть дороже или дешевле в зависимости от года и сезона, но часто бывало посредственным и очень плохо хранилось. Редкие вина оставались приятными на вкус до конца года. Тем не менее они были не столь подозрительными, как вода из рек и даже колодцев.
В дополнение к трапезе и для утоления жажды вино встречалось на всех столах и в любой таверне. Оно было наименее плохим из снадобий, какие предписывала медицина профессиональных медиков (mires) и народная. Им утоляли жажду летом и согревались зимой. Было бы ошибкой забывать об этой теплотворной функции вина — других тонизирующих средств в средневековом обществе еще не было.
Не все могли позволить себе гасконское или онисское, бонское или оксерское, словом, лучшие сорта, перевозка которых стоила дорого. Но парижане высоко ценили вино из Шайо и Аржантёйя, любители ланского встречались до самого Эно, ванвское и кламарское вполне устраивало нормандцев. Как на берегах Роны и Мозеля, так и в долине Луары росли отборные виноградники, продукция которых плохо переносила перевозки, но радовала окрестных жителей. Короче говоря, когда француз пьет только воду, значит, и вправду дела плохи.
Что касается ячменного пива, которое варили в самых северных районах, до английского ему еще было далеко. Но в Лилле или Валансьене цену гасконского и бургундского вина удваивали дорога на судах, телегах, прибыль разных посредников и купцов. Здесь пиво играло ту же роль, что в других местах вино: его пили за неимением лучшего.
Однако все это было очень ненадежно: если есть досыта, если пить сколько влезет, не останется никаких запасов. Ячменю постоянно отдавали предпочтение перед пшеницей из-за того, что на лучших землях ячменное зерно давало урожай от сам-шести до сам-десяти. Но это был уже предел развития. В большинстве случаев урожайность не превышала сам-три — сам-четыре. Рациональные приемы, которые позволили бы получать максимальный урожай с каждой парцеллы пахотной земли, например, севооборот, еще только зарождались. Лишь постепенно в северной Франции распространялось трехполье, сокращая площадь непродуктивных залежных земель. На бедных землях, особенно на Юге, двухгодичное чередование культур еще не сопровождалось разделом пашни на систематически чередуемые участки. Каждый поступал по своему усмотрению. Множились подъездные пути, которых было уже не меньше, чем пашен. А инвентарь зависел от размера клочков земли, которые постоянно дробились при наследовании.
Поэтому никто не был уверен в завтрашнем дне. Тем более выживанию крестьянина и снабжению горожанина грозил неурожай. Запасов не было. Чтобы разразилась катастрофа, хватало одного неурожайного сезона.
Последние иллюзии пришлись на 1300-е гг. Тогда есть досыта считалось нормальным. О голоде успели забыть. Три поколения по-настоящему не познакомились с ним — с детства Людовика Святого до детства Филиппа VI голод в королевстве не свирепствовал. Поэтому гнилое лето 1315 г. было воспринято как кара небесная: дурное обращение с папой, сожжение тамплиеров, повешение министра — все это взывало к возмездию. Моле, Климента V, Филиппа Красивого и Мариньи объединила смерть. Нескончаемый дождь летом, когда урожай гнил на корню, хорошо вписывался в картину катаклизма, легко объяснимого вмешательством высшего суда. Зимой цена на зерно утроилась. Следующим летом от апелляций к сверхъестественному отказались. Нужно было признать очевидное: хорошая погода — не постоянная данность, как считали прежде. Вторая зима была еще суровей первой: иссякли последние запасы. В некоторых городах на Севере уже умирали от голода, когда третье дождливое лето 1317 г. окончательно повергло всех в уныние.
Люди пришли в себя, но обрели новые привычки. Тенденция к общему похолоданию, растущая влажность — все это стало очевидным сколько-нибудь опытному наблюдателю. Больше не было речи о расширении полян, освоении земель, умножении доходов. Нужно было просто-напросто защищать культуры, обеспечивать посев, распределять то немногое, что сохранилось на самых плодородных землях. Прошло время пахать как придется. Пришло время выбора.
Промышленные кризисы
Если французская деревня была неоднородна, тем более это можно было сказать о городах. Большие сукнодельческие города Фландрии и Артуа уже поразил кризис, но маленькие еще жили в состоянии, при котором неуверенность сочеталась с эйфорией из-за успехов по мелочам. Уже там и сям замечались предзнаменования депрессии. От монетных кризисов — 1303 г., 1340 г. — страдали рантье, кредиторы, розничные торговцы, арендаторы. Рост, которого не сознают, сразу же становится заметным, когда прекращается. Демографический подъем кончился, и города начали пустеть: с 1330 по 1345 гг. Перигё потерял больше жителей, чем утратит в 1348 г. вследствие чумы.
Промышленность испытала первый по-настоящему серьезный кризис. От него пострадало в основном производство XIII в. — шерстяного сукна, разделенное на два вида, иерархия которых была четкой: роскошное сукно выпускали хорошо организованные мастерские в нескольких больших городах, как Брюгге, Ипр, Гент, Аррас, Руан или Париж, а обыкновенное в мастерских с худшей организацией производили многочисленные городки и даже села. Первое представляло собой толстое сукно, ложащееся широкими складками, которые придавали элегантность длинному мужскому и женскому платью, сукно, которое окрашивали ценнейшими красителями Востока. Второе было тонким, не таким теплым и не таким приятным на ощупь, более тусклых цветов. Женщины и мужчины в 1300 г. носили пурпурное и буро-черное сукно.
Но развитию городских ремесел мешали чрезмерная (регламентация, близорукий протекционизм, неизменность ассортимента из-за упорного следования традициям. Одно и то же сукно, один и тот же цвет — вот что в глазах самых преуспевающих мастеров было символом и залогом поддержания качества. Себестоимость была высокой, но стоило ли беспокоиться об этом, если конкуренции ставили жесткие пределы? Проще было валять сукно ногами, чем на водяной мельнице, а прялка считалась вредным новшеством, опасным для прочности нитей. Тем самым в зародыше пресекались любая инициатива и попыгки нововведений. Об ориентации производства на потребности рынка в этих условиях не приходилось и думать. Как добрые обычаи были только у древних, хорошая монета — при Людовике Святом, хорошие рыцари — во времена крестовых походов, так и хорошее сукно значило традиционное. По крайней мере, в этом были убеждены мастера больших сукнодельческих городов.
Тем не менее на этом пути экстенсивного развития было два камня преткновения. Один — это препятствия, которые капиталистической промышленности ставила цеховая система. Богатые купцы, шерстянщики и суконщики, которые одни только были способны полностью финансировать производственную цепочку, вкладывали все организационные способности и денежные средства в мастерские маленьких городков и деревень. Они знали, что об интеграции жестко независимых ремесел нечего и мечтать. Поэтому они осуществляли ее в другом месте. Раз регламент затруднял деньгам идти в промышленность, промышленность шла к деньгам.
Другим камнем преткновения были быстрые перемены в моде. Только что носили тяжелые платья, и вот уже предпочитают легкие и облегающие одежды. Это было время первых пурпуанов[14], время узких штанов и курточек с короткими басками. Отказавшись от широких платьев, женщины надели облегающие котты и cюркo.[15] В результате новых вкусов хорошее шерстяное сукно перестало быть «писком моды». Новая иерархия модных ценностей выше обычного сукна ставила шелк, в основном импортируемый из Тосканы. Ремесленники Ареццо, Сиены, Лукки и Флоренции состязались в том, кто удачней сочетает восточные шелка с кипрской золотой нитью. Хитроумные ткачи добавляли к этому вышивку. Затканный золотом пурпуан Карла Блуаского, сшитый в середине века и хранящийся ныне в Лионе, расшит восьмиугольными медальонами со львами и орлами.
Для тех, чье процветание основывалось на производстве самого престижного сукна, это стало тяжелым ударом. Брюгге, Ипр, Гент, Дуэ, Сент-Омер, Руан пережили спад. Аррас перешел на выпуск гобеленовых тканей на станке с вертикальной основой, широкий сбыт для которых обеспечивало производство изысканной мебели. Парижское сукноделие просто-напросто исчезло: последние столичные ткачи перебрались в соседние бурги, за ворота города, своего главного рынка сбыта, но за пределы досягаемости двух главных зол, бремя которых они уже начали ощущать: налогов в городскую казну и цеховой регламентации.
Всколыхнув европейский рынок сырья, шерстяная война ускорила уже начавшиеся изменения. В условиях, когда на английскую шерсть больше не приходилось рассчитывать, а Англия начала развивать промышленность, изделия которой еще долго будут ориентированы только на местное потребление, на материке над большими городскими сукнодельнями легко взяло верх ремесло маленьких городков, не имеющих столь давнего авторитета, и деревень. Надо было обходиться шерстью фламандских, нормандских, провансальских и лангедокских баранов. Мелких сукноделов это не смущало, пусть эта шерсть действительно была хуже английской. Вскоре Франция откроет для себя достоинства шерсти кастильских мериносов: да, ее волокна были короче и жестче, чем у шерсти, к которой приучили французских фабрикантов англичане, но условия испанского скотоводства сделали из нее дешевое сырье, лучше приспособленное к новым потребностям покупателя. Изделия будут хуже качеством, но разнообразней. Ведь люди хотели именно перемен.
Этот промышленный подъем в деревнях, в мелких центрах, как Монтивилье в Нормандии или Дендермонде во Фландрии, и в районах, где не столь давняя традиция меньше сковывала инициативу фабрикантов — так было в Брабанте, а вскоре и в Голландии, — предоставил капиталистам новую сферу деятельности. Его вдохновителями стали торговцы как сырьем, так и готовой продукцией, вкладывающие деньги в технологическую цепочку, где для изготовления штуки сукна в течение шести месяцев требовался труд пятнадцати-двадцати разных ремесленников. Тканье, сукноваляние, обезжиривание, вытягивание, две стадии стрижки, окраска и операции по окончательной отделке — все это предполагало наличие координатора. Распоряжаясь запасами, разбираясь в далеких рынках и зная о колебаниях спроса, купец-фабрикант привносил в сферу промышленности непременную гибкость торгового предприятия.
Тогда, в середине XIV в., о фламандском сукне уже почти не было речи. Сукно из Ипра пока некоторое время сохраняло престиж, особенно «большое синее» (grand bleu), которое на высшем уровне роскоши нарушало однообразие красных и коричневых тонов. Еще встречались сукна из Дуэ, шерстяные ткани из Сент-Омера. Но городская Фландрия уже не играла первую скрипку, и сукно из фламандских деревень больше не экспортировали. Отныне верх над ней взяли Брабант, Нормандия и Средняя Франция.
Самым изысканным считался брюссельский шарлах, затем шли знаменитые коричневые сукна, «морская волна» (pers), зеленые и фиолетовые сукна из Брюсселя и Мехелена, яркость которых придавала красоты затянутым пурпуанам и свободным сюрко. В моде были черно-зеленая ткань из Монтивилье, мраморная из Лувьера и «балар» (balart) из Льера. Руан, Париж, Онфлёр, Лувен, Намюр поставляли сукна, которыми не гнушались ни графы, ни советники, ни банкиры. Своей известностью обладали и менее прославленные ткани, как провенская «пестрая» (mêlé), которой, возможно, недоставало оригинальности, но которая не относилась к заурядным сукнам.
Все это не имело никакого отношения к тканям, в которые одевались средний бюргер, оруженосец с небольшим доходом, ремесленник без клиентуры. Существовало бесконечное множество сукон второго разряда — черных и коричневых, серых и полосатых. Сукна из Берне, Эврё и Пон-де-л'Арша, из Фалеза и Сен-Ло, из Бомона-на-Уазе и Бове, из Уорика и Куртре, из Динана и Синт-Трёйдена годились для обычной, ничем не примечательной теплой одежды. В новом ассортименте легких шерстяных тканей, который допускала мода, находилось место и для саржи из Байё, Валансьена или Лотарингии, и для кисеи из Реймса или Оверни, и для грубой шерстяной ткани (bure) из Ле-Веле.
Но вот на европейском горизонте появился новый опасный конкурент — флорентийское сукно. Тосканская, прежде всего флорентийская промышленность, работающая на английской шерсти благодаря укреплению морских связей между Италией и странами Северного моря, опирающаяся на могучую финансовую и торговую инфраструктуру флорентийских компаний, очень быстро преобразила всю экономическую карту Европы. Франция не сможет не принять это в расчет. Тосканские сукна ворвались на уже взбаламученный рынок как раз, когда для французских сукон итальянский рынок закрылся. Из-за итальянского рынка под угрозой оказался восточный. Это будет сильно беспокоить Жака Кёра. Но в ближайшее время этот дисбаланс в торговле с Востоком мог сказаться лишь на поступлениях благородного металла, которыми питались большие торговые потоки.
Торговые пути
Эти большие потоки по большей части определялись дорогами, то есть средствами передвижения. А дорожная карта за два-три поколения успела сильно измениться. Моста, построенного на реке Ройс в 1237 г., было достаточно, чтобы началось регулярное движение через ущелье Сен-Готард, до этого труднодоступное. Теперь Милан был напрямую связан с Базелем. В то же время открылся путь через Симплон, соединивший Ломбардию с долинами Соны и Мозеля. Наконец, через перевал Бреннер появилась новая дорога между Ломбардией и Венецией, с одной стороны, и Австрией и Баварией — с другой, отныне магистральная дорога, соединившая Верону с Аугсбургом.
Путь из Италии в Германию, соединяющий Восток с Северным морем, теперь проходил по Средней Германии и по Рейну. Благодаря фактической монополии больших западных ущелий, таких, как Большой Сен-Бернар и Мон-Сени, до сих пор он шел через долину Роны, Бургундию и Шампань, через Фландрию. Большой торговый путь, еще в 1310 г. вдыхавший жизнь в Вале и Морьенн, за тридцать лет потерял три четверти значимости.
Все перевозки, еще происходившие по южному пути через долины Роны и Соны, который оживляло присутствие в Авиньоне папской курии, почти не касались внутренних дорог Французского королевства. В то время как торговая активность шампанских ярмарок снижалась, росла активность двух ежегодных ярмарок в Шалоне-на-Соне — «теплой» в конце августа и «холодной» в период поста, поощряемых ловкой политикой герцога Бургундского Эда IV.
Большой западный путь, превращавший шампанские ярмарки в средоточие европейской торговли, в другое время можно бы защитить, сыграв на постоянстве людских привычек. Ведь столько купцов уже два века бывали на шести ярмарках в Труа, Провене, Ланьи и Бар-сюр-Об! Сколько договоров «о защите ярмарок» было гарантировано сначала графскими, а затем королевскими судами! А сколько было произведено обменов! Но времена изменились. На дорогах Франции стало небезопасно, а гарантия Валуа пока не стоила гарантии Капетингов. Ограбят вас на берегах Роны, и кто будет с вами разбираться…
Деловые люди уходили отсюда в поисках другого дела, которое в конечном счете больше подходило для них, чем шампанские ярмарки с их цикличностью. Главным финансовым центром королевства они сделали Париж. Он же был и крупнейшим потребительским рынком, а также лучшим центром перераспределения. Сиенцы и флорентийцы поняли это при Филиппе Красивом, лукканцы с трудом внедрились туда при первых Валуа. За ними последовали миланцы, генуэзцы и жители Асти.
С 1320-х гг. возникла и другая конкуренция. Ее создал морской путь в обход французских дорог с запада. Свою выгоду от него получат итальянцы и англичане. Все эти торговые пути могли как минимум оживить экономику Французского королевства.
Ведь развитие мореходства сделало теперь морскую торговлю атлантической реальностью. Размеры и прочность судов выросли, карты и компас избавили их от привязанности к берегу, руль и совершенствование парусов повысили маневренность. Рост тоннажа сократил расходы: перевозка из Хиоса в Брюгге столь тяжелого груза, как, например, квасцы, составляла всего 16 % от его розничной стоимости.
Зима больше почти не принималась в расчет. Так, практически не прекращалось судоходство между Венецией и Северным морем. Торговля зависела от сезонного характера грузов — соль, рыба, зерно, — а не от непогоды, как раньше.
Первая генуэзская каракка прибыла в Брюгге в 1277 г. Вторую увидели в Лондоне в следующем году. Двадцать лет спустя связи между Италией и северными портами стали стали частыми. А к 1320 г. они уже были регулярными. Тосканская промышленность работала на английской шерсти, а Брюгге выдвинулся как крупный центр распространения средиземноморских товаров по всей Северной Европе. Дорогу от Александрии в Египте до Новгорода в России обеспечили надежные порты перегрузки. Гибралтар убил шампанские ярмарки.
Французы это еще плохо понимали, поглощенные политическими дрязгами и тяжестью повседневных проблем. Бордосцы экспортировали гасконское вино, но перевозили его английские, а не бордоские караваны. То же можно было сказать и о судах, заходивших в Бургнёф за солью, чтобы снабжать северные страны. Бретонский каботаж, дьеппское рыболовство, торговля руанцев с англичанами — все это были предприятия малого масштаба. Дерзость на морях и большие океанские авантюры французы оставляли другим. Морское пространство захватывали, с одной стороны, генуэзцы и венецианцы, с другой — англичане и голландцы. На золотых путях их вскоре настигнут кастильцы и португальцы.
Маршруты изменялись, этапы перемещались. Главным был «этап» английской шерсти[16]. Известно, что он помещался в Сент-Омере, в Брюгге, в Антверпене. В 1363 г. его учредят в Кале, используя укрепленный плацдарм, который обойдется Эдуарду III очень дорого. На таком этапе особые купцы, «степлеры» (staplers), встречали покупателей со всей промышленной Европы. Но итальянцам удалось добиться прямых поставок из Англии, что было дешевле. Им это стоило изрядных сумм в золоте, которые они безвозвратно ссудили королю Англии накануне его первых кампаний на материке.
Но крупные ярмарки новой Европы тяготели к востоку. Если на пользу шалонским ярмаркам пошел упадок шампанских торговых перекрестков, то женевские ярмарки извлекли выгоду из смещения на восток дорог через Альпы, а ярмарки в Берг-оп-Зоме, оказавшись на пересечении морских дорог и путей по Рейну, стали одним из главных рынков купеческой Европы.
Финансовым центром Западной и Северной Европы все-таки был Брюгге — одновременно средоточие экономических инициатив, место встреч и обменов, центр расчетов и компенсаций. Но Париж приобретал все новые экономические функции. Его торговый рынок охватывал бассейн Сены и соответствовал уровню потребления столицы — такой столицы, которая была также центром экономических решений и информации, равно как и политических решений. Финансовым своеобразием и размахом он во многом был обязан выкачиванию налогов, которые подпитывали уже очень централизованный административный механизм. Во многих отношениях простая перевалочная база для Брюгге, Париж имел собственную динамику благодаря чрезвычайной концентрации людей, наличных капиталов и благоприятных возможностей.
Кризис сеньории
Трещину дали не только рамки промышленной экономики, причем еще до войны. Во всех отношениях разваливались и сеньориальные рамки сельской экономики. Здесь внутренние факторы кризиса опять-таки сыграли более важную роль, чем внешняя агрессия. Последняя везде — так же как чума и грабежи бродячих компаний — нанесет роковой удар уже подорванной системе.
В первую очередь доход перестала приносить земля. Большая часть податей, которыми крестьяне были обязаны в качестве постоянной арендной платы за «держание» (tenure), не менялась уже самое меньшее два века. За что платили денье «чинша» в 1100 г., за то и в 1340 г. все еще должны были платить то же денье. Инфляцию никто не предусмотрел. А между тем с 1100 по 1340 гг. денье потерял две трети стоимости. Что с этим можно было поделать?
Но если при Людовике VI[17] сто ливров дохода давали сеньору возможность купить двадцать килограммов серебра, то в конце царствования Филиппа VI за них можно было приобрести менее трех килограммов этого драгоценного металла.
Эта постепенная эрозия ренты хорошо ощущалась уже в середине XIII в., а в начале XIV в. ее последствия усугубил застой цен на зерно. Натуральные повиннности, «шампар» (champarts), которые стали взимать за землю позже, уже предвидя риск фактического сокращения податей, зафиксированных в денежной форме, десятины (dimes), отчасти начисляемые в снопах и фруктах, конституированные ренты, выплачиваемые в буасо и сетье[18], — всего этого не хватало на обычные расходы сеньора: на оплачиваемых слуг, на утварь, на аристократический образ жизни, на оружие и набеги.
Даже бедствия, которые одно время потрясли конъюнктуру цен, были не в состоянии переломить эту тенденцию. Из-за роста смертности — в первую очередь в 1315–1317 гг. — поднялась цена на хлеб, поскольку по мере уменьшения числа рабочих рук зерно дорожало. Но если зерно дорожало, то потому, что повышалась зарплата сельскохозяйственных рабочих и дороже стоили промышленные продукты. Сеньор, плативший работникам, и крестьянин, покупавший новые железные орудия, знали, что в конечном счете повышение цен на зерно мало что им даст. Из этого положения могли выйти лишь очень крупные сеньории — те, у кого оставался большой излишек, пригодный для продажи, и которые, таким образом, действительно могли выгадать от скачков рыночных цен, несмотря даже на рост себестоимости. У других же, чей доход и в обычное время постепенно снижался, он точно так же падал, когда кризис на несколько месяцев нарушал застой цен. Понятно, что большинство не могло выявить реальных причин беды. Упадок сеньориального режима немного задержали хлебные кризисы. Но они его не остановят.
Тем временем распадалась внутренняя связность домена. Его основой была взаимодополняемость двух частей сеньории — «господской запашки» (reserve), непосредственно принадлежащей сеньору, и «цензивы» (censive), наделов держателей. Долгое время барщины, которой были обязаны держатели, в основном хватало для обработки земель господской запашки. Теперь с барщинников было уже взять нечего, и приходилось нанимать сельскохозяйственных работников.
Барщинником (corveable) назывался человек, обязанный выполнять определенный тип работы в течение определенного времени. Она редко бывала сдельной. Два дня пахоты, а не тридцать борозд. Три дня гужевых перевозок, а не перевозка ста мешков. В результате барщинник неминуемо приходил поздно, работал мало, тратил время на еду и питье, отдыхал по всякому поводу и уходил, как только предоставится возможность. Но требовал, чтобы его кормили как следует.
Таким образом, барщина обходилась достаточно дорого сеньору, который прибегал к ней. Разве что ему удавалось договориться с крестьянами, для которых подобная система тоже не была выгодной, поскольку отрывала от собственной земли, своего держания как раз тогда, когда там была масса работы. Когда было нужно собрать урожай до дождя или созревший виноград, работа на сеньора мешала крестьянину работать на себя. И на своей земле крестьянин собрал бы другой урожай.
Поэтому держатель был готов платить, чтобы больше не быть обязанным жать на земле сеньора прежде, чем на своей. Он выкупал свои барщинные повинности. В начале XIV в. во многих деревнях все жители «отмежевались» (abornés) или «подписались» (abonnés), то есть повинностям был поставлен предел.
Но оплата за «подписку» фиксировалась в денежной форме, а деньги обесценивались. На эту удочку уже издавна попадался сам король, судя по этому документу, касающемуся его нормандских доменов:
Далее, есть пять вальвассоров[19]. Служба оных оценивается в сто су. На оных вальвассоров возложена служба, каковой они обязаны, барщинная пахота и боронование, перевозка снопов в августе, каковою они обязаны, для каждого за пятьдесят су, оплачиваемых каждым из года в год…
Далее, есть три человека, каковые обязаны двумя днями перевозок, оцениваемыми в два су шесть денье.
Далее, три человека с тремя лошадьми обязаны ездить в Дьепп за сельдью раз в год.
Далее, три человека обязаны доставлять сеньору зерно, когда сеньор захочет, из Ардувиля в Павильи, и сено на поля дважды в год, и каждая служба оценивается в четыре су.
Оные три человека, сиречь Жан Эганье, Гильом Бюрель и Гильом Баго, освобождены от служб, каковыми они обязаны, за шесть су ежегодной ренты каждый.
Но крестьяне были хитры. Многие сельские общины в изменениях, происходящих в домене, нашли способ отделаться от всего — и от барщины, и от «подписки». Легко отказаться выполнять повинности и собственноручно трудиться, когда знаешь, что сеньор роздал в наделы все земли, на которых когда-то работали барщинники. Какой смысл платить, если у сеньора больше нет обрабатываемых полей?
Таким образом, сеньория теперь зависела от батраков. В этом не было ничего страшного, когда демографическое давление вынуждало людей искать работу. Тревожной эта ситуация стала, когда зарплаты поднялись и одновременно достигли потолка цены на зерно. Земельный доход все меньше мог обеспечить вложения капитала, необходимые для содержания земель. К тому же сеньору нужно было являться и ко двору принца, и на войну, так что он забросил сеньорию и эксплуатировал ее, не заботясь о будущем. Не видя больше в земле того источника доходов, каким она по преимуществу была для предыдущих поколений, аристократия предпочитала доходы от службы. Придворная, судебная и административная, военная служба давали жалованье, пенсии, дары и даже выкупы. Круг замкнулся. Сеньор включился в систему жалований.
Земли, которые иногда продавала старая аристократия, скупали многочисленные нувориши, жаждавшие престижа. Бюргеры, ищущие надежного, а то и прибыльного вложения капитала, горожане, которым повезло таким образом обеспечить снабжение своего дома, — все они не были предпринимателями, преобразующими хозяйственную систему. Не в их силах было остановить процесс деградации сеньориальной экономики. Эти первые бюргерские приобретения, покупки чинша, ренты, прав на рынки на самом деле представляли собой лишь вложения капитала — город еще активно не включился в жизнь деревни. Деловой человек не взял пока в руки руководство ей, а у королевского советника, когда он покупал целую сеньорию, не было других амбиций, кроме как следовать примеру коллеги, уже обеспечившего себе наследство.
Был ли собственник земли потомком старинного феодального рода или только что приобрел ее, связь между землей и хозяином слабела; замок еще был резиденцией, иногда временной, но уже не центром сельского управления. По сравнению с предшественником сеньор видел меньше преимуществ в сохранении ради собственной эксплуатации той «господской запашки», которая прежде была сердцем сеньории и обеспечивала ее связность.
И он раздавал в надел оставшиеся земли. Он возобновлял процесс, начатый с появлением первых цензив франкской эпохи, процесс, прерванный на несколько веков в результате того, что в технике и в экономике установилось некое равновесие.
Выгоду от этих новых наделов получал отнюдь не средний крестьянин, уже переживавший трудности со своим держанием. Он бы не вдруг взялся обрабатывать участки, значительно превышающие его старую цензиву. Получателем новых наделов, «фермером» (fermier) или «арендатором» (metayer) бывшей господской запашки был первый парень на деревне, тот, кто больше всех приобрел в прежние времена, владелец лучшего инвентаря и самых крепких упряжек. Он мог вложить в дело достаточно денег, чтобы ввести новые арендованные земли в эксплуатацию. Богатый крестьянин укреплял свое положение. Тем хуже было для других.
В той Франции, над горизонтом которой сгущались тяжелые тучи, непрестанно углублялась пропасть между разными социальными слоями. Пропасть между процветающим бюргером, сменявшим оловянную посуду на серебряную, и работником текстильной мастерской или подручным строителя. Их объединяло только то, что они живут в городе. Пропасть между зажиточным земледельцем, собственником своих плугов и амбаров, и поденщиком, подрабатывающим на чужой земле, чтобы дополнить скудный доход со своей. Все эти люди различались умением адаптироваться, уверенностью в завтрашнем дне, способностью к развитию.
В начинающемся кризисе кое-кто увидит средство удержаться на плаву. Некоторые в этом преуспеют. Другие пойдут ко дну. Никто не знал, что война окажется Столетней, а недоедание дождливых лет будет способствовать чуме. Но все чувствовали, что легкие времена прошли.
Глава III Война, плохо начавшаяся
Ко Дню всех святых 1337 г. в Париж прибыл Генри Бергерш, епископ Линкольнский. Прелат привез послание короля Англии, адресованное «Филиппу Валуа, именующему себя королем Франции». Это означало одновременно разрыв оммажа, принесенного в Амьене, постановку под вопрос наследования французской короны и объявление войны.
Погоня за союзами
Значительно ускорило начало войны решение, принятое за год до того собранным в Ноттингеме парламентом: он вотировал субсидию, запрошенную Эдуардом III на это предприятие. Король Англии снарядил военный флот и послал оружие в Гиень. Чтобы разорить фламандскую промышленность и заставить сукнодельческие города — Ипр, Гент, Брюгге, Лилль — из соображений выгоды перейти на сторону англичан, он в конце 1336 г. запретил всякий экспорт английской шерсти во Фландрию. Перед промышленниками встала жестокая дилемма — выбор между французскими покупателями и английскими поставщиками. Эдуард III даже предпринял личную инициативу, чтобы упрочить новую экономическую ситуацию: в феврале 1337 г. он предоставил широкие привилегии всем иностранным работникам, которые поселятся в английских городах. Импорт иностранного сукна был запрещен. Англия намеревалась обойтись без Фландрии.
Эдуард III умело подстегивал враждебность между северными княжествами, уже тогда соперничавшими друг с другом: он покровительствовал английскому экспорту в Брабант, молодая промышленность которого (сукноделие Мехелена и Брюсселя) начинала успешно соперничать с традиционными крупными центрами Фландрии. Брабантцы получили тридцать тысяч мешков шерсти при единственном условии, чтобы ничего из этого не перепало ремесленникам Фландрии. Возможно, простым совпадением был тот факт, что Робер д'Артуа, как раз укрывшийся при английском дворе, одно время находился в Брабанте и что в ответ на замечания короля Франции герцог Иоанн III Брабантский с достоинством ответил, что приказам не подчиняется. Герцогство Иоанна III не входило в состав королевства, и он принимал у себя кого угодно.
В Рейнской области Европы, иначе говоря, на западных границах Священной Римской империи германской нации, стерлинговая дипломатия развернула деятельность, открыто направленную против французского короля. В Валансьене, у ворот королевства, английские послы некоторое время держали «биржу союзов», где ненависть к Валуа можно было обратить в звонкую монету.
Этого было вполне достаточно для юридически обоснованного обвинения герцога Гиенского в предательстве. Но Филипп VI не желал учитывать, что и его поведение отнюдь не выглядело поведением образцового сеньора. Не он ли сосредоточил в Нормандии свой флот и подстрекал шотландцев против Эдуарда III? Король Франции сделал вид, что видит только происки своего аквитанского вассала. 24 мая 1337 г., за отказ явиться на суд, Эдуард III был заочно приговорен к конфискации (commise) фьефа, то есть герцогства.
Какой-то момент папа Бенедикт XII лелеял надежду избежать худшего, поскольку война обоих королевств делала иллюзорными его планы крестового похода. Он добился от короля Франции отсрочки конфискации. Филипп VI пообещал занять герцогство только в следующем году.
Реакция Эдуарда III была той, какой следовало ожидать, — вызов, доставленный епископом Линкольнским. Все были за войну. За войну феодальную, можно сказать, войну традиционную. Хотя Эдуард III и был изначально не допущен к наследию Капетингов как иностранец, разразившаяся война уже не выглядела конфликтом разных стран, как прежние столкновения Капетингов с Плантагенетами. Сражаться предстояло из-за захвата наследства, из-за незаконного присвоения фьефов, из-за посягательств сюзерена на естественные права вассала, из-за недостаточной верности вассала, к которой его обязывал оммаж.
Герцогом Гиенским был король Англии, шотландские союзники французского короля боролись против Англии, экономика Фландрии должна была выбирать между Францией и Англией. Очень скоро сложилось впечатление, что назревает англо-французская война. Впечатление, усиленное тем фактом, что Гиень была не в состоянии обороняться одна и что под властью одного герцога, оцениваемой по-разному, аквитанцы оказались расколоты. В конечном счете войну против турского ливра оплатил стерлинг. И с опустошительными набегами на Францию придут из-за Ла-Манша.
У французов, однако, еще не было чувства, что они сражаются с Англией, как они не противостояли Германии, громя под Бувином войска Оттона Брауншвейгского. Для современников Филиппа VI время национализма еще не настало. Пока что продолжалась эпоха феодальных клиентел. Столкнутся две системы договорной зависимости — оммаж против покровительства, — которые будет дополнять и модифицировать покупка временных приверженцев.
Таким образом, погоня за союзами, ставшая в 1337 г. главным делом для обеих враждующих групп, происходила как в долгосрочной перспективе традиционных отношений, завязанных на константах экономических и политических интересов, так и в очень краткосрочной — в перспективе дипломатии звонкой монеты.
Главной территорией этой погони за союзами был исключительный политический комплекс, который позволительно назвать — с риском впадения в анахронизм — Нидерландами. Здесь сталкивались еще Филипп Красивый и Эдуард II. Эдуард III предпринял тот же обходный маневр, единственный, каким можно было ударить во французский тыл, если фронтом считать Гиень, и помешать таким образом быстрому захвату остатков Аквитанского герцогства. Но Фландрия была какой угодно, только не единой. Сначала простые ремесленники стояли за графа и против патрициев, которые еще в 1300-е гг. составляли партию французского короля и были людьми лилий, «leliaerts», как их называли. А через двадцать лет граф при поддержке французского короля и опираясь на Гент подавил восстание в Приморской Фландрии.
Эдуард III не мог сделать всю ставку на Людовика Неверского, который своей властью во Фландрии был обязан лишь вмешательству Валуа. Воспоминания о Касселе сдерживали английскую дипломатию. Сам по себе граф Фландрский не стоил ничего. Таким образом, играя на расколе, который создал не он, король Англии шантажировал ремесленников возможностью кризиса. Лишившись английской шерсти (а фламандской давно уже не хватало для промышленности), Фландрия была обречена на безработицу. Добрые горожане не забыли финансовых статей соглашения в Атисе, как и того, чего это соглашение им стоило. Но, поскольку им все равно предстояло поссориться с одним из королей, следовало принять сторону того, от кого зависело процветание. Возможно, это им дорого обойдется, хотя у Филиппа VI хватило мудрости дать фламандцам понять: он не станет возражать против их нейтралитета. Встать на другую сторону означало обречь себя на неизбежную гибель.
У Брабанта были все основания поддержать Плантагенета. Независимость брабантцев не пережила бы союза с французами, который быстро бы превратил герцогство в простого сателлита Франции. Зато у графа де Эно было много причин принять английскую сторону, после того как в 1328 г. он поддержал кандидатуру графа Валуа на французский престол: Эдуард III был его зятем как супруг Филиппы де Эно. Тем не менее несколько месяцев граф де Эно с трудом сохранял нейтралитет; затем, видя, что Фландрия откровенно вступает в союз с Англией, он перешел в тот же лагерь, дабы не оказаться в бесполезной изоляции. Поскольку Вильгельм де Эно был также графом Голландии и Зеландии, то со стороны империи, от Северного моря до французской границы, Фландрия граничила с государством, резко враждебным Филиппу Валуа.
Коалицию пополнили рейнские княжества. Юлих, Лимбург, Клеве и некоторые другие поддались звону стерлингов, щедро раздаваемых английскими послами. В те времена «договорной верности» в этом не было ничего позорного. Эта была всего лишь новая версия прежнего феодо-вассального договора — верность в обмен на фьеф.
В этом регионе Филипп VI мог рассчитывать лишь на немногочисленные остатки прежнего французского влияния, достигшего апогея при Людовике Святом и Филиппе Красивом. Ненадежный, по-прежнему слабый, Людовик Неверский мог лишь обещать, что обеспечит союз с фламандцами. Впрочем, он уже достаточно часто колебался — в 1330, 1334, 1336 гг., — чтобы слишком рассчитывать на него. Фландрия ускользала из его рук и из рук короля. Что же касается епископа Льежского или города Камбре, то они видели в союзе с Францией лишь способ уравновесить влияние слишком могущественных соседей из Эно и Брабанта. В Нидерландах королю Франции мало на что можно было надеяться.
Более изощренную игру вел император. Людовик Баварский и вправду пытался проводить политику равновесия, чтобы спасти ту долю власти, какая оставалась у него после разрыва с папой. Ведь Священная Римская империя германской нации находилась под властью отлученного и к тому же схизматика. Поэтому самому упорному противнику авиньонского папы, чтобы выжить, приходилось ссорить христианских государей. Торгуя своей дружбой, в августе 1337 г. он наконец продался Плантагенетам. Эдуард III даже получил от императора титул «викария империи в Нижней Германии», сделавший его официальным представителем императорской власти на Рейне и на Маасе. Это было отмечено в сентябре 1338 г. в Кобленце пышными празднествами, которые организовал император и оплатили англичане.
Если бы Бенедикт XII был более решительным, эта императорская политика привела бы к тому, что понтифик поддержал Валуа. Но папа довольствовался протестами, все еще веря, что вскоре сможет вновь навязать свое посредничество. В конечном счете причиной этого миролюбия и была решимость Эдуарда III: в июле 1338 г. король Англии вновь направил послов в Авиньон.
В те дни Эдуард III считал, что ему все дозволено. В Кобленце он принял оммаж вассалов империи, за единственным исключением епископа Льежского. Он завязал отношения с восточными соседями королевства Франции — с графом Женевским, с графом Савойским. Даже герцог Бургундский, все еще расстроенный династическим выбором 1328 г. и его последствиями для Наварры, прибыл и благосклонно выслушал заманчивые предложения Плантагенета.
Тогда-то Эдуард III и разделил шкуру неубитого медведя. Он заказал себе корону с лилиями. Он уже видел себя в Реймсе.
Филипп VI не остался в долгу. У него было меньше союзников, но они были полезней в длительной перспективе, потому что надежней. Разумное распределение рент в казне — великолепный прием, позволявший задержать выплату, если об обещаниях забывают, — принесло Валуа союз со многими князьями империи, например с графами Савойским и Женевским, на миг поддавшимися искушению английского союза, или с графами Водемоном и Цвейбрюккенским. Граф Люксембурга и король Чехии Иоанн Слепой постоянно бывал при французском дворе; он без колебаний присоединился к французам и привлек зятя, герцога Нижней Баварии. Генуя обязалась поставлять суда и опытных арбалетчиков. Наконец, свою симпатию выразил и Габсбург.
Самым большим успехом этой дипломатической деятельности — которой руководил прежде всего Миль де Нуайе, незаменимый человек для короля, — стал союз с королем Кастилии. В декабре 1336 г. Альфонс XI обещал французскому королю поддержку на море, которая окажется очень полезной в Атлантике: ведь от Байонны до мыса Сен-Матьё гасконские и английские моряки, с одной стороны, французские и бретонские — с другой постоянно дрались между собой, как на море, так и на берегу. Через четыре года кастильские корабли появятся даже в Северном море.
Армии
Политические формы конфликта были, таким образом, очень традиционными еще для одного-двух поколений. Но армии, которые столкнутся в самом начале военных действий, были совсем непохожи на те, которые в 1294 г. выставили друг против друга Эдуард I и Филипп Красивый.
Больше не было военных контингентов, какие вассал должен был предоставлять за свой фьеф пропорционально размерам последнего, не было пехоты, состоящей из сержантов, которую выставляли коммуны в качестве платы за королевское покровительство. Путь, который открыли во Франции решения, принятые сразу после поражения при Куртре, перемены, к которым Англию вынуждало сохранение шотландской угрозы, вели к появлению платной армии, контрактной армии, снаряжаемой за счет налога. Такой налог английский парламент и французские Штаты разрешили взимать с тех, кто хотел откупиться от военной службы — понятие такого откупа (rachat) появилось во Франции в первые годы XIV в., — говоря проще, потому что надо было защищать интересы короля и «общественного блага», в данном случае совпадающие.
Английская армия получила боевой опыт в Шотландии. Воины, которых капитаны приводили согласно условиям своих договоров, были профессионалами — английскими или гасконскими рыцарями, крепкими крестьянами-пехотинцами, чаще всего валлийцами. Договоры составлялись очень четко и именовались «indenture»[20], потому что оба текста, написанные на одном и том же пергаменте, разделялись по пилообразной линии, что позволяло, сблизив, доказать их тождественность. В них оговаривалось количество солдат, длительность службы, условия продления договора, процедуры выплаты. Если капитанам платили как положено, они имели те же интересы, что и наниматель, — больше можно было не опасаться измен или раздробления фронта, как в прежние годы.
У французского короля основу пехоты пока составляло коммунальное ополчение, показавшее чудеса век назад, на поле битвы при Бувине. Но хитрые горожане не всегда отправляли в армию тех, чьей энергии во время военных операций будет недоставать городу, а «сержанты», предоставленные сельскими «очагами», редко бывали людьми, чье присутствие в деревне незаменимо, поскольку время битв было также и временем сельскохозяйственных работ. Что касается конницы, это в основном еще было феодальное ополчение, политическое соперничество внутри которого обуславливало как его недисциплинированность, так и неэффективность. Король Франции набирал кое-каких наемников — немецких кутилье[21], генуэзских арбалетчиков. Но в армии при Креси и Пуатье они составят лишь профессиональное меньшинство.
С начала века никто больше по-настоящему не оспаривал право короля созывать в случае общей опасности не только прямых вассалов — «бан» (ban), — но и людей своих людей, тех, над кем феодальное право не давало ему непосредственной власти. Этот «арьербан» (arriere-ban), который он созывал или же в котором требовал от каждого выплатить налог в качестве выкупа за службу, стал одним из проявлений смещения в юридических принципах монархии. Обращаясь к арьервассалам и к людям своих вассалов через головы последних, король уже вел себя как суверен, как глава государства, а не как сюзерен, то есть высший из сеньоров.
Вместо личной службы людей, собранных со всего королевства, необученных, недисциплинированных и вооруженных как попало, король Франции в основном предпочитал финансовую помощь. За счет налогов он платил профессиональным бойцам. Но выбор был не так прост, как может показаться на первый взгляд. Переговоры велись в каждом регионе, в каждом городе, и реакция податных разнилась в зависимости от того, в какой степени они были заинтересованы в исходе войны. Те, кто знал, что им в любом случае придется самим защищаться с оружием в руках, были мало склонны заранее откупаться от службы. Такими предусмотрительными людьми в 1337 г. проявили себя бюргеры Парижа:
Жители Парижа в настоящем году предоставят в наше войско, каковое мы намерены собрать с Божьей помощью, четыреста всадников на протяжении шести месяцев, если мы самолично явимся в означенное войско, или на протяжении четырех месяцев, если мы туда не явимся и будет война…
Условлено, что все деньги, каковые будут взиматься в качестве оных податей или налогов, будут взяты и получены собственноручно жителями оного города и уплачены ими собственноручно и от их имени либо их уполномоченными в нашу казну в Париже.
И ежели случится надобность, чтобы большинство жителей оного города вступило в оное войско через посредство арьербана или иначе, или будут заключены мир или перемирие, или они вернутся, желаем, дабы с тех пор, как настанет один из сих случаев, означенные жители были свободны по отношению к нам от оплаты за оную конницу.
Сам король колебался. Его выбор зависел от времени, от места, от обстоятельств. От бойцов, поскольку легче было заменить орду ремесленников и крестьян, шумящих, «как на ярмарке», как писал Филипп де Мезьер, чем найти хорошую кавалерию вместо рыцарей из королевства. Простонародье часто заставляли откупаться от службы, чтобы можно было платить «сержантам», но знать чаще всего созывали лично.
Королевство от этого только выигрывало. Сезон сражений был также сезоном жатвы и сбора винограда. В городе, где сезоны были выражены не так явно, нельзя было оставить всю общину без пекарей, жестянщиков, каменщиков.
Зато знать всегда искала сражений, чтобы прославиться. Смысл существования и воспитание влекли авторов «Ста баллад» к войне, к подвигам, к доблести.
Если витязь найдется какой. Чтоб учтив был и именит, И на бой он тебя позовет — Соглашайся, достойное дело. Так ты славу приобретешь.Сражаться без причин, лишь бы сражаться. Этих самых дворян, посвященных в рыцари, или оруженосцев, более или менее уверенных, что их посвятят в рыцари, король сохранит в качестве ядра контрактной армии, даже когда первые случаи панического бегства коммунальной пехоты — в частности, при Креси — убедят командиров королевской армии, что одно только присутствие ополчения на поле боя не гарантирует нового Бувина.
Итак, знать шла на войну, потому что это был ее долг и ее ремесло. Рыцарь приводил с собой людей из своего фьефа — сначала в количестве, пропорциональном размеру фьефа, затем в количестве, указанном в договоре о найме на военную службу (retenue) и пропорциональном обещанной оплате. Это был тот же самый рыцарь, который служил потому, что был обязан и что король созвал всю знать королевства, и которому платили за то, чтобы он оставался в строю сверх положенного срока или привел больше людей, чем положено. Вооруженный вассал превращался в капитана.
Когда опасность была очевидной, легче было менять условия и созывать людей. Налог означал переговоры, уступки, от которых король не мог отказаться, не рискуя нарваться на ответный отказ. Это значило: посредники, местные собрания, более или менее представительные нотабли, наконец, штаты, генеральные или местные. А штаты предпочитали налог, потому что он давал им возможность торговаться, тем самым формируя зачатки политического контроля. Быстро ли, медленно ли собирались воины, но они не торговались. Когда опасность была такова, чтобы отбить у них всякую охоту спорить, король имел все возможности собрать вооруженный арьербан.
Некоторые быстро обнаружили, что война позволяет заработать на жизнь. Это были воины под началом капитана, который платил им подённо. Это были капитаны, которым платил нанявший их принц пропорционально боевому составу, периодически проверяемому. Так, королевские офицеры — маршалы, командир арбалетчиков — выводили войска на «смотры» (montres), на основе которых составлялся протокол, и с ним сверялись при выплате жалований.
«Грамоты de retenue», которые были договорами о найме, часто подробно оговаривали ожидаемую службу и ее финансовые последствия. Так, фиксировали длительность службы, а иногда и ее содержание, суммы жалованья на каждого воина, условия выплаты аванса, который назывался «pret». Ведь воин был не заинтересован в неопределенной выплате после службы, а принц был не заинтересован в неопределенной службе после выплаты. Точно так же при составлении договора фиксировали стоимость «ремонтировки» (restor), которая будет выплачена капитану за коней, вышедших из строя или убитых во время службы, и договаривались о компенсациях за подвиги и добытые трофеи.
И в этом Англия и Франция были удивительно похожи. Может быть, в англо-гасконской армии было чуть больше профессионалов, поскольку Эдуард III едва ли мог ссылаться на непосредственную опасность, требующую пересечь Ла-Манш. Может быть, английские «indentures» были конкретней. Главное, они заключались на более долгий сроки: французам во Франции было легче набирать новых солдат, чем англичанам на вражеской территории заменять выбывших бойцов.
Знать, лишенная возможностей обогатиться, какие некогда давали неисчислимые войны между баронами, горожане без ремесла, крестьяне без земли — вот из кого в основном состояли те «компании» (compagnies) и «руты» (routes), которые воевали за тех, кто предлагал лучшую цену. Но не будем воображать себе сборище социальных маргиналов, знатных бастардов, бандитов, по которым плачет веревка. Армия не была ни свалкой отбросов общества, ни средством продвинуться для храбрецов, рассчитывавших лишь на свои руки.
Исключительно судьба Бертрана Дюгеклена, босяка из благородных, ставшего коннетаблем, поразила современников своей необычностью. Но не стоит преувеличивать, поскольку в Дюгеклене не было ничего от сельского шалопая, а его семья была одной из самых уважаемых. Что же касается знатных бастардов, из которых, как часто писали, формировались армии Столетней войны, точнейшие подсчеты показывают, что они составляли двадцатую-тридцатую часть от численности конных воинов. Было бы неверным обобщать пример Гаскони, где довольно быстро укрепилось представление, что в армии бастард из хорошего рода найдет себе место, какого ему не предоставит родовой фьеф.
Для большинства единственным социальным подъемом — которым не следовало пренебрегать, но который не производил переворота в обществе — был тот, который при Карле V возвел в ранг оруженосцев таких Буало, Бо-Пуалей или Бригандов[22], которые при Филиппе VI остались бы в лучшем случае пешими сержантами.
По сравнению с современными армиями войска, которые собирали для войны английский и французский монархи, были малочисленны. В гасконских войнах Филипп VI редко когда использовал более шести тысяч пехотинцев и четырех тысяч конных воинов. Чтобы для военной кампании во Фландрии — и на всем севере королевства — на три месяца мобилизовать более двадцати тысяч всадников и двух-трех тысяч пехотинцев, понадобилось очень значительное финансовое усилие. Когда король вел переговоры о налоге, без которого армии уже не было, он как раз и добивался средств, необходимых для набора двадцати тысяч солдат на три-четыре месяца. А в разгар конфликта, как перед Пуатье, так и после, ему иногда понадобится до пятидесяти тысяч. Штаты Лангедойля дадут возможность набрать до тридцати тысяч человек на постоянную службу в течение года, а Штаты Лангедока — до десяти тысяч, что в целом составит сорок тысяч человек. Вот чем в лучшем случае король Франции мог располагать во всем королевстве в час величайшей опасности.
Нам эти цифры могут показаться незначительными. Но для современников десять тысяч человек — это было много. Когда перед хронистом проходил отряд в тысячу человек, тот видел настоящую боевую мощь. Поскольку он не мог представить, что такое тридцать тысяч человек в правильном сражении, он писал, что видел тридцать тысяч человек. Он не был недобросовестен. Он просто хотел сказать «много».
Если наш горизонт сужается, уменьшается и численность войск. Редко когда на поле битвы находилось более десяти тысяч бойцов. Армия при Бувине в 1340 г. и при Креси в 1346 г. была лишь немногим больше. При Пуатье в 1356 г. англичан будет максимум шесть-семь тысяч.
Осады сковывали больше всего боевого состава. Для осады Кале Эдуард III задействует двадцать пять тысяч человек. Но в рейдах по Франции, заурядных операциях Столетней войны порой участвовало менее тысячи воинов.
Военные опустошения
Таким образом, театры боевых действий окажутся очень ограниченными. И прохождения солдатни, как своей, так и вражеской, опустошали вовсе не всю страну. Конные набеги (chevauchees), например Джона Ланкастера или Роберта Ноллиса, будут наносить серьезный ущерб на полосе шириной несколько лье, поскольку отряду указывалось направление, а не точный маршрут. Такие битвы, как при Креси или Пуатье, не затронут города и деревни, достаточно удаленные, чтобы войска в них не расположились. Впрочем, чтобы взять город, требовалось время, а затраты на жалованье делали осаду вопросом престижа. Город чаще обходили, чем брали.
Тем не менее война нанесла жестокий удар по тысячам деревень, которые никогда не увидят малейшей стычки, но чей сеньор укрепил — и должен был укрепить — свой манор за счет вилланов, и по сотням городов, которые никто не осаждал, но для которых содержание городской стены еще век будет тяжелейшей из бюджетных статей. Небезопасность на дорогах парализовала обмен, что позволило проводить в жизнь разные запреты на торговлю стратегическими продуктами, например железом или лошадьми.
Тому, кто каждый день ждал грабежа, копить какие-то запасы казалось бессмысленным. Что касается вложений средств, ничто так не могло отбить к ним охоту, как ежедневный страх пожара. Таким образом война парализовала деятельность многих в местах, которых она в конечном счете никогда не коснется.
Впрочем, солдат на войне был не более опасен, чем солдат в период между двумя наймами. Первого по крайней мере что-то ограничивало. Расхищение, безнаказанное насилие и безобразия происходили и далеко за пределами зоны боевых действий. Привычка к войне внушала многим воякам представление, что им все дозволено, и достаточно было десяти подвыпивших недоумков, чтобы отобрать у крестьянина кубышку, изнасиловать дочь и на прощанье поджечь дом.
Даже если солдат ничего не разорял, он дорого обходился краю, через который проходил. Реквизиции были тяжелыми, а платили за них с запозданием. Если нужно было снабдить отряд или крепость на случай гипотетической осады, интенданты не церемонились. Местность должна была поставить вино, зерно, ячмень, овес, сено, солому, дрова, хворост, свечи. Платили за все это или не платили, все равно житель в следующем году останется без этих продуктов. И, как бы мало рвения ни прилагали командиры, реквизиции подвергались и силки охотника, и сети рыбака. Если бы брали только то, в чем действительно нуждалась армия! Но чувство меры никогда не было сильной стороной военных, и один рыцарь графа Фландрского сломал шлюз садка, лишь бы не оставить там ни единой рыбешки.
Население, воспринимавшее произвол ближе к сердцу, чем потребности армии, и интенданты, мало склонные к долгим дискуссиям о состоянии лошади или качестве бочки красного вина, плохо понимали друг друга. Часто дело оборачивалось конфликтом. Для крестьянина, дрожавшего в своей лачуге, как и для того, кто считал, что освобожден от реквизиций, но не умел убедить в этом солдатню, реквизиция была грабежом.
Именно так полагал приор монастыря Святой Маргариты в Эленкуре, славный клюнийский монах, который отправился из области Бове в Париж в 1340-е гг. Его цель была простой и не связанной с окружающей кутерьмой — он собирался продолжить занятия. Поскольку приорский сан не сделал его преуспевающим клириком, он отправился в путь с маленькой свитой: весь его эскорт составляли два спутника — монах-«настоятель» (prevot) монастыря Святой Маргариты и клирик, которого только-только посвятили в сан.
Пересекая область Бове, эти трое могли бы чувствовать себя защищенными от всякого рода сюрпризов. На тот момент обстановка в этих краях была мирной, а граф Валуа — тогда им был брат Филиппа VI — вдали от своего графства, в Бретани, воевал за короля. К несчастью, в армии возникла нехватка лошадей, и наши три монаха натолкнулись на одного из графских интендантов, на которого было возложено пополнение конского состава в графстве Валуа. Поскольку лошадь монаха-настоятеля показалась этому офицеру достойной возить одного из воинов его господина, то приор счел необходимым вмешаться. Интендант схватил лошадь, приор оказал сопротивление, интендант его побил.
Инцидент был мелким, и мы бы о нем не узнали, если бы он не обернулся процессом. Дело дошло до парламента. Монах хотел, чтобы ему заплатили за лошадь, что было несложно, и компенсировали понесенные оскорбления, что парализовало все, в том числе платеж за лошадь. В итоге пришли к компромиссу. До конца своих дней приор монастыря Святой Маргариты, который не видел и тени солдата, считал себя жертвой произвола военных.
Все не обязательно хорошо кончалось, когда клирик или бюргер имел дело с армией. Война, конечно, давала неплохие возможности для обогащения, но кто бы осмелился сказать об этом Жану Прево, амьенскому мяснику, у которого в качестве дорожной пошлины отобрали все стадо, ведомое им в армию. Он отказался платить пошлину, резонно полагая, что снабжение королевской армии обложению не подлежит. Но сборщик дорожной пошлины считал иначе, систематически ставя под сомнение подобные утверждения. Послушать купцов, так все делается для армии короля!
Опять-таки был организован процесс, и парламент даже встал на сторону мясника, после того как прево маршалов Франции подтвердил под присягой назначение скота. Амьенский мясник выиграл процесс, но тем временем загубил свое дело. Ему еще повезло, что скот не пал во время секвестра.
Вооруженные силы и финансы
Если бы все зависело от численности войск, короля Франции можно было заранее считать победителем. Борьба шла между королевством с населением пятнадцать-двадцать миллионов — в границах Франции того времени — и королевством с населением три-четыре миллиона. География также возлагала на Эдуарда III бремя, которого французы не знали с тех пор, как отказались от поползновений высадиться в Шотландии, — потерю времени и денег, какую собой представляла морская перевозка. Люди, кони, оружие, имущество, даже деньги — все это должно было пересечь Ла-Манш, и любая акция на материке зависела от морской инфраструктуры, которую старая организация «Пяти портов» была уже не в состоянии обеспечивать. Перевезти сразу пятнадцать тысяч людей и восемь тысяч коней было тяжелейшим делом, которое Плантагенет и Ланкастер смогут совершить лишь пять-шесть раз за век.
Самый заурядный набег ставил перед англичанами интендантские проблемы, несоизмеримые с возможностями того времени. На фуражиров жаловались, но можно представить себе, с каким трудом они находили каждый вечер солому для коней или отыскивали пастбища, недостатки которых не вызвали бы гнева маршалов и ропота капитанов. Разместить триста бойцов в деревне было на грани возможного, а расселить три тысячи в течение трех дней — почти подвиг. Накануне Пуатье, в 1356 г., англо-гасконской армии Черного принца грозил настоящий голод.
Английские агрессоры страдали и от другой проблемы — ремонтировки. Ведь война буквально пожирала коней. Даже когда их не убивали. Если боевой конь (coursier) вез рыцаря до сражения, он прежде времени выходил из строя, а уставшее животное подвергало опасности всадника, который вовремя не сменил его. Этих боевых коней, лучших английских или итальянских скакунов, нормандских или фламандских иноходцев и даже испанских хинетес[23] немыслимо было вьючить багажом, нагружать на них доспехи, питье и провизию. Для этого использовались ронсены (roncins), вьючные животные (sommiers), хорошие крупные лошади, непригодные для боевых операций, но способные день за днем везти самый необходимый багаж, который не оставишь в подводах. А ведь нужны были и животные, чтобы тащить подводы…
В начале кампании не было такого воина, который бы не имел двух-трех лошадей. Рыцарь предпочитал, чтобы их было четыре-пять. И от принца, который его нанял, он, очевидно, ожидал, чтобы ему «ремонтировали» коней, павших во время службы. Это в первую голову было не только финансовой проблемой, но и технической: денежная «ремонтировка» не возвращала коня, который был необходим, но которого иногда было невозможно найти в местности, пустевшей с приближением солдат. Трудности армии, пересекающей вражескую страну, в этом проявлялись особо тяжело. Французы часто понимали это в Бретани, англичане испытывали на себе с тех пор, как покинули Гасконь.
Зато Эдуард III обладал преимуществом, которого ни он, ни его противник в начале войны, несомненно, не сознавали: лишь его пехота была эффективной. Пехота короля Франции состояла из сержантов, кое-как наученных обращаться с длинным ножом, и была усилена несколькими профессиональными арбалетчиками, в основном генуэзцами. Эти арбалетчики, возможно, и были мастерами точной и мощной стрельбы, замечательно подходившей для осад, но их оружие было тяжелым, и маневр они совершали медленно. А английская армия уже была сильна несокрушимыми валлийскими кутилье и копейщиками, при массированном ударе грозными для вражеских конников. Прежде всего она отдавала предпочтение луку, оружию не слишком прицельному, стрелы которого никогда не пронзят сталь доспеха, но скорострельному — три стрелы против одного арбалетного «болта» — и легкому, что давало возможность любых тактических маневров. Именно английские лучники как при Креси, так и при Пуатье будут валить с ног коней французской армии, попавшей под дождь стрел.
И потом, с тех пор, как Филипп VI отказался от мысли пересечь Ла-Манш, чего он мог пожелать, когда его шотландские союзники были сильны, англичане обладали инициативой.
Инициатива означала прежде всего возможность рассчитывать время своих действий. Посеять за несколько недель ужас от Котантена до Кале, даже если для этого надо было перевезти людей и коней, стоило дешевле, чем привести в состояние обороны сотни крепостей, даже не зная, окажутся ли они на пути набега. Содержание гарнизона, тяжелейшая составная часть военных расходов, было делом обороняющегося, а не возможного агрессора. Подсчитано, что в 1371 г. один-единственный гарнизон в Кале поглотил шестую часть валового дохода короля Англии. Но у англичан Кале был один, а у французов таких Кале — сотня.
Филипп VI, таким образом, был вынужден постоянно подстраховываться. Он разорял себя и свои города расходами на восстановление и содержание замков и укрепленных городских стен, на организацию системы охраны и дозоров, на жалованье гарнизонам, которые надо было содержать круглый год. Эдуард III же тратил деньги только тогда, когда переходил в нападение, кроме как на границе Гиени. Его дальний преемник Генрих VI узнает цену завоеваниям, когда должен будет в свою очередь за счет английских податных, подобно французам, защищать свою треть Франции от Жанны д'Арк и Ришмона.
И все это ложилось бременем на города: стоимость обороны разобщала жителей. Каждый хотел, чтобы общая городская стена могла выдержать осаду, но ожидал, что ее укрепят за счет соседа. Внутри каждой городской коммуны вопрос стены приводил к столкновению, в котором принимали участие люди короля, герцога или графа, если таковой имелся, и во многих случаях люди епископа. Начинались тяжбы, кому следует руководить работой, а кому ее оплачивать. Король и его юстиция выступали в роли арбитров, но арбитров пристрастных, и их арбитраж только усиливал недовольство.
Таким образом, война требовала еще больше денег, чем мир. Поскольку домениальных и феодальных доходов короля хватить не могло бы, это были деньги податных людей. Помимо военных затрат сам по себе конфликт служил оправданием для взимания налогов.
Для короля Англии эта процедура была простой и зафиксированной с начала царствования Генриха III, уже более века тому назад. Король запрашивает, парламент голосует. Если только у депутатов палаты общин не возникнет чувства, что запрос чрезмерен, если они не обусловят свое «вотирование» требованиями неприемлемых политических уступок, если не сочтут, что страна достаточно угнетена уже установленными налогами… А ведь налоговое бремя непрестанно тяготило Англию. Надо было оплачивать войну в Аквитании и нескончаемую шотландскую войну. Надо было оплачивать дипломатию стерлинга, посредством которой со времен Эдуарда I Англия заключала на материке те непрочные союзы, которые часто избавляли ее от необходимости военного вмешательства, но существовали только, пока продолжались выплаты.
Добавим колоссальную упущенную выгоду, которую английской экономике приносила «шерстяная война» против ремесленников Фландрии. Ведь то, что в промышленных городах было безработицей, на скотоводческих землях оборачивалось затовариванием. Придушить фламандское сукноделие, убеждая города Фландрии, что им выгодней перейти в английский лагерь, означало завоевать новые рынки — едва не задушив собственный.
Конечно, уже был итальянский рынок. Караванов, приходящих из Венеции, Генуи и Пизы, хватало, чтобы снабжать молодую суконную промышленность Тосканы и Ломбардии. Но это далеко не компенсировало прибыль, недополученную во Фландрии, и в 1336 г. одновременно обрушились один из постоянных доходов короля — «кутюма» на экспорт шерсти[24] — и платежеспособность всех, кто жил за счет шерсти, будь то скотоводы или купцы.
Эдуард III был вынужден прибегать все к новым уловкам, дававшим крайне скудный доход. Так, идея конфисковать всю шерсть, готовую для экспорта, быстро оказалась несостоятельной: учредив в Брабанте, в Антверпене, новый «этап» для распределения шерсти на материке, король полагал, что сумеет вести дела лучше своих купцов. Вскоре ему пришлось идти на попятную. В таком случае надо было занимать. Две крупных флорентийских компании, Барди и Перуцци, сочли выгодным одолжить английскому королю значительные суммы; кредиты гасились за счет новых займов. В ближайшем будущем они приобрели некоторые коммерческие привилегии, которые, естественно, вызывали зависть. Чего не сделаешь ради нескольких тысяч мешков шерсти? Через пять лет, не сумев добиться возвращения долгов, Барди и Перуцци обанкротятся.
Эдуард III тем временем попал в лапы ростовщиков. Архиепископ Трирский дал ему кредит, но взял в залог корону, которую недавно изготовили в предвидении коронации в Реймсе. Воистину королевство Франция дорого обходилось английскому королю.
К счастью для него, его противник Валуа был не в лучшем положении, по крайней мере в первые годы войны. Взимать налог на оборону означало бесконечные переговоры. Провинциальные штаты, а начиная с 1343 г. и Генеральные, собрания бальяжей и диоцезов, все эти органы, обсуждавшие эд[25] и вотировавшие его, нисколько не избавляли представителей короля от переговоров с каждой общиной. Обсуждали форму обложения, пределы освобождения, процедуру сбора. Ордонансы могут создать впечатление, что королевский налог был один. На самом деле этих налогов была тысяча.
Эд поступал плохо: медленно и не полностью. Чтобы все же получить деньги, король по мере сбора налога уменьшал свои претензии. На начальном этапе переговоров он больше терял в политическом плане, чем выигрывал в плане денежных средств. В конечном счете лучше было не упорствовать, добиваясь ожидаемых сумм. Следовало отказаться от дальнейшего сбора и запросить новый налог.
Самым надежным налогом все еще была десятина, десятая часть чистого дохода церквей, в отношении которого авиньонские папы охотно делали вид, будто верят, что полученное будет использовано Валуа для подготовки крестового похода. Впрочем, разве тот, кто намерен отвоевать Святые места, не должен начать с того, чтобы привести в порядок свои дела? Пусть король Франции сражается с англичанами, он же закончит с этим делом до крестового похода… Как можно отправляться на Восток, не установив мир на Западе?
Таким образом, как у одного, так и у другого финансовое положение было неопределенным. Все начинания чем-то обуславливались. Внезапность исключалась — кампанию нельзя было начать без долгих оправданий. Невозможно было и планировать на долгий срок: никогда не было уверенности в том, что останется в казне назавтра. Начиналась война, ставки в которой были высоки как никогда, а ни у Филиппа VI, ни у Эдуарда III не было средств, чтобы долго ее вести.
Война во Фландрии
Эдуард возложил все надежды на союз с фламандцами, который в случае любой военной интервенции во Францию мог дать ему значительно более удобный плацдарм, чем Бордо. Король Франции, зажатый между Фландрией и Гиенью, — старая мечта, рухнувшая в 1214 г. при Бувине.
Дело, между тем, началось плохо. Назначенную на конец 1337 г. первую экспедицию сразу же отменили, официально — чтобы удовлетворить папу Бенедикта XII, который все еще проповедовал согласие между христианскими властителями, а в действительности — из-за нехватки денег. Весь 1338 г. прошел в переговорах со Священной Римской империей. Наконец, весной 1339 г. показалось, что можно переходить к военным действиям. Но высаженная в Антверпене и сосредоточенная в Брабанте армия напрасно будет все лето ждать немецких контингентов. Император Людовик Баварский не скупился на поощрения. Он даже назначил Эдуарда III «викарием империи». Более скуп он был на реальную помощь. Ситуация, прямо противоположная той, в которой оказался в 1297 г. граф Фландрский, напрасно надеявшийся на поддержку своего английского союзника.
Осенью Эдуард направился на юг, без успеха осадил Камбре и тщетно просил противника назначить «день сражения». Французы держались в отдалении, где-то в Артуа. Англо-имперский союз на том и кончится.
В это же время корабли короля Франции контролировали море, тревожа английские конвои, наводя страх на берега Гаскони, а также Сассекса или Девоншира. Генуэзские адмиралы Антонио Дорна и Карло Гримальди усилили флот французов, которым командовал Гуго Кьеpe. В то же время Бегюше создал себе репутацию первого «корсара» короля. Операции в стиле настоящих «коммандос», краткие высадки позволили французам сжечь Блей, Портсмут, Плимут, Саутгемптон. Пять лучших английских судов были внезапно затоплены в Зеландии, во время выгрузки шерсти. В Нормандии, где у людей была долгая память, начали настойчиво поговаривать о скором завоевании Англии.
Во Фландрии, напротив, время работало на Плантагенетов. Безработица, которую они сознательно устроили, приостановив экспорт шерсти, вылилась в мятеж против богатых и обеспеченных, против знати и деловой аристократии, против графа и его чиновников, наконец, против короля, союзником которого граф, не скрывая этого, был уже десять лет. Людовик Неверский любил жить в Париже; фламандцам это было не слишком по душе. Поэтому несколько эмиссаров английского короля без особых затрат поддерживали тлеющий огонь. В Ипре, в Брюгге, в Генте они давали ужины нотаблям, проявляли щедрость к простолюдинам, шумно обращали внимание на обнищание страны.
Якоб ван Артевельде никак не принадлежал к нищим, но его интересы кризис задел очень сильно. Этот крупный бюргер, сын эшевена, сознавал солидарность разных уровней сукноделия — предприниматели и ремесленники делали общее дело. Фландрия нуждалась в шерсти — вся Фландрия, от любого простого ткача до самого графа, чья казна немедля ощутит последствия всеобщего обнищания. Идя по улице, ремесленники кричали: «Работа! Свобода!» Эти слова имели смысл и для преуспевающих бюргеров, таких, как Артевельде.
3 января 1338 г. гентцы собрались и сделали его одним из капитанов города. Никакой политической программы у него не было, но он понимал ситуацию: его предложение состояло в том, чтобы восстанавливать благополучие разными средствами, от административной реформы до союза с англичанами.
Разом сплотившись, Фландрия восстала против власти Людовика Неверского. В апреле в монастыре Экхаутте прошло общее собрание представителей крупных сукнодельческих городов. Создали центральную комиссию, состоящую из делегатов от каждого города. Артевельде фактически взял на себя управление графством Фландрией.
Людовик Неверский попытался перехватить власть над большими городами. После двух месяцев напрасных усилий он признал свое поражение. Он даже усугубил его, велев обезглавить старого рыцаря-баннерета, очень популярного в Генте, по имени Сойе [Сигер] Куртрейский, арестованного несколькими месяцами ранее за желание вести переговоры с английскими посланцами. Людовик Неверский оказался в своем графстве Фландрии в полной изоляции. Как и в 1328 г., он обратился к своему сеньору — королю, который был обязан оказывать ему покровительство. В феврале 1339 г. граф Фландрский бежал в Париж.
Артевельде помнил, какие ошибки были совершены десять лет назад, и не имел никакой охоты их повторять. Он заверил Англию в нейтралитете фламандских городов, получил взамен за этот нейтралитет несколько посылок с шерстью, но отказался заходить дальше.
О восстании против французского короля по-настоящему можно было говорить только к концу 1339 г., когда незавершенность англо-имперской кампании в Камбрези и Тьераше свела обе армии невредимыми лицом к лицу у ворот Фландрии, и это наводило на мысль, что рыцари короля Франции вполне могут, как в 1328 г. при Касселе, прийти и восстановить власть графа.
Но, не желая брать на себя обязательств, Якоб ван Артевельде рисковал оказаться в изоляции. Время нейтралитетов прошло, и Фландрии оставалось лишь повернуть в сторону Англии, иначе пришлось бы пожертвовать своей экономикой. Эдуард III был в Антверпене. Артевельде направился туда.
Это англо-фламандское соглашение, заключенное 3 декабря 1339 г. и дополненное в январе следующего года, по сути было шарлатанской сделкой. Фламандцы признавали Эдуарда королем Франции и обещали ему вооруженную помощь: но трудно представить ремесленников из Брюгге или Гента, выступающих на завоевание королевства. Взамен англичанин соглашался перенести из Антверпена в Брюгге «этап» шерсти — что значило не посчитаться с реакцией брабантцев — и обещал Фландрии вернуть, как только он вступит во владение своим Французским королевством, три фламандских шателении Лилль, Дуэ и Орши, некогда переданные Филиппу Красивому по договору 1305 г. в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Отнюдь не лишенный великодушия, король Англии предлагал также финансировать оборону фламандских городов и при надобности способствовать ей людьми и кораблями. Надо ясно представлять себе, что ни у одной из сторон тогда не было средств, чтобы сдержать эти обещания.
Чтобы еще больше уменьшить значимость этой мошеннической сделки, граф Фландрский поспешил сообщить, что отказывается поддержать договор. В этом не было ничего удивительного, если вспомнить, что теперь он жил при французском дворе. Но король Англии, который вполне мог поставить под сомнение корону Валуа, не мог никоим образом отрицать законные права графа Фландрского. Эдуард был сувереном и в то же время сюзереном; он знал, что Артевельде, его партнер по переговорам, пришел к власти в результате мятежа. И никакой король не мог, без большого риска для себя самого, надолго вступать в союз с теми, кто подрывает установленный порядок.
Пока что Эдуард III видел себя уже на пути к миропомазанию. В свою игру он вовлек все северные княжества, и один из крупных французских фьефов уже признал его королем. Его не смущало, что договор подписал не граф Фландрский, и не останавливал тот факт, что признание сюзерена арьервассалами считалось более чем незаконным согласно феодальному праву. К тому же фламандцы не преступали предыдущих клятв; они по-прежнему хранили верность королю Франции — но другому королю Франции, а не тому, который царствует в Париже.
Теперь Плантагенет действовал очень быстро. Он принял титул короля Франции и Англии. Он изменил свой герб, разделив его на четыре четверти, в двух из которых были французские лилии, а в двух — три английских леопарда. Наконец, 6 февраля 1340 г. он созвал ко двору в Генте всех вассалов Франции.
За исключением фламандцев, он оказался там в одиночестве. Невелика важность: вступив в Гент 26 января, он принял там 6 февраля оммаж от нескольких фламандских баронов и клятву верности от уполномоченных всех фламандских городов. Заняв место среди уполномоченных, Якоб ван Артевельде вернулся к прежнему положению. Сын Изабеллы Французской мог на мгновение поверить, что царствует над королевством своего деда Филиппа Красивого. Он заказал новую королевскую печать с надписью «Эдуард, милостью Божьей король Франции и Англии, государь Ирландии».
Он слишком спешил. Фламандцы вели себя настороженно в отношении новой власти. Они не слишком обрадовались, узнав, что Эдуард III пообещал прислать к ним английских священников на случай, если Бенедикт XII наложит на них, как на отступников от клятвы верности Валуа, интердикт. Не доверяли они и английскому казначейству, попросив предъявить стерлинги. Эдуард был вынужден вернуться в Англию, чтобы просить субсидию, причем итальянские банкиры заставили себя упрашивать, а общины жестко торговались.
Тем временем жители Гента взяли заложников, сделав вид, что просто задерживают гостей. На этот счет никто не обманывался: королева Филиппа, в тот момент беременная, и ее дети просто-напросто гарантировали Артевельде и его друзьям, что Эдуард их не забудет.
Узнав, что из Англии вот-вот прибудут подкрепления, Филипп VI спешно направил свой флот в Северное море. В портах Верхней Нормандии и Пикардии с мая 1340 г. сосредоточилось около двухсот кораблей, готовых взять курс на пролив.
Слёйс
Военная эскадра в 1340 г. еще представляла собой группу судов, не слишком соответствовавших единому типу; несколько тысяч тюков с шерстью превращали такое судно в торговое, а сотня вооруженных людей — в военный корабль. Впрочем, купеческие караваны ходили под охраной, и моряки торгового флота уже без колебаний топили противника — как конкурента, так и врага, — которого также не постеснялись бы зарезать при встрече на пристани.
Любой транспортный неф, таким образом, в большей или меньшей мере имел отношение к войне. При надобности использовались и рыбацкие суда. Корабли снаряжали как во всех портах Корнуэлла, Девоншира или Сассекса, так и во всех портах Нормандии и Пикардии. На двухстах французских кораблях, находившихся в июне под Слёйсом, будут шкиперы из двадцати пяти портов, от Шербура и Ла-Уг до Берка и Булони. Туда прибудет тридцать один шкипер из Лёрра — иначе говоря, из Гавра — и двадцать один из Дьеппа. Корабли, созданные трудами судостроителей из Дюклера и Кодебека по приказу французских адмиралов, здесь смешались с барками, вышедшими из мастерских Абвиля.
Однако в строительстве больших кораблей и тех, которые возводили специально в военных целях, фактической монополией пользовался Галерный двор. Этот Двор, «терсеналь», как говорили современники, пытаясь переделать на французский лад арабское Dar Sanaa, «дом труда», и пока не найдя слова «арсенал», был детищем Филиппа Красивого. Располагаясь на левом берегу Сены, ниже Руанского моста, он занимал обширную территорию, защищенную наспех возведенным укреплением. Румарский, Бротоннский и Руврейский леса снабжали его древесиной вяза, дуба и главным образом бука как для строительства и ремонта судов, так и для изготовления оружия. Близко находились и поставщики пеньки для парусов и снастей, как, впрочем, и железа — Бретёй, Верней, Рюгль.
Первые инженеры, призванные Филиппом Красивым, вдохновлялись примером арсенала в Севилье, самого известного в ту эпоху. На берегах Сены бывали генуэзцы: Спинола, Маркезе, Тартаро. Но очень скоро появились и французские специалисты, в большинстве своем генуэзской школы. С 1300 г. эти французские инженеры окончательно сменили иностранцев. В 1340 г. «смотрителем Галерного двора» стал некий Тома Фуке, администратор и счетовод, не инженер. Но рядом с ним трудился настоящий технический специалист, Жильбер Полен, бюргер из Руана, вроде бы посвятивший всю жизнь Галерному двору. Он был «секретарем военных работ». Король назначил его «сержантом при оружии» (sergent d'armes). Его сын станет рыцарем. В эскадре, собравшейся близ берегов Фландрии в конце весны, Жильбер Полей командовал собственным нефом «Успение Богоматери», на котором было восемьдесят моряков и солдат.
Так же как груза шерсти, а не формы корпуса, было достаточно для того, чтобы сделать судно торговым, военным кораблем его делала не столько форма, сколько оружие на борту. Личным оружием в большинстве случаев, до появления пушек, было прежде всего метательное (trait): легкие и широкие арбалеты, заряжавшиеся с упором на одну ногу, тяжелые арбалеты, заряжавшиеся с помощью двух ног, арбалеты «с воротом» (а tour), натягивавшиеся с помощью ручного ворота. Для абордажа, который должен был последовать за градом виретонов[26] и болтов, воины на борту вооружались копьями с железными наконечниками, топорами и ножами. Не забудем и о защитном вооружении: пластинчатые доспехи, кольчуги, бацинеты[27], бармицы, щиты, тарчи[28], павезы[29]…Чтобы представить себе полную картину нагруженного судна, добавим бисквиты, пресную воду и вино.
Рыбацкое судно или каботажная барка, маленький неф брали на борт сорок-шестьдесят человек, включая экипаж. Это означает, что на борту было два-три простых арбалета, два-три ящика виретонов и болтов. Кораблей такого типа насчитывались десятки, от барки «Богоматерь» мастера Жана Лижье из Абвиля до королевского барго (bargot) «Святой Фирмин».
Большое торговое судно, королевская галера, которых было всего два-три десятка, могли вместить сто, сто пятьдесят или двести человек. Такими были «Святая Екатерина» и «Святой Георгий», принадлежащие королю, «Святой Юлиан» мастера Николя Ас Куллё из Лёра и «Святой Иоанн» мастера Гильома Лефевра из Арфлёра. Такие корабли запросто принимали на борт пять-шесть арбалетов, десятка два штурмовых орудий и доспехов. Адмиральский корабль «Святой Георгий» вез целый арсенал, часть которого, несомненно, составляла оперативный резерв эскадры:
20 немецких пластинчатых доспехов,
200 павез,
15 заряжавшихся с помощью двух ног арбалетов,
2 арбалета с воротом,
10 оспье (haussepieds) для натягивания тетивы арбалетов,
100 портупей для арбалета,
20 пар латных рукавиц,
1860 длинных стрел (dards) с железными наконечниками,
675 длинных стрел без железных наконечников,
673 толстых и длинных стрелы,
42 копья,
440 наконечников для копий,
997 чеканов с древками,
68 топоров с топорищами,
60 знамен из камлота (легкой ткани) с гербами Франции,
2 босана (baucents) с означенными гербами,
7 знамен с шотландскими гербами,
3 знамени с гербами адмирала,
2 знамени с гербами сира Никола Бегюше,
2 тысячи втулок для насаживания наконечников на стрелы и копья,
58 тысяч разных гвоздей…
Уже даже начали — как у англичан, так и у французов — применять на море зачатки артиллерии: «огненные горшки», еще метавшие стрелы с металлическим оперением, которые называли гарро (garrots). С 1338 г. Бегюше установил на свои корабли одно или два таких устройства.
Огненный горшок для метания огненных гарро, 48 гарро с железными наконечниками и оперением в двух ящиках, фунт селитры и полфунта живой серы, дабы делать порох для метания оных гарро.
К эскадре Гуго Кьере и Никола Бегюше примкнули и изящные средиземноморские галеры, в основном генуэзские. Здесь были Дорна и Гримальди, Фьески и Спинола с четырьмя десятками подвижных и маневренных судов, с опытными экипажами. Это были профессионалы морской войны, способные произвести впечатление на англичан, более привыкших к торговым конвоям, чем к погоням на море.
Флот короля Франции покинул Арфлёр, Лёр и Ле-Кротуа в последние дни мая. В начале июня около двухсот кораблей заняли позиции близ берегов Брюгге, перекрыв вход во внешнюю гавань Слёйса. Англичане никоим образом не должны были пройти. Даже расскажут, что французские капитаны отвечали за это головой.
Еще король Франции очень усилил свой собственный флот, который по его приказу находился в море, и большую флотилию морских наемников. И повелел он монсеньору Гуго Кьере… Барбеверу и другим капитанам, чтобы они зорко стерегли побережье Фландрии и ни в коем случае не дали королю Англии переплыть море и высадиться — будь то во Фландрии или в каком-нибудь ином месте. А если, по их вине и оплошности, король Англии все-таки проскочит, он велит их всех казнить злой смертью без всякой пощады[30].
Слабостью французского флота, превосходного во всех остальных отношениях, было его командование. Два года назад Кьере был сенешалем Бокера. Возможно, этот пикардиец любил море, но ремеслу рыцаря он учился на коне, а не на галере. Филипп VI сделал его адмиралом в 1336 г., когда речь шла об организации экспедиции в Шотландию; но адмирал в представлении короля был всего лишь организатором перевозки армии рыцарей и сержантов. Ехать морем надо было, чтобы сражаться на суше, и говорили об «армии моря», а не о морском флоте. Назначая Кьере, организаторские таланты которого были общепризнанными, король ни на миг не думал о столкновении двух эскадр.
Что же касается Никола Бегюше, это был гениальный дилетант. Карьеру он начал в качестве администратора и финансиста. Он побывал магистром вод и лесов, потом — королевским казначеем. Филипп VI, сделав его генерал-капитаном морской армии — вместе с адмиралом Кьере, — в то же время назначил его советником счетной палаты.
Бегюше был человеком с живым воображением, быстрым в принятии решений и горячим в поступках. Уже два года он успешно проводил многочисленные операции в духе «коммандос» в английских портах. Его дерзость и отвага были известны. Но отнюдь не мореходная компетентность. Если он затопил в 1338 г. крупные английские корабли, то по той простой причине, что застигнутые врасплох англичане должны были сражаться в соотношении один против десяти. Под Слёйсом так не будет. Силы были равны.
Несколько месяцев назад Бегюше составил план войны, конечной целью которого все еще оставалось вторжение в Англию. Он предлагал топить англичан по одиночке, атакуя суда в разгар торговой активности. Идея была не лишена хитроумия: летом нападать на соляные караваны, возвращающиеся из Бургнёфа и Геранда, осенью атаковать винные — крупные транспортные суда — между Бордо и Саутгемптоном, а между тем топить сотни мелких рыбацких барок на сельдяных банках. Наконец, следовало оказать помощь шотландцам и в довершение всего разорить английские берега.
Что касается тактики, то все основывалось на использовании узких галер, быстрых и маневренных, и на надежде, что у англичан таковых не окажется.
Ибо подвижный корабль способен разгромить десять других.
К несчастью для Филиппа VI, англичане были настроены так же. Это стало явственным в конце зимы, когда пришлось срочно направлять в Бретань флотилию из шести кораблей, чтобы вернуть в Лёр под эскортом купеческий караван — шесть каракк и сорок нефов, которые укрылись там из страха перед английской эскадрой. Зная, что в прибрежном районе находится Арундел, французские моряки не решились ни идти в Сентонж, ни возвращаться в Нормандию…
Под Слёйсом силы были равны. Исход боя разрешит не численное превосходство. Двести французских кораблей, имея на борту двадцать тысяч человек, установили блокаду. Позволив противнику господствовать на море, Эдуард III терял все. Поэтому он собрал все силы: двести пятьдесят кораблей с пятнадцатью тысячами воинов на борту, не считая матросов. Для того времени это было значительным числом. Итак, одно из величайших морских сражений в истории началось 24 июня 1340 г. в лучших традициях сухопутных боев — градом стрел и виретонов.
Командиры французской эскадры сразу же показали непонимание тактики. Раз было приказано не дать англичанам высадиться, им просто-напросто перекрыли путь в Брюгге. Генуэзец Барбавера, имевший солидный опыт столкновений с берберами, пытался убедить французских коллег, что нужно во что бы то ни стало оставить себе место для маневра.
Идите в открытое море со всеми кораблями. Если вы останетесь здесь, на стороне англичан будут ветер, солнце и прилив: они зажмут вас так, что вы ничего не сможете поделать.
Но Бегюше был упрям, а под началом Барбавера находилось всего три галеры. И французская эскадра осталась дрейфовать, свернув паруса и стоя борт к борту. Бегюше превратил флот в баррикаду.
Противники выжидали. Какой-то момент французам показалось, что враг колеблется, и они стали открыто смеяться над ним. На самом деле Эдуард III ждал прилива.
Незадолго до полудня английский флот начал продвигаться вперед, при попутном ветре, несомый приливом. Французы, зажатые на входе в Звин, морской залив, омывающий пристани Брюгге, не могли совершить никакого маневра. Впрочем, ни Кьере, ни Бегюше об этом не думали: верх глупости — они укрепили баррикаду, соединив цепями корабли, стоящие в три линии, от одного берега Звина до другого. Наконец — и этот просчет окажется самым тяжелым — они забыли, что берега населены фламандцами, а фламандцы не слишком жаловали французского короля. Лучше было бы держаться от них подальше.
Лишь четыре нефа, самых больших, стояли свободно перед баррикадой с целью вести бой. Их атаковало четыре английских нефа.
В начале абордажного боя преимущество получили французские арбалетчики, которым удалось запрыгнуть на борт английских кораблей. Впрочем, продержались они недолго: очень быстро выяснилось, что мощный арбалет, каким бы точным оружием он ни был, в ближнем бою совершенно бесполезен. Его надо натягивать и нацеливать. За то же время английские лучники выпускали по три стрелы, перебегая после каждого выстрела и ловко используя в качестве заграждений все, что обычно есть на палубе большого судна.
И часа не прошло, как положение французов стало безнадежным. Линии кораблей были захвачены одна за другой. Люди Кьере, будь они моряками или арбалетчиками, не имели иного выхода, кроме как драться ножом или топором, как пешие сержанты.
Но победа обошлась дорого, и англичане понесли тяжелые потери. Корабль, на котором ехали дамы из королевской свиты, пошел ко дну. Эдуард III был тяжело ранен, защищая с секирой в руке кормовую надстройку корабля «Томас», своего флагмана, от атаки, которой руководили лично Кьере и Бегюше. Ситуация опять-таки быстро изменилась — оба командира французской эскадры попали в плен.
Эдуард III был мстителен; жители Кале ощутят это на себе. Он велел повесить Бегюше на месте и, не дав Кьере спокойно умереть от ран, приказал отрубить ему голову, использовав борт корабля в качестве плахи.
В то время как англичане прорвали первую линию, фламандцы ударили французам в тыл. Можно предположить, что это было спонтанное движение, и ему особо способствовало недомыслие адмирала, прижавшего корабли к вражеским берегам.
Среди французов началась паника. К убитым добавились утопленники, чьи трупы усеяли обломки кораблей. Отдельные ловкачи сумеют пробраться на сушу и спастись бегством. Но участь тех, кого поймают фламандцы, будет незавидной.
Несколько кораблей смогло уйти — похоже, двадцать-тридцать из двухсот. В составе тех экипажей, которые спаслись, оказалось и будущее ядро дьеппской эскадры, которая под командованием Робера д'Удето, Барбаверы и шкипера Тартарена (настоящее имя — Робер Руссель) внесет эффективный вклад в осаду Нанта.
Хоть эти люди и выжили, англичане отныне установили свое господство на море. Их связям с Нидерландами, также как с Гиенью и Бретанью, больше никто не мешал. В атлантических водах судов Франции не будет тридцать лет.
Но если Слёйс и был победой, то, как выяснится в ближайшем будущем, бесплодной. Она лишь дала Эдуарду III возможность и дальше высаживать войска в попытках завоевать Францию. Она открыла дорогу, но окончательно еще ничто не было решено.
Тем же летом 1340 г. английская армия потеряла два месяца на осаде Турне, в то время как французам удавалось более или менее уверенно удерживать лилльскую область. Эдуард III хотел правильного сражения, Филипп VI такого желания не имел и держал дистанцию. Он был полностью заинтересован в том, чтобы во Франции воцарился страх перед английским вторжением: податные делались все покорней, в то время как на другом берегу Ла-Манша палата общин все активнее оспаривала налог, который вовсе не представлялся полезным. Это будет хорошо видно в следующем году, когда парламент устроит разнос Эдуарду III, в то время как Филипп VI сможет, не вызвав протестов, распространить по всей Франции систему соляной габели, очень выгодную для казны: монополия плюс налог.
Северные союзники так же разочаровались в Эдуарде III, как и он в них. Каждая сторона много обещала другой и много ждала от нее. Эно вернулось к благоразумному нейтралитету. Брабант болезненно воспринял утрату «этапа» шерсти. Фландрия приобрела «этап», но напрасно ждала мешков со стерлингами. Что касается императора Людовика Баварского, он не получил от альянса с англичанами тех преимуществ, на которые мог надеяться, и начал отдаляться от союза: сферы его главных интересов находились в Германии, а отнюдь не во Франции.
Эдуард не видел, чтобы королевство лилий тянулось к нему. Он считал себя королем Франции, он почти был властителем Фландрии. В этой Фландрии Артевельде, «англофил» скорей по расчету, чем по убеждениям, все больше оказывался в изоляции. Эдуард III провалил свой выход на сцену.
Еще раз посредничество предложил Бенедикт XII, но между тем в события вмешался удивительный персонаж — Жанна Валуа. Эта принцесса была одновременно сестрой короля Франции, вдовой графа Вильгельма де Эно и матерью королевы Англии Филиппы де Эно. В тот момент Жанна Валуа занимала пост настоятельницы женского католического монастыря в Ле-Фонтенель, близ Валансьена. Поэтому она была готова содействовать переговорам близких родственников. В самом деле, ей не составило труда убедить брата и зятя немного передохнуть. Официальная встреча уполномоченных состоялась в Эсплешене, близ Турне. 25 сентября 1340 г. перемирие было заключено. Первая схватка Столетней войны не закончилась явной победой одной из сторон.
Глава IV Набег Эдуарда III
Война повсюду
Война возобновилась в 1345 г. и в условиях, совсем непохожих на прежние. За пять лет исчез один из главных персонажей — Артевельде. Преемником Бенедикта XII в Авиньоне стал Климент VI, помнивший, как в качестве архиепископа Руанского он заседал в Королевском совете Франции. Место Фландрии, где увязли первые английские армии, благодаря перипетиям истории с бретонским наследством заняли новый театр военных действий, новый английский плацдарм, новые действующие лица.
Климент VI добился, чтобы переговоры в конце 1344 г. открылись в самом Авиньоне. Их результатом стало ужесточение позиций противников. Эдуард III требовал сохранить за ним всю Гиень при полном его суверенитете. Французы заметили: если оммаж ему в тягость, потому что он король, ему достаточно передать герцогство в апанаж одному из сыновей. Если ему вернут это герцогство…
Та и другая стороны проявляли равное упрямство. Филипп VI забывал, что Гиень, формально конфискованная, фактически была еще в руках Плантагенета. Эдуард III делал вид, будто верил, что Валуа может согласиться на выход этого герцогства, даже в его уменьшенных пределах конца XIII в., из состава Франции. Предъявляя, помимо всего, притязания на французский престол, Эдуард заведомо исключал любую договоренность. Утомился даже сам папа.
Призвав на помощь короля Англии, Жан де Монфор предложил ему оперативную базу, какую тот тщетно искал во Фландрии, — герцогство Бретань. Не дожидаясь конца перемирия, Эдуард III ушел с головой в дела Бретани. Они дали ему с 1345 г. возможность организовать большую экспедицию в самое сердце Французского королевства, провести которую пять лет назад помешала нестабильность политической ситуации в Нидерландах. Во фландрском деле англичане недооценили запутанность, в бретонском они захватили стратегическую позицию благодаря его запутанности. Между обоими событиями Эдуард взял время на размышление.
Подготавливая кампанию 1345 г., английский король еще не совсем отверг идею высадки во Фландрии. Да, Брабант и Эно вышли из союза с англичанами, отказался от него и император Людовик Баварский, утратили интерес к союзу немецкие князья. Но в конечном счете партия разыгрывалась во Фландрии: Артевельде с каждым днем терял почву под ногами. С возвращением английской шерсти в сукнодельческие города не вернулось процветание. У кризиса были другие причины, более глубокие. Даже если мастерские возобновили работу, ипрское и гентское сукно на европейских рынках по-прежнему сдавало позиции изделиям из Мехелена и Брюсселя. А ведь средний ремесленник едва ли мог проанализировать причины этого изменения в структурах европейской экономики. Он видел одно: в соперничестве с Брабантом Фландрия ничего не выиграла, пойдя за Артевельде.
Они избежали худшего, но такое быстро забывается. Зато отлучение, которое папа вынес фламандцам как клятвопреступникам — ведь они клялись в верности королю Франции, — продолжало будоражить умы. На всех уровнях фламандского общества задавались вопросом, как выпутаться из этой ситуации.
Золотой век, обещанный Яковом ван Артевельде, не вернулся, кроме как для него самого: роскошь, с какой он жил, била в глаза. В графстве воскресло былое соперничество. Соперничество политическое, соперничество экономическое. И граф Людовик Неверский воспользовался этим, чтобы приобрести сторонников в маленьких городках, где быстро сумели извлечь выгоду из экономических трудностей больших промышленных центров.
Увидев это, Артевельде сделал шаг, превративший его из мятежника в вероломного вассала. Он отрекся от своего сеньора — графа Фландрского и, как будто феодальное право ему это позволяло, предложил графство принцу Эдуарду, старшему сыну Эдуарда III, пятнадцатилетнему мальчику, который вскоре возглавит армии отца и которого потомки запомнят как Черного принца.
Эдуард III имел неосторожность одобрить то, что было одним из тяжелейших преступлений в феодальном обществе, и он знал это, — вероломство вассала, то есть измену сеньору со стороны вассала, который принес ему оммаж и поклялся в верности. В июле 1345 г. король Англии прибыл во Фландрию. Ему следовало использовать удобный момент, не теряя времени.
Это значило не учесть страха средневековых людей перед всем чрезмерным. Это был перебор. Как только Артевельде 17 июля вернулся в Гент после встречи с Плантагенетом, его тотчас же смёл мятеж. Узнав о смерти самого надежного, но зарвавшегося союзника, Эдуард понял, что на Фландрию больше полагаться не стоит. Он отплыл обратно в Англию.
Чтобы вступить в контакт с противником, который во Фландрии постоянно уклонялся от столкновения, отныне у него был выбор между Бретанью и Гиенью. В обоих случаях это было далековато для импровизированной высадки крупной армии. Обе войны грозили стать затяжными, состоящими из осад крепостей и из налетов, на дающих настоящих результатов в том политическом хитросплетении, которое распутать было трудно.
Граф Дерби и Готье де Мони смогли проникнуть в глубь вражеской территории, захватить Бержерак и Эгийон, Ла-Реоль и Монпеза. Они смогли даже занять Ангулем и на обратном пути появиться под Блеем, в то время как Томас Дэгуорт захватывал замки в Бретани именем герцога Иоанна IV. Шла война на истощение, и Эдуард III нуждался главным образом — это была, конечно, политическая потребность — в настоящей победе и в настоящем сражении. Ему нужно было одним махом окупить армии и мешки стерлингов, растраченные во Фландрии и в Брабанте.
Весной 1346 г. герцог Иоанн Нормандский — будущий Иоанн Добрый — на гасконском фронте перешел в наступление с армией в восемь-десять тысяч человек. Только что был потерян Эгийон — крепость, господствовавшая над местом слиянием рек Гаронны и Ло. Герцог Иоанн прежде всего отбил Ангулем, затем двинулся на Эгийон и осадил его. Осада затягивалась. Иоанн упорствовал. Пока крупный англо-гасконский гарнизон хорошо укрепленной крепости без единого выстрела и с минимальными затратами целые недели сковывал армию короля Франции, Дерби был свободен в своих движениях.
Население, уставшее от королевских налогов, от злоупотреблений местной администрации, особо алчной, во многих случаях сочувствовало гасконцам, забывая, что это союзники английского короля. Некоторые епископы открыто переходили в лагерь Эдуарда III. В Перигоре жители Домма сами открыли ворота армии Дерби. Как северянин, не очень понимавший тесных связей, в течение двух веков соединявших жителей империи Плантагенетов, Фруассар приводит суровые слова солдат герцога Иоанна Нормандского: Эти гасконцы — наполовину англичане!
Эдуард III с не меньшим спокойствием поразил всех, высадившись с сильной армией 12 июля в Сен-Вааст-ла-Уг, на восточном побережье Котантена.
Главная причина такого выбора находилась в самой Нормандии: его призвал на помощь один из самых могущественных и самых владетельных сеньоров Западной Нормандии, Жоффруа д'Аркур. Такой призыв логически следовал из длинной цепи распрей, в которых Аркур и его люди чаще обнаруживали короля Франции в числе противников, чем в числе сторонников. Наследственный соперник тех самых Танкарвилей, что чванно носили титул — пустой, но звучный — «камергеров Нормандии» (chambellans de Normandie), Жоффруа д'Аркур понес убыток от вмешательства Карла IV в то время, когда намеревался силой разрешить последнюю распрю с одним потомком Танкарвилей, который с согласия короля только что обошел его в соперничестве за руку богатой нормандской наследницы. Он все еще чувствовал себя преследуемым, когда будущий Филипп VI, тогда граф де Мен, приговорил его к крупному штрафу за насилие над прелатом — мелкий грешок в глазах грубоватого барона.
Желание подраться, вкупе с желанием отомстить, толкнуло Жоффруа д' Аркура на открытый мятеж. Он укрепил свои крепости, а затем, в начале 1343 г., снес замки нескольких приверженцев французского короля и силой захватил крепость Карантан.
Парламент его осудил. Он укрылся за пределами королевства, сначала в Брабанте, где герцог Иоанн III с большим удовольствием принял его, так же как недавно принял Робера д'Артуа, затем в Англии, где Плантагенет встретил его с естественной радостью. Его владения были конфискованы. Чем же рисковал он теперь, предавая короля Франции, в котором он как знатный нормандский барон видел лишь союзника своих противников в клубке феодальных конфликтов? Это не была измена француза своей стране, это был отказ вассала от сеньора. Аркур принес оммаж Эдуарду III.
Главным опорным пунктом военной системы Аркуров был Сен-Совёр-ле-Виконт — неприступная крепость, в которой Жоффруа только что удвоил гарнизон и усилил вооружение. Пусть парламент формально конфисковал владения мятежника, никто по-настоящему не думал о завоевании его замков. Сен-Совёр-ле-Виконт был ключевой стратегической позицией в сердце Котантена, и Аркур предложил его Эдуарду III. Нельзя было найти более подходящего места, чтобы укрепиться на материке как можно ближе к противнику.
Филипп VI, естественно, не ожидал увидеть англичан на Котантене. Ходили слухи, что Эдуард III лично возглавит свою армию в Гиени. Рассказывали даже, что флот, вышедший из Портсмута, свернул с дороги на Бордо лишь из-за встречных ветров…
Что до короля Франции, его заботило совсем другое. Он остерегался Фландрии. Он следил за Эгийоном, где его сын Иоанн терял на осаду больше времени, чем было дозволено. В Бретани он пытался дать отпор налетам сторонников Монфора, которые перемирие от 19 января 1343 г. в Малетруа сделало разве что менее частыми. О Нормандии он почти не думал, и никто не позаботился о том, чтобы усилить крепости или удвоить гарнизоны королевских замков. Что касается городов, то в Нормандии, как и повсюду, горожане утратили привычку всерьез думать об обороне. Старинные стены везде находились в плачевном состоянии, ворота были расшатаны, охрану не обеспечивали. Жилища вышли за пределы городских стен, и как раз они стали местами, где можно было добраться, через беззащитные кварталы, до слабых мест этих растрескавшихся стен.
Искусство избегать Парижа
Набег Плантагенета начинался как военная прогулка. Короткие переходы, веселые пирушки. Вставали в часы прохлады. Лагерь ставили рано, преимущественно до полудня, чтобы избежать июльской жары. У вассалов Аркура съестного было в избытке, а тех, кто мог бы позаботиться о том, чтобы опустошить местность на пути англичан, эта неожиданная высадка застигла врасплох. Главная забота камергеров состояла в том, чтобы найти достаточно подходящего вина, поскольку виноград Котантена не славился качеством. Каждый день все нужное находили.
Для одних — прогулка, для других — катастрофа. Солдаты вели себя как в завоеванной стране. Жители были ошеломлены.
У них никогда не было войны, и латников они не видали. И вдруг увидели, что безжалостно убивают людей, жгут и грабят дома, жгут край и изгоняют его жителей.
Большинство богатых бюргеров (в Сен-Ло) схватили и отправили в Англию, дабы взять за них выкуп. Великое множество простого народа сразу же погибло, а многих красивых мещанок и их дочерей изнасиловали, что было весьма прискорбно.
Едва Филипп VI успел собрать под Парижем кое-как сформированную армию, как после падения Сен-Ло пришла весть о падении Кана. Чтобы защитить этот город, король ранее спешно послал несколько отрядов, наскоро набранных в Нормандии и поставленных под командование коннетабля Рауля де Бриенна, графа д'Э.
Там произошло первое паническое бегство в ходе Столетней войны. Стараясь избежать долгой осады, защитники вышли навстречу англичанам, затем в последний момент отхлынули к городу, даже не вступив в бой. Закрыть ворота не удалось: французы и англичане в них смешались, истребляя друг друга в страшной суматохе. Коннетабль и его помощники — чтобы их не нашпиговали стрелами лучники, невнимательные к социальным различиям, — решили сдаться, пока еще можно было успеть выбрать себе победителя. Таким образом Томас Холланд оказался, по-настоящему не заслужив этого, обладателем выгодных пленников: кроме коннетабля и камергера де Танкарвиля в их числе находилась немалая часть нормандского баронства.
Кан еще горел, когда Эдуард III возобновил движение на восток. Лувье, который отстоять было нельзя, сдался на милость победителя. Не желая останавливать свою слишком маленькую армию ради какой бы то ни было осады, англичанин предусмотрительно обходил укрепленные города и замки, способные обороняться. Так спаслись Эврё и Мант. Эдуард III не хотел занимать Нормандию, он всего лишь искал возможности перейти Сену, предварительно посеяв панику.
Оказалось, что мост в Верноне, а затем мост в Пуасси французы разрушили. Пришлось возводить временный мост, который плотники построили в Пуасси за несколько дней. Тем временем Жоффруа д'Аркур отправился сжигать Сен-Клу.
И зажечь там огонь, всего в двух лье от Парижа, чтобы король Филипп мог увидеть дым.
Окружение Валуа трепетало, опасаясь за судьбу столицы. Никогда, со времен норманнской осады в 885 г., сколько бы ни было вооруженных столкновений с крупными соседними феодалами, с нормандцами, с анжуйцами, с шампанцами, никогда Капетинги не теряли Париж.
Оборонять город было невозможно. Городскую стену, возведенную в конце XII в. Филиппом Августом, содержали кое-как, настолько все считали естественным спокойствие, установившееся в Париже со времен Людовика Святого. За полтора века роста город со всех сторон вышел за ее пределы. В некоторых кварталах стена даже оказалась встроенной в новую городскую структуру. Между Лувром и воротами Сен-Дени — они находились почти в районе современной улицы Этьена Марселя — даже не было видно, чтобы город был укреплен.
Парижане знали, что они уязвимы, и успели услышать, как англичане обошлись с жителями Сен-Ло и Кана. Поэтому возник изрядный переполох, когда они заметили, что король оставил их на произвол судьбы. Некоторые заговорили о том, что надо разрушить Малый мост к югу от собора Парижской Богоматери, иначе говоря, пожертвовать левым берегом, чтобы спасти Сите и правый берег — деловой и административный центр.
В свое время Эдуард III слишком поторопился завоевать Фландрию. Теперь он не слишком желал брать Париж. Для рейда, проводимого практически без связи с базами, это было чересчур. Кстати, Плантагенет мог задаться вопросом: что ему делать с Парижем?
Сколько бы он ни называл себя королем Франции, он хорошо знал, что крупные феодалы Франции — активно или пассивно — поддерживают Валуа. Разве они не способствовали успеху последнего в 1328 г.?
Эдуард также знал, что королей Франции миропомазывают не в Париже. В следующем веке Генриху VI придется довольствоваться собором Парижской Богоматери, но это миропомазание немногого будет стоить по сравнению с миропомазанием «милого дофина» в Реймсе. Для Эдуарда III местом помазания еще был Реймс. Взятие Парижа было бы, конечно, победой, и какой громкой! Но сколько времени и денег для этого потребуется? И что будет потом? Удержать город трудней, чем вступить в него.
Король Англии уже повел себя достаточно вызывающе по отношению к своему кузену Валуа. Он уже разослал своих разведчиков до Булони и Бур-ла-Рен. Посеяв страх, он предпочел удалиться. Чем захватывать обременительный город, он счел более полезным обеспечить себе плацдарм, более покорный, чем Фландрия, и расположенный ближе к английским портам, чем неудобный Котантен.
Мост через Сену в Пуасси восстановили за пять дней. Эдуард III решил идти на один из северных портов, на Булонь или на Кале.
Филипп VI понял все превратно. До сих пор он держался в тени. Во Фландрии он уклонился от боя. В Нормандии пустил все на самотек. Против армии, форсирующей Сену, он выставил лишь слабые отряды пикардийских городов. На самом деле Валуа жил в постоянном страхе измены: преданный в Бретани — по крайней мере, он так думал — Оливье де Клиссоном и в Нормандии Жоффруа д'Аркуром, ощущая всю настороженность своего окружения, связанную с его непрочной властью, он не знал, на кого действительно можно положиться. Никто в подобных условиях не стал бы рисковать.
Но вдруг все внезапно переменилось. Избегая Парижа, Эдуард III показал, что его силы в данный момент на исходе, что в столице у него нет сообщников, которые могли бы сдать город. Раз англичанин направляется на Понтьё, значит, он слабей, чем опасался его противник.
И Филипп VI воспрял духом. Он собрал в Сен-Дени все силы, которыми мог располагать. Форсированным маршем он бросился в погоню за англичанином.
Эдуард III знал, что его армия меньше, и был не из тех, кто культивирует напрасное геройство. Он ускорил темп. Перед неприступным Бове он довольствовался тем, что сжег несколько предместий. На несколько часов он задержался в виду Амьена, но лишь затем, чтобы перегруппировать войска перед форсированием Соммы — последнего препятствия по дороге на север.
Пикардийцы уже видели на горизонте столбы дыма, отмечавшие приближение англичан. Филиппу VI не было нужды убеждать их защищаться. Когда авангард Плантагенета во главе с Уориком и д'Аркуром хотел перейти мост в Лонпре, он наткнулся на почти отчаянное сопротивление.
Ладно — англичане попытались перейти реку по другим мостам. Дважды, трижды, и всякий раз с тем же результатом. Маленький отряд терял силы в безуспешных атаках. Время шло.
Тогда попытались пройти выше по течению, в Пикиньи. Но и там слабый авангард не смог одолеть сопротивления. Тем временем Филипп VI достиг Амьена.
При поддержке Джона Чандоса Эдуард сделал попытку пройти на западе, сжег Омаль и хотел взять Абвиль. Он отказался от этого намерения, лишь оценив решимость мэра, Колара Ле Вера, который дал ему знать, что готов выдерживать осаду. Осада означала потерю времени, а у Эдуарда его не было. В то время как близ Уазмона Чандос разбил маленькую армию, собранную в Вимё сиром де Бубером, граф де Сен-Поль отразил под Сен-Валери-сюр-Сомм наступление англо-нормандцев Жоффруа д'Аркура.
Если учесть, что у короля Франции было численное превосходство, становится очевидным, что время работало на него. Англичане устали. Они узнали, что их обошли по правому берегу, где части Годемара дю Фея, бальи Вермандуа, то есть Сен-Кантена, перекрыли все мосты ниже Абвиля. И прежде всего они видели, что главные силы французской армии медленно движутся к основанию треугольника, образованного Ла-Маншем и Соммой. Вечером 23 августа Эдуард III предложил сто «ноблей» — золотых монет — тому, кто найдет брод. Захватчик попал в тупик.
Вся операция короля Франции провалилась из-за одного бедолаги из Монс-ан-Вимё, которого превратности войны некоторое время назад сделали пленником английского короля.
Не то чтобы Гобен Атас — так звали этого славного малого — был сторонником Плантагенета. Но он попался и хорошо знал, что Филиппу VI меньше всего дела до того, чтобы выкупать какого-нибудь Гобена Агаса. Перед ним открылись милые перспективы пленного, которого не выкупят. А ведь он знал эти места. Он там родился. И он выслужился: он знал брод, находящийся на полпути между Абвилем и Сен-Валери.
Здесь вполне пройдет двенадцать человек в ряд, обещал он. И дважды, между ночью и днем. И воды там будет не выше колена.
Когда идет морской прилив, река течет обратно и поднимается так, что никто не смог бы ее пересечь. Но когда этот прилив, каковой случается дважды между днем и ночью, спадает, река остается столь мелкой, что ее легко перейти пешком и верхом. Этого нельзя сделать ни в каком другом месте, кроме как по мосту в Абвиле, каковой представляет собой большой укрепленный город с изрядным воинским гарнизоном.
И на оном переходе, монсеньор, каковой я вам назвал, галька из белого мергеля, твердого и прочного, каковой наверное выдержит повозки. За это переход назвали Белым пятном (Blanque Taque).
Гобен Агас получил свободу для себя, для других пленников и сто золотых ноблей.
В полночь Эдуард III велел трубить поход. В первые часы дня армия тронулась — рыцари, лучники, вьючные лошади, подводы. На восходе солнца они были на берегу брода, констатировав, что вода стоит высоко. Им пришлось потерять там три часа. Годемар дю Фей, которому сообщили о продвижении англичан, занял позиции на другом берегу. С ним были отряды из некоторых соседних городов — Абвиля, Сен-Рикье, Монтрёя-сюр-Мер, Ле-Кротуа. Множество сержантов сражалось здесь несколько часов, но англичане все-таки ступили на правый берег; этих людей будет жестоко не хватать послезавтра Филиппу VI на поле битвы при Креси.
Этим утром 24 августа король Франции подошел к Уазмону. Несколько часов назад англичане еще были там, нагружая свои подводы. Филипп VI потерпел неудачу в своей операции. Конечно, небольшую, но полную.
Пока француз — в чьем распоряжении были мосты — ушел с армией в Абвиль, англичанин воспользовался тактической победой, не забывая о главной цели своего бегства на север: тревожить противника и исчезать. Он послал Уорика с конным отрядом в Ле-Кротуа. Город загорелся. Суда, вошедшие в порт, были захвачены; съестные припасы, находившиеся на борту, оказались кстати, чтобы разнообразить рацион английской армии.
Креси
25 августа пришлось на пятницу. Эдуард III возобновил путь и пересек лес Креси, в то время как маленький отряд разорял сельскую местность до ворот Абвиля. Дойдя до Креси, король Англии остановил армию и посовещался с маршалами. Позиция была благоприятной; поскольку уже оставалось мало шансов уйти от французского преследования, с таким же успехом можно было ждать врагов здесь. Во время вечерни Филипп VI узнал от своих разведчиков Сен-Венана и Монморанси, что, если ему угодно, битва состоится завтра. Место не имело для него значения — он был сильнее.
В пятницу вечером в обоих лагерях был большой праздник. Не в честь дня святого Людовика, а из-за того, что завтра предстоит битва. Психологический эффект, если он имелся, состоял в том, что этот праздник для многих будет последним. Битва — это не простой бой, не всякая случайная стычка. Битва — это литургия той религии, имя которой — рыцарство. Это вмешательство Бога в дела людей, как на более низких уровнях ордалия, суд Божий, выраженный в физическом испытании. Она требует, чтобы каждый готовился к ней перед Богом и людьми. И монарх обязан показать в ней качества, которые делают его «добрым» монархом в том смысле, который получит это слово в применении к королю Иоанну II: великодушие, щедрость, достойное обращение с теми, кто ему служит и рискует жизнью на его службе.
Эдуард III был вынужден принять эту битву, от которой он уклонялся, как французский король уклонялся от боя во Фландрии и Эно. Но не следовало, чтобы английские бароны заранее чувствовали превосходство противника. Праздник осветил английский лагерь надеждой на победу, хоть и маловероятную.
Филипп VI только что позволил врагу безнаказанно сжечь и разорить Нормандию и Пикардию. Но его бароны должны были верить, что инициатива у них в руках и что они ищут честного боя.
Та и другая стороны заранее праздновали победу, чтобы вернее обеспечить ее. Каждый из бойцов должен был знать, что он сражается, так как правда на его стороне. С ним Бог.
И вот настало утро субботы 26 августа. Едва отзвучала месса, как Филипп VI был уже в седле. Ни малейшего плана сражения. Вперед — на англичанина.
Тот, правду сказать, был не столь горд собой. Он предусмотрительно разделил свои части на три «баталии», три армейских корпуса, поставив их на заранее намеченных позициях. Одна из них, окружавшая короля, будет служить резервом главного командования, остальные начнут маневр. Английский король владел территорией, и в этом, по сути, было его единственное преимущество. Пока король Франции ехал к Креси, Эдуард укреплял боевой дух войск: провел их смотр, с одним поговорил, с другим посмеялся.
Вот солнце уже высоко над горизонтом. Французов еще не видно. Английский король не проявляет нервозности, дает команду «Разойдись», предоставляет людям час отдыха.
Он ушел в свою баталию и повелел, дабы все люди поели в свое удовольствие и выпили по кубку. Так и было сделано, как он приказал. Не торопясь поели и попили. А затем уложили горшки, бочонки и провизию на свои подводы и возвратились в свои баталии, как приказали маршалы.
И сели все на землю, положив перед собой бацинеты и луки, отдыхая, дабы быть свежей и бодрей, когда придет враг.
При усиливающейся жаре французы тем не менее ехали, не щадя себя. Высланные в качестве разведчиков четыре рыцаря сообщили: англичане ждут. На сей раз они не ускользнут.
Разведчики оказались зоркими: англичане свежи и бодры. Королю, который торопил разведчиков, те высказали свое мнение: надо перегруппировать армию, образовать «баталии» и не торопясь выбрать тактику. За всем этим день пройдет быстро. Надо разбить лагерь, и армия Валуа будет наутро такой же свежей, как и армия Плантагенета. К тому же в их распоряжении будет весь следующий день, чтобы развить победу.
Мнение было разумным. Король отдал армии приказ прекратить движение. Один из маршалов доехал до авангарда. Передовые отряды остановились. Англичан еще не было видно, и привал в столь жаркий день был очень кстати.
Другому маршалу меньше повезло с людьми, ехавшими вслед за королем. Там, во вторых рядах, ничего не понимали в маневрах, которых, впрочем, был совершен не один. В то время как первые ряды, может быть, уже столкнулись с врагом, мысль остановиться казалась этим добрым рыцарям просто постыдной. Маршал и его помощники надсаживались:
Стойте, баннереты! Именем короля. Во имя Бога и монсеньора Святого Дионисия!
Но кричали они тщетно. Рыцари-баннереты[31] не желали останавливаться. Мчаться на помощь королю, навстречу опасности — этому долгу следовало повиноваться более, чем приказу. Рыцарство создало культ чести — чести, о которой судить мог каждый. Но не культ дисциплины.
Подход основных сил встревожил авангард, который решил, что его хотят обойти. И вот уже вся армия движется, в то время как у маршалов опустились руки, а король спрашивает, кто здесь командует.
Каждый хотел оказаться впереди другого, чтобы не упустить свою долю почестей во время битвы. В суматохе внезапно заметили, что англичане уже перед ними. Английский король только что снова сел на коня и восстановил безупречный строй трех «баталий». И французы осознали, что они находятся просто-напросто в походном порядке — а скорее в беспорядке — и что никакой тактики они так и не выбрали.
Некоторые сочли, что раздумывать слишком поздно, и двинулись вперед. Другие решили, что наконец можно подраться. Некоторым пришла мысль перестроиться перед атакой, они остановились и даже отошли назад, потеснив тех, кто за ними следовал. Так же как только что в лесу, вторые ряды неправильно истолковали это отступление. Они сочли, что первые уже сражаются, а отступление — признак поражения. И те, кто ничего не видел, но полагал, что без них дело не обойдется, стали как получится пробиваться вперед, пришпоривая коней.
Теперь уже было поздно переносить битву при Креси на следующий день. И Филипп Валуа, имевший численное превосходство, но не превосходство в организаторском таланте, был вынужден дать бой, которого он так искал, в то время как основные силы его армии еще были растянуты по дороге из Абвиля в Креси. Французы устали. Каждый действовал по собственному усмотрению.
Англичане заняли позиции и успели изучить местность. Баталия Черного принца выставила в первый ряд, вдоль изгородей, лучников, поднявших вверх свои большие луки. Тяжелая конница, отряды валлийских копейщиков, легкая кавалерия хобеларов[32] выстроились за ними, готовые к бою. Баталии графов Нортгемптона и Арундела располагались дальше, намереваясь вступить в бой после первой атаки. Король держался в стороне. Лично сражаться было не его делом.
В качестве ответа на английские стрелы Филипп VI рассчитывал на арбалетные «болты», те страшные стрелы с металлическим оперением, пределы тактических возможностей которых выявились в сражении при Слёйсе. Увидев английских лучников, готовых к стрельбе, он приказал выдвинуть в первый ряд генуэзских арбалетчиков, нанятых за золото.
Но было одно «но»: генуэзцы устали. Они прошли шесть лье по жаре. Они с утра несли на себе арбалеты. На этот день с них было довольно, и они заявили об этом без обиняков. Граф Алансонский, брат короля, мог сколько угодно утверждать, что им заплатили ни за что:
Зачем было тащить с собой этот сброд, который отказывается сражаться в самый нужный момент!
Большая стая воронов, пролетевшая перед армией, не подняла духа: предзнаменование было дурным. Многие французы теперь испугались.
Пока Филипп VI и его армия теряли время, не переходя в атаку, разразилась гроза, уже довольно давно собиравшаяся в тот душный августовский вечер. Французы и англичане промокли. Во всяком случае, воздух посвежел. Но король Франции не понял, что это время суток выгодней противнику и что стоило бы отложить дело на завтра. Повернувшись к заходящему солнцу, слепившему его людей, он наконец приказал атаковать.
Воздух просветлел, и солнце засияло ярко и ясно. Теперь французам оно светило прямо в глаза, а англичанам — в спину.
Генуэзцы наконец решились. Чтобы устрашить англичан, они стали издавать пугающие крики. Но этого было слишком мало, чтобы встревожить английских лучников, которые сделали шаг вперед, встали коленом на землю и обрушили на генуэзцев такой град стрел, который, как скажут очевидцы, «напоминал снег». Потом загрохотали английские бомбарды.
Эдуард III взял с собой несколько артиллерийских орудий — может быть, три, — которые годились, чтобы пробивать бреши в стенах осажденных городов или крепостей, но не для участия в битвах. Если бы каждого врага убивать выстрелом, победа обошлась бы слишком дорого. Но кампания подходила к концу, а осад англичане избегали. Поэтому использовать артиллерию еще не было возможности. Эдуард III решил сделать опыт.
Несколько ядер, которыми выстрелили не целясь, едва ли могли решить судьбу боя. Тот же эффект дало бы использование старых как сама война пружинных баллист и рычажных катапульт. Снаряды новой артиллерии — фунт чугуна, диаметр четыре-пять дюймов — могли сразить человека и его коня, но не разметать отряд.
Но был грохот, было пламя. И, главное, новизна. Этого хватило, чтобы посеять панику. Первыми жертвами стали генуэзские арбалетчики.
У них не было ни времени, ни возможности выстрелить. Из-за дождя тетивы их арбалетов, которые они даже не подумали прикрыть — возможно, полагая, что из-за грозы бой отложат на завтра, — максимально натянулись. Чтобы вернуть оружию прежнюю эластичность, тетивы надо было высушить. Филиппу VI даже не сообщили об этом. Англичане успели принять меры предосторожности. Они, несомненно, больше привыкли к дождям. Их луки были сухими и готовыми к стрельбе.
Генуэзцы в ярости обнаружили, что не могут натянуть свои арбалеты; этого было достаточно, чтобы они обратились в бегство. Побросав свое тяжелое бесполезное оружие, они повернулись и стали искать выход.
Филипп VI в тот момент решил, что его предали. Рыцарям, которые окружали его и стояли стеной за арбалетчиками, ожидая, пока те начнут бой, он приказал искромсать изменников. Ведь генуэзцы больше ни на что не годятся, только дорогу загораживают…
Иоанн Люксембургский, король Чехии, держался в стороне: он был слепым и велел привести себя на поле битвы, чтобы сражаться, но на самом деле принял участие лишь в последних столкновениях. Ему рассказали об истории с генуэзцами. «Скверное начало», — сказал он. После резни арбалетчиков союзники французского короля составили о последнем самое неприятное представление.
Теперь против английских лучников оставалась лишь французская конница. Кирасы и бацинеты плохо защищали ее от стрел, а от оружия было мало толку, поскольку оно было рассчитано на ближний бой.
Рыцари французского короля
Кого же в действительности напоминали рыцари, готовившиеся к атаке, подобно своим прадедам под Мансурой и отцам при Куртре или при Монс-ан-Певеле? На крестоносца и воина времен Бувина они еще походили общим видом: это были тяжеловооруженные всадники, крепко упиравшиеся в стремена, чтобы внезапно направить всю силу удара вперед, на острие копья. Тяжелым было их оружие и прежде всего копье — длиной добрых три метра, — сделанное из твердого дерева и снабженное железным наконечником, крепко зажатое под мышкой в ожидании сокрушительного удара, который, в зависимости от ловкости участников сшибки, повергал противника наземь либо выбрасывал в воздух атакующего. В турнире, где участники сшибались в каждой атаке, копье применялось широко, и слуги подавали другое, если первое ломалось. В бою, где за атакой следовала рукопашная, копье можно было использовать только раз; лучше было от него побыстрей избавиться и обнажить меч.
Этот меч со своим толстым двухлезвийным клинком, который удерживала цепочка в случае, если рукоять выскользнет из руки, весил не меньше. Он был достаточно длинным для конного боя, когда копье уже сломалось. И достаточно удобным для пешего, если упавший всадник мог подняться. Многие рыцари, и не из последних, будут обязаны спасением, а то и победой взмахам такого клинка. Но для благородного бойца вовсе не считалось недостойным пользоваться оружием, менее окруженным символическим ореолом, чем большой меч. Нужны были железные мускулы, чтобы вращать булавой — тяжелым шаром, утыканным шипами, который соединялся с древком короткой цепью. Что касается секиры, то именно ей в последние минуты битвы при Пуатье будет сражаться король Иоанн.
Всадника, обремененного наступательным арсеналом, не меньше сковывали и доспехи, которые должны были защитить его от преждевременной гибели. Ведь в идеальном случае рыцарь рассчитывал пленить противника и взять за него выкуп, а не убивать, как делает мужичье. Рыцарская мораль сурово судила грубых фламандских ремесленников, которые устроили при Куртре в 1302 г. первое из долгого ряда кровавых побоищ; в следующем году с ними за это поквитались, так же как в 1328 г. при Касселе. Убивали пехотинцев, сержантов и кутилье, лучников и арбалетчиков, всех, кто по сути не отличался от мужика, орудующего дубиной или ножом. Обезоруженного рыцаря или оруженосца не убивали; даже считалось хорошим военным тоном оказать ему почести и обращаться великодушно — благодаря этому его можно было дороже перепродать своим.
Именно в плане этого защитного доспеха, всегда слишком тяжелого и недостаточно надежного, силуэт рыцаря претерпел наибольшие изменения со времен крестовых походов. В бою почти никто больше не носил большого цилиндрического шлема, сжимавшего голову и затруднявшего обзор, даже если он еще и изображался на «конных» печатях. Большая часть конных бойцов приобрела легкие каски, бацинеты. Иногда на висках к бацинету шарнирно крепилось забрало; его поднимали в моменты, когда не было опасности.
Щит теперь был легким, маленьким и треугольным, его чаще всего вешали на шею, высвобождая левую руку, чтобы управлять конем. Большой щит XI в., щит соратников Вильгельма Завоевателя, который еще изображен на ковре из Байё, был рассчитан на защиту от дротиков — легких старомодных копий, которые метали, не рассчитывая вернуть. Эти времена прошли, и тяжелое копье разило как таран, а не как стрела. Щит при этом был совершенно бесполезен: получив в галопе удар копьем весом в двести фунтов в щит или прямо в грудь, сраженный всадник все равно летел наземь. В лучшем случае можно было отвести удар, нанесенный неловко… Что касается стрел, от которых мог бы защитить щит, они летели слишком быстро, и пытаться их парировать было бессмысленно.
Против стрелы или болта, меча или ножа имелся доспех. А какой доспех — это зависело от богатства каждого. Доспех богатого барона вызывал зависть скромного оруженосца, наступательное оружие которого часто было лучше защитного. Простая кольчуга, длинная одежда из гибкой проволоки, которая защищала от рубящего удара клинка, но не от колющего, считалась теперь недостаточной. Ее усиливали жесткими пластинками, способными отклонить удар, если не отразить его. Почти не встречалось «брони», где бы не были таким образом защищены жесткой чешуей грудь, руки и ноги. Эти пластинки из железа, вываренной кожи или из рога искусно сочленялись с кольцами кольчуги или просто пришивались к ним в зависимости от собственной технологии или желания ремесленника или самого воина. Богачи носили наборы таких «пластин» (plates), накладывавшиеся прямо на кольчугу. Менее зажиточные довольствовались тем, что подбивали шерстью, хлопчатобумажной тканью или кожей одежду на местах тела, наиболее чувствительных к удару, даже не приводящему к ранению. Такие доспехи не защищали от прямого удара копьем, но могли спасти от гибели при ударе копытом или перелома конечности при ударе чеканом.
Для коней это были последние бои в средние века. Известно, что эффективно лошадь защитить невозможно, кроме как на турнирах, где обычно никакой кутилье не подрежет ей сухожилия. Вскоре поймут, что кавалерийская атака в старинной манере стала бесполезной мясорубкой в преддверии настоящего боя, выявляющего, кто победит. Несколько «пластин» из железа, из рога или кожи пока защищали грудь и суставы коня; от этого вскоре откажутся, и от боя коней отстранят. Они будут использоваться для командования, наблюдения, разведки. Они будут незаменимым вспомогательным средством при проведении любого маневра. Без коней невоможны ни внезапные нападения, ни обходные движения, ни перекрытие дорог и захват мостов. Но сражаться будут пешими. В турнирном арсенале копье встанет в один ряд с большими нашлемниками и с длинными гербовыми налатниками.
Пока что Креси стал триумфом кутилье, головорезов, лучников, засевших в рощах в засаде, кольев, расставленных как поперек дорог, так и и на поворотах изгородей. Топор и булава взяли верх над копьем и длинным мечом.
Эдуард III не был трусом. Его личное поведение всегда будет безупречным с точки зрения рыцарской этики. Но там у него не было выбора средств. Против него была численность, за него — хитрость. Он обратит себе на пользу заходящее солнце, пересеченные изгородями поля, стрелы, отсрочивающие переход к ближнему бою. Он не мог позволить себе роскошь битвы по всем правилам, хотя был к этому готов. Войны в Шотландии против грубых горцев, незнакомых со всеми тонкостями турнирного искусства, научили Эдуарда III и его людей тактической гибкости и искусству приспосабливаться.
И потом, если Филипп VI не был дураком, то он был фанфароном, а большинство из его окружения в этом плане было еще хуже него.
Их идеалом был тот, кого опишут через полвека в «Ста балладах» четыре высокородных рыцаря, не лишенных литературного таланта. Перед боем надо быть в авангарде, после боя — в арьергарде, а в осажденных городах — на крепостных стенах.
Если идет война, постарайтесь Двигаться в авангарде войска. Ибо это наиболее опасно. Там можно честь приобрести Вернее, чем где-либо.Добрый рыцарь — это тот, кто проводит множество единоборств в гуще схватки; его редко волнует общая стратегия армии. Это еще и тот, кто последним вкладывает меч в ножны. При Пуатье Иоанн Добрый заслужит свое прозвище.
Разгром
Но вернемся под Креси, где в конце дня субботы 26 августа 1346 г. был отдан приказ об атаке. Вооруженные французы имели численное преимущество, но немногим удалось преодолеть заграждение из лучников, чтобы скрестить мечи с английской конницей.
Эдуард III разместил свой наблюдательный пункт на мельничном холме. Оттуда он видел, как происходит чудо: даже не введя в бой всех сил, он стал победителем. Оруженосец принес королю бацинет, готовый протянуть его своему господину, если понадобится идти в бой; Эдуард станет победителем, даже не надев его. Зачем атаковать? Цвет французского рыцарства валился наземь вдоль изгородей.
Воистину верно, что столь великие воины и столь благородные рыцари, при таком их обилии, каковое было у короля Франции, совершили весьма мало великих подвигов, ибо битва началась поздно, и французы, когда прибыли, были утомлены и измучены.
В сумерках лучники стреляли по видимым целям. С течением времени бойцы переставали отличать друзей от врагов. В придорожных ямах скапливались лошади со вспоротыми животами.
Французы устали, «измучены». Но честь требует: лучше дать себя убить, чем уклониться от боя. По меньшей мере надо дорого продать свою шкуру. Иоанн Слепой велит вывести себя в первый ряд. Во тьме, вдвойне непроглядной для него, он наносит без счета ударов мечом. Пришло время бесполезного геройства.
Англичане достаточно хладнокровны, чтобы не рисковать ночью пересекать местность, которую они знают плохо. Сомкнув ряды, они выдерживают приступ. Всем рискуют атакующие французы, которые мчатся вперед вслепую, теряя друг друга из виду.
Некоторые уже начали ставить политический интерес выше рыцарской чести. Никто не знал, где Карл Люксембургский, сын чешского короля Иоанна Слепого: тот, кто станет императором Карлом IV, попросту предпочел отступить. На ухабистых дорогах Пикардии не рискуют короной Священной Римской империи.
В то же время Иоанн де Эно высказал королю Франции столь же реалистичное мнение: больше ничего невозможно выиграть, но можно все потерять. Центр прорван, левого крыла больше нет. Королю Франции остается лишь правое крыло.
Какой-то момент могло показаться, что наконец начнется сражение по правилам. Отряд французской конницы пробился сквозь заграждение. Холодное оружие вступило в свои права. Жизнь будущего Черного принца оказалась под угрозой. Вовремя подоспев, Нортгемптон и Арундел выручили его. Окружение принца достаточно обеспокоилось, чтобы отправить к королю гонца — Томаса Нориджа. Но Эдуард III глазом не моргнул:
— Мессир Томас, мой сын умер, или сражен, или столь тяжело ранен, что не может себе помочь?
— Отнюдь, монсеньор, на то воля Бога. Но он ведет жестокий бой. Весьма желательной была бы ваша помощь.
— Мессир Томас, возвращайтесь же к нему и к тем, кто вас послал, и скажите им от моего имени, чтобы они не обращались ко мне ни с какими прошениями, пока мой сын жив. И скажите им, что я им велю: пусть они позволят ребенку заслужить свои шпоры.
Бой продлился недолго, лучники делали свое дело лучше, чем рыцари. Орифламмоносец французского короля Миль де Нуайе сумел достичь места схватки. Филипп VI при всем желании туда даже не добрался.
В таком бою было бы полным безумием брать пленных. У англичан были на этот счет приказы. Когда до своих баз далеко, а противник превосходит численностью, обузу на себя не берут. Впрочем, англичане представляли собой единую массу. Тащить раненого, громоздкого в своей кирасе, значило стать мишенью для лучников, которые после захода солнца мало разбирали, где свой, а где чужой.
Поняв, что в такой тьме ему уже не удастся отдать какой бы то ни было приказ, Филипп VI решил покинуть сражение, оставляя в беде тех, кто уже не получит от него никакого сигнала. С ним было несколько баронов: Эно, Монморанси, Божё. Они станут жалким эскортом короля, который скакал наугад, в то время как последние его приверженцы гибли, и постучался в ворота замка Лабруа.
Владелец замка уже знал, что под Креси дело обернулось дурно. Он видел беглецов, проходивших мимо замка. Он не спал. Ему было поручено охранять укрепление, а не идти в бой, тем не менее он издалека видел, как разгорается битва. Услышав голос короля, он все понял. Мост опустился, опускная решетка поднялась. Королю и его спутникам этот добрый человек подал кубок вина, предложил свежих лошадей, предоставил надежного проводника. Ведь действительно англичане были чересчур близко, чтобы оставаться в Лабруа.
Темной ночью, в сопровождении самое большее пятидесяти человек, французский король галопом проскакал до Амьена. На заре отряд был перед аббатством Ле-Гар, монастырем цистерцианского ордена. В трех лье от Амьена. Пора было останавливаться. Но Филипп VI все-таки хотел узнать, как завершилось дело при Креси.
В это печальное воскресенье, когда по иронии судьбы граф Амедей Савойский — тот, кого назовут Зеленым графом, — и его тысяча копий наконец присоединились к своему союзнику, королю Франции, последний узнал имена нескольких сот убитых, найденных утром у леса Креси. Это были герцог Рауль Лотарингский и граф Фландрский Людовик Неверский. Это были Жан Оксерский, Луи де Сансерр, Жан д'Аркур, Луи Блуаский и многие другие. Люди графа Люксембургского, короля Чехии, образовали зловещий бруствер вокруг тела Иоанна Слепого. К концу дня наконец пришла весть, которой не смели верить: Карл, граф Алансонский и Першский, родной брат короля, тоже пал в этой катастрофе.
По сравнению с этой гекатомбой англичане лишились только нескольких рыцарей и нескольких десятков лучников.
Филипп VI потерял даже орифламму, верней, ее копию, которую предусмотрительно заказали вышить для данного случая, в то время как оригинал, к большому счастью, остался в Сен-Дени. Принесенная некогда ангелом, орифламма была символом божественной миссии короля. Ее разворачивали в борьбе с неверными, в крайнем случае с клятвопреступниками. Филипп Валуа не решился поднять ее в бою против своего кузена, короля — вассала Святого престола. Он был наказан.
Козла отпущения нашли быстро. И на него возложили бремя ответственности: им стал Годемар дю Фей, бальи, не сумевший задержать англичан на левом берегу Соммы. Побежденный собственным нетерпением, усталостью своих войск, грозой и ночью, Филипп VI предпочел быть жертвой измены. Что Годемар дю Фей изменил — было очевидно. Все объяснилось.
Годемара уже собрались повесить, когда приближенные короля заметили: вся королевская армия накануне проявила себя не лучше, чем бальи Вермандуа. Тот был спасен; он станет сенешалем Бокера.
Тем временем герольдам под Креси хватало работы. Герольды английского короля еще с воскресенья начали распознавать гербы на доспехах убитых и диктовать список жертв. Английских убитых было немного, но их следовало найти среди массы французов, от которых их с первого взгляда было не отличить. В списке английских герольдов вчерашние враги смешались. Что касается герольдов короля Франции, они прибыли в понедельник, но их основная миссия состояла в том, чтобы провести переговоры о перемирии: нужно было похоронить мертвых. Все договорились прекратить военные действия на три дня.
Кале
Потеряв четыре месяца, Иоанн Нормандский только что снял осаду Эгийона. В тот день он стоял в аббатстве Муассак. Короткими переходами он двинулся в Париж; весть о поражении отца застала его, когда он пересекал Лимузен. Из определенной политической злопамятности будущий Иоанн Добрый строго осудил не слишком рыцарственное бегство короля Филиппа.
За герцогом Нормандским поспешили англичане и гасконцы. Дерби и Альбре взяли замок Тайбур, высокие стены которого некогда видели победу Людовика Святого над Генрихом III. Они опустошили Сентонж, вошли без боя в Сен-Жан-д'Анжели, не стали осаждать Ньор, взяли Пуатье и тем удовлетворились.
Эдуард III между тем возобновил путь на север. Победа практически ничего не изменила в его планах. Конечно, он безнаказанно проучил короля Франции. Но от этого до короны лилий было далеко…
Вскоре он уже был под Кале. По пути он разорил окрестности Монтрёя, сжег Этапль, разграбил область Булони. Под Кале перед ним встал выбор: отплыть, не рискуя омрачить победу, или же обеспечить себе плацдарм. Эдуард уже больше мог не опасаться непосредственной угрозы, нависавшей над ним во время всего его набега вплоть до Креси. Он счел, что захватит Кале так же, как занял Кан: быстро и без труда. Впрочем, опасность внезапного нападения врага, которая до сих пор удерживала его от настоящих осад, только что перестала существовать. Если что, можно было снять осаду Кале и отплыть. К тому же терять людей, штурмуя город, не следовало: английская армия была недостаточно велика. Король рассчитывал, что правильная осада заставит город сдаться.
Эдуард разбил лагерь вокруг всей городской стены и для защиты тылов выкопал новый ров. Началось ожидание. Кто поселился в деревянном бараке, кто в шалаше из дрока. Король собирал двор во «дворце» из досок и бревен. В конце октября к нему приехала королева Филиппа де Эно. Устроили праздник.
Так вокруг настоящего города вырос еще один город — с рынками, городскими площадями, скотобойней. Организовали порт, через который поступали пополнения и провиант, когда генуэзским галерам, бороздившим пролив, не удавалось перехватить английские барки.
Время от времени проводили набег по Пикардии — чтобы размяться и разнообразить рацион. В один день сожгли Гин, в другой — Марк. Эпизодически возникали стычки с французскими отрядами. В них одерживались однодневные победы, без последствий, кто бы ни выходил победителем.
Осенью бюргеры Кале думали, что от приступа их защитят стены. Поняв, что Плантагенет делает ставку на время, которое будет работать на него, они приняли свои меры — изгнали несколько сот «лишних ртов». «Бедных людей», — пишут хронисты. Кто это был — простые горожане, которых не защищала бюргерская солидарность? Маргиналы, беженцы или нищие? Трудно сказать. Как бы то ни было, Эдуард III принял этих отверженнных с демонстративным милосердием. Их напоили и накормили, выдали каждому по три серебряных стерлинга и выпроводили. Почитатель доблестного Эдуарда III, льежский хронист Жан Ле Бель, отмечал, что это было «великой учтивостью», иначе говоря, проявлением истинного благородства. Прежде всего англичанин продемонстрировал: смотрите, я удобно себя чувствую в положении осаждающего, — в расчете, что об этом станут говорить. Пусть бюргеры Кале не надеются на его усталость.
Несколько недель они жили надеждой, что король Франции пришлет помощь. Увы, тот совсем растерялся. Его унизили в Пуату, где англичане жгли его города и деревни, убивали бюргеров и насиловали мещанок, откровенно насмехаясь над его правами суверена. Его унизили в Пикардии, где агрессор явно показывал, что ничего не боится. И, наконец, его унижали в Париже, где Генеральные штаты наносили жестокие удары королевской власти, упорно торгуясь с ней из-за средств на восполнение потерь.
Весной 1347 г., когда ситуация под Кале казалось застывшей, никто не мог предугадать, какую роль будет играть этот город на протяжении двух веков в политической и экономической системе Англии. Для Валуа осада Кале была всего лишь еще одним поражением — неизбежным, какими были потеря Эгийона и разгром в Кане. Не более того. Эдуард III хочет отплыть из Кале. Зачем ему мешать?
Решимость горожан превратила Кале в нечто иное, чем просто удобное место для англичан. Кале стал ставкой в игре, а затем символом.
Но говорить о национальном сопротивлении было бы все-таки преждевременно. Горожане не думали о борьбе с иностранным агрессором, они боялись судьбы, обычно ждавшей город, который захватывала солдатня. Грабежи, пожары, насилие были в таких случаях обычным делом. В то время, когда Кале оказал сопротивление Эдуарду III, а Бетюн отразил атаки фламандцев, деревни, горевшие по всему Артуа, создали англичанам недобрую славу.
Под этим ветром страха, как грибы, росли городские стены. Пуату и Артуа имели собственный горький опыт, другие области извлекли из него уроки. Затраты на крепкую стену и надежно закрывающиеся ворота были не напрасными. Ремонтировали куртины, заделывали бреши, укрепляли створки ворот. Король не желал, чтобы эти статьи военных расходов легли на королевскую казну, и совсем не возражал, чтобы затраты на «крепость» надолго заняли первое место в муниципальных бюджетах.
Поскольку обеспечение безопасности было общим делом, старались добиться и общего участия в расходах. Король принуждал самых уклончивых клириков, парламент отказывал тем, кто предпочитал судиться, а не платить. В Реймсе, Труа, Дижоне духовенство вынуждено было взять на себя добрую четверть расходов на «крепость».
Некоторые города до сих пор располагали лишь небольшими бюджетами. Расходы на стену внезапно перевели муниципальные финансы в другое измерение. Строительство, ремонт, расширение, содержание — все это требовало иного финансового уровня, чем выплата жалованья муниципальному секретарю суда или нескольким сержантам. Отныне стало невозможно вести бюджет «на глазок». Именно на эти, 1347–1348 гг., приходится во многих городах появление первых городских бухгалтерий — этого требовали новые значительные суммы, за которые надо было отчитываться перед королем и податными.
Шло время, и ярость Плантагенета росла. Она дошла до предела, когда рухнули его планы выдать дочь замуж. Действительно, Эдуард остановил выбор на молодом Людовике Мальском, которого смерть при Креси отца, Людовика Неверского, сделала графом Фландрским. Убить отца, хоть бы и в честном бою, а затем сделать сына своим зятем — это отнюдь не смущало монарха XIV в., привыкшего к тому, как браки укрепляют союзы, которыми закончились войны, начатые вместе с другими союзниками. Разве окончание войны в Гиени пятьдесят лет назад не сделало двух капетингских принцесс королевами Англии?[33]
Людовик Мальский не хотел жениться на англичанке. Он не согласился на эту комбинацию. Коммуны Фландрии попытались женить его против воли. Но Людовик хотел править по-настоящему; чтобы держать в руках постоянно взбудораженное графство Фландрию, он решил разыграть другую карту — опереться на могучего соседа, герцога Иоанна Брабантского. У того тоже была дочь на выданье.
Города Фландрии и Брабанта были конкурентами на европейском рынке шерсти и сукна. Хуже того, Брабант начинал брать верх над Фландрией. Гент, Брюгге и Ипр не могли допустить, чтобы граф Людовик подпал под влияние брабантца. Поэтому бюргеры пошли на решительные меры — посадили молодого графа в заключение и выпустили через несколько недель, лишь поместив его под строгий надзор и взяв обещание жениться на англичанке.
Куда бы он ни шел, при нем постоянно было двадцать человек из фламандских бюргеров. Они так плотно охраняли его, что он едва мог сходить помочиться.
Договорились о встрече для заключения сделки. Из Кале в Берг [Синт-Виноксберген] прибыли Эдуард III и королева Филиппа. Привели Людовика Мальского. Стороны обменялись любезностями. Эдуард смог выразить будущему зятю сожаления по поводу смерти графа Людовика Неверского. В ходе битвы, посчитал нужным добавить король, он ни разу не видел того своими глазами, ни мертвого, ни живого. В честь помолвки устроили пир. Назначили день свадьбы.
На приготовления ушло много дней. Эдуард вновь занялся Кале. Молодой граф Людовик убивал время на охоте. Наступил канун свадьбы.
Охрана ослабила внимание. Сокол графа взлетел. Все подняли головы и последовали в беспорядке галопом за хищной птицей. Когда глаза свиты вновь опустились, оказалось, что граф Людовик тоже пришпорил коня. Дело было на парижской дороге, и его конь был лучше, чем у всех остальных охотников. Догнать его было невозможно.
Французы смеялись. Фламандцы, чтобы оправдаться в глазах коронованного союзника, спалили несколько деревень в районе Сент-Омера. Внезапно покинутый вместе с дочерью-невестой, король Англии пришел в крайнее бешенство.
Он отдавал себе отчет, что время теперь работает против него. Хотя короля Шотландии прошлой осенью взяли в плен, провести целый год на материке было неосторожным с политической точки зрения. Эта неосторожность обходилась очень дорого. Какими бы мелкими ни были столкновения вокруг города, их становилось все больше, и осадная армия таяла от них быстрей, чем местные силы скрытого сопротивления. Приступ был невозможен, а осада ничего не давала.
Если Кале держался, то потому, что в город продолжало поступать продовольствие. Как у осажденных, так и у осаждавших был собственный порт. Эдуард III усилил блокаду, сумев отрезать город от снабжения.
Он возвел высокий замок из длинных и толстых дыбовых бревен на берегу моря и поставил в нем бомбарды, спрингалды[34], артиллерию и прочие орудия. И разместил там также мощное орудие, более сорока латников и двести лучников, каковые стерегли гавань и порт Кале, так что ни одно судно не могло ни войти туда, ни выйти без того, чтобы его не разбили и не вывели из строя.
В конце июля 1347 г. к Кале подступил Филипп VI с армией для снятия осады. Тем вечером, когда он встал в Сангатте, жители Кале решили, что они спасены. Эдуард III предпринял ответные действия: поставил на дюны несколько орудий и поручил Дерби, который присоединился к своему суверену после блестящей кампании в Гиени, охранять мост в Миле. Слева и справа были лишь болота — Филиппу VI оставалось либо штурмовать мост, либо уходить. Дав перебить свое войско значило ничем не помочь жителям Кале. Маршалы посоветовали удалиться.
Валуа испробовал последний прием — предложил противнику принять сражение. Пусть англичанин либо перейдет на эту сторону реки, либо пропустит на ту, и произойдет честный бой. Ответ Эдуарда озадачил французских уполномоченных, еще не видавших такого:
Сеньоры, я хорошо понял то, что вы сказали мне от имени вашего государя. Называйте его так, если вам угодно; тем не менее он удерживает мое наследство против всякого права.
Скажите ему от моего имени, что я здесь уже почти год, на виду у него. Если бы он хотел, он пришел бы раньше. Но он позволил мне оставаться здесь так долго, что я немало потратил. И, надеюсь, сделал довольно, чтобы вскоре стать властителем доброго города Кале.
Так что я не намерен делать ничего для его блага, ни для его удобства, ни для его удовольствия. Равно как терять то, что я завоевал или думаю завоевать.
Если он не может пройти одним путем, пусть идет другим!
Противники выжидали три дня. Англичане копали новые рвы на дороге в дюнах. Жители Кале молились. Наконец солдаты французского короля отступили к Аррасу. Англичане позволили себе роскошь тревожить арьергард Валуа и переворачивать подводы с провиантом.
Эдуард III написал архиепископу Йоркскому письмо в расчете на самое широкое распространение. Для него было важно, чтобы в Англии знали о происходящем на материке, и он изложил дело по-своему: Филипп VI удрал накануне сражения. Память о Креси, очевидно, делала эту подправленную версию правдоподобной. В Англии ликовали.
В Кале уже шесть недель умирали с голода. Горожане собирались выйти из этого положения, вступив в переговоры о сдаче. Они выполнили свой долг французских подданных, король Англии не мог их за это упрекать. Каково же было их изумление, когда они узнали, что победитель не хочет обсуждать никаких условий. Они недооценили ярость короля, который уже год терпел поражение от горожан. По мнению многих англичан, длительность осады Кале заставляла тускнеть победу при Креси. Эдуард III дал знать защитникам, что сделает с ними все, что захочет.
Он желает, дабы вы полностью предоставили себя его воле, либо заплатив выкуп за тех, на кого он укажет, либо позволив им умереть. Ибо вы вызвали у него столько досады, и ввели его в расход, и погубили множество его людей. Ничего удивительного, если он недоволен.
Это было предвестием массовой резни. Но английские бароны попытались смягчить своего суверена: роли могли перемениться, и никому из них не улыбалось лишиться головы за то, что он выполнял свой долг, удерживая вверенную ему крепость. 4 августа король пошел на уступки: горожане будут пленниками и в качестве таковых окажутся под защитой. Он довольствуется тем, что укажет на шестерых, которые заплатят за остальных.
Я хочу получить шестерых виднейших горожан, каковые явятся ко мне только в простых рубахах, с веревками на шее и принесут мне ключи от города. Я поступлю с ними по своей воле.
В изголодавшемся Кале началось изрядное волнение. Для всех, кто не чувствовал себя «виднейшим», это был конец страданий. На собрании Эсташ де Сен-Пьер, не скрывавший того, что он самый богатый, вызвался добровольцем. Один за другим поднялись еще пятеро. Народ со слезами на глазах смотрел, как они покидают город в сопровождении переговорщиков.
Мнения англичан разделились. Они также измучились. Некоторые хотели, чтобы горожан повесили. Другие желали, чтобы их отпустили. Но король уже сделал свой выбор. Едва Эсташ де Сен-Пьер произнес несколько слов, Эдуард III отдал приказ отрубить головы всем шестерым. Несколько баронов воззвали к милосердию. Их попросили замолчать.
Эти люди из Кале погубили столько моих людей, что их тоже нужно убить.
Горожан спасла Филиппа де Эно. Она была беременной. Она встала на колени перед королем. И, чтобы не показаться невежей, он вынужден был уступить.
Сударыня, я предпочел бы, чтобы вы были в другом месте.
Шестерых передали королеве, которая велела принести им одежду. Они отделались страхом и унижением. Но для Кале это было еще не всё. Воинов из гарнизона увезли в Англию и их надо было выкупать. Что же касается горожан, их просто-напросто изгнали. Филипп VI возместил им ущерб землями, домами и рентами по всему королевству.
Эдуард дал понять, что мародеров будут вешать. Город нужен был ему в хорошем состоянии, а не в виде кучи золы и разграбленных домов. Итак, победитель вошел в город в безмолвии. Вместо аплодисментов звучали английские трубы. Аплодировать было некому.
Король посвятил Кале одиннадцать месяцев жизни. Он решил сохранить город. Он расположил там гарнизон, который для него и для его преемников станет изрядным финансовым бременем. Чтобы вновь заселить опустевшие дома, он выписал из-за Ла-Манша купцов и ремесленников. В качестве английского города Кале в 1363 г. станет континентальным «этапом» шерсти.
Расчеты
Однако для кредиторов, за счет которых Эдуард III оплачивал первые кампании, было уже слишком поздно. Королевский долг превысил два миллиона флоринов. При вестях о первых поражениях во Фландрии вкладчики забеспокоились: было известно, что Барди и Перуцци за торговые льготы, полученные в Англии, вложили в дело больше, чем составляла их маневренная масса. Одни только Барди авансировали около 850 тыс. флоринов. Нет победы — нет прибыли. Англичанин не расплатится с долгом.
Во Флоренции и в других местах вкладчики поспешили в конторы обоих крупных компаний, чтобы забрать свои вложения, пока не поздно. Перуцци обанкротились в 1343 г. одновременно с несколькими банками меньшего размера, которые порой испытали кризис, не приняв участия в той финансовой авантюре, какой был английский поход. Весть о Креси в 1346 г. пришла слишком поздно. Впрочем, это была не более чем выигранная битва, не имевшая никакого отношения к финансам. Когда Эдуард III осадил Кале, выплаты в свою очередь прекратили Барди. У короля Англии больше не было банкиров для продолжения войны.
Филипп VI был побежден. Хуже того, он был смешон. Униженному под Парижем, бежавшему при Креси, не сумевшему прийти на помощь Кале, королю Франции гордиться было нечем. Более того, он даже вызывал презрение, позволив разгромить верных ему горожан Кале. И еще большую ненависть он вызвал, заставляя подданных оплачивать операции, столь очевидно проваленные. Штаты 1347 г. не скрыли, что думают о нем:
Вы пошли в оные места с честью и при великом отряде, понеся великие расходы и великие затраты. Вас там обесславили и заставили вернуться с позором. Вам навязали перемирия, хотя враги пребывали в вашем королевстве… Оными советами вы были обесчещены!
Вместе с презрением подданных и гневом податных горьким плодом поражения стал политический кризис, для которого расколотая Франция с начала века подготовила разные силы.
Королевство перенесло потрясение. И, обрушившись на него подобно одному из всадников Апокалипсиса, Черная чума надолго его надломит.
Глава V Расколотое королевство
Удары, полученные Францией в 1346 г., имели тяжелые последствия для единства королевства. Некогда Куртре стало оскорблением для короля, униженного ремесленниками, но прочная власть дала возможность быстро восстановить положение. Через два года был Монс-ан-Певель. А между тем королевство волей-неволей поддерживало своего короля, игравшего против Бонифация VIII жизненно важную партию.
Ситуация изменилась. Король, обремененный поражением при Креси и отказавшийся помочь Кале, не пользовался надежной поддержкой. Быстрая победа в Касселе в 1328 г. сыграла роль Божьего суда в пользу новой династии, а оммаж в Амьене стал апогеем ее признания людьми. Но, чтобы сохранить политический эффект этих первых успехов, нужен был другой человек, а не Филипп Валуа. Задолго до Креси и ночного бегства монархию Валуа начали расшатывать посредственность правящих кругов и нескончаемое соперничество влиятельных сил.
Филипп VI не был ни опытным политиком, ни одаренным военачальником. Склонный по натуре к рыцарственности, это был ловкий и храбрый человек. Хороший наездник, хороший фехтовальщик, он был щедр с друзьями и великодушен к врагам. Он был верен тем, кто хранил верность ему. Но надолго сохранял ненависть к тем, кто его предал.
Он хотел быть рассудительным и называл себя таковым. Он насмотрелся на авантюрные выходки своего отца Карла Валуа. Он намеревался быть беспристрастным, верным. В общем, благородным героем.
Король был мужем весьма отважным и весьма сведущим в воинском деле, ибо с юных лет приучился к оному и не прекращал упражняться.
Этот портрет, набросанный Фруассаром — писавшим то, что твердили во Франции, — показателен. Филипп был рыцарем, а не королем. А в те нелегкие времена королевство остро нуждалось в руководителях.
В Королевском совете было множество принцев, но каждый считал нужным заботиться о своих интересах. Легисты из высшей администрации, крупные бюргеры, ворочающие деньгами, безденежные дворяне, во всем рассчитывающие только на короля, — все они были хорошими слугами, но никто не выглядел настоящим правителем. В сложной политической конъюнктуре 1328 г. Филипп VI не захотел ни разочаровывать тех, кто поддержал его, ни выталкивать в ненужную оппозицию многих из тех, кто честно служил последним Капетингам. Поэтому политическое и административное окружение Валуа было одновременно слишком многочисленным и крайне неоднородным. Там возникали интриги и конфликты.
Первое столкновение клиентел началось скоро: клиентела герцога Эда Бургундского, брата королевы, в политической жизни предвоенных годов рассчитывала на многое. Верный человек герцога Миль де Нуайе быстро занял место важного советника короля; в 1336 г. он получил очень выгодную должность кравчего Франции. Дальновидный дипломат, Нуайе считался вдохновителем перехода королевства к обороне и борьбы за союзников, пока что перехваченных англичанами. Именно он по 1344 г. по-настоящему возглавлял Совет. До конца царствования, сохранив большую или меньшую близость к королю, он останется выразителем политической мудрости. Но Нуайе был человеком осторожным и воздерживался от того, чтобы открыто увлечься властью: казни Ангеррана де Мариньи в 1315 г. и нескольких других опал было достаточно, чтобы показать этому политическому поколению отрицательные стороны слишком явного фавора.
Итак, Филипп VI правил в Совете — Совете, где канцлер Гильом Флот, маршал Матье де Три (служивший уже пятому суверену) и епископ Жан Мариньи тоже играли роли первого плана. В отсутствие короля Совет продолжал править за него.
Потому не было ничего удивительного, что и в передних принцев, и в Генеральных штатах шла борьба за доминирование в Совете.
Бретонское наследство
Первая серьезная трещина в единстве королевства возникла в Бретани. По мере того как герцог Иоанн III старел, многие начинали зариться на его престол: трижды женатый, Иоанн III имел лишь незаконнорожденных детей. Его брат Ги де Пантьевр умер за десять лет до него. Его сводный брат Жан де Монфор был еще жив, но оба ненавидели друг друга.
Король хотел наложить руку на герцогство, и Иоанн III не возражал против сделки, в результате которой Бретань бы отошла Валуа, а наследники Бретани в качестве компенсации получали нарочно созданное герцогство Орлеанское. Но эта идея настолько всколыхнула бретонцев, что Иоанн III не стал настаивать. Единственным результатом этого проекта в Бретани стала широкая враждебность к королю Франции.
Прямой наследницей Иоанна III была его племянница Жанна де Пантьевр. В этом не было никаких сомнений: кутюмы Бретани допускали, чтобы умершего наследника представлял его собственный наследник. На ту неопределенность, которая возникла при передаче наследия в Артуа, в Бретани нельзя было сослаться. Но старый герцог относился к Жанне с недоверием — не из-за ее личности, а потому что нельзя было предсказать, в чьи руки угодит Бретань в результате такого наследования. Несмотря на иную юридическую ситуацию, в Бретани противники Жанны нашли те же оговорки, которые несколько лет назад оправдали отстранение Жанны Наваррской.
Против Жанны де Пантьевр было возможное право ее дяди Жана де Монфора; его поддержали все, кого тревожила кандидатура Жанны. Как и при передаче престола двадцать лет назад, они утверждали, что по представительству можно передавать бретонские фьефы — оспаривать кутюмы было трудно, — но не само герцогство.
Лично заинтересованный во французской короне, Филипп VI был мало склонен отстаивать право женщин в наследовании. К тому же ему приходилось признавать французский обычай, согласно которому младшие братья имели первенство перед дочерью старшего. Однако он скорректировал позицию, когда в 1337 г. после провала нескольких брачных проектов — в том числе с братом Эдуарда III, а также с сыном Филиппа д'Эврё, то есть с будущим Карлом Злым, — а значит, и вариантов союза, Жанна де Пантьевр вышла за принца из рода Валуа, королевского племянника Карла Блуаского[35]. Не убоявшись парадокса, король Франции, обязанный своим престолом новому принципу непригодности женщин к управлению, стал сторонником новой племянницы.
Кризис начался 30 апреля 1341 г., когда умер Иоанн III. Продлится он двадцать три года.
Жан де Монфор с полным основанием не испытывал к королю никакого доверия. Он счел разумным упредить события, при этом послав в Париж длинную записку с обоснованием своих прав. Не дожидаясь королевского арбитража, он утвердился в Нанте, сделал вылазку в Лимож, чтобы перехватить казну герцога, которую Иоанн III счел нужным поместить там, в замке предков по матери, спрятав от особо наглых притязаний, и, наконец, созвал ко двору вассалов герцога Бретонского. К его немалому удивлению, большинство на приглашение не откликнулось.
К войне готов был Монфор, а не его соперник. За несколько недель так и не встретив настоящего сопротивления, он силой захватил одну за другой все крепости герцогства. Самые долгие осады продолжались восемь-десять дней. Так Жан де Монфор приобрел портовые города Брест, Ванн и Эннебон, такие административные метрополии, как Ренн, крепости, позволявшие сдерживать противника, как Сусиньё, Оре и Плоэрмель. Лишь Жослен устоял: задерживаться было некогда.
Поскакал к замку Жослен. Но тот был столь крепким, что он не смог взять его и отправился далее.
Карл Блуаский не успел опомниться, как его соперник уже владел практически всей Бретанью. Что было хуже всего для ставленника короля Франции, Монфор сумел завоевать популярность.
За ним стояло великое множество бретонских рыцарей и оруженосцев. Он привлекал их любовь дарами, и любовь добрых городов тоже. И держал большой и полноценный штат. Повсюду велел платить хорошо и щедро, ни в чем не обманывая, так что все были довольны им и его людьми и говорили: «У нас добрый сеньор, судя по тому, как он себя показывает».
Те, у кого новый хозяин Бретани вызывал беспокойство, предпочли исчезнуть. В смутные времена у средневекового рыцаря был один испытанный выход — он уходил в крестовый поход. На границах христианского мира неверных хватало, так что бретонские рыцари удалялись в Гранаду, в Пруссию, на Восток.
Они нашли оправдание, чтобы покинуть Бретань, как только положение дел изменилось.
Монфор хорошо знал, что Филипп VI не примет от него оммаж. Он решил, что король Франции — это Плантагенет; в июле того же 1341 г. он прибыл в Виндзор. Эдуард III встретил его с радостью, принял оммаж и дал новому вассалу инвеституру на герцогство. В качестве награды он присовокупил английское графство Ричмонд.
Вернувшись на материк, Жан де Монфор узнал, что его требуют в Париж. В самом деле, его вызвали на суд пэров. Графиня, его жена, советовала ему не ехать. Он предпочел поставить точки над «i». В конце концов, как говорили ему, дело упростится, если Валуа соблаговолит дать ему инвеституру на Бретань.
Итак, он предстал перед королем, но с очевидной осторожностью. В большом покое дворца, со стенами, покрытыми коврами, он мог видеть лишь враждебные лица. Там были герцоги Алансонский и Нормандский — брат и сын короля, несколько принцев, таких, как герцоги Бургундский и Бурбонский, графы де Блуа, Форе, Понтьё, Вандом. Были сеньоры де Куси, Сюлли, Краон. Весь цвет баронства, верного Валуа.
Монфор попытался уклониться от ответственности за виндзорское дело: король плохо осведомлен. Зато он утверждал, что нет лучшего наследника Бретани, чем он. Разве он не брат последнего герцога?
Филипп VI отложил решение. Суд вынесет приговор лишь через пятнадцать дней. Тем временем Жан де Монфор ни в коем случае не должен был покидать Париж.
Претендент на Бретань понял, что получит отказ и что у него очень много шансов закончить свои дни в тюрьме. Его соперник был племянником короля. Дело было нечисто. Он сказался больным. Никто не удивился, что его не видно несколько дней. На самом деле он покинул Париж вечером того же дня, когда явился в суд, с одним-двумя верными людьми и, возможно, переодевшись слугой. За несколько переходов, двигаясь днем и ночью, он достиг Нанта.
Когда узнали, что произошло, Филипп VI оказался в довольно глупом положении. Вероломный вассал начал мятеж, когда считали, что он еще под стражей. На этот раз все мосты были сожжены — Жанна Фландрская заявила об этом супругу безо всяких прикрас:
В соответствии с тем, что вы начали и предприняли, вы получите войну. Нет ничего более истинного.
Его люди понемногу присоединялись к нему, покидая Париж один за другим, чтобы не привлекать внимания. У Жана де Монфора было много людей, но много и денег: рискуя быстро расточить казну Иоанна III, он мог нанять солдат. Он перешел в наступление.
Вняв совету графини, у которой было сердце мужчины и льва, он отправился по всем городам, замкам и крепостям, которые подчинились ему, и назначил повсюду добрых капитанов, и разместил пеших и конных наемников, как счел нужным, и сообразно сделал большие запасы провианта, и столь хорошо платил всем наемникам, что каждый охотно служил ему.
7 сентября 1341 г. суд пэров, собравшийся в Конфлане, вынес приговор, которого все ждали: Карлу Блуаскому было позволено принести оммаж за герцогство Бретань.
Герцог Нормандский немедленно возглавил большую армию, которую усилили генуэзские наемники, и отправился вводить Карла Блуаского во владение Бретанью. Поначалу это была победоносная военная прогулка. С ходу взяли крепость Шантосо на левом берегу Луары, закрывавшую путь к Нанту. В ноябре благодаря сообщникам, которым помогла политическая оплошность Жана де Монфора, удалось внезапно ворваться в Нант. Монфор, считавший себя в безопасности, был схвачен во время сна.
Война двух Жанн
Если бы Иоанн Нормандский предпринял хоть какое-то усилие, чтобы обеспечить своему отцу-королю власть над герцогством, и если бы дело сразу не переплелось с конфликтом между Валуа и Плантагенетом, вопрос Бретани был бы, несомненно, решен.
Но Иоанн Нормандский знал, что наступает зима, и слишком быстро удовольствовался сделанным. Он думал, что в Бретани все дело лишь в соперничестве личностей и что захват узурпатора в плен положит этому конец. Даже не дойдя до Ренна, он повернул обратно в Париж, гордясь тем, что везет пленника, чтобы посадить его под стражу в Лувр. Он оставил позади, в Ренне, женщину, политические достоинства которой недооценил. Жанна Фландрская, графиня де Монфор, против Жанны де Пантьевр: началась война «двух Жанн». Раскол Бретани усугубится.
Лагерь Карла Блуаского, человека, который ссылался на право Жанны де Пантьевр, а на самом деле был ставленником Филиппа VI, привлекал к себе всех, кому сильная королевская власть даже в пределах герцогства гарантировала минимум свободы от власти герцога. Это были бароны, епископы, аббаты. Это были крестьяне из Восточной Бретани, бретонцы-«галло»[36], которых король некоторым образом защищал от господства «бретоннанов»[37]. Партия Жанны де Пантьевр на самом деле была партией тех, кому не столь важен был сильный герцог, а Бретань казалась слишком бретонской.
За Жанной Фландрской, которая сражалась за своего супруга и — после его смерти в 1345 г. — за маленького Иоанна IV, их сына, стояли бретоноговорящий Запад, экономическая мощь бретонских городов, не желавших, чтобы их интересы приносили в жертву интересам королевских городов, масса сельских нотаблей, деревенских помещиков и приходских священников, которых не беспокоил герцог, но постоянно раздражали королевские налоги и особенно десятина.
Это была и партия англичанина. Ведь Жанна Фландрская знала, что одной ей не справиться. Оставив Ренн на верного капитана Гильома де Кадудаля, она обосновалась в Эннебоне, то есть в одном из самых защищенных портов. Этот умный выбор позволил ей благодаря выходу к морю контролировать внешние связи. Очень скоро она приступила к переговорам.
Летом 1342 г. она послала гонцов к Эдуарду III — это был настоящий призыв на помощь, который дошел до Лондона почти в то же время, что и призыв гасконцев, враждебно воспринимавших успехи Валуа. Эдуарда достаточно занимали шотландские дела, чтобы он мог запросто ввязаться в дела на материке, но он был герцогом Гиенским и понимал, что, оставаясь у себя на острове, потеряет богатую сеньорию — все, что осталось от наследия Плантагенетов. И потом, если постоянно тревожить Валуа на материке, разве это не станет самым эффективным средством не дать ему помогать шотландцам?
Устроить вторжение в Бретань или в Гиень, было все равно: поддержка партии Монфора вынудит Филиппа VI усилить присутствие в Бретани, уменьшив тем самым давление на Гиень. Так Эдуард III убивал двух зайцев — спасал свое континентальное наследие и получал союзника в лице будущего герцога Бретонского.
В разгар зимы он решил показать силу. Робер д'Артуа, по-прежнему активно действовавший при Плантагенете, взял, затем потерял Ванн. После тяжелого ранения Робера доставили в Англию, где он вскоре скончался. Эдуард III прибыл в Бретань лично, попытался взять Ренн и Нант, разорил Динан. Но английская армия теряла время в борьбе с противником, постоянно уходившим от боя. Грабя страну, она лишь увеличивала свою непопулярность, чем без устали пользовались сторонники графа Блуаского. Легатам Климента VI не составило труда добиться перемирия в Малетруа, заключенного 19 января 1343 г.: англичане устали, а французов беспокоило присутствие английской армии на материке.
В Париже отомстили за перенесенный страх: один из крупных бретонских сеньоров, Оливье де Клиссон, был приговорен к смертной казни за то, что сдал Ванн англичанам. Его обезглавили на городской площади, а тело повесили под мышки на Монфоконе. Заодно казнили и несколько второстепенных лиц.
С этого момента главные герои событий поменялись. Эдуард III больше не появится в Бретани; Жанна Фландрская, которая начала сходить с ума от бедствий, закончит жизнь в Англии, в маноре Тикхилл, в заточении, которое для нее едва ли скрасят тридцать долгих лет болезни. Между тем ее сменила новая Жанна — Жанна де Бельвиль, вдова Клиссона, которая создала грандиозное каперское предприятие и тем самым подорвала всю французскую морскую торговлю. Она не знала, что ее сын, тоже Оливье, однажды станет коннетаблем Франции. Пока что ребенок воспитывался в Англии вместе с маленьким Иоанном IV, где понемногу возненавидел того, из-за чьего несчастья им пришлось играть вместе.
Исход борьбы оставался неясен. Несмотря на перемирие, продолжалась война засад, налетов на деревни и грабежей ограниченного масштаба. Политическая география Бретани совсем запуталась: одна деревня стояла за одних, соседняя — за других. Во многих уголках Бретани люди жили так, будто герцога у них вообще нет.
Между тем поражение французов стало очевидным еще с 1343 г. Королевская армия удерживала Нант и Ренн, но остальные земли не контролировала. Английский король размещал в городах свои гарнизоны, назначал капитанов. Другая армия, командование которой Филипп VI поручил герцогу Нормандскому, едва подойдя, узнала, что заключено перемирие и что место в герцогстве занято. Хотя авторитет партии Монфора был подорван пассивным сопротивлением сельской местности, Карл Блуаский почти не получил от этого выгоды. В 1344 г. он взял Кемпер, и ненужной резни при этом хватило, чтобы у многих бретонцев, слабо вовлеченных в политический конфликт, изгладить воспоминания о прошлогодних английских грабежах.
Филипп VI пожелал проявить рыцарственность. За расплывчатое обещание не возвращаться в Бретань он освободил Жана де Монфора. Тот счел, что обещание было сделано под принуждением, и прежде всего поспешил вернуться в герцогство. Он заявил, что возобновляет оммаж Эдуарду III, и заперся в Эннебоне. Там в сентябре 1345 г. он и умер.
Эта смерть прояснила ситуацию. Жанна Фландрская все больше погружалась в безумие. У Эдуарда III руки были развязаны. Он взял Иоанна IV под опеку. Понятна уверенность, которую он смог проявить в следующем году, унизив Валуа на Сене. Креси был прямым следствием войны двух Жанн.
Пока Эдуард III брал Кале и обеспечивал себе удобный плацдарм, а Дерби охранял границу Гиени, французская Бретань постепенно переходила в руки английской армии, которой командовал Томас Дэгуорт. У сторонников Карла Блуаского вскоре осталось лишь графство Пантьевр. Карл попытался в 1347 г. взять Ла-Рош-Дерьен, только что сданный англичанам его людьми, которым вовремя не помогли. Дэгуорт напал на него с тыла глубокой ночью. Схватка была беспорядочной, но племянник короля Франции попал в плен. Отправленный в Англию и заключенный в лондонскую башню Тауэр, Карл Блуаский вновь появится в Бретани лишь через пять лет.
Теперь в бой следовало вступить Жанне де Пантьевр, как это некогда сделала Жанна Фландрская во имя своего мужа Жана де Монфора. Но Жанна де Пантьевр была сделана из другого теста. А у короля Франции хватало забот в Париже, чтобы не раздувать бретонское дело снова. Герцогство продолжало страдать, но суверены туг были ни при чем. Черная чума сделала на время невозможной любую масштабную акцию.
Именно в этой войне мелких стычек такие люди, как Бертран Дюгеклен, учились военному искусству. Хватало и удачных ходов, и выгодных возможностей. Формировались банды, состоявшие из солдат, оставшихся без жалованья, и из разбойников, готовых на все, в том числе и наняться на регулярную службу.
Так, прославленный капитан Томас Дэгуорт встретил свою смерть в августе 1350 г. под Оре, погибнув в засаде, устроенной несколькими приверженцами Жанны де Пантьевр.
Что касается «Битвы тридцати», она бы осталась второстепенным событием, если бы не хронисты, от Жана ле Беля до Фруассара, обеспечившие ей резонанс в истории и особо подчеркивавшие рыцарскую этику участников боя.
«Битва тридцати» — это война, превратившаяся в праздник. Это была «баталия» в том смысле, который придавали этому слову герольды, приказывая вести бой по точным и строгим правилам чести и верности. Это был эпизод войны, но в то же время и опасное развлечение рыцарей, которые скучали и у которых война на пустых дорогах не вызывала энтузиазма.
Инициатива исходила от капитана крепости Жослен Робера де Бомона, одного из верных сторонников пантьеврской партии. В середине марта 1351 г. он подступил к Плоэрмелю, где немецкий капитан по имени Бранденбург командовал гарнизоном от имени Монфора, в который входили бретонцы, англичане и несколько немцев. Бранденбург поднял мост и опустил решетку. На штурм надежды было мало, а для осады Плоэрмеля у Бомона не было средств. Он окликнул противника и предложил ему нечто больше похожее на турнир, чем на военную акцию:
Нет ли здесь ратников, двух-трех, которые пожелали бы скрестить клинки с троими во имя любви своих дам?
Этих людей явно не интересовал национальный конфликт. Зато они были проникнуты — в основном понаслышке — представлениями из дешевой литературы, то есть популярных героических поэм и романов, о рыцарях Круглого стола. Тот же Фруассар, у которого «Дело тридцати» вызовет крайнее восхищение, вложит немалую часть своего таланта в «Мелиадор», настоящий роман в духе артуровского цикла.
Ответ немца был достоин полученного им предложения. Сражение предстояло ради чести — конечно, не ради политических интересов. Бранденбург ясно сказал то, что думал о дуэли двух-трех, предложенной Робером де Бомоном: она продлится недостаточно долго, и большого удовольствия от нее не будет.
Их дамам не хотелось бы, чтоб они позволили столь жестоко убить себя в одном-единственном поединке. Ведь это было бы испытание судьбы, которое слишком быстро закончится. И приобрели бы в нем лишь поношения и имя безумцев, а не честь и награды.
Но скажу вам, что мы сделаем, ежели вам будет угодно. Возьмем двадцать-тридцать ратников из вашего гарнизона, и я возьму столько же из нашего. И выйдем на доброе поле, где никто нам не помешает и не побеспокоит нас. И повелим под угрозой петли нашим ратникам с той и другой стороны и всем, кто станет на нас смотреть, дабы никто не оказывал бойцам ни насилия, ни помощи.
Итак, тридцать на тридцать, турнир ради прекрасных глаз красавиц. Робер де Бомон согласился. Бранденбург закончил переговоры так:
Тот, кто хорошо покажет себя здесь, обретет больше чести, нежели в поединке.
В обоих лагерях выбрали по тридцать бойцов. Бранденбург дополнил английский отряд несколькими бретонцами и немцами. Все это заняло три дня.
Утром дня битвы бойцы выслушали мессу, облачились в доспехи и прибыли на ристалище. Четверо-пятеро из каждого лагеря были на конях, остальные пешими. Хотя французы Бомона заставили себя ждать, англичане их хорошо приняли. Наконец битва, в страшном лязге скрестившегося оружия, могла начаться. Казалось, вернулась эпоха великих витязей.
С одной и с другой стороны вели себя учтиво, словно все были Роландами или Оливье.
Протрубили перерыв. У французов был один убитый, у англичан два. Выжившие сняли доспехи, выпили свежего вина и дали перевязать себе раны. Никто не торопился. Сражались благородные бойцы. Воспользоваться слабостью противника было бы вероломством.
После перерыва возобновили схватку. К вечеру англичане потеряли девять человек. В их числе был и Бранденбург. Выжившие сдались: бежать считалось бы позором. У французов погибло шестеро, не считая умерших от ран.
О подобных подвигах не слышали со времен крестовых походов. В последующие годы на выживших здесь будут показывать: об их героизме говорили шрамы на лицах. До франко-английской войны было еще очень далеко.
Нормандские бароны
Обратимся к Нормандии. Там ситуация была совершенно иной. Волнения в Бретани возникли в результате конфликта за наследование короны герцогов. Волнения же в Нормандии шли снизу. С 1314 г. они почти не прекращались, так как нормандские бароны очень не жаловали королевский произвол, игнорирующий их налоговые и судебные прерогативы. Циклические восстания Аркуров — только один пример из самых заметных, но можно было бы привести и другие. Так, Жан Мале, сир де Гравиль, объединял недовольных и был вдохновителем малых войн на Нижней Сене.
Рауль де Бриенн изображал принца: в Нормандии он был графом д'Э, но также графом де Гином, шателеном Арраса и Ланса, имел владения как в Пуату, так и в Ниверне, как в Англии, так и в Ирландии. Он не лишал себя права вести независимую внешнюю политику. В 1335 г. он командовал французской армией, собранной для отправки в Шотландию, но в качестве «генерал-капитана», нанятого по контракту, а не назначенного королем. Его нормандская политика была прежде всего одной из клеточек куда более обширной игры.
В политическом отношении Англия была отделена от Нормандии скоро полтора века, с тех пор как в 1204 г. Филипп Август отвоевал последнюю у Иоанна Безземельного. Но мир Вильгельма Завоевателя и Ричарда Львиное Сердце был живучим. Многие крупные и средние нормандские землевладельцы имели вотчины по обе стороны Ла-Манша, и в Нормандии почти не было аббатства без какого-нибудь приората в Англии. Всем придется взвесить, чего им будет стоить поддержка того или иного лагеря. История сделала их англо-нормандцами; какую бы сторону они ни выбрали, они были обречены на конфискацию.
Восстание и бегство Жоффруа д'Аркура в 1343 г. показало всю серьезность болезни. Филипп VI чувствовал себя окруженным изменниками. Ему пришлось велеть арестовать нескольких нормандских рыцарей — сообщников Аркура. Он должен был обезглавить товарища своей юности Оливье де Клиссона, одного из немногих баронов, имевших владения как в Нормандии, так и в Бретани. Он казнил организаторов дерзкого заговора против Карла Блуаского, а затем нескольких союзников Аркура, случайно найденных во время взятия Кемпера. Для правосудия Филиппа VI 1343 г. и весна 1344 г. были отмечены головами, слетающими с плеч за заговоры против власти суверена.
Первые Генеральные штаты
Однако в том же 1343 г. король посчитал необходимым в первый раз созвать представителей королевства, то есть архиепископов и епископов, аббатов монастырей и отдельных докторов университетов, основных баронов и уполномоченных, избранных с этой целью добрыми городами.
Казна была пуста. Турский ливр падал. В 1336 г. он еще составлял 82 грамма чистого серебра, а в конце 1342 г. стоил всего 16,6 грамма серебра. Налог еще бывал только чрезвычайным, податные не забывали об этом и очень косо смотрели на то, что право короля брать у них деньги, предусмотренное для особых случаев, никак не прекращает действовать. Представление о постоянных государственных расходах, не связанных с образом жизни суверена и его личной службой, укладывалось в головах очень медленно.
Подданные короля видели, что цены растут, кроме цен на зерно, которые могли бы восстановить покупательную способность крестьян и сеньоров-землевладельцев, живущих за счет натурального оброка, десятины или полевой подати. Городские бюргеры замечали, что в результате инфляции стремительно обесцениваются их ренты, арендная плата и задолженности им. Короче говоря, все были недовольны.
В марте 1343 г. король предпринял две операции, финансовая прибыль от которых далеко не компенсировала их пагубных политических последствий. Он решил собрать, несмотря на перемирия, налог в четыре денье с ливра — 4 из 240 денье, составлявших один ливр, то есть 1,7 %, — обложив им продажи и сославшись в оправдание лишь на потребности обороны королевства. Он реорганизовал габель, то есть королевский контроль над торговлей солью, контроль, который обосновывал, но плохо оправдывал обложение налогом этого продукта первой необходимости. Введенная Людовиком X в году, когда шли спекуляции солью, габель поначалу выглядела приемом регулирования рынка, выгодным для потребителей. За тридцать лет все наконец поняли, что это еще один налог.
Оставалось покончить с инфляционным кризисом, в отношении которого никто не сознавал, что это элемент векового развития экономики. Все считали, что монета обесценивается, потому что финансами плохо управляют. Кричали о спекуляциях, даже об измене. Находить козлов отпущения было, конечно, легче, чем лечить болезнь.
На Генеральных штатах, созванных в Париже в августе, Франция еще была представлена целиком — как Франция языка «ок», так и Франция, где для выражения согласия говорили «ойль», «да». Скоро Лангедойль и Лангедок будут собираться по отдельности.
Король сделал им предложение, какое уже делал в свое время его дядя Филипп Красивый: он будет чеканить гроши и серебряные денье, аналогичные монетам Людовика Святого, той «доброй монете» Людовика Святого, на которую ссылались уже почти сорок лет, а Штаты разрешат ему по-прежнему взимать налог с продаж. Таким образом, внушалась идея альтернативы налог-монета, уже представленная во всех провинциальных хартиях 1315 г.: подданные короля за участие в расходах монархии покупают право на твердую монету.
Если бы порча монеты была лишь следствием королевского произвола с единственной целью получить прибыль для казны, такая сделка была бы обоснованной. Но с тех пор как инфляция была связана с нехваткой платежных средств и прежде всего с нехваткой серебра, предложения такого рода стали мошенничеством. Король очень хорошо знал, что сохранить твердую монету не удастся, даже если бы удалось ее восстановить, поскольку баланс рынка ценных металлов был уже не тем, что во времена Людовика Святого. Зато он получал налог.
Из соображений выгоды депутаты Штатов были заинтересованы в твердой монете. Знать, прелаты, бюргеры — все они были кредиторами, собственниками, вкладчиками. Дефляция означала повышение ценности их вкладов. Налог же отягощал всех. Те, кто умел переложить его бремя на других, относились к нему не так враждебно, как к девальвации монеты. Когда пьешь вино из своего виноградника и получаешь учетные проценты, лучше налог на вино, покупаемое в кувшине в таверне, чем слабая монета.
Ведь депутаты были лицами привилегированными. Привилегии имели знать и духовенство, налоги с которых собирали по особому режиму. Привилегии имели бюргеры, которые считались представителями оставшейся части нации и всегда стремились отстоять экономические льготы, предоставленные их городу или ремеслу. Для парижан было особо важно сохранить монополию на торговое судоходство на Средней Сене между Йонной и Уазой и на самих этих реках. Они следили за сохранением своей юрисдикции, распространявшейся на всю экономическую жизнь столицы и области. Они не забывали о своей способности приобретать дворянские фьефы.
Но именно привилегированные лица завидовали друг другу. Привилегия была правом на юридический партикуляризм и правом урезать привилегию другого. Об этом хорошо сказали парижане:
Ваши люди из вашего города Парижа заключили денежный договор с Вами по причине арьербана, и в оном договоре было сказано и оговорено, что вклад должны вносить люди всякого разряда.
И тем не менее декан и капитул Парижа стараются избавить от сего некоторых жителей города Парижа, уверяя, что это их «гости» (арендаторы), ибо один должен денье, а другой полушку чинша либо иные суммы за их дома, хоть и не имеют другой юрисдикции или сеньориальных прав…
У оных декана и капитула имеется несколько приставов, каковые постоянно служат в парижской церкви, и каждый носит жезл на свою службу, каковые, по их словам, освобождены от налогов. И, ссылаясь на оных приставов, они обращаются к парижским бюргерам, самым богатым, и продают им должности приставов, дабы за это тем дали льготу, обходя и подрывая Ваше право, во вред и в ущерб добрым людям вашего города.
Поскольку король еще не был вынужден торговать привилегиями, парижанам все-таки пришлось поступить, как всем остальным, — они согласились платить налог, взамен на который король 26 октября 1343 г. восстановил твердую монету: он установил курс гроша чистого серебра в 15 турских денье, тогда как прошлым летом грош стоил 60 денье. Естественно, должники всякого рода, особенно арендаторы, не преминули расшуметься. Они были должны десять или сто денье. Они по-прежнему должны десять или сто. Но в денье серебра стало больше, и легко понять, что получишь их меньше…
Генеральные штаты 1343 г. по-настоящему не потребовали реформ в том смысле, как понимали это слово сорок лет назад или будут понимать в 1346 г., когда это слово станет лейтмотивом Штатов. Об ограничении монархического произвола речи еще не было. Единственной уздой для королевского абсолютизма был Совет, а двери в него открывал король.
Что касается совершенствования механизмов управления, Филипп VI не ждал, чтобы от него этого потребовали. Уже в апреле 1343 г. он опубликовал ордонанс, которым восстановил несколько институтов, подрываемых хорошо известными пороками: совмещением должностей, некомпетентностью, неясностью задач. Одной из язв этой системы были подложные акты, в силу которых король давал или предоставлял, часто не зная этого, владения или милости, о величине или масштабах которых ни он, ни его люди никогда не узнают. В этом плане король не питал иллюзий: он хорошо знал, что те, кто ему служит, извлекают из этого выгоду. Но не мог же он обойтись без слуг…
Чиновники — мы бы сказали, должностные лица — как таковые не были представлены в Генеральных штатах, и удачным политическим ходом было пожертвовать немногими из них на алтарь налоговых требований. Бароны, прелаты и купцы на этот раз были едины: все беды королевства от этих государственных нахлебников — «крючков» из королевских судов, богачей из финансовой администрации, короче говоря, королевских слуг.
Штаты ничего не потребовали, но они ощутили, до какой степени королевская политика зависит от их доброй воли. Им решать, будут ли у короля средства для управления или нет. С того момента волнение практически не прекращалось. Под одними и теми же словами — реформа, привилегии, льготы — каждый понимал свое. Но в воздухе витала мысль: чтобы оплатить свою войну и подавить мятежи, вспыхивавшие со всех сторон, король способен торговаться о самих основах политической жизни.
В такой атмосфере претензий в феврале 1346 г. открылись новые Генеральные штаты, собранные на сей раз раздельно: в Париже — Лангедойль, в Тулузе — Лангедок. Король готовил кампании в Аквитании и Бретани — никто не мог предвидеть кампанию в Креси — и не имел необходимых ресурсов. К тому же он желал реорганизовать налоговую систему; «подымная подать», то есть прямой налог по столько-то с «очага», должна была заменить косвенный налог, который тяготил экономику и парализовал ее в некоторые моменты, соляную габель, а также четыре денье с ливра.
Между тем Штаты очень быстро проявили интерес к растущему недовольству населения королевскими служащими, сержантами, прево, всевозможными уполномоченными, число которых при каждой возможности росло за счет страны. Король сделал некоторые уступки — в феврале в Париже, в мае в Тулузе, — чтобы «протолкнуть» налог. Однако ропот почти не стихал, а поражение при Креси добавило новую претензию: на сей раз искали виновных.
Для начала Филипп VI избавился от балласта — пожертвовал некоторыми из людей, причастных к власти. Жан Пуальвилен, крупный парижский бюргер, смотритель Монетного двора, королевский казначей, смотритель вод и лесов, стал одним из тех непопулярных советников, которые из-за Креси попали в тюрьму и должны будут выплатить значительный штраф, чтобы сохранить свое имущество. К таким относились также Пьер и Мартен дез Эссары; за освобождение Пьера дез Эссара выплатят пятьдесят тысяч турских ливров.
Пьер дез Эссар был в полном смысле слова выскочкой, заработавшим состояние на службе у короля. Его отец был мэром Руана, потом приехал в Париж во времена Филиппа Красивого и почти двадцать лет руководил Счетной палатой. Он сам, породнившись благодаря браку с одной из богатых семей парижских менял, сделал карьеру в финансовых конторах. Он побывал сборщиком королевы, казначеем короля, наконец, советником Счетной палаты. Правду сказать, он был поверенным Филиппа VI, как и обоих последних Капетингов. Он давал займы принцам. Он управлял финансами короля.
Филипп VI почти без колебаний обходился с такими людьми, как Пьер дез Эссар. Он арестовал их дюжину. Он отпустит их через несколько месяцев без суда, но за деньги. В чем их обвиняли? Лишь в том, что они были богаты.
Тем временем аббату Сен-Дени, аббату Мармутье и аббату Корби, трем духовным лицам, имевшим прочную репутацию честных людей, было поручено оздоровить управление финансами, восстановить некоторый порядок в денежном обороте и вновь подчинить Счетную палату. Получив новые титулы «генеральных депутатов по королевским делам в Париже», они фактически должны были реформировать высшую администрацию. Главными результатами этого наведения порядка будут установление контроля за выделением денег — это продлится лишь недолго — и окончательное разделение функций финансового контроля, которыми наделили Счетную палату, и управления финансами, которое осуществлял Большой совет. Впредь будет невозможно принадлежать одновременно к двум этим органам. Станет понятней, кто чем занят.
Эта попытка коренной реформы ничуть не помешала Штатам устроить королю разнос, когда в ноябре 1347 г. он снова собрал их, чтобы получить средства для ответного удара.
Из-за дурного совета Вы все потеряли и ничего не выиграли!
Принцы
Какой-то момент казалось, что Филипп VI, несмотря на разгром, вновь овладел ситуацией. В дипломатическом плане дни после Креси были отмечены даже некоторыми переменами в пользу французского короля. Герцог Брабантский Иоанн III, которого давно беспокоили периодические волнения в крупных фламандских городах и который едва ли хотел, чтобы эта зараза перекинулась на Брюссель, Мехелен или Антверпен, в сентябре 1345 г. пошел на контакт. Филипп VI ждал только знака. Как и Людовик Неверский, которого союз внутри Нидерландов избавил бы в случае новых акций коммун от слишком тесной зависимости от французского короля. Переговоры, отложенные из-за поражения, возобновились в мае 1347 г.; активное участие в них принял новый граф Фландрский Людовик Мальский вместо своего отца, погибшего при Креси. И в июне Сен-Кантенские соглашения скрепили новую систему союзов: Людовик Мальский женится на дочери Иоанна III, а Генрих Брабантский — старший сын герцога — на Жанне Французской, дочери будущего Иоанна Доброго. Их дети будут воспитываться при французском дворе.
В то же время непостоянный Людовик Баварский попал под удар папских приговоров. Его уже отлучили от церкви; в апреле 1346 г. Климент VI его низложил. И на сей раз выбор князей пал на одного из наиболее надежных союзников Филиппа VI — Карла Люксембургского, избранного в июле. Он был сыном того самого Иоанна Слепого, короля Чехии, который прибыл в Креси, чтобы погибнуть рядом со своим другом, королем Франции. Его сестра, Бона Люксембургская, вышла за наследника престола, герцога Иоанна Нормандского.
Новый римский король — так называли императора до коронации папой — был целиком заинтересован в том, чтобы разыграть французскую карту, которая стала франко-брабантской. Ведь Людовик Баварский не умер, и Карл IV Люксембургский не мог себе позволить остаться в одиночестве в трудной политической игре. Впрочем, в личности Иоанна III Брабантского было много привлекательного: герцог был мудрецом, которого уважала вся Европа. Он был и последним из Каролингов; по крайней мере, так говорили. Наконец, император Карл IV ничего не приобретал, если бы Эдуард III стал властителем Франции и Нидерландов. Он решительно вступил в союз с Францией. Пока Филипп VI договаривался с Брабантом, герцог Нормандский вел переговоры с избранным императором, которые завершились соглашением от 7 мая 1347 г.
Король Франции мог быть доволен переменами на своей восточной границе. Зато у него были все основания беспокоиться о других землях. В Гиени граф Дерби снова двинулся на север. Он уже занял Лузиньян, Сен-Максан, в общем, все Пуату. Если так будет продолжаться, скоро будет восстановлена большая Аквитания XII в., Аквитания герцогини Алиеноры. Все явно чувствовали, что краткое перемирие, заключенное благодаря папским легатам Аннибале Чеккано и Этьену Оберу — будущему Иннокентию VI — 28 октября 1347 г., через три месяца после падения Кале, очень непрочно; никто не мог знать, что Черная чума продлит это перемирие…
Но отнюдь не настоящее разрешение франко-английского конфликта. Ставки начали пугаться. В Бретани дело забуксовало: Карла Блуаского в июне 1347 г. взяли в плен, но Жанна де Пантьевр не хотела уступать. Никаких оснований для того, чтобы все это кончилось, не было. Тем временем Нормандия роптала, Артуа протестовало, дом Эврё выдвигал притязания. Наследник престола уже наделал достаточно глупостей, чтобы все запугать.
Филипп Валуа, ставший королем в результате импровизации, сделал все, чтобы второй король из его рода научился своему ремеслу. Герцог Иоанн заседал в Совете. Он командовал бретонской армией, затем гиенской. Он представлял короля в Авиньоне на коронации Климента VI. Он провел множество переговоров, как об объединении Дофине с вотчиной Валуа, так и о союзе с императором. Он учился войне, дипломатии, управлению, и Филипп VI во всем этом дал ему лучшего из наставников — герцога Эда Бургундского, брата королевы.
Однако король не сделал из старшего сына столь важную особу, как казалось на первый взгляд. Герцог Нормандии, граф Анжу, Мена и Пуатье, «сеньор завоеванных земель Лангедока и Сентонжа», будущий Иоанн Добрый на самом деле был всего лишь представителем отца в этих больших фьефах. Ими по-прежнему управляли королевские чиновники, делая это от имени короля. Что касается сеньорий — разбросанных по всему королевству, — которые Филипп VI на самом деле дал своему наследнику, чтобы тот жил на доходы с них, они годились для того, чтобы сделать его богатым сеньором, но не могущественным принцем. Если Филипп VI и был авантюристом на дорогах войны, он был осторожен на политической стезе.
После поражения Иоанн Нормандский получил свою долю непопулярности. Не он ли напрасно задержал королевскую армию на долгие недели под Эгийоном? В Королевском совете считали, что наследник престола окружен очень дурными людьми. Дело дошло до того, что его упрекали за советников, которых ему дал отец, и прежде всего за герцога Бургундского, чья звезда в политике клонилась к горизонту. Его, конечно, упрекали и за тех, кого он выбрал сам.
Кризис достиг пика в мае 1347 г., когда старший сын короля Франции счел необходимым просить у шурина, римского короля, династическую гарантию. Карл IV Люксембургский обязывался помочь Иоанну, если в соответствующий момент кто-то попытается помешать тому наследовать отцу.
Одно из двух: либо тогдашние опасения будущего Иоанна Доброго были основательными, и это изобличает очень непрочную политическую ситуацию, или они были напрасны, и подобный договор мог вызвать самую яростную реакцию. Как бы то ни было, наследник престола менее чем когда-либо был уверен в династическом будущем рода Валуа. Спокойная уверенность официальных хронистов не должна вводить в заблуждение: не все поддержали выбор, сделанный в 1328 г.
В то время как престол рода Валуа дал трещины, дом Эврё попытался вернуться к соглашениям о наследстве, которые нанесли ему ущерб. Вспомним, что Жанна Наваррская, дочь Людовика X и Маргариты Бургундской, получила в наследство королевство Наварру, в то время как ее дяди договорились придержать Шампань, одновременно и слишком процветающую, и слишком близкую к Парижу, чтобы оставлять ее принцессе, которая когда-нибудь обязательно передаст свою вотчину роду мужа. Жанна и этот муж, точнее Филипп д'Эврё, племянник Филиппа Красивого, должны были довольствоваться графством Ангулем, доход от которого был несоизмерим с доходом от Шампани, и графством Мортен, которое, возможно, приносило денежный доход, но политического веса не имело. Как и через несколько лет в отношении герцога Нормандского, власти постарались, чтобы ни у одного вассала Эврё во Франции не могло быть слишком обширного княжества. Очевидно, что после этой сделки Эврё затаили злобу.
Восшествие на престол короля из рода Валуа позволило подправить финансовую ситуацию. Теперь Эврё были богаты. Но это ничуть не мешало Жанне при любой возможности напоминать, что с ней поступили несправедливо. Кроме того, хотя она никогда не говорила об этом публично, можно полагать, что она была не слишком убеждена в исключительном праве мужчин наследовать престол, которое придумали, чтобы обделить ее. Тем ожесточенней королева Наварры настаивала, что она может притязать на гораздо большее, чем притязает сейчас. Она приобрела часть Котантена. В конечном счете она обменяла графство Ангулем на несколько крепостей и земель в Вексене, у ворот столицы, — Понтуаз, Бомон-на-Уазе, Аньер-на-Уазе. Владея землями от Котантена до Понтуаза, включая Мортен и, естественно, графство Эврё, ближайшие кузены короля вот-вот могли получить контроль над Нормандией.
Это начало вызывать тревогу. Что стало хорошо заметно, когда король воспрепятствовал браку Жанны де Пантьевр — как мы знаем, возможной наследницы Бретани, — с Карлом д'Эврё, сыном Филиппа и Жанны. Ведь однажды этому принцу предстояло стать обладателем всего нормандского наследства дома Эврё и впридачу королем Наварры, а если бы он еще и владел герцогством Бретанью, он бы сделался серьезнейшей угрозой для французской монархии. В конечном счете Жанна де Пантьевр вышла за Карла Блуаского — тот по крайней мере будет обязан королю всем, чем станет.
Шел 1337 год. Карл д'Эврё родился в 1332 г. С женитьбой он еще долго мог не спешить. Но он никогда не забудет, что его обделили до рождения и что его — с полным основанием — остерегались, прежде чем он научился ездить верхом. Этот принц крови действительно поставит под угрозу корону Валуа. Это его один испанский хронист в XVI в. наградит прозвищем Карл Злой, которое усвоят французские историки.
В ближайшее время Наварра предпочитала действовать в одиночку. Это стало особо ясным в период после Креси. Овдовев с 1343 г., энергичная королева Жанна правила своим пиренейским королевством, учитывая лишь собственные интересы. Не слишком желая, чтобы англичане, нанеся поражение Валуа, повернули оружие против нее, в марте 1348 г. она заключила соглашение, по которому за Эдуардом III признавалось право свободного прохода через все земли королевы-графини, отчетливо обязавшейся запретить доступ в свои крепости войскам Филиппа VI. Составленное для Наварры, это соглашение, очевидно, не относилось к нормандским крепостям дома Эврё; их Жанна держала как фьеф от короля Франции. Однако все уже поняли, что, выбирая между англичанами и французами, королева Жанна предпочла осторожность.
Через полгода Жанна — как ни в чем не бывало — спросила у Филиппа VI, не смущает ли его, что договор между Арагоном и Наваррой заключен против всех, без оговорки «кроме как против короля Франции». Тот окончательно утратил союз с Наваррой.
Артуа в руках короля
Пока принцы волновались и ждали удобных возможностей, мелкие феодалы и дельцы то здесь, то там поднимали ропот. Особенно в Артуа, где любой твердил, что графство платит королю налог на войну, но не получает от этого больших выгод с точки зрения обороны. Жители Артуа видели, как английский король с армией прошел от Креси к Кале. Они пострадали от непрестанных налетов армии, которая, чтобы развеяться от осадной скуки, жгла деревни и наводила страх на маленькие городки. Они не увидели ни короля Франции, своего сюзерена, ни своего сеньора герцога Эда IV Бургундского, женившегося на внучке и наследнице Маго д'Артуа. Тревога этих добрых людей была непритворной, проявляясь в письмах, которыми обменивались эшевены разных городов, чтобы получать сведения и поддерживать друг друга. Не сам ли бальи Арраса послал в Гент и Брюгге шпиона, пытаясь узнать, что замышляют принцы?
В том, чего требовали жители Артуа, не было ничего революционного. Они просто-напросто хотели, чтобы графство вошло в королевский домен. Стараясь щадить герцога Бургундского, Филипп VI колебался, отвергая идею присоединения в чистом виде: тогда надо было бы возместить герцогу ущерб. В конечном счете он избежал открытого кризиса, прибегнув к хитроумной процедуре: 2 декабря 1346 г. он взял Артуа «под свою руку». Иначе говоря, он не обирал герцога и не посягал ни на его права, ни на его владения, но взял на себя управление Артуа. Впрочем, все это объявлялось временным решением — «до тех пор, пока мы не устроим иначе».
Таким образом, это подобие захвата, сделанного с согласия герцога Бургундского и его жены, которые сознавали, в какой тупик их вовлекло небрежение предыдущих месяцев, было вынужденной мерой. С точки зрения права и морали сеньор, оставивший без защиты вассалов, не выполнял своих обязанностей. Но акт от 2 декабря 1346 г создал прецедент, о котором вскоре вспомнят Генеральные штаты: король заверил жителей Артуа, что деньги, взимаемые в Артуа, будут направляться на оборону этой области.
Мы желаем, дабы расходы и жалованье оплачивались так, как сие делалось до настоящего ордонанса, а излишек средств от рент, доходов, прибылей и жалований оного графства тратился, использовался и обращался на гарнизоны и охрану крепостей, каковые оный наш брат (герцог) имеет в оном графстве.
Прошло три недели. Герцог опомнился. В Мобюиссоне он пристал к королю. Королевская конфискация с Артуа была снята. Впрочем, страсти успели улечься. Но в следующем году, в преддверии нового и сложного наследования Артуа, Филипп VI вспомнит об этой идее.
Иоанн Добрый
Активно занимаясь этой дипломатией, Филипп Валуа выглядел не совсем уверенно. Выправил курс в следующем году после разгрома при Креси наследник королевства, вдруг выступивший заодно с деловым бюргерством, которым сам только что помыкал. Люди герцога Иоанна и жертвы чистки 1346 г. вновь появились в Совете, вошли в Счетную палату, заняли высокие посты в администрации. Иоанн завершил переговоры о дофинстве Вьеннском, которое дофин Юмбер II в 1349 г. уступил старшему сыну герцога Нормандского, внуку короля, который некогда станет Карлом V. Когда умерла вдова Эда IV, он даже взял на себя управление Бургундией.
Возможно, это была единственная реальная, и скромная, победа королевской власти в те годы, когда Филипп VI постарел — тогда в пятьдесят лет человек считался старым, а королю уже при Креси было пятьдесят три, — но когда взять власть в свои руки особо старался герцог Нормандский, ставший наконец хозяином своего герцогства и «сильным человеком» в королевстве. Когда 22 августа 1350 г. первый из Валуа умер, произошло то, на что не позволяли надеяться тридцать лет неопределенности и претензий к передаче короны: то, что Иоанн II стал королем Франции, было воспринято как нечто само собой разумеющееся.
Чистой воды курьезом считается идея, которая родилась в голове святой визионерки Бригитты Шведской, а та предложила ее Клименту VI, — об усыновлении Филиппом VI Эдуарда III. По мнению святой, это решение положило бы конец всем бедам христианского мира. В действительности, и это знали все, оно лишь умножило бы их число.
Впервые с 1328 г. королем Франции снова стал сын короля. Известно, что Эдуард III в свое время резко напомнил своему кузену Валуа, что он-то — не сын простого графа.
Иоанну II исполнился тридцать один год. Это был сложившийся, опытный человек. До сих пор он представил мало доказательств политических и военных талантов. Обладая не более чем средним интеллектом, он все-таки был образованным и даже просвещенным. Зато в нем отмечали негибкость ума и авторитаризм. Этот человек много читал, умел вести дискуссию, умел услышать аргументы другого и подумать, прежде чем сделать вывод, но был также способен к резким реакциям и к решениям, принимаемым сгоряча. Мало склонный к насилию, под влиянием гнева он становился несговорчивым. То нерешительный, то импульсивный, Иоанн II был прежде всего непостоянен.
Его назовут «добрым», потому что он жил на широкую ногу. Приобретя где-нибудь деньги, он тратил их не считая и щедро угощал друзей. Но разве его «положение» короля не предполагало этого?
Он не был фанатиком размахивания мечом и безутешным адептом некоего анахроничного рыцарства, каким его с удовольствием будут изображать, высмеивая орден Звезды и клеймя тактическую анархию в битве при Пуатье. Но этот кабинетный человек со слабым здоровьем, депрессивный и всегда испытывавший тревогу, периодически испытывал противоречивые влияния и иногда выражал нежелание быть марионеткой какой бы то ни было клики. Это был государственный деятель, но деятель неуклюжий. Королю Иоанну было трудно балансировать между знатью, с которой его связывало все воспитание и от которой отделяли все политические интересы, и советниками, в той же мере карьеристами, сколь и разумными людьми, нередко выходцами из парижского делового бюргерства, которое знать неустанно обличала.
Царствование началось со взрыва, который объяснялся атмосферой ожидания измены, в какой жил двор Филиппа VI, но драматический характер которого в достаточной мере демонстрирует импульсивность нового короля.
Вспомним о коннетабле Рауле де Бриенне, столь досадно попавшем в плен в 1346 г. под Каном во время беспорядочного бегства, очень мало походившего на оборону. Бриенн уже четыре года находился в Англии, и за это время его сторонники успели собрать деньги на выкуп. Он вернулся ко Дню всех святых 1350 г., и новый король, возвращавшийся с миропомазания, как будто встретил его с радостью. Поражение — не позор, и Бриенн, безуспешно, но с честью, выполнил свой долг. Он вновь занял свое место при дворе, причем одно из первых.
Тем больше было удивление, когда через несколько дней парижский прево Александр де Кревкёр арестовал Рауля де Бриенна прямо в Нельском дворце, в присутствии короля. Время было позднее. Арестанта заключили под стражу в одном из покоев.
Ни о каком процессе не было и речи. На следующий день Иоанн II во всеуслышанье поклялся, что не заснет, пока жив коннетабль. Ночью вызвали палача. Следующим утром, на мостовой Лувра, Бриенну отрубили голову.
Окружение короля было ошеломлено. Бароны во главе с герцогом Бурбонским присутствовали при казни (многие считали: при убийстве) одного из них и готовились к худшему. В народе, где страха было меньше, каждый выдвигал свою гипотезу в зависимости от мнения о новом короле. Одни уверяли, что коннетабль замыслил сдать англичанам, чтобы оплатить выкуп за себя целиком, свою крепость Гин. Это был сюжет измены, подкрепленный поступком Жоффруа д'Аркура. Говорили также об измене в другом смысле, и льежский хронист Жан ле Бель с удовольствием изложил то, что французы ни за что на свете не стали бы записывать: Бриенн заплатил головой за преступную любовь к французской королеве.
Другие твердили, что король просто охотно пошел навстречу амбициям своего тогдашнего фаворита Карла Испанского, чьему немедленному назначению коннетаблем никто не удивился.
Этот принц, потомок изгнанной ветви королевского дома Кастилии, родился безземельным и сделал себе состояние благодаря безупречной верности герцогу Нормандскому, с которым они играли вместе в юности. Он был хорошим рыцарем и имел красивую внешность. Он происходил от Людовика Святого. Впрочем, исключительным милостям, которыми Карл пользовался, не было никаких объяснений. Те, кто мог не стесняться в высказываниях, вообразили, что причины этого были скандальными. Итальянец Джованни Виллани говорил о «разнузданной» любви; Фруассар изобразил коннетабля рыцарем, которого король «жестоко любил».
Бриенны были в родстве со всем христианским миром. Родственная солидарность для рыцарей была не пустым словом. Также как и верность.
Сеньоры и бароны Франции, из линьяжа коннетабля и прочие, были жестоко изумлены, получив эти вести, ибо считали графа верным и достойным человеком, лишенным всякой трусости.
Иоанн II спаял своих противников в единый фронт последней ошибкой: Карлу Испанскому, уже получившему графство Монфор-л'Амори и женившемуся на богатой наследнице, дочери Карла Блуаского, он сверх того дал графство Ангулем, то самое, которым в свое время были вынуждены довольствоваться Эврё в обмен на Шампань. Иначе говоря, Валуа во второй раз обделил Карла Наваррского.
Гнев Наваррца
Тот в свое время уже, скрепя сердце, согласился на обманную сделку, женившись на дочери короля. Принцессе было восемь лет — дети у нее должны были родиться еще нескоро. Обещанное приданое было значительным, но Карл не получил ничего. Ангулемское дело стало последней каплей: Карл Злой поклялся отомстить фавориту.
В результате люди Наваррца оказались в одном лагере с союзниками Бриенна. Политическая карта прояснялась, и не в пользу Валуа.
В таком контексте потерю Гина было невозможно считать случайной. Иоанн Добрый оставил графство Гин, только что конфискованное у Рауля де Бриенна, себе. А в начале 1352 г. Париж узнал, что англичане заняли замок Гин, одну из самых подходящих крепостей, чтобы прикрыть Кале. Внезапное нападение? Измена? Этого не знали и не узнают. Французы выразили протест папскому легату: нарушено перемирие. Английский губернатор Кале возразил, что перемирие не нарушено, просто купили дом…
Карл Испанский не довольствовался тем, что сколотил состояние, — он начал проявлять дерзость. И король, и он сам считали, что обеспечили себе поддержку Наваррца по той единственной причине, что последний теперь был зятем своего венчанного кузена. Тем самым они забыли, что брак с дочерью французского короля ничего особого не принес королю Наварры, и без того принцу крови, которому вполне внятно разъяснили несколько лет назад, что во Франции женщины не передают корону. Наваррец не чувствовал никакой признательности за жену-ребенка, которую ему дали.
Мир был непрочным. Коннетабль разрушил его, когда открыто набросился на младшего брата короля Наварры, Филиппа. Ненависть, которую таили все, внезапно обнаружила себя. Французский король был вынужден вмешаться во избежание поножовщины. Филипп Наваррский удалился с угрозами на устах.
Через некоторое время, когда Карл Испанский был в Нормандии, близ Легля, братья Наваррские, следившие за ним, внезапно напали на него с небольшим отрядом. Коннетабль спал в гостинице безо всякой охраны. Наваррцы умертвили его и удалились. На трупе насчитали восемьдесят ран. Это было 8 января 1354 г.
В Париже эта весть произвела сенсацию. Знатные бароны на цыпочках покинули двор. Дело принимало плохой оборот. Как и партия Аркура, связанная с Наваррцами в легльском деле, партия Бриенна плохо скрывала радость. Но соображения осторожности предписывали удалиться. Одного коннетабля обезглавили, другого убили — об этом следовало задуматься каждому, укрывшись за стенами собственного замка с подъемным мостом наготове.
Ответный удар короля не заставил себя ждать. Одна маленькая армия заняла некоторые земли графства Эврё, другая демонстративно двинулась в Наварру. Графы д'Арманьяк и де Комменж разорили бы Наварру ради удовлетворения короля Франции, а то и ради собственной выгоды, если бы граф де Фуа не устроил диверсию, напав в свою очередь на графство Комменж. Пиренейские княжества охватило смятение. Оно не улучшило политического положения в Париже.
Узнав, что Карл Злой ведет переговоры с Черным принцем, старшим сыном короля Англии, Иоанн Добрый встревожился. В 1346 г. натерпелись достаточно страха, чтобы все начинать вновь. Наваррец на самом деле предложил свои нормандские замки королю Англии и сообщил английским гарнизонам в Бретани, что в Нормандии они будут желанными гостями. Возникла еще более серьезная угроза для Валуа, чем после отступничества Жоффруа д'Аркура.
Король Иоанн догадывался, что в этой авантюре он довольно одинок. Он с удовольствием принял предложения о посредничестве со стороны двух как минимум сомнительных лиц. Одним из них был Робер де Лоррис, крупный парижский бюргер, из тех, о ком было известно, что они, вроде Пьера дез Эссара, торгуют чем угодно, в том числе и своим влиянием. Робер де Лоррис был камергером короля и одним из его людей, которым можно было поручить что угодно. Он был также зятем Пьера дез Эссара, а тем самым и свояком некоего Этьена Марселя, чья звезда тогда восходила над парижским горизонтом. Другим оказался бывший адвокат, юрист с живым умом, с непомерным честолюбием, говоривший пылкие речи, — Робер Ле Кок, в то время епископ Ланский. Один интриган, другой демагог, но интриган и демагог высокого полета — вот кем были участники этих переговоров.
Их результатом стал договор в Манте. Заключенный 22 февраля 1354 г., всего через шесть недель после убийства коннетабля Карла Испанского, он был образцом мнимого мирного соглашения.
В ближайшем будущем король Наварры вышел из дела победителем. В Нормандии, где он и так был крупнейшим бароном, он получил целые виконтства: Бомон, Бретёй, Конш, Понт-Одемер, Орбек, Валонь, Кутанс, Карантан. Взамен он отказался от Шампани предков, которая никогда ему и не принадлежала.
4 марта Карл Злой прибыл в Париж. Убийца Карла Испанского явился ко двору с видом не прощенного изменника, а снисходительного победителя. Он громко разговаривал, торопил с выполнением договора, без конца устраивал интриги. Король Иоанн устал от него.
В ноябре 1354 г. напряжение стало таким, что король Наварры догадался, насколько опасно для него проживание у противника. Он покинул Париж, сделал вылазку в Нормандию и наконец добрался до Авиньона, где горько жаловался папе на ущерб, который постоянно чинит ему французский кузен. В Авиньоне был и герцог Ланкастер. Оба принца без труда договорились объединиться против Валуа. Две недели они ночами выстраивали союз, нацеленный не менее чем на расчленение Французского королевства. Наваррец оставлял себе Нормандию, Шампань и практически весь Юг.
После авиньонского эпизода оба разъехались, и папа мог полагать, что мир снова обеспечен. Карл вернулся в Наварру и стал готовить вторжение во Францию через Юг. Ланкастер отправился в Англию собирать армию, которая должна была высадиться в Котантене.
Летом 1355 г. едва не случилась война. Король Наварры находился в Шербуре. Черный принц отправился в Гиень, чтобы занять позиции и быть наготове. Эдуард III сосредотачивал флот в Саутгемптоне. Иоанна Доброго спасли встречные ветры: английские корабли застряли близ острова Уайт, а затем близ Гернси. Французские послы воспользовались этим, чтобы вновь приступить к переговорам. 10 сентября договор в Валони скрепил новое франко-наваррское примирение. Фактически Иоанн Добрый еще раз уступил требованиям своего кузена.
В Англии Валонский договор восприняли довольно плохо. Филипп Наваррский, представлявший тогда брата в Лондоне, почувствовал себя неловко из-за того, что тот совершил столь резкий поворот.
Он был недоволен королем, своим братом, поелику тот побудил короля Англии зайти столь далеко, а затем нарушил все договоренности.
Недовольны были все. Из-за оплошностей король Иоанн восстановил против себя часть французских баронов, которых больше взволновала казнь Бриенна и беды Аркура, чем убийство коннетабля, которого слишком быстро облагодетельствовали. Король Карл добился от французского кузена уступок на пергаменте, но все еще не вернул Шампань. Король Эдуард устал от дел, в которые его вовлекали континентальные союзы, и почти не видел, какая ему от них выгода: Бретань поглощала больше средств, чем приносила политических преимуществ, Фландрию он упустил, Наваррец разочаровал его внезапными переменами взглядов. И английский парламент, несомненно, очень рассердится оттого, что армия, набранная с большими затратами, осталась в бездействии.
В расколотой Франции положение Иоанна Доброго было непрочным. Но, имея дело с той же расколотой Францией, Эдуард III понимал, что отныне ему придется действовать в одиночку. Феодальная война буксовала. Она завершится столкновением Франции с Англией.
Глава VI Всадники Апокалипсиса
Смерть
В том мире, где те, кто родился, имели мало шансов выжить, а в пятьдесят лет люди выглядели стариками, умирали много. Питание, медицина, гигиена — все способствовало тому, чтобы люди поскорей оказались на кладбище. Врач обходился дорого, а его сан клирика, накладывающий на него формальные ограничения, давал ему право лишь осматривать больных и прописывать лекарства, опираясь на авторитет Гиппократа и Галена. Для лечения как такового, считавшегося физическим трудом, приходилось обращаться к «хирургу», на самом деле — простому цирюльнику, который более или менее умело владел ланцетом и ставил пиявки. В то время, чем прибегать к дорогостоящим услугам медицины, люди охотней обращались к знахарю, целителю, шарлатану. Это был повседневный триумф «святого человека», колдуна. Впрочем, многие больные чувствовали себя не хуже после снадобья, состав которого передавался из поколения в поколение, чем после кровопускания, которое предписывала латинская ученость и которое проводили без дезинфекции. Все знали, что лучше перевязать раненого у цирюльника на углу, чем вести его к ученому медику (mire), который и к ране-то не притронется. Впрочем, банки и мази смягчали боль и отдаляли летальный исход, но по-настоящему излечивали лишь самые безобидные недуги.
Отсутствие гигиены не только вызывало болезни, но и усугубляло их. Инфекция убивала роженицу, панариций приводил к гангрене, дизентерия косила города и армии. После раны мало кто поправлялся, и часто умирали от гриппа.
Конечно, люди мылись. Устрашающая грязь, какую будут скрывать пудреные парики Великого века[38], еще не овладела городом и двором. После дня пути горожанин мыл ноги и менял белье. Честный малый, давая ученые советы своей молодой невесте, обязательно подчеркивал:
Заботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы содержать белье Вашего супруга в должном порядке, ибо это Ваше дело.
Мужа ободряет мысль о заботах, каковых он может ожидать от жены по возвращении… Он знает, что его разуют перед добрым очагом, вымоют ему ноги, наденут на него чистую обувь, что его хорошо накормят, вдоволь напоят, ему хорошо послужат, обращаясь как с сеньором, уложат на белые простыни, надев на него свежевыбеленный ночной колпак, крытый добрым мехом.
Пусть это представление идиллическое и эгоистически-мужское, но тем не менее к идеалам этого доброго бюргера относились таз с водой и чистое белье. Несомненно, описанное здесь мытье ног не было повседневным отдыхом горожанина, и мы знаем, что парильни больше походили на публичные дома, чем на современные бассейны. У немногих были отапливаемые комнаты, а отапливаемые комнаты редко не заполнялись дымом.
В то время сточная канава проходила посреди улицы, из живодерен кровь текла по мостовым в реку, нечистоты образовали холм у городских ворот. Не было ни санитарного контроля за мясным скотом, ни регулярной службы по уборке города, ни вывоза трупов домашних животных. Время от времени король, сеньор или город проявляли заботу о приведении улиц в порядок, выгребании рва, разборке груды мусора. Этим занимались все, и разговоров об этом хватало на неделю. Затем все начиналось сначала.
О том, что больных надо изолировать, не было и представления. Тем не менее, даже не ведая о микробах и вирусах, очень хорошо знали, что такое зараза. Исключительная скученность в жилищах, как в городе, так и в деревне, гарантировала самое раннее начало сексуальной жизни с его свитой — кровосмешениями и вредом для здоровья. Все это порождало самую опасную из зараз, из-за которой поколения перемешивались. Перенаселенные комнаты, которые почти не проветривались, потому что не открывались окна, затянутые промасленной бумагой или вощеным холстом, которые пропускали очень мало света, были питательной средой, где и самый здоровый человек заражался болезнью, которую другие подцепили снаружи. В деревне дело выглядело еще хуже, потому что в одном помещении с людьми чаще всего теснился и скот. Не факт, что в этом отношении он был опасней людей.
И потому умирали дети и взрослые от кори, оспы, гриппа, даже от коклюша. А уделом тех, кто избежал смерти, часто становились слепота и бесплодие. Паразитарные болезни разрушали самые крепкие организмы. Брюшной тиф был скрытой угрозой, которую таил в себе любой стакан воды, любой овощ, мытый или нет. Понятно, что человек средневековья предпочитал салату суп и ел мясо хорошо прожаренным.
Ни после чахотки, ни после пневмонии не выживали. Обычный бронхит редко щадил человека, как и гиперемия. Погибали, упав в воду со скользкой мостовой, а первой заботой того, кто путешествовал зимой, было высушиться.
Не забудем об алкоголизме и его последствиях, индивидуальных или врожденных. Из них слабоумие и помешательство были еще не самыми худшими. Алкоголь чаще убивал не сам, а открывал дорогу смертельным болезням. Пьяница не всегда успевал умереть от цирроза — он погибал от кровоизлияния, когда его давила телега.
Одна болезнь начала отступать — проказа. Но какой ценой этого добились! Не имея возможности вылечить больного, его изолировали. Прокаженный с истерзанным телом жил вместе с себе подобными в одном из лепрозориев, которых было от полутора до двух тысяч и которые устраивали в королевстве за пределами городов, «на расстоянии броска камня от городской стены». Он питался за счет благотворительности, его перевязывали те, у кого милосердие переходило в героизм, он больше не мог жить в семье и играть роль в обществе, а мог лишь быть объектом милосердия, когда страх перед заразой не вызывал у здоровых людей приступов убийственной ненависти. Так, в 1321 г. правительство Филиппа V призвало к настоящему организованному преследованию, после того как жители Перигё сожгли у себя всех взрослых прокаженных, заподозрив их в отравлении колодцев.
Не зарекаясь ни от инфекции, ни от несчастного случая, кое-как защищая легкие и кишечник, почти не пытаясь бороться со старостью и ее свитой болезней, человек 1340-х гг. по крайней мере не вспоминал об одной опасности: больше не было речи о чуме. Ее настолько забыли, что само слово получило другое значение. Словом «чума» (peste) теперь называли любую эпидемию. Уже шесть или семь веков во Франции не видели чумы. В XI в. она еще поразила Восточную Европу. Чума была давно и далеко. Эта болезнь считалась экзотической.
Черная чума
И вот в конце 1347 г. в Западной Европе высадился вирус чумы. Прибыв из Центральной Азии, где в регионе между Уралом и Азовским морем эта болезнь была эндемической, он затронул Крым, заразил несколько экипажей итальянских кораблей и отправился по морю великими торговыми путями. В середине зимы 1347-48 гг. эта болезнь одновременно — или почти — обнаружилась в большинстве крупных портов Западного Средиземноморья: в Венеции, Мессине, Генуе, Марселе, Барселоне. Затронуты были также Корсика, Сардиния и Балеарские острова.
Над вполне здоровой Европой уже нависла очень серьезная угроза. Но чума появилась тогда, когда три дождливых лета — 1346, 1347 и 1349 гг. — вызвали один из самых тяжелых хлебных кризисов своего века. Таким образом, она поразила Запад, в большинстве уже недоедавший, хотя некоторые не понимали причин роста смертности, начавшегося, когда в крупных городах еще хватало продуктов. В тот холодный и сырой период, которому печальную известность уже принес кризис 1315 г., чума вырыла одну из глубочайших впадин на кривой колебаний численности населения.
Таким образом, это была чума недоедающих — легочная, распространяющаяся в десять раз быстрее, чем обычная бубонная чума. Чтобы заразиться от больного, можно было его не касаться, достаточно было вдохнуть его дыхание.
Чума летела из города в город на крыльях. За несколько месяцев она охватила всю Италию, почти всю Францию, Арагон, Наварру. В январе 1348 г. она уже была в Монпелье. В марте она опустошила Авиньон, где папа Климент VI проявил смелость и инициативу: он разрешил вскрывать трупы, что каноническое право обычно запрещало, и написал послания христианским государям, чтобы предупредить их. В апреле чума была уже в Тулузе. В июне-июле она свирепствовала в Гаскони, достигла Пуату и Бретани, затронула Нормандию. Суда перенесли ее в Англию.
Через Вексен эпидемия распространилась по Французской равнине. Она проникла в Руасси, затем в Сен-Дени. Парижа она достигла в августе.
В то же время удар испытала и Пикардия. Чума дошла до Кале. Зимой, медленней, потому что холод ограничивал распространение заразы, она продвигалась на восток. Она достигла Амьена, Реймса. Она расползлась по Шампани.
Паника была тем сильней, что болезнь накатывалась, как неумолимая волна. Ее замечали заранее, за несколько недель, и предвидели ее приближение. Каждый почти точно знал, сколько ему осталось жить…
Чужаки были подозрительными. Когда приближалась эпидемия, городские ворота закрывали, приезжих не пускали, ввезенный товар распаковывать не решались. Родственников и друзей больше не было. На флюгер смотрели с тревогой. Ветер, дувший из зараженных краев, нес смерть.
По мере того как угроза обретала конкретные очертания, сведений становилось все больше. На расстоянии врач еще храбрился — у него были средства от этого недуга. Таким был Пьер де Дамузи из Реймса, в конечном счете уцелевший. Когда близилась болезнь, он возложил надежды на пилюлю, формулу которой нашел в одном старом сборнике.
Никто не умрет от чумы, если примет это… Заверяю, что при здравом образе жизни этого средства будет довольно, чтобы либо предотвратить эпидемию, либо победить ее.
Когда через несколько дней узнали, что в соседнем городе больных не спасло никакое лекарство, убежденность медика улетучилась.
Так как о вирусе не имели ни малейшего понятия, вину возлагали на испорченный воздух, или, точнее, на тот вид теплого и сырого смога, каким дышали летом в городе, считая его воздухом.
Гниение воздуха приносит больше вреда, чем дурная пища. Порча воздуха больше вредит человеческому телу, чем плохое мясо, ибо оное плохое мясо, доверившись желудку и членам, может быть целиком или частично улучшено. Дурной же воздух попадает то в легкие, то в сердце, ибо, хочешь не хочешь, мы втягиваем воздух при дыхании, когда нам следовало бы втягивать жизнь.
Оная эпидемия идет прямо из воздуха, у коего повреждена самая субстанция, а не только ухудшено качество.
Вот мнения трех врачей. Не имея возможности сформулировать это, каждый хорошо чувствовал, что такое зараза. Поэтому перед лицом этой угрозы не было никакой солидарности, на которую можно было бы положиться. Больного предоставляли его участи, мертвых хоронили в спешке и уходили побыстрей и подальше. Что касается живых, их остерегались. Любые контакты, будь то плотская связь или обычный разговор, грозили опасностью. Полагали, что бдительность не повредит.
Однако некоторые области, полностью или частично, избежали бедствия. Никому не известно, почему. Возможно, в некоторых случаях такое впечатление производят просто лакуны, оставшиеся в документах историков. По мере того как Черную чуму изучают все лучше, количество незатронутых местностей сокращается… Но бесспорно, что некоторые города, некоторые края спаслись. И не самые крохотные. Чума пощадила Брюгге, мало (и поздно) затронула Фландрию и лишь чуть-чуть — Эно. Она в неодинаковой мере поразила гасконские земли. Она обошла стороной часть территории Беарна.
Демографические последствия
Земли и города, пораженные чумой, пострадали очень сильно. Не было семьи, которую бы она обошла, кроме как, может быть, зажиточных семей, которым иногда удавалось найти достаточно изолированные убежища. Где-то смерть уносила одного из десяти, где-то — восемь или девять. Эпидемия была тем более смертоносной, что в редком городе или области длилась менее пяти-шести месяцев. В Живри, в Бургундии, в июле она убила одиннадцать человек, в августе 110, в сентябре 302, в октябре 168 и в ноябре 35. В Париже она продолжалась от лета до лета. Реймс она опустошала с весны до осени.
Города и деревни были парализованы. Каждый забивался к себе в дом или бросался в бегство, движимый неуправляемым и бесполезным защитным рефлексом или просто страхом. Те, кто уходил, иногда встречали смерть или сталкивались с ксенофобией.
Самую большую дань заплатили города: скученность убивала. В Кастре, в Альби, полностью вымерла каждая вторая семья. Перигё разом потерял четверть населения, Реймс чуть больше. Из двенадцати капитулов[39] Тулузы, отмеченных в 1347 г., после эпидемии 1348 г. восемь уже не упоминались. В монастыре доминиканцев в Монпелье, где раньше насчитывалось сто сорок братьев, выжило восемь. Ни одного марсельского францисканца, как и каркассонского, не осталось в живых. Бургундский «плач», возможно, допускает преувеличения для рифмы, но передает изумление автора:
Год тысяча триста сорок восемь — В Нюи из сотни осталось восемь. Год тысяча триста сорок девять — В Боне из сотни осталось девять.В самом деле, в бургундском городке Живри, где в год обычно умирало двадцать, тридцать или сорок жителей, в 1348 г. за одиннадцать месяцев скончалось шестьсот сорок девять. В селах по соседству с Эксом-ан-Прованс население за год сократилось соответственно с 300 очагов до 213, с 40 до 11 и с 92 до 40 — в среднем убыль составила 40 %. В Сен-Дени умерло тридцать монахов из ста. В парижском монастыре Дев Божьих (Filles-Dieux) смертность за год составила шестьдесят процентов. А у реймсских каноников смертность выросла только вдвое: десять умерших вместо пяти-шести в обычном году.
Уже никто не знал, где хоронить всех мертвых. Спешно открывали новые кладбища, где по указанию муниципалитетов рыли одну братскую могилу за другой. Главным было накрыть тела. Уже не из соображений приличия, а просто-напросто для профилактики. Еще надо было предать мертвых земле — в обычное время малопривлекательная задача, теперь опасная. Носильщики, спешно набранные в Авиньоне, один за другим гибли от чумы. В иных городах вскоре никого было не найти. Каждому приходилось самому погребать родственников.
В сельской местности избежать недуга иногда можно было в небольшом имении, как следует изолировав его и хорошо запасясь продуктами, но в деревенской общине укрыться от него было почти невозможно. Зараза там, несомненно, распространялась медленней и трудней, чем в городе, и община вполне могла жить достаточно замкнуто, причем эпидемия усугубляла замкнутость парализуя торговлю, которую обычно стимулировал город. К тому же при сравнительно редком населении крестьянину было проще не покидать усадьбы чем подмастерью — свой дом: за жалованьем ему приходилось идти в мастерскую, а за хлебом — к булочнику. И затем, если «полевая крыса» — соня, лесная мышь — наносила ущерб урожаю, то большая черная крыса, переносчица чумы, редко встречалась вдали от городов. В сельской местности главным носителем эпидемии был человек.
Тем не менее чума унесла друг за другом каждого второго крестьянина Какие-то деревни бедствие обходило стороной. В других после него оставалась пустыня. В Савойе, в Нормандии, в Иль-де-Франсе наблюдался один и тот же средний показатель: за два года сельское население сократилось вдвое.
Фруассар, как бы мало отношения к статистике ни имел его подход, привел оценку, близкую к расчетам историков:
Почти треть населения умерла.
Действительно, если усреднить данные по городам и деревням, получится, что умер один человек из трех. Но эпидемия не знает равенства. Те, кто был лучше всех защищен, лучше всех питался, самые крепкие пострадали меньше других. Парижские магистры-медики прямо говорили: чтобы избежать чумы, лучше есть белый хлеб и годовалых ягнят, чем ячменный хлеб и репу. Те, кто мог себе это позволить, удалялись «за город», в дома, защищающие от эпидемии, характеристики которых очень ясно определили врачи:
Невысокие дома, отнюдь не сырые, далекие от плохих вод, могильников и кладбищ, от огородов, засеянных луком-пореем и капустой и прочими растениями, подверженными порче.
Если даже этот дом не слишком хорошо проветривается, но заслон из деревьев защищает его от южных ветров, хорошие камины дают возможность его протапливать, а настоящие окна — вентилировать за счет сухого северного ветра, если огород и птичий двор находятся в стороне, но избавляют от необходимости слишком часто ходить в деревню, и если никакой бродяга не будет таскаться поблизости со своими пожитками, такой дом оградит хозяев от любой чумы. Один врач из Монпелье пишет с горькой проницательностью:
Советы искусных врачей никуда не годятся и ничуть не помогают тем, кого поразила эта страшная, жестокая и опасная болезнь. Самое лучшее средство — бежать от чумы, потому что беглеца чума не преследует.
Приор монастыря кармелитов с площади Мобер мимоходом бросает камень в огород приходских священников, которые в этой истории не проявили особой отваги:
Из многих городов, больших и малых, священники бежали, оставив паству на более смелых монахов.
Кстати, каноник Гильом де Машо действительно в этом сознается в поэме «Суд короля Наварры»: он исповедался, пошел домой, закрыл двери и провел лето взаперти, дожидаясь исхода событий в своем добром городе Реймсе.
Твердо решив, что не выйду До тех пор, пока не узнаю. Чем все это закончится.Смертность, зафиксированная в монастырях нищенствующих орденов, увы, подтверждает слова парижского кармелита. Как и Машо, каноники, кюре и капелланы заботу о посещении больных и о заупокойных молитвах оставили францисканцам, якобинцам, кармелитам и даже августинцам. Капитул собора Парижской Богоматери в 1348–1349 гг. потерял вдвое больше каноников, чем в обычном году. Это далеко не смертность в Живри, выросшая в двадцать раз, и не гекатомба францисканцев.
Подмастерья, слуги, чернорабочие, поденщики заплатили более тяжелую дань. Старики мерли как мухи. Дети тоже, а их смерть в дальней перспективе имела самые драматические последствия для демографического равновесия.
В самом деле, после чумы чувство облегчения у выживших взрослых выразилось всплеском браков и зачатий, как часто бывает в конце тревожного периода. Беда миновала, и люди забавлялись. Бесплодных женщин больше не было, во множестве рождались двойни, а то и тройни. Примешалось и чудо: дети этого коллективного возрождения, став взрослыми, имели всего по двадцать или двадцать два зуба. Когда-то, всерьез напоминал Жан де Венетт, считали нормой тридцать два зуба, половина наверху и половина внизу!
Таким образом, по видимости, провалы быстро заполнились. А старики просто умерли на несколько лет раньше. Тех, кого чума унесла в 1348 г., все равно бы скончались в 1350-е гг.
Иначе обстояло дело с детьми, погибшими от эпидемии Черной чумы, теми, кто в пять, десять или пятнадцать лет уже миновал наиболее опасный возраст, соответствовавший пикам детской смертности. Малыши, умершие в 1348 и 1349 гг., в 1355-х или 1360-х гг. не стали отцами и матерями. Через десять-пятнадцать лет сокращение численности людей брачного возраста усугубит негативные последствия смертей как таковых.
Таким образом, равновесие осталось хрупким. Даже когда этому не мешал ни дождь, ни вирусы, население воспроизводилось едва-едва. Население городов сохранялось и росло в результате активной миграции и только благодаря ей. Крупные бюргерские роды, как правило, вымирали за шесть-восемь поколений. Долговечность родов ремесленников или подмастерий еще сильней подрывало мальтузианство[40], порожденное экономической нестабильностью. В Перигё, где судьбу родов можно проследить по прекрасному подбору налоговых книг, за два века население обновилось на 95 %: из 4493 родов, проживавших здесь между 1300 и 1500 гг., лишь 162 жили и в 1300 и в 1500 г. В огромном большинстве случаев бюргерский род продолжался два поколения, редко больше.
То есть города день за днем пополнялись за счет людей, ставших лишними в сельской местности. Иммигрантов город пожирал очень быстро, ведь жизнь пришельцев была непростой и мало кому удавалось укорениться. Горожане, которых непрерывно сменяли сельские мигранты, на самом деле тоже были выходцами из деревни. Будь то Париж, Реймс или Перигё, город XIV в. представляется нам бочкой Данаид.
А ведь этот демографический излишек в селах и сам был очень невелик. У зажиточного крестьянина рождалось самое большее шесть-восемь детей. Трое-четверо доживали до взрослого возраста. В брак вступят не все. Что уже говорить о бедняке…
Таким образом, прирост населения в обычное время был невысок: может быть, восемь промилле. Эпоха великих распашек нови осталась позади. Уже полвека как экспансия остановилась, демографический рост замедлился, цены на зерно замерли, изменения денежного стандарта подрывали обменную экономику. Черная чума была не первой эпидемией и не первым несчастьем. Не была она и последней эпидемией чумы.
Современники Карла V и Черного принца очень быстро поняли, что чума — их постоянная спутница. Почти столь же смертоносная, как и первая, Англию в 1360 г. сотрясла вторая эпидемия; погибла четверть населения. Третья, в 1369 г., и четвертая, в 1375 г., погубили каждого восьмого. Столь же часто это бедствие возвращалось и во Францию. Чума поражала то одну местность, то другую. В 1361 г. эпидемия была столь же общей, как и в 1348 г., но теперь она косила повзрослевших детей, выживших после Черной чумы, и истребляла малочисленное поколение внуков. Демографический подъем, едва начавшись, пресекся из-за этого второго удара судьбы. Снова пострадала область Парижа, похоже, даже сильней: в 1363 г. городок Аржантёй за несколько недель почти вымер. Потом чума уже не уходила. Ее отмечают в 1366, в 1368 и особенно в 1375 г., когда всю Францию, как во времена Черной чумы, охватила эпидемия, последовавшая за страшным хлебным кризисом. Как обычно, к чуме привел голод. Некоторые городки Прованса за полвека потеряли две трети населения.
XV век привыкнет к чуме, но с большим трудом. Почти не было года, когда бы ее где-нибудь не отмечали. В 1399–1400 гг. она потрясла Париж, в 1400–1401 гг. опустошила Перигор, в 1402 г. Лимузен, в 1405 г. графство Ниццское. В 1420, 1440, 1450 гг. она обрушивалась на Лангедок и Прованс. Прованс она поражала еще в 1456–1457 гг., в 1464 и 1467 гг. Почти не было города или деревни, которые за век не перенесли бы с десяток эпидемий.
Как некогда коклюш и дизентерия, чума вошла в быт. Капитулы Тулузы с течением времени приняли ее за данность: она разила уже тридцать лет, каждые три года. Эти числа казались символическими. Чума стала составной частью божественного замысла. В ней видели одного из всадников-губителей, предвещающих Апокалипсис.
Побоища и врачи
Первый удар, 1348 г., всех ошеломил даже больше, чем голод 1315–1317 гг. Стали искать виновных и нашли: это маргиналы. Где нищие, где евреи. Они, бесспорно, и отравили источники, колодцы, водоемы. Это была гипотеза анонимного и бессмысленного заговора, к которой так часто прибегают веками для объяснения того, чего человек не хочет признавать. Правда, некоторые замечали, что катаклизм по масштабу выходит за рамки заговора, но громко этого не высказывали.
В каких-то городах казнили нищих, например в Нарбонне. Они не сознались? Неизвестные люди заплатили им, чтобы они бросили в воду порошок. «Смертоносный». За неимением лучшего общественное мнение довольствовалось таким объяснением.
Но чаще толпа набрасывалась на евреев. Тщетно отдельные христиане указывали, что чума поражает еврейские общины столь же жестоко, как и соседние приходы. Везде, где нашли убежище евреи, изгнанные из Французского королевства, начиналась охота. Эта волна безнаказанного насилия была выражением одновременно ненависти и страха. Евреи — зловещие ростовщики и труженики-ремесленники, богатые кредиторы и скромные старьевщики — несколько недель жили в атмосфере террора. Иногда переходившего в резню.
4 июля 1348 г. Климент VI провозгласил отлученным всякого, кто обидит еврея. Еврейское население, особенно многочисленное в Авиньоне и в Конта-Венессен, следовало спасти от худшей доли. Во Франш-Конте евреев арестовывали. В Провансе, Савойе, Дофине насилий становилось все больше. Тем евреям, которые нашли убежище в Конта-Венессен, повезло.
В эльзасских городах истребление стало системой. Эльзасцы даже не ждали прихода чумы. В Бенфельде, где собрались представители имперских городов, было официально принято решение уничтожить еврейские общины. Города один за другим посылали своих евреев на костер. Страсбургские патриции какое-то время пытались остановить геноцид, но простой люд сверг их. Едва придя к власти, ремесленники свели счеты: евреев, не сумевших бежать из города через соседние деревни, 14 февраля 1349 г. казнили. К тому времени в Эльзасе еще никто не болел чумой. Приближение бедствия стало просто предлогом.
Эти побоища, разумеется, не мешали распространению недуга. Запирая ворота, города в то же время вносили больше организации в свою жизнь. Искали врачей, переманивая их у соседей. Нанимали их на полгода, на год. Некоторые добивались исключительных договоров — по крайней мере для тех, кто выживет.
Филиппа VI беспокоили разногласия между профессионалами. В разгар эпидемии в Париже он поручил медицинскому факультету провести систематическое исследование. Эту работу закончили в октябре 1348 г. Причины сверхъестественные, причины материальные, диагностика, профилактика, уход — речь шла обо всем, но гарантий излечения никто не давал. В конце концов парижские магистры были людьми осторожными.
Как большинству власть имущих, так и простым больным было уже не до того, чтобы разбираться в титулах. Лучше врач-самозванец, чем никакого врача. Власть закрывала глаза на неумелость врача в качестве практика — было очевидно, что присутствие ученого медика успокаивает, даже если он не вылечит. Рассчитывали, что он облегчит страдание, а иллюзии того, кто все-таки надеялся исцелиться заботами медицины, были недолгими: утром человек считал себя здоровым, к вечеру умирал. Было известно, что ремиссий почти не бывает.
Зато на врача полагались, чтобы избежать болезни. Чума убивает одного из двух-трех? Одно хорошее средство поможет войти в число выживших. На него указали парижские магистры: страх, худоба и, наоборот, тучность способствуют заражению. А с этим худо-бедно можно бороться.
Тогда все медицинское искусство средневековья, опираясь на Аристотеля или Галена, Гиппократа или Али Аббаса, приходило на помощь желающему выжить, если он обладал хорошим доходом. Кровопускания, слабительные, диеты очищали кровь. Отдых и воздержание позволяли не тратить сил напрасно. Кстати, это ограничивало и возможность заражения, и случайные связи, изнурительные и тайные, медицина объявила особо опасными: девушка, меняющая партнеров, может переносить болезнь, не зная, что она заражена. Что до остального, то надо жить дома, плотно закрывать окна и двери, избегать зловония городских площадей, а тем более парилен. Богачей для борьбы со зловонием убеждали жечь ладан, алоэ, орехи, мускус, камфару. Если кого-то пугают затраты, пусть жжет хотя бы сушеные фиги. Все это мало что давало, но зато отгоняло мух.
К медикам также обращались за советами насчет питания. Фруктам, почти всегда подозрительным, медицина рекомендовала предпочитать вареные овощи, приправленные неочищенным уксусом. Чем покупать воду, набранную неизвестно где, лучше самому осторожно зачерпнуть воды в источнике, не касаясь дна. Или наполнять кувшин на гальке в ручейке… Впрочем, мудрый избегает жажды, а не утоляет ее. Надо проветриваться, гуляя в прохладное время суток, а когда слишком жарко — отдыхать. Правду сказать, некоторые алхимики сами дистиллировали питьевую воду для себя в перегонном кубе. Менее притязательные прописывали себе чистое вино.
Шафран, мирра и алоэ входили и в состав пилюль, рецепт которых нашли в древних сборниках и прежде всего в Разесском трактате. Красная глина, богатая окисью железа, составляла основу «армянской глины», которую особо ценил Гален и которую уверенно прописывали. Порошков и сиропов была сотня видов, и каждый выбирал их сообразно цене и по воле случая. Те, кого пощадила эпидемия и кто смог позволить себе подобную профилактику, несомненно думали, что медицина помогла им. По крайней мере, медики учили людей остерегаться друг друга, беречься от заражения, не создавать слишком благоприятной среды для болезни. А также мыть руки и ноги. Это было основой профилактики, так же как диететика прежде всего считала, что человек не должен быть ни слишком худым, ни слишком «дородным»: доктора медицины упорно утверждали, что худой человек плохо защищен, а «дородный» уже содержит в себе «гуморы».
Но было хорошо известно, что заразившийся чумой — это мертвец. Когда появляются первые подозрительные пятна, все становится бесполезным, и врач, и что угодно. Боккаччо написал об этом без обиняков:
От этой болезни не помогали и не излечивали ни врачи, ни снадобья. То ли сама эта болезнь неизлечима, то ли виной тому невежество врачевавших […], но только никому не удалось постигнуть причину заболевания и, следственно, сыскать от нее средство[41].
Для знахаря, для шарлатана, которые хуже уже не сделают, здесь была изрядная выгода, хотя их самих тоже ничто не защищало от болезни. Между иррациональным и сверхъестественным промежуточных ступеней немало, и удобно классифицировать по ним людей и поступки не удается. Разве не коллегия парижских врачей начала список причин чумы, в качестве главной из них, с соединения 20 марта 1345 г. Юпитера, Сатурна и Марса и со встречи Марса с головой Дракона 6 октября 1347 г. в знаке Льва?
Приор монастыря кармелитов с площади Мобер вторит словам докторов медицинского факультета. В августе 1348 г. он собственными глазами видел взрыв огромной звезды.
Ее увидели на западе, большую и сияющую, после часа вечерни, когда солнце, еще сияющее, опускалось к горизонту. Она не была, как другие, очень далека от нашего полушария. Напротив, она казалась довольно близкой. Солнце садилось, и наступала ночь. Нам казалось, моим братьям и мне, что она не движется.
С наступлением ночи эта большая звезда рассыпалась на несколько лучей. Мы это видели, и многие люди дивились вместе с нами. Направив свои лучи над Парижем и на восток, она вовсе исчезла, вся целиком перестала существовать.
Была ли это комета или нечто другое, или некий сгусток испарений, вдруг изошедший паром? Предоставляю судить об этом астрономам. Однако возможно, что это предвещало чуму.
В то время как некоторые положились на магию и обогащали деревенских колдуний, другие — или те же люди, но в другое время — попытались умилостивить Бога. Тут главным заступником был святой Себастьян, чье тело, пронзенное стрелами, считалось олицетворением чумы. С 1350 г. его статуй в церквах становилось все больше. Люди молились, чтобы несчастье прошло стороной; дошли даже до молитв, чтобы зима была холодной.
Климент VI, стараясь соотнести голос официальной церкви с другим уровнем — народной набожности, срочно заказал мессу «Pro evitanda mortalitate»:
Избави, Господи, народ Твой от страхов, каковые внушает ему гнев Твой!
Через два года празднование юбилейного 1350 г. прошло с огромным успехом. Епископы и кюре призывали к покаянию. Кару Божию поминали где надо и не надо.
Флагелланты
Последствия этого перебора не замедлили проявиться. Обычная форма покаяния, умерщвление плоти, обернулась массовым спектаклем. Сначала во всей Германии и в княжествах империи, затем в Северо-Восточной Франции появились десятки групп бродячих фанатиков, демонстрирующих на перекрестках свою причастность к Страстям Христовым. Летом 1349 г. эти флагелланты, хлеставшие себя плетьми и гнусавившие странные молитвы, начали всерьез тревожить Европу. Это были обычные люди, не слишком культурные миряне, а редких безместных священников и нескольких беглых нищенствующих монахов среди них было слишком мало, чтобы их возглавить. Вера флагеллантов была бесспорной. А вот ее ортодоксальность — сомнительной.
Это народное движение, движение «бичующихся» (batteurs) — название «флагелланты» появится только потом, — решительно выламывалось из обычных ограничений и традиций нестрогого покаяния, какие рекомендовала и практиковала церковь. Эти люди пели по-немецки, по-фламандски, по-французски, но не на латыни. Место таинства епитимьи заняло покаяние через посредство бичевания. Даже мессу, похоже, служили после публичного бичевания.
Вперед! За благодать святую — Все как один. Настал черед. Ударим дружно, памятуя О смерти Господа. Вперед![42]Покаяние с помощью «бича» — не новость. Здесь, конечно, старались чересчур. Плеть, которой эти «бичующиеся» умерщвляли плоть, больше походила на инструмент для пыток, чем на принадлежность для церковного обряда.
Три ремешка, каковые связаны в узел, каковой узел имеет четыре конца, острые, как иглы, концы же пересекаются внутри оного узла и выходят наружу с четырех сторон сего узла. И стегают ими себя до крови.
Они говорили, что получили от Бога некое письмо. В истории религиозных движений и сект уже не раз фигурировало послание, полученное от неба. Таковым объяснялись многие религиозные чувства по меньшей мере с VI в. Гнев Божий, забвение воскресного отдыха, несоблюдение пятничного поста, покаяние — вот традиционные сюжеты этих писем, которые доставлял ангел и которых в конечном счете никто и никогда не видел. На самом деле непохоже, чтобы для современников Черной чумы это письмо было особо важным. Флагелланты привлекали достаточно внимания, выражая уверенность, что не умрут от чумы, и требуя, чтобы сожгли всех евреев до единого.
Пусть собрания и слова «бичующихся» были далеки от ортодоксальности — разве они не сравнивали кровь, текущую из их ран, с кровью Христа? — духовенству приходилось мириться с существованием флагеллантов. Они ходили большими группами и показывали бесплатные спектакли доброму народу, склонному пялиться на процессии и турниры и не меньше любящему смотреть на колесуемых заживо воров и на шалопаев, которых вешают. Такое любопытство было проще сдерживать, чем пресекать. Духовенство быстро поняло: если закрыть церкви для флагеллантов, там наверняка не будет и верующих. И под готическими сводами начались «бичевания» с негласного благословения скучающих клириков. Тем, кто не сдерживался, приходилось защищаться, и случались жесткие столкновения, когда францисканец или доминиканец, примкнувший к флагеллантам, набрасывался на проповедников, позволявших себе критиковать движение или слишком демонстративно игнорировать его.
Каждая группа собиралась на тридцать три дня. Намек на жизнь Христа был очевиден. Скептики и обеспокоенные люди полагали: по крайней мере есть надежда, что это скоро кончится.
Увы, очень быстро оказалось, что надежды не сбываются. Одна группа сменяла другую, как волны. Они обретали организацию, разработали устав. Их видели в Брабанте, в Эно, во Фландрии, где летом 1349 г. движение достигло пика. Флагелланты были в Касселе, в Лилле, в Валансьене, в Мобеже. Несколько групп добралось до Дуэ, Арраса, Реймса. Здесь профилактика чумы встретилась с фронтом распространения болезни.
Флагелланты уже появились в Труа, а одна маленькая группа рискнула показаться даже в Авиньоне, когда Филипп VI и Климент VI договорились наконец нанести удар, которого местные власти долго рассчитывали избежать. Жалобы шли потоком, и факультет богословия составил обвинительное досье. Осенью 1349 г. один очень активный молодой богослов из окружения кардинала Перигорского, бенедиктинец Жан дю Файт, был спешно послан из Парижа в Авиньон, чтобы уведомить папу. Дю Файт был фламандцем и лично повидал флагеллантов. Он был с ними знаком не только по досье, составленному в Париже, но и по собственному опыту. Он выступал от имени короля и его советников, магистров богословского факультета Парижа, но также как очевидец.
Реакция папы не заставила себя ждать, когда ему сообщили, что флагелланты близки к ереси, что они сравнивают свою пролитую кровь со Святой кровью, вводят новые суеверия — принимают только хлеб, отрезанный другим, или моют руки только в тазу, стоящем на земле. И потом, флагелланты спекулируют на антисемитизме, а Климент VI не для того защитил от резни евреев Конта-Венессен, чтобы допустить гибель других евреев.
Главное, что флагелланты ставят под угрозу установленный порядок и открыто обходятся без официальных структур церкви. Как попросту сказал папа — или один из его приближенных — в публичной проповеди во время, когда дело флагеллантов занимало умы, «криками Бога ни к чему не принудишь!».
Кем же на самом деле были эти «бичующиеся»? Душами, влюбленными в чистоту, заботящимися о своем спасении и о спасении мира. Они совершали одну ошибку, перевесившую все их добрые намерения: вместо того чтобы успокаивать людей, напуганных призраком Черной чумы, вместо того чтобы утешать родственников жертв и самих будущих жертв, они окончательно выводили их из душевного равновесия. Покаяние с помощью окованного ремешка провоцировало истерию.
Это течение вызвало бы меньше беспокойства, если бы не примыкало к давнему движению с анархическими тенденциями, направленному против церковной иерархии и против того, что церковь тесной связью с миром ставит под угрозу Дух. Уже больше века нищенствующие ордены — доминиканцы, францисканцы, августинцы — проповедовали возвращение к евангельской чистоте веры. «Меньшие братья» — францисканцы — часто занимали «евангельские» позиции, отстаивание которых орден или его часть постоянно противопоставляли власти Святого престола, которому не слишком нравилось, когда, посягая на его светскую власть, ставят под сомнение его роль в обществе.
С 1315-х гг. одна группировка в ордене перешла к открытому восстанию. Их называли фратичелли (братцами), или «спиритуалами». Пришло время Духа, время мирской церкви истекло. Они подошли к грани ереси, были близки к катаризму.
Иоанн XXII, а потом Бенедикт XII осудили «спиритуалов». Этого было недостаточно, чтобы о тех забыли. Основы веры испытали серьезное потрясение.
У богословской рефлексии «спиритуалов» и примитивной мистики флагеллантов была лишь одна общая черта: те и другие считали, что дорога к спасению идет за пределами церковных структур, вдали от авторитета папы и общепринятых литургий. Идеи добровольной бедности, умерщвления плоти были одинаковыми. Долгий богословский спор о евангельском учении явственно отозвался в тревогах, порожденных Черной чумой.
Кстати, этот отзвук был неуправляемым. Можно сказать, что религиозный кризис, подчеркнутый появлением флагеллантов, был бы меньшим, если бы не исчезло обычное оформление евангельского мистицизма. Монастыри, опустошенные чумой, приходы без священников, прерванные проповеди, торопливые отпущения грехов — все это, естественно, привело к стихийному изменению индивидуальных и коллективных форм религиозной жизни.
И тогда Климент VI решил одним ударом разгромить движение флагеллантов. Он осудил систематическое бичевание, велел государям арестовывать упорствующих, поручил инквизиции преследовать тех, кто откажется подчиниться. Инквизиция — это были доминиканцы, давние соперники францисканского ордена. Они, конечно, приняли эту задачу близко к сердцу.
Но дома святого Доминика обезлюдели после чумы. Поэтому дело шло медленно, несмотря на догматическое определение Парижского университета, осудившего флагеллантов как еретиков.
Однако в большинстве те наконец выдохлись. Одна группа достигла Авиньона, но не рискнула настаивать на своей правоте и ушла. Эпидемия кончилась, многие мечтали вернуться в лоно церкви и добраться до дома. Инквизиция сожгла нескольких из них для острастки. Для францисканцев, ничуть не похожих на флагеллантов, этот урок, возможно, стал все-таки спасительным.
Христианское население в массе не осталось равнодушным к призывам покаяться, духовно возродиться благодаря умерщвлению плоти. После того как пик был пройден, с 1350 г. необыкновенно расцвели те группы коллективного благочестия и взаимной помощи, которые в виде мирских братств возникали вокруг известных иерархий в качестве «третьих орденов»[43]. Организация молитвы и коллективного покаяния здесь очень изощренно сочеталась с организацией социальной жизни, и среди причин появления таких братств довольно трудно разделить те, которые были связаны с экономической солидарностью или со взаимопомощью — заботы о больных, молитва за умерших, — и те, которые на самом деле были выражением веры через посредство покаяния и милосердия.
Человек, который ел чаще, чем был голоден, который реже погибал на дорогах после того, как появились институты мира — Божий мир, Божье перемирие[44], — несколько отвык от прежней близости смерти. Мир в рамках институтов, безопасность дорог, распашка нови, большие ярмарки — все это удлиняло жизнь, и вот снова пришел голод, от которого умирали. А в довершение всего чума. Смерть снова стала привычной спутницей человека. С 1350 по 1500 гг. любой город, любая деревня пережили по десять-двадцать моров.
Так нужно ли удивляться появлению новых вкусов, где нашлось место для патологии? Поиск прекрасного сменился поиском трагического. Художники, меценаты, народ вдруг полюбили сюжеты, которые прежде игнорировали. «Бичевание Христа», «Крестный путь», «Положение во гроб», «Скорбящая Богоматерь» больше соответствовали чувствам людей этого жестокого времени, чем нежный «Младенец Христос» или красочный «Страшный суд». Обобщенный и назидательный образ смерти — вот чем выглядит в библиотеках и на стенах кладбищ «Пляска смерти» (Данс-макабр), в отношении которой в конечном счете забыли, что прежде она называлась «Макабре» (Macabre), потому что, несомненно, так звали какого-то художника. Пляска смерти — это напоминание о смерти и ее биче, уравнивающем всех или претендующем на это. Это прежде были живые и мертвые. А теперь — Смерть.
Это уже не естественная смерть, мирная смерть, превращающая некогда живое тело в прах. «Покойся в мире…», «Помни, человек, что ты прах…», погребальный ритуал, как и обряд покаяния в Пепельную среду, относятся к другому времени — тому, когда боялись не смерти, а только ада. Теперь смерть была ужасной, сокрушительной, все мертвецы лежали на улице, и ни один могильщик не приходил за ними. Прах — прежде это был пепел, остающийся после очистительного огня. А теперь — «разлагающееся тело, кишащее червями».
Угасала и надежда. Не то чтобы христианин 1350 или 1400 г. меньше своих отцов верил в воскрешение умерших. Он воспевал эту веру в своем «Кредо» и не думал ставить под сомнение догмат. Но к этой стороне «Кредо» он стал менее восприимчив. На изображениях «Страшного суда» прежних веков был ужасный ад, но был и рай. Тогда был открыт доступ на лоно Авраама с перспективой воскресения. «Пляска смерти» гонит всех, живых и мертвых вперемешку, в бесконечном хороводе, где явно смешиваются смерть и ад. Вера окрашивается в унылые цвета.
Некоторые избегали этого, обращаясь к следующей морали: наслаждайся мгновением. Мы ничуть не преувеличиваем. «Декамерон» — творение духа, и Боккаччо предпочитал разрабатывать эпикурейские сюжеты, чем описывать апатию современников.
С момента паралича, который вызвала эпидемия, общественная жизнь восстанавливалась плохо, хотя здесь необходимо отметить одно из непосредственных последствий Черной чумы: Столетняя война приостановилась. Но нарушилось и экономическое равновесие. Можно было бы полагать, что демографический спад повлиял одновременно на спрос и на производительность. Меньше ртов, которые надо кормить, и меньше рабочих рук. Увы, это упрощенное представление. Черная чума наносила удары неравномерно, и действие компенсаторных механизмов восстанавливало равновесие по-разному. Мир после Черной чумы — это не мир до чумы в уменьшенном виде.
От чумы к кризису
Вместе с дождем и воинами болезнь входила в число всадников Апокалипсиса, которые обрушиваются на мир. Образ из того времени. Не совсем ложный. Чума поразила сельскую экономику, уже подорванную, и промышленные структуры, где едва начались изменения. Эпидемия — как первая, так и те, которые произошли после 1348 г., — лишь добавила ряд кризисов в тот спад, который ничто не сдерживало.
Первым рухнул рынок рабочей силы. Выжившие мастера, от суконщика до каменщика, остались без подмастерьев, без слуг, без учеников. А ведь Черная чума лишь очень немного сократила спрос на роскошное сукно, на укрепления, на доспехи. Епископ Парижский умер от болезни, но в сан посвятили другого, которому были нужны посох и перстень. Компании распадались, но капитаны вербовали новых солдат. С подъемом новых слоев появлялись как новые потребители готовой продукции, так и новые производители. Через несколько месяцев в сфере обслуживании, в ремесле, в жизни правящих кругов уже было заметно мало следов болезни.
Быстрое восстановление городского рынка рабочей силы стало результатом согласованной политики: повышение заработной платы было импульсивной реакцией хозяев на угрозу недопроизводства. Этот золотой век для выживших наемных работников дополнительно золотила конкуренция мастеров. Хозяин, не желавший закрывать лавку, не имел выбора. Впервые работник выдвигал требования и мог диктовать условия. Тщетно правительство Иоанна Доброго в 1351 г., а потом в 1354 г. пыталось, вводя общую регламентацию труда, сдержать этот резкий подъем зарплат, который толкал в город последних работников, чьи руки еще можно было использовать на селе. Хаос, который порождали массовые миграции, и угроза политических беспорядков, которую создавало в городах большинство пришельцев, так же побуждали короля действовать, как и его желание контролировать рынок и спасти монету.
Бродяжничество и текучесть, надбавки к зарплатам и конкуренция из-за работников — все едино:
Пусть ни один мастер-ремесленник, кем бы он ни был, не платит подручным больше другого мастера, под страхом произвольного штрафа.
Король не брезговал вникать в детали разных видов деятельности и их оплаты. Для каждой заработной платы есть максимум.
Женщины, моющие брюхо свиньи, могут брать за это только четыре денье; а ежели от них пожелают, чтобы они делали ливерные и кровяные колбасы, они получат десять денье за все.
В то же время пытались сдержать исход из провинции в Париж и ограничить доступ к самым доходным должностям. Король урезал штат нотариев Шатле до шестидесяти и сократил штат торговых посредников. Началась охота на тунеядцев. Обратились за помощью к нищенствующим орденам, чтобы работоспособным людям не подавали милостыню, поощряя их заниматься попрошайничеством.
Поелику многие лица, как мужчины, так и женщины, предадутся праздности… и не желают занять свои руки никаким делом, но одни бродяжничают, а другие проводят время в тавернах и борделях, повелено, дабы всех праздных людей такого рода, будь то игроки в кости, уличные певцы, бродяги или нищие, какого бы сословия или звания они ни были, владеют они ремеслом или нет, мужчины они или женщины, ежели они здоровы телом и членами, принудили либо заняться каким-то делом или работой, коим они могли бы заработать на жизнь, либо покинуть город…
Ничто не выполнялось. Разрываясь между желанием сохранить себестоимость изделий и нежеланием закрывать лавку, хозяин в конце концов уступал. Как во Франции, так и в Англии, как в Кастилии, так и в Тироле указы о замораживании зарплат оставались мертвой буквой при корыстном попустительстве обеих сторон. Зарплата каменщиков и кровельщиков за три года утроилась: в то время как королевский ордонанс предписывал платить им в день не более 32 денье, в реальности мастера, занятые этими ремеслами, получали от 60 до 92 денье. Подмастерье при тарифе в 20 денье зарабатывал от 32 до 42 денье. Едва возведенное заграждение сразу же рухнуло.
Тщетно и муниципальные власти подхватывали инициативу власти королевской. Города регламентировали иммиграцию и наем на работу. На зарплату устанавливали тарифы. Но ее быстрый рост прекратится только сам, когда установится новое равновесие спроса и предложения.
Подъем зарплаты, естественно, отражался и на ценах на готовую продукцию. Покупателей вполне хватало, чтобы производство имело смысл, — отчасти к ним принадлежали и те, кто сам выигрывал от роста зарплат. Хорошо известный феномен инфляции: каждый торопился покупать. Но рост цен быстро делал иллюзорным подъем зарплат. Квалифицированные работники какую-то прибыль все-таки получали. У других параллельный рост очень быстро вызывал разочарование. Холостой подмастерье еще мог компенсировать одно за счет другого, отцу семейства это удавалось трудней.
Поэтому многим выживать было очень тяжело. Мастера-ремесленника беспокоило повышение зарплат, которые он должен был платить, чтобы не пришлось закрывать мастерскую. Бурный приток приезжих был опасен для тех, кто нашел себе место, даже из самых скромных, и в качестве реакции возникло «цеховое мальтузианство», то есть стремление ограничить права на занятие ремеслом. Это мальтузианство подорвет динамику развития городского ремесла. Оно замедлит развитие технологии. Оно стимулирует традиционалистский конформизм и умственную леность. Короче говоря, оно усугубит трудности, которые были порождены структурными дефектами, отмеченными еще до Черной чумы.
Положение в сельской местности было не лучше. Кроме отдельных крупных собственников, которым смерть братьев и кузенов дала возможность выгодного и долгосрочного укрупнения земель, землевладельцы страдали от все большего дисбаланса между своими расходами и доходами. Старая сеньориальная система, основанная на службах внутри домена, земледельческих повинностях и всевозможных видах барщины, во многом сменилась системой эксплуатации наемного труда, а заработные платы вдруг стали расти. Конечно, застой цен на зерно, которому смерть стольких покупателей, очевидно, не могла воспрепятствовать, лишал землевладельцев возможности конкурировать с городскими предпринимателями в отношении зарплаты, которую они могли предложить.
Тогда в большинстве случаев лучше было оставлять землю под залежью, чем платить поденщикам слишком дорого по сравнению с тем, что получишь от продажи урожая на рынке. Впрочем, в 1348 г. и во время пахоты, и во время жатвы работать нередко не позволяла чума. Так что возделывать поля надо было заново, а для этой задачи оставшихся сил иногда не хватало.
Всего-навсего недопроизводство, здесь непреднамеренное, там сознательное, на время притормозило падение цен на сельскохозяйственную продукцию. Нет ничего парадоксального в утверждении, что эпидемии 1348–1349 и 1361–1363 гг. на добрую четверть века задержали обвал земельной ренты.
Но поддерживать цены — на среднем уровне — за счет сокращения производства не значит восстанавливать экономику.
Таким образом, в то время как город манил к себе бурным ростом зарплат, сельский мир пребывал в длительном застое. Сеньоры и крупные арендаторы были разочарованы, у бедных вилланов опустились руки. Что касается рабочей силы, то самые способные ушли. Что касается капиталовложений — рентабельность была такой, что отпугивала и самых смелых. Некоторые территории окончательно опустели.
Меньше всех падали духом не те, кто недавно, владея богатыми почвами, очень хорошо жил за счет зернового хозяйства с высокими доходами, а те, кто мог себе позволить иметь плуг с окованным лемехом и тягловых лошадей. Те, кто нанимал батраков. Те, кто решался применить севооборот. Страдая, как и другие, от медленного снижения обычных цен, они имели избыточный доход достаточной величины, чтобы продержаться в дождливые годы, когда самым скромным земледельцам, если они обеспечили себе кашу на каждый день и отложили семена для посева в следующем году, уже было нечего продавать. Хлебные кризисы — предвестия недорода — с 1315 г. были сравнительной удачей для зажиточного крестьянина, живущего на илистых землях. Самый высокооплачиваемый батрак, чрезмерно дорогие подковы и лемех — теперь все теряло смысл. Земледелец[45] испытывал те же невзгоды, что и держатели мелких клочков земли. Через десять лет после Черной чумы Жакерия станет в основном взрывом гнева этих земледельцев, ошеломленных тем, что их тоже поразил кризис в свою очередь.
Хлебные кризисы, монетные кризисы, демографические кризисы — все это делает XIV в. чередой конфликтов, к которым мы должны присмотреться с близкого расстояния, потому что переживавшие их люди видели их вблизи. Более остро, чем застой, очевидный в масштабах века для историка, который стремится объяснять феномены, горожане или крестьяне воспринимали сезонные перемены, необычные скачки, временный дефицит. Пагубные последствия для тех и других компенсируют друг друга только в статистике и в долговременной перспективе. В повседневной жизни на уровне деревни или улицы драматические последствия суммировались.
Те, кто умер от голода в периоды неурожаев 1317, 1348, 1361 и 1375 гг., все равно умерли, хотя цена на зерно до того десять лет не менялась. Тем, кого разорили эти низкие цены, было не легче оттого, что сезонное повышение цен рано или поздно обогатило нескольких спекулянтов. Череда кризисов, которая называется XIV веком, несомненно, воспринималась как череда несчастий, а не как колебания вокруг некой средней величины.
В число этих несчастий входила Столетняя война. Будь то быстрые рейды по королевству, нескончаемые осады крепости или города, правильные сражения армий или движение бродячих компаний, никем не завербованных, — война всегда происходила только в одном месте и в конкретное время. Всеобщая война, когда разрушение и смерть грозят одновременно всей стране, была незнакома людям средневековья. Но урожай, сгоревший за день, означал год голода, если только сохранились семена для посева в следующем году. Сожженная рига, которую не отстраивали, опасаясь нового налета через год или десять, означала, что обработка земель здесь сократится надолго. Судно, затопленное в фарватере, разрушенный мост, разоренная мельница означали не просто временное несчастье, а паралич всей экономической жизни области.
Война к эпидемии чумы имела мало отношения. Она разве что увеличила численность бродяг, в которых современники справедливо видели переносчиков заразы. Появление солдат и беженцев усугубляло ту или иную эпидемию во многих областях и городах. Чума же не имела никакого отношения к войне.
Столетняя война — это не сто лет войны. Но это сто лет парализующей неуверенности, век военного психоза. Война и чума здесь дополняли друг друга. Это стало хорошо заметным, когда по окончании скачка зарплат, последовавшего за Черной чумой, долгие периоды неуверенности — после 1356 г. и особенно после 1360 г. — удерживали сельских предпринимателей от найма работников; пресекли рост зарплат в сельском хозяйстве, уничтожили всякую надежду на быстрое восстановление сельской экономики и выбросили на городской рынок рабочей силы множество людей безо всякой квалификации, многие из которых станут жертвами чумы 1363 г.
Чума, война, чума. Зарплаты, цена, зарплаты. Правителям не удавалось разорвать эти цепочки. Те, кто спасался от одного бича, гибли от другого. Современники хорошо понимали это и выразили в страшной символике: война, голод и чума — это три всадника Апокалипсиса, сменяющие друг друга. Как писал один нормандский клирик, удивляясь, что еще жив:
Говорили, что приходит конец света.
Глава VII Пуатье
В Париже или даже в Руане англичан начали рассматривать как иностранцев, пришедших с той стороны Ла-Манша. На территории, где столкновения происходили каждый день, ситуация была менее ясной. В Ла-Реоле или в Эннебоне эти антагонизмы не воспринимались как национальные. Король Англии продолжал на материке феодальную авантюру анжуйского дома Плантагенетов, сумевшего использовать союзы и выгодные обстоятельства, чтобы создать свою империю. Король Франции знал, что конфликт носит феодальный характер, и еще не мог представить себе патриотизма, который бы усилил позиции французов в войне. Игра по-прежнему шла на феодальной шахматной доске. Все пока выражалось в категориях вассальной системы.
Подвязка и Звезда
Основание рыцарского ордена в XIV в. не было ни нелепым анахронизмом, рудиментом эпохи крестовых походов, ни довольно пустой демонстрацией мелкого тщеславия. Это был в чистом виде политический акт, последняя попытка адаптировать ментальные структуры феодального прошлого к новым потребностям защиты и возвеличения короны.
Прежнее рыцарство, ряды которого раньше пополнялись путем посвящений в рыцари, в XIII в. превратилось в социальное сословие. Рыцарем становился — или был достоин им стать — только сын рыцаря или оруженосца, который мог бы быть рыцарем. Рыцарю также следовало получить должное обучение и иметь достаточно денег. Но такая система не в полной мере гарантировала воинские качества. Верность, дисциплинированность, воинственность подразумевались, но все упиралось в переплетение интересов и честолюбия, семейных связей и оплачиваемых клиентел.
Существовавшая система обеспечивала право вооруженной силы, но не единство армии. Она фиксировала в деталях правила той рыцарской литургии, какой была битва, но не совокупность ее целей. Это хорошо заметно по эпизоду, когда французы из Гина отбили у англичан из Кале добычу, захваченную последними у французов из Сент-Омера, и отказались вернуть трофеи прежним владельцам: добыча принадлежит тому, кто ее захватил, а не тому, кто ее потерял. Можно было воевать на одной стороне, но не друг за друга.
Основав орден Подвязки и орден Звезды, Эдуард III в 1348 г. и Иоанн Добрый в 1351 г. создали новое рыцарство — имевшее личные обязанности, поскольку приняло их добровольно, включенное в простую систему верности, с которой не переплетается верность члена ордена кому-либо другому.
Можно было принадлежать к двум соперничающим родам. Быть просто вассалом обоих воюющих монархов. Можно было — как аквитанские вассалы или нормандские «верные» Наваррца — быть подданным короля Франции и вассалом иностранного короля как феодального сеньора. Можно было, не поступаясь честью, получать от обеих сторон ренты, накладывающие на вас обязанности и даже делающие вас клиентом. Но принадлежать одновременно к обоим этим орденам нового рыцарства было нельзя. Клятва, которую рыцари этих орденов давали своему сеньору и господину, вносила ясность в право и мораль, потому что считалась важней всех прочих клятв.
Антагонизм между единственными узами, которых требует политическое единство, и многочисленными связями, устанавливать которые побуждают материальные интересы, в истории возникал бесконечно часто. У подмастерья VIII в. был всего один мастер, у вассала Карла Лысого или Людовика Немецкого — всего один сеньор. Но как отказаться иметь нескольких сеньоров, если каждый из них предлагает вам фьеф?
Для борьбы с этой множественностью оммажей в тысячном году придумали «оговорку верности» (reserve de fidelite) — «тесный» оммаж, имевший первенство над всеми остальными в случае противоречия между ними. Но как было не принести несколько «тесных» оммажей, когда несколько сеньоров ставят условием предоставления фьефа «тесный» характер связи?
С XII в. запутанность предпочтительных отношений верности стала тем пределом, в который уперлась политическая эффективность феодального общества. В ходе первых столкновений Капетингов и Плантагенетов, во времена Людовика VII и Филиппа Августа, Ричарда Львиное Сердце и Иоанна Безземельного неопределенный характер таких отношений то и дело, порой в течение суток, круто менял соотношение сил.
Рыцарский орден в том виде, в каком его придумали монархи XIV в., снова предполагал верность безо всяких условий и соперников. Каждый из королей рассчитывал отныне прочно держать в руках «свое» рыцарство.
Однако ничего национального в истоках новых орденов не было. Связь была личной. Объявлялись цели религиозного характера, во вторую очередь военного. Провозглашался извечный рыцарский идеал: покровительство слабому, защита правого дела. Рыцари нового ордена были «героями» (preux) своего времени. Ничего странного, что сразу же возникла ассоциация с Круглым столом. Храбрость — только средство, героизм — только внешнее проявление этого идеала. Во всяком случае, так должно быть!
Из романов о рыцарях Круглого стола был взят прообраз: группа мирских рыцарей — дело ордена Храма подорвало имидж монаха-воина, — избранных королем и возглавляемых им. Они образуют братство (compagnonnage) в самом строгом смысле слова. «Роман о Персефоресте, короле Великой Британии, основателе Вольного Чертога и Храма Всевышнего Бога» — не только одно из последних сочинений в этом жанре. Автор, современник Филиппа VI, под видом истории из древних времен по образцу «Романа об Александре» и «Ланселота» предлагает настоящую модель современного рыцарства:
Там смогут узреть исток и красу всего рыцарства, культуру смелого благородства, доблестей и бесконечных завоеваний.
Первым, кто решил учредить новое рыцарство, был король Альфонс XI Кастильский, создавший в 1330 г. орден Ленты. Дофин Вьеннский Юмбер II в свою очередь к 1335 г. основал орден святой Екатерины. Через несколько лет герцог Нормандский — будущий Иоанн Добрый — и герцог Бургундский Эд IV вместе задумали «конгрегацию» из двухсот рыцарей, орден святого Георгия, который на свет не появился.
Никто не думал ни о войне, ни о национальном единстве. Просто идея витала в воздухе. Основание орденов начало входить в моду.
Папа мог только одобрить эту форму привнесения нравственности в жизнь рыцарей. 5 июня 1344 г. Климент VI одарил будущую «конгрегацию» святого Георгия удобными привилегиями. Речь шла не о турнирах, а о мессах и молебнах. Дело, задуманное во вкусе времени двумя молодыми принцами, было благочестивым. На самом деле под видом чистого благочестия, о котором только и говорил в связи с этим верховный понтифик, герцоги Нормандский и Бургундский намеревались прежде всего устраивать праздники; богослужения должны были стать для этого поводами. В замысле 1344 г. политическая идея была еще очень размытой.
В то же время Эдуард III решил восстановить Круглый стол. 19 января 1344 г. он организовал в Виндзоре «праздник Круглого стола». Такие уже век устраивали все монархи — это была модная игра. Но он воспользовался случаем, который ему только в этот момент предоставили песни и турниры, чтобы публично огласить королевский обет: будет воссоздано общество рыцарей Круглого стола. Оно будет насчитывать не менее трехсот витязей. В круглом храме диаметром в двести футов будут проходить литургии. Для завершения этого фантастического замысла не хватало только святого Грааля.
Молодые принцы, три кузена, пока были заняты только игрой. Они играли в Ланселота, в Персеваля, в Персефореста. Однако этим они занимались серьезно — с той же серьезностью, с какой относились к турнирам рыцари былых времен, когда турнир еще был игрой, где победитель получал величайшие почести, а побежденный нередко погибал на ристалище.
Шло время. У Эдуарда хватало других дел, кроме как играть в короля Артура. Фландрия, Бретань, Креси, Кале — из-за всего это он откладывал исполнение обета 1344 г. Королем Франции стал Иоанн, и Францию охватил кризис. По Европе прошла Черная чума. Мир стал серьезней, ставки в игре приобрели иной вес.
Именно Эдуард первым вернулся к идее нового рыцарства. В апреле 1348 г. он заказал первые синие подвязки с золотыми и серебряными надписями: «Honni soit qui mal у pense» («Да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает»). 23 апреля 1349 г. избранные лица впервые собрались в капелле Сент-Джордж в Виндзоре. Это было далеко от грандиозных замыслов 1344 г. Орден составили двадцать шесть рыцарей, тринадцать каноников, тринадцать клириков. Ни одним больше.
Эпоха романтических вымыслов кончилась. Назначением этого ордена была не организация турниров, а объединение элиты рыцарства вокруг короля. Определился и религиозный аспект этой идеи. Когда Эдуард III, победив при Креси и Кале, приступил к реализации политических замыслов, он сделал из ордена новый инструмент для мистического внушения верности королю. Председательствуя на капитулах ордена и тем самым очень откровенно подчеркивая светский характер этого института, он держался не как первый среди равных. Он был сам по себе. Он был «сувереном» ордена. При составлении устава это слово выбрали не случайно.
Дисциплина, которую предписывала принадлежность к ордену, была дисциплиной службы лично королю. Рыцари Подвязки набирались среди «самых полезных для короны и королевства». От Круглого стола ушли очень далеко. Это была политическая и военная элита, преданная делу династии.
Иоанн Добрый узнал, что англичанин осуществил то, о чем недавно мечтал он сам. Орден Звезды станет французским аналогом ордена Подвязки.
Его членов назначили в конце 1351 г. Устав обнародовали в октябре 1352 г., и Жоффруа де Шарни, знаменосцу — носителю орифламмы Франции, было поручено составить «Книгу рыцарства», которая станет кодексом чести нового рыцарства.
Орден Звезды должен был способствовать «возвышению рыцарства и приумножению чести». Это был старинный девиз Персефореста. Но сплочение таких разных рыцарей — сплочение, на которое соглашались добровольно, ведь вступать в орден никто не принуждал, — гарантировало королевству мир и могущество. Король Франции хорошо знал, что его знать разобщена и назревает измена. Во всяком случае, то, что могли считать изменой люди короля, уже придерживающиеся монархического взгляда на вещи, — ведь знатные бароны, такие как Аркуры или Бриенны, рассматривали уход от сеньора и признание другого сеньора только в категориях феодального права.
Устав ордена Звезды требовал единства ордена, его единодушия. Значит, всякий подрыв этого единства в категориях феодального права — в категориях договорной верности — соответствовал бы тому представлению об измене, которое в окружении короля, несомненно, трактовали слишком жестко, а в баронствах не разделяли.
Орден Звезды гарантировал королю то, что ему обеспечил бы старинный оммаж, оммаж XI в.: неколебимую верность настоящей армии, верность пятисот рыцарей. Так же поступит Наполеон: императорская гвардия будет элитной армией внутри Великой армии, довольно разношерстной.
Как и орден Подвязки, собиравшийся раз в год в Виндзоре, орден Звезды был только «конгрегацией», какую когда-то мечтали создать скорей в духовных, чем в военных целях. Рыцари собирались на «торжественное собрание» (cour pleniere) 15 августа каждого года в «Благородном доме» в Сент-Уэне, ставшем для первых Валуа тем, чем был Руайомон для Людовика Святого и Мобюиссон для Филиппа Красивого: любимым прибежищем как для политических размышлений, так и для молитвы. Но главным для ордена были не эти собрания, а его единство на полях сражений. Кстати, на торжественном собрании молились мало: там каждый должен был рассказать, подтвердив свои слова клятвой, о своих подвигах и малодушии на войне. Короче говоря, подводили итоги. На время между замыслами 1344 г. и появлением ордена Звезды пришлись Эгийон, Креси, Кале. Филипп VI и Иоанн Добрый знали, что их армия, которая состоит из их вассалов и которую они могут себе позволить, в бою стоит недорого. Орден Звезды станет нерушимым ядром обновленной королевской армии.
О династическом — в большей степени, чем национальном — характере ордена Звезды легко догадаться. Прежде всего потому, что принадлежность к нему исключала членство в любом другом: те, кому предложил вступить в орден Звезды Иоанн Добрый, а Эдуард III к тому времени уже предоставил кресло в Виндзоре, должны были выбирать. Поскольку в ордене Подвязки было двадцать шесть рыцарей, а в ордене Звезды — пятьсот, французский король имел возможность переманивать тех, кто мог бы примкнуть к противнику.
Отказались и выбирать покровителем святого Георгия, что предполагалось в планах 1344 г., но теперь было неуместным. В благочестивые времена ничто не препятствовало тому, чтобы цвет английского и французского рыцарства почитал одного и того же святого. Во время войны один и тот же святой не мог быть патроном обеих армий.
Чтобы верней обеспечить воинские качества сформированной таким образом рыцарской элиты средствами, в которых бы не было ничего химерического, Иоанн Добрый выдвинул одну мысль. Она была глупой. Но ни у кого не хватило здравого смысла и морального авторитета, чтобы ему об этом сказать. Вступая в орден, рыцари Звезды должны были дать клятву, что никогда не отступят на поле битвы. И поэтому в 1353 г. в результате обычной засады, устроенной в Бретани англичанами из партии Монфора, многие рыцари Звезды бессмысленно позволили себя убить, потому что клятва запрещала им покинуть поле боя, чтобы затем снова собраться. Почитавший подвиги, но не самоубийства хронист Жан Ле Бель считает, что после этого первого боя Звезда перестала существовать:
Никогда более не говорилось о сем благородном обществе, и я полагаю, что оно обратилось в ничто и дом опустел.
В самом деле, Звезда больше не упоминалась. Орден Подвязки сохранился, увидят свет и другие ордены — например, орден Золотого щита, основанный в 1364 г. герцогом Людовиком де Бурбоном, шурином Карла V, орден Белой дамы с зеленым щитом, придуманный в конце века маршалом Бусико, и многие другие, которые породит воображение рыцарей, часто далекое от всякой политики. Однако идеал Звезды не будет забыт. Он определит выбор Иоанна Доброго, когда при Пуатье перед ним встанет всегдашняя альтернатива побежденных: бежать или сдаться. Побежденный вправе сдаться, это не позорно — уверяла «Книга рыцарства», исполненная почтения к герою, от которого отвернулась удача. Иоанн Добрый откажется отступать. Бежавший из боя — это трус.
Армия короля Иоанна
В то время как рождалась и гибла Звезда, а Иоанн Добрый заказал гуманисту Пьеру Берсюиру перевод римской истории Тита Ливия «для пользы тех, кто захочет познать рыцарское искусство и проявить старинные доблести», королевская армия готовилась к долгой войне, которую отныне предвещало все. С апреля 1351 г. король ввел постоянный контроль личного состава и вооружения. Не довольствуясь более «показами» (montres) во время набора войск, люди короля отныне проводили «смотры» (revues), иначе говоря, периодические перепроверки боеготовного личного состава. Чтобы «не показывали одного воина в нескольких и разных местах, хотя согласно природе и разумению он может служить только в одном», чтобы несколько компаний не могли демонстрировать одно и то же вооружение, такие инспекции будут проходить без предупреждения.
Работа значительная: перепишут имена и прозвища, перечислят оружие и припасы, опишут конские чепраки и заклеймят коней каленым железом — своим тавром для каждой компании, — предварительно зарегистрировав каждого коня стоимостью более тридцати турских ливров; отметят масть, равно как тип удил и форму сбруи.
Каждый арбалетчик сделает несколько выстрелов — чтобы не подсовывали старые арбалеты с изношенной тетивой и не выдавали за арбалетчика кутилье, не умеющего обращаться с ценным оружием.
Такой ордонанс многого требовал от администрации, пока малочисленной. Поначалу смотры были неожиданными, как и было задумано, но редкими. По крайней мере, в ситуации, когда война неизбежна, эти процедуры позволяли обеспечить присутствие в войске всех бойцов, которых завербовали и оплатили. В 1355 и 1356 гг. маршалы и лейтенанты Иоанна Доброго увеличили количество смотров. Но теперь бывало, что предпочитали платить отрядам, не видя их, чем проводить смотр в опасном месте. Через несколько лет Филипп де Мезьер в «Видении старого пилигрима» подчеркнет, что несвоевременное обнаружение сил дает преимущества бдительному врагу. Лучше не проводить смотр всего гарнизона в один день: шпионы тоже умеют считать.
Если король Иоанн считал людей, то их жалованье он считал плохо. Еще в 1356 г. он упорно начислял оплату войскам в су и денье, то есть в счетной монете. Поскольку инфляция постоянно обесценивала су и денье, покупательная способность солдата падала, подрываемая финансовой ситуацией, в которой он разбираться, естественно, не мог. Рыцарь-баннерет неизменно получал тридцать су, рыцарь-башелье[46] — пятнадцать, оруженосец — семь су десять денье, конюх (menetrel а cheval) — три су, как в 1339, так и в 1351 г. Но су образца 1339 г. стоило в шесть раз больше чистого серебра, чем су в ноябре 1355 г. К моменту боя солдат считал, что ему недоплатили.
Королевское правительство слишком поздно поймет, во что обходится недовольство солдат. После Пуатье поддержанию покупательной способности жалованья будут уделять больше внимания. Вплоть до стабилизации монеты в 1360 г. тарифы станут выражать в экю, иначе говоря, в золоте. Но к тому моменту катастрофа уже произойдет.
Черный принц в Лангедоке
20 сентября 1355 г. Черный принц занял позиции в Гиени. Прежде чем лично предпринять акцию большого масштаба на севере Франции, Эдуард III поручил старшему сыну провести операцию в тылу врага, чтобы сковать на юге часть армии Валуа. Аквитанский фронт был второстепенным, но предоставлял хорошие стратегические возможности. Там Черный принц сделает первые шаги в качестве командующего.
Эдуарду, принцу Уэльскому, герцогу Корнуэльскому и графу Честеру, было двадцать пять лет. К этому возрасту многие короли уже давно царствовали. Для него пора ответственности еще не настала. Его отец, Эдуард III, царствовал уже скоро тридцать лет — с 1327 г. — и будет носить английскую корону полвека, до 1377 г. Черному принцу не хватит года с небольшим, чтобы воцариться[47].
Его не отодвигали в сторону. Он держал роскошный двор в Беркхэмптеде, в Кеннингтоне. Отец несколько раз назначал его «хранителем» королевства: это было слишком много для ребенка — в первый раз это произошло, когда ему было восемь лет, — и ничего не значило, потому что в действительности политическая власть вместе с королем перемещалась на материк. При Креси принц Уэльский командовал войсковым корпусом — достаточно, чтобы рисковать жизнью в пятнадцать лет, но недостаточно, чтобы разделить славу отца.
Поэтому ему нужно было показать себя. Этому помогла его дерзость. 5 октября он устроил набег в совершенно неожиданном направлении — на юго-восток. Графу Жану д'Арманьяку очень дорого обошелся тыловой союз, который он сам в прежние годы обеспечил королю Франции. Черный принц вошел в Лангон, Базас, Кастельно. Он прошел графство Арманьяк насквозь.
Замки и города сдавались. Он вошел в Астарак, в Комменж. Англо-гасконский рейд разорял край, агрессоры захватывали добычу. Черный принц не скрывал и сам хвалился в письме к своему отцу-королю, что хочет посеять ужас. Или, вернее, отомстить французам: никто не опустошал Гасконь сильнее, чем наместник короля Валуа, Жан д'Арманьяк.
Так мы сделали набег на землю Жана д'Арманьяка, отягчая и разоряя оную землю, так что обиды ленников нашего весьма почитаемого государя (Эдуарда III), каковые некогда нанес им оный, были изрядно отомщены.
Подойдя к Тулузе с юга. Черный принц перешел Гаронну, не опасаясь французского гарнизона, которым командовали коннетабль Жак де Бурбон, маршал Жан де Клермон и Жан д'Арманьяк. Предместья Тулузы горели — возможно, их подожгли сами защитники, чтобы никто не подступил к городским стенам внезапно.
Англо-гасконцы безнаказанно углублялись на территорию королевского Лангедока. Почти без боя они вступили в городки Монжискар и Кастельнодари, стены которых представляли собой просто земляные валы. И вот они под Каркассоном. Улица за улицей они захватили нижний город, прорывая цепи: горожане, зная, какая участь им уготована, защищали каждый дом, каждый угол. Верхний город (сите) Каркассона, расположенный на укрепленном холме, выстоял, хоть его осаждали два дня.
Рейд продолжался. Город Капестан выиграл время, предложив выкуп, и, наконец, избежал худшего благодаря подкреплению, подоспевшему в последнюю минуту, которое привел капитан — наемник коннетабля Арно де Серволь по прозвищу Протоиерей, бывший клирик. 8 ноября Нарбонн в свою очередь повторил судьбу Каркассона: бург на берегах реки Од был разграблен, укрепленный верхний город устоял.
Один из английских рыцарей, Джон Уингфилд, восхищался тем, как далеко они продвинулись за восемь недель:
Город Нарбонн… немногим менее Лондона и расположен на Греческом море[48], и от оного города до Греческого моря во время прилива всего одиннадцать малых лье. Есть морской порт и канал (arrivail), вода коего поступает в Нарбонн.
Во время этой вылазки люди Валуа не бездействовали. Но, подавленные дерзостью предприятия, в котором не было никакой стратегии, французы не могли предвидеть, какое направление перекрывать. О том, чтобы укрепить за несколько дней весь Лангедок и обеспечить все крепости гарнизонами достаточной численности, способными выдержать осаду, не приходилось и мечтать. Черный принц благодаря быстроте набега получил такое преимущество, которое едва ли компенсировали бы десять лет приготовлений. Урок пойдет впрок: в следующий раз города будут готовы.
Коннетабль Бурбон собрал войска в сенешальстве Бокер. Вместе с солдатами графа д'Арманьяка это была значительная сила, беспокоившая англичан с тыла и не дававшая продолжать осаду городов, если их стена могла выдержать хоть несколько часов. Черному принцу удался блицкриг; он победил, потому что сумел довольствоваться этим.
Дело близилось к концу. Наступил ноябрь. Приближалась зима. В дело вмешались папские легаты, которых Черный принц заставил два дня ждать пропусков, а в конечном счете отказал им безо всяких объяснений. Чем вести переговоры без особой уверенности в успехе, он предпочел отступить. Набег 1355 г. не был завоеванием — удержание завоеванного обошлось бы очень дорого. Это была просто демонстрация силы. Англичанам был не нужен Лангедок, они хотели, чтобы следующей весной им с этой стороны ничто не угрожало.
И они повернули назад. Теперь горел Лиму, и предместья Каркассона тоже, во второй раз. Взяли Монреаль, чтобы никто не мог подумать, что этот уход — отступление. Черному принцу спешить было некуда. Он прошел горами, появился рядом с Памье, может быть, преследуя — так напишет он — несколько французских отрядов, а может быть, предпочитая ограбить еще несколько городов, чем снова пересекать уже разоренную местность.
Тем временем в Монпелье, Ниме, Безье ликовали. Добрый люд этих городов ожидал худшего. Горожане не замедлят уверовать, что Черный принц их испугался.
С того времени долго будет длиться война, бесконечно начинающаяся заново: набеги без иной задачи, кроме грабежа, и без иной конечной цели, кроме порта для отплытия обратно. Войско прошло — уцелевшие города и деревни на мгновение переводят дух в ожидании следующего налета. Что касается солдата, плохо понимающего, что он должен делать, кроме как сеять ужас, — ему будет бесполезно объяснять, что с тех пор, как он больше не служит монарху, он не имеет права на грабеж.
Войско Черного принца переправилось через Гаронну близ Мюре. Под Жимоном оно обратило в бегство французский отряд. Оно взяло Клерак и Тоннен. Арманьяку и Бурбону не удалось перекрыть путь англо-гасконцам. На Рождество Черный принц сможет написать в Бордо своему отцу Эдуарду III, что миссия выполнена. Лангедокцы потеряли всякую веру в своего суверена Валуа.
Гасконцы были счастливы. В Бордо вступила бесконечная вереница подвод. Воинство Черного принца по преимуществу состояло из бедолаг, набранных на бедных территориях ланд. То, что они увидели, их ослепило. В богатых бургах, где уже процветало сукноделие, солдаты опустошали сундуки, брали в заложники горожан, тащили все, что можно унести. Так, согласно Фруассару, в Кастельнодари
повсюду убивали и преследовали мужчин и солдат. Обошли, разграбили и разорили весь город, забрали и похитили достояние всех добрых людей.
Англичане не глядели ни на сукна, ни на бархат, лишь на серебряную посуду или добрые флорины.
А схватив мужчину, горожанина или крестьянина, они объявляли его пленным и требовали выкуп либо мучили его, ежели он не желал давать выкупа.
Черный принц сумел сыграть на изумлении своих войск. Он не мешал солдатам допьяна напиваться мускатом и набирать добычу.
Так англичане и гасконцы нашли обильный и богатый край, комнаты, изукрашенные занавесями и сукнами, ларцы и сундуки, полные прекрасных драгоценностей. Но оные грабители не оставляли ничего, прежде всего гасконцы, каковые были особо алчными.
Распуская армию, принц Уэльский не сильно рисковал. Он знал, что весной найдет себе солдат, причем повышать жалованье не понадобится.
Монетный двор в Бордо активизировался. Чеканка золотых «леопардов»[49] и новых серебряных грошей была не только реакцией на экономические нужды, но и политическим жестом. Леопард никогда не имел отношения к Аквитании: вся Европа знала, что он изображен на гербе Англии, как и на гербе Нормандии. Черный принц поставил английское клеймо на старинную Аквитанию. Пусть никто не обманывается: у последней есть повелитель. Герцогство снова чувствовало, что оно существует, пусть даже на его монетах изображен английский герб.
Наводя ужас на Лангедок, англичане не опасались реакции противника на Севере. Владея Кале, они могли устраивать рейды когда угодно, при которых агрессор был почти уверен в успехе, потому что время и место выбирал он. На сей раз Эдуард III повел войска в Артуа. Он разорил несколько деревень, дошел до Эсдена, сделал вид, что ждет врага, и удалился, едва прослышал о контрнаступлении французов. Иоанн Добрый слишком поздно достиг Амьена, куда срочно созвал армию: англичанин не пожелал сражаться. Он, мол, достаточно ждал!
В конце ноября все вернулись к себе: Эдуард III — в Кале, Черный принц — в Бордо, Иоанн Добрый — в Париж. Пришла зима, позволявшая готовиться к следующей кампании.
Генеральные штаты
Увы, Иоанн Добрый думал о ней только с тревогой. Финансовое положение грозило катастрофой. Казна была пуста, выплата жалованья солдатам запаздывала, а штатским его не платили уже полгода. Поставщики двора были в отчаянии. А простой народ негодовал, видя роскошные дворцы принцев, замечая богатые одежды и пышные пиры. В это время покупали столько жемчуга, сапфиров, рубинов, серебряных и золотых цепочек, что у парижских галантерейщиков не хватало товара. И тем не менее еще никогда драгоценности, шитые пояса и драгоценная посуда не стоили так дорого. Денег достаточно, заключал сторонний наблюдатель, который вспомнит об этом, когда через год сделает горький вывод о военной несостоятельности знати.
Пока что курс монеты падал, а цены росли. Никогда за всю историю турский ливр не падал так низко. Серебряная монета, блан (blanc, белый) — ее так называли, чтобы отличить от «черных» монет с низким содержанием чистого серебра, — теряла то в весе, то в пробе, и в любом случае покупательная способность снижалась.
В конце 1354 г. серебряный блан достоинством в пять денье еще весил 3,05 г серебра и имел 278-ю пробу чистого серебра. В мае 1355 г. новая эмиссия выбросила на рынок монеты в 2,04 г с 208-й пробой. В июле для отвода глаз изменили тип монеты: это это был грош достоинством в пятнадцать денье, весивший 3,39 г при 278-й пробе. Появление гроша образца июля 1355 г., прибавившего в весе по сравнению с бланом 1354 г. одну десятую при утроении номинала, означало, что курс счетного денье, в котором выражались цены, рухнул. За ливр (20 су), су (12 денье) или денье теперь можно было купить втрое меньше серебра или товаров, чем год назад.
Падение курса продолжалось. Новости, приходившие из Лангедока, доверия не повышали. В ноябре монетный двор выпустил новый грош в пятнадцать денье, уже весивший всего 2,44 г серебра при 208-й пробе.
Эта чехарда весов и номиналов не обманывала никого из современников. Королевская монета потеряла за год добрых 82 % стоимости.
Иоанн Добрый, пусть даже он заслуживает своей репутации роскошного и щедрого расточителя, хладнокровно готовился к кампании 1356 г. Для этого ему нужны были деньги. И он созвал Штаты, хотя из-за этого королевской власти придется пятнадцать лет вести переговоры ради получения средств на управление страной.
Ассамблея, разместившаяся 2 декабря 1355 г. в большом зале дворца на острове Сите, не совсем заслуживала названия Генеральных штатов. Лангедок, представленный в феврале 1351 г. на первых Штатах, созванных королем Иоанном, на этот раз отсутствовал. Что в это время происходило между Бордо и Нарбонном, известно. Самыми южными из представленных городов были Лион, Бурж и Пуатье. По сути заправлял здесь Париж. Купеческий прево Этьен Марсель, его кузен Эмбер из Лиона, его компаньон Жан из Сен-Бенуа, его предшественник Жан из Паси, его эшевены Пьер Бурдон, Бернар Кокатрикс, Шарль Туссак и Жан Бело — вот заметные фигуры Штатов 1355 г.
То, что услышали бароны, прелаты и уполномоченные городов, их не удивило. Пьер де ла Форе, канцлер Франции, описал финансовую катастрофу и попросил о «помощи» для ведения войны, обещая взамен возвращение твердой монеты. Пошел тот же торг, как при Филиппе Красивом.
Однако в диалоге возник новый элемент: разорение Артуа и Лангедока предвещало, что обличье войны меняется. Уже мало было созвать армию — еще нужно было держать в городах постоянные гарнизоны. По-прежнему говорили о смерти за короля, но уже начали всерьез задумываться о безопасности населения.
Итак, три сословия согласились помочь королю. Об этом поочередно сказали архиепископ Реймсский Жан де Краон, коннетабль Жак де Бурбон, купеческий прево Этьен Марсель. Но им понадобится месяц, чтобы договориться о форме, которую может принять эта «помощь» королю.
Это будет налог в восемь денье с ливра на все продажи, которым обложат продавца[50]. Его будут взимать комиссары — «делегаты» (elus) Штатов, то есть избранные ими люди. Штаты не возражали против помощи королю, но использование им этой помощи хотели поставить под свой контроль. Что касается твердой монеты, которой требовали крупное деловое бюргерство и земельная аристократия — партия кредиторов и партия рантье, — не задумываясь, возможна ли и даже желательна ли эта твердая монета при тогдашнем валютном рынке, то ее начнут чеканить с середины января. Это будет «блан с замком» (blanc au chatel), украшенный лилиями и весящий 4,07 г серебра при 333-й пробе. Слишком крупная монета, чтобы устоять под напором рынка, она очень быстро вздорожает в огне инфляции — за два месяца ее курс вырастет от официального в восемь турских денье до реального в шестнадцать денье, в апреле придется выпустить монету сходного типа, но легче на треть и с номиналом вчетверо меньшим.
Штаты не очень доверяли властям — они добились нового созыва в марте. Королевская власть не попала, конечно, под опеку, но уже была подконтрольна. Кстати, в ожидании следующей сессии Штаты назначили постоянную комиссию, которой было поручено следить за использованием налогов, а значит, за подготовкой к войне. В этом верховодили друзья Этьена Марселя вместе с несколькими нотаблями Дворца. Финансовых чиновников, которых обоснованно обвиняли в налоговых и монетных спекуляциях, чье богатство начало вызывать удивление общества, намеренно не подпускали к этому новому политическому механизму. Некоторых арестовали, другие держались спокойно.
Настал март, а эта система все не подтверждала свою эффективность. Налог поступал плохо. Во многих городах поставили под сомнение действительность решений, принятых в Париже. Аррас, Эврё, Кан, Байё отказались платить. Семнадцать аррасских бюргеров, которых с большей или меньшей вероятностью подозревали в сговоре с королевским фиском, погибли во время разгрома дома Гильома Ле Борня, одного из эшевенов. Погромщики выбросили их тела из окон, а потом направились искать ссоры с некоторыми другими нотаблями, прежде всего с приором тринитариев, человеком очень непопулярным. Они утихомирились только с появлением маршала Одрегема.
Сельская местность платила не лучше, чем города. Делегаты Штатов теряли там силы без особого толка. Появилось осознание, что желать подменить собой королевскую администрацию проще, чем сделать это на практике.
Штаты, собравшиеся в марте 1356 г., искали выход на ощупь и сочли, что решить проблему можно путем модификации типа налога. Перешли к прямому налогу, обложив им как оборотный капитал — задача состояла в том, чтобы охватить и торговые капиталы, не вложенные в земли, — так и земельные доходы. Но сбор такого налога предполагал точную оценку податных возможностей всех королевских подданных. Не то чтобы это было нереально, но это займет месяцы, а Штаты как будто не догадывались, что времени до войны оставалось мало.
В то время как новая финансовая политика терпела провал, началась неприятная активизация придворных заговоров. Король Наваррский подписал мир лишь неохотно, а какие планы он вынашивал во время пребывания в Авиньоне, известно. Советники, отстраненные Штатами от управления финансами, все эти Никола Браки, Ангерраны дю Пти-Селье, Роберы де Лоррисы, Жаны Пуальвилены, рассчитывали на реванш, в то время как честолюбцы всех мастей караулили удобный случай.
В первых рядах этих ловцов удачи находился епископ Ланский Робер Ле Кок. Этот бывший адвокат короля в парламенте был очень талантливым юристом и полемистом. Он весьма рассчитывал стать канцлером Франции. Девять лет назад он уже сменил Пьера де ла Форе в парламенте. Почему бы ему не стать преемником последнего и на посту канцлера? Робер Ле Кок рвался играть политическую роль, но он также знал, что Пьер де ла Форе наложил руку на прекраснейший бенефиций французской церкви — архиепископство Руанское. Должность епископа Ланского, какими бы историческими воспоминаниями она ни была овеяна, приносила втрое меньше дохода.
Ле Кок принадлежал к числу политических советников будущего Иоанна Доброго, в то время герцога Нормандского. Он заседал в Штатах 1346 г. Он участвовал во франко-английских переговорах в 1350 г. Произведенный в докладчики прошений, он сопровождал короля Иоанна в Авиньон; там он сделал полезные знакомства и набрал пребенд. Но этого ему было мало.
Увы, он столкнулся с соперниками. Он домогался сана епископа, и ему казалось: он не получает митру так быстро, как хочет, лишь потому, что его не поддерживает король. Наконец он вернулся из Авиньона епископом Ланским и в этом качестве — герцогом и пэром, но очень злым на прежнего господина. Это настроение бывшего королевского адвоката сумеет использовать Карл Злой. В 1355 г. Робер Ле Кок стал креатурой короля Наваррского. Примирение Франции и Наварры дало ему место в Совете Иоанна Доброго.
Хотя он теперь и был недоволен своим королем, Ле Кок не забывал, что — в обществе Пьера де ла Форе и вслед за ним — он в свое время поставил на герцога Нормандского, прежде чем тот стал королем, и выиграл. Вместо благодарности он извлек из этого опыта идею, что настраивать сына против отца — выгодное дело. Против Иоанна Доброго этот прирожденный заговорщик сыграет той же картой, что и прежде, — картой нового герцога Нормандского.
Казалось, история повторяется. Сформировалась группировка, стремящаяся к тому, чтобы дофин Карл — с 1349 г. он стал дофином Вьеннским — получил реальную власть над герцогством Нормандским, автономии которого ни один король Франции не хотел, настолько близким оно было к Парижу. Роберт Ле Кок уже видел себя канцлером Нормандии, которым был одно время Пьер де ла Форе, прежде чем стать канцлером Франции.
Но Иоанн Добрый умирать не собирался. Значит, надо было избавиться от него. Во что бы то ни стало… Лишь исключительно успешная династическая пропаганда Валуа, отголосок которой слышится в хрониках, могла изгладить из памяти людей колебания французов перед выбором 1328 г. Харизму, защитившую Филиппа Красивого от мятежных замыслов Бернара Сессе[51] всерьез подточили сомнения по поводу прав династии Валуа.
Если знать, как позже им манипулировать, в этом деле можно было задействовать одного человека — императора. Карл IV Люксембургский находился на вершине славы. Король Чехии, римский король — фактически король Германии, — он готовился принять в Риме императорскую корону. А ведь у этого сына Иоанна Слепого была сестра — Бона Люксембургская, родная мать дофина Карла. Бона умерла в сентябре 1349 г., слишком рано, чтобы стать королевой Франции. К тому же Карл был имперским князем как дофин Вьеннский.
Идея Робера Ле Кока была простой: вывезти дофина из Франции, поставить его в Германии под покровительство дяди и вернуть с сильной императорской армией. Король Наваррский для этого отъезда предоставит рекомендации и эскорт.
Подумать только. Епископ Ланский вершит судьбы императора, дофина, короля Наваррккого и, наконец, французской короны. Но среди придуманных им планов ни один не был чисто иллюзорным. Шурин и зять, Иоанн Добрый и Карл IV, недолюбливали друг друга. Брак Иоанна и Боны Люксембургской, хоть и не бездетный, счастливым не был: герцог Нормандский больше был привязан к друзьям, чем к жене, свои дружеские пристрастия были и у Боны. Ходил даже слух, что в лице графа д'Э, Рауля де Бриенна, она нашла более чем друга. Может быть, трагическая судьба коннетабля отчасти объяснялась неверностью королевы. Как бы то ни было, играть против короля при помощи партии, связанной с женщиной, которая не успела стать королевой Франции, было совершенно немыслимо: дофин приходился сыном Боне Люксембургской.
Уже в августе 1355 г. Карл IV начал искать ссоры с Иоанном Добрым. Спорные права на Камбре и Верден, вопросы сюзеренитета над Бургундией и Дофине дали повод для предъявления меморандума королю Франции. Последнего ободрило франко-наваррское примирение в сентябре: пока что он пренебрег угрозой.
Но это примирение, скрепленное Валонским договором, было, с другой стороны, благоприятным для замыслов епископа Ланского. Карл Злой мог теперь встречаться с дофином — первый раз в Водрёе, второй в Париже. Робер Ле Кок без труда плел нити заговора. Разработали даже детали экспедиции в Германию: кроме короля Наваррского в эскорт дофина должны были войти такие заведомо недовольные, как Гильом Намюрский — племянник Робера д'Артуа, Жан д'Аркур — племянник Жоффруа, Робер де Лоррис (и он тоже…) и еще человек пятнадцать. Выехать решили 7 декабря.
Враги Иоанна Доброго зашли очень далеко. Некоторые заговорили об аресте короля. Это было слишком. Менее рьяные испугались. Начались разговоры. Может быть, ужаснулся сам дофин. Получив предупреждение о том, что затевается против него, даже если узнав не все, Иоанн Добрый вызвал сына, осознал угрозу, в которой не было ничего невероятного (ведь тот, кто царствует в Англии, лишил престола своего отца Эдуарда II и, несомненно, велел его убить, не так ли?), и сразу уступил соображениям благоразумия. В тот день, когда дофин должен был покинуть Париж и выехать в Германию, он получил жалованные грамоты на герцогство Нормандское. Будущий Карл V выиграл. Он не уедет.
Тридцать наваррских всадников, ждавших в Сен-Клу, не встретят дофина, которого должны были сопровождать в Мант к королю Наваррскому.
Акт насилия в Руане
Робер Ле Кок не считал себя проигравшим. Ему оставалось только настроить нового герцога Нормандского против отца. Эта задача была наполовину выполнена, когда он убедил Карла поехать в Руан. Что может быть естественней, если герцог Нормандский на несколько месяцев поселится в своей новой столице? Что удивительного, если его сопровождает знатнейший из нормандских баронов — граф д'Эврё и король Наваррский? И что необычного, если при нем находится епископ, к тому же блестящий легист?
Из того, что затевалось в Руане, где новый герцог Нормандский держал пышный двор, по-настоящему ничто не ускользало от внимания короля Иоанна. В связи с его яростной реакцией нетрудно будет иронизировать насчет бредовых фантазий суверена. Но Иоанн II отнюдь не был параноиком. От падения Эннебона до руанского дела он часто ощущал дуновение измены. А группировка, владевшая Нормандией, едва скрывала свои намерения.
После того как Иоанн Добрый был вынужден уступить в вопросе Нормандии, и вплоть до самой драмы король вел себя гордо: 6 января 1356 г. он отверг императорский меморандум. Ну, посмотрим…
В последние дни марта Жан д'Артуа, новый граф д'Э, предупредил короля о новой угрозе: его хотят заставить отречься от королевской власти в пользу старшего сына. Сын того самого Робера д'Артуа, которого трудно было бы назвать другом рода Валуа, Жан д'Артуа не попал в опалу вместе с отцом и, по крайней мере, был не лишен чувства благодарности: Иоанн Добрый дал ему графство Э после казни коннетабля Рауля де Бриенна. Имущество покойного связало графа д'Э с королем.
И потом, дерзости Робера Ле Кока начали приобретать широкую известность. Разве тот не говорил о «дурной крови и гнилом роде» Валуа? Не уверял, намекая на слухи, ходившие после казни Бриенна, что король Иоанн просто-напросто велел убить первую жену, Бону Люксембургскую? Не твердил каждому собеседнику: мол, король Иоанн вполне достоин того, чтобы ему отрубили голову?
Наконец, и, может быть, прежде всего, граф д'Э был теперь в Нормандии главным соперником графа д'Эврё, короля Наваррского. Если бы заговор удался, на Жана д'Артуа быстро набросились бы с претензиями все, кто пострадал от короля Иоанна. Ведь Бриенны по-прежнему притязали на графство Э…
Тогда-то в Руане и появился снова старый Жоффруа д'Аркур, один из первых баронов, в свое время поставивших под сомнение легитимность династии Валуа. Ненавидя в равной мере и отца, и сына, Аркур проявил к новому герцогу Нормандскому пренебрежение, дополнительно усложнившее политическую ситуацию. 11 января, в день, когда нормандские бароны приносили оммаж своему сеньору, герцогу, Жоффруа д'Аркур явился, держа в руках заверенный печатью оригинал «Хартии нормандцам» 1315 г. — основного документа, подтверждающего нормандские вольности. И поставил условие: пусть герцог Карл поклянется соблюдать хартию, и он, Аркур, тут же принесет оммаж.
Дофин смог только попросить отсрочки для чтения. Видимо, этот инцидент был для него неожиданным. Однако Аркур отказался доверить драгоценный документ отпрыску рода Валуа, вернул его в сокровищницу собора и покинул Руан, не заводя больше речи о принесении оммажа за фьефы.
Этот своевольный поступок старого барона, пусть даже его спровоцировал и организовал его племянник Жан д'Аркур, не принес непосредственной пользы никому. Это был акт враждебности по отношению к семье Валуа, атака на короля Иоанна в лице герцога Карла. Аркур отнюдь не собирался влиять на Карла во вред Иоанну.
Если присмотреться внимательней, все выгоды достались Карлу Злому. Суровое предупреждение со стороны Аркура означало, что бароны герцогства подчиняются не без задней мысли. Кстати, февральская сессия Штатов Нормандии в Водрёе тоже показала, что нормандцы ропщут. Там речь зашла о налоге, а эта тема делала герцога Карла столь же непопулярным, как и его отца. Он смог понять: признание нормандцами его новой власти возможно лишь при благосклонности первого из баронов — графа д'Эврё, короля Наваррского. Без Карла Злого дофин в Нормандии мало что мог.
Все это через очевидцев дошло до ушей короля Франции. Его имя замазано грязью, его сюзеренитет не ставят ни во что. Его старший сын допускает это… Он дал сыну герцогство, и в герцогстве началась анархия. Он заключил мир с зятем, королем Наваррским, а тот игнорирует его власть. Более того, руанские заговорщики теперь хотят похитить короля и даже убить его. Во всяком случае, до него дошел такой слух в конце марта, в области Бове, куда король прибыл на крестины первого сына Жана д'Артуа.
Иоанн Добрый не был дураком, но он был импульсивен и подвержен внезапным и неудержимым приступам гнева. Реальной или химерической была эта опасность, но история с похищением переполнила чашу его терпения. С небольшим отрядом король выехал в Руан.
5 апреля 1356 г. Герцог Нормандский принимает друзей. Придворные вот-вот усядутся за стол. Здесь Наваррец, три брата д'Аркур, множество баронов, несколько бюргеров. Присутствует и мэр Руана. Пока что слушают сира Жана де Бивиля, в сотый раз рассказывающего о своем легендарном подвиге — как он однажды разрубил турка надвое. Обстановка очень шумная. То, что происходит за пределами зала, сейчас никого не интересует.
Жоффруа д'Аркура здесь нет. Мятежник против короля и герцога, вызванный на суд парламента, он понимает, чем рискует. Он предусмотрительно поселился вне города, на левом берегу Сены.
К середине дня он узнает о внезапном отъезде короля. Иоанн Добрый провел ночь в Менневиле и теперь галопом скачет в Руан. Это не выезд двора и не охота: короля сопровождают сто вооруженных всадников. Это полицейская операция. Жоффруа д'Аркур, видя опасность, срочно шлет в город оруженосца: пусть его племянник Жан покинет замок, пока не поздно.
Жану д'Аркуру не нужно повторять дважды. Безо всяких объяснений он велит седлать коня. Он надевает плащ. Другие садятся за стол. Аркур уже выходит, когда Робер де Лоррис окликает его:
Монсеньор герцог ждет за столом только вас.
За столом осталось одно пустое место, притом за почетным столом. Как можно скрыться в такой ситуации? Жан д'Аркур снимает плащ, отсылает оруженосца обратно и садится за стол герцога Нормандского. К пиру приступили в хорошем настроении, и, по сути, никто не считал, что они здесь плетут заговор.
Никто настолько не ожидал ничего дурного, что герцог даже не подумал выставить охрану для замка. Кто посмеет напасть прямо в городе Руане на старшего сына французского короля? На главных городских воротах есть стража. В небольшой потайной ход, ведущий прямо за город, потому что замок стоит вплотную к городской стене, даже не поставили дозорного. Чего ради?
Все эти заговорщики на отдыхе, все эти бароны, настроенные более или менее фрондерски, но пока занятые едой и питьем, внезапно столбенеют. Вслед за сержантом, потрясающим булавой, в зал входит король Франции.
Для вящей внезапности Иоанн Добрый даже не поехал через город. Он обогнул его с севера и вошел потайным ходом. Он спешно взбежал по лестнице вместе с первым сержантом. Это был не королевский выход, а захват замка.
Чтобы понять, что король одет не для дружеского визита, герцогу Нормандскому и его гостям незачем долго вглядываться. Иоанн Добрый в шлеме, лишь забрало поднято. Никто и никогда не надевал шлем в дорогу. Гости это знают слишком хорошо, чтобы сразу же не сообразить: король вооружился, чтобы войти к сыну.
Впрочем, какие тут могут быть иллюзии. Сержант громко бьет булавой о дверь, чтобы наступило молчание. Слышится крик: «Никому не двигаться, если он хочет жить». Это крикнул сержант? Или скорей маршал Одрегем, стоящий с обнаженным мечом возле короля?
Теперь рядом с Иоанном Добрым появляются его брат Филипп Орлеанский, второй сын Людовик Анжуйский — он будет править Францией в детские годы Карла VI и умрет королем Неаполя — и их кузены Артуа, Жан и Карл. Здесь же и заклятый враг Аркуров, их наследственный противник — Жан де Танкарвиль. Сцена, разыгравшаяся 5 апреля 1356 г. в Руанском замке, была в то же время одним из эпизодов истории старинного соперничества знатных нормандских баронов. Полвека спустя она стала прямым продолжением ужасного поединка, которого, как считается, не допустил Филипп Красивый[52].
За почетным столом никто не проявляет излишней гордости. Безопасность гостей должен гарантировать хозяин — Карл Нормандский. Но король Франции как будто не помнит, что он в доме у сына. Он идет прямо к зятю, королю Наваррскому, и хватает его за воротник.
Встань, предатель! Ты не достоин сидеть рядом с моим сыном!
Колен Дублель, оруженосец короля Наваррского, в то время выполнял обязанности «стольника», то есть резал мясо для своего господина. Увидев того изрядно потрясенным, он поднимает нож на французского короля. Очень некстати. Люди короля тут же хватают его.
Другие уже уводят короля Наваррского. Напрасно Карл Злой напоминает, что сейчас мир. Ведь организаторы убийства Карла Испанского получили грамоты о помиловании… Ведь Валонский договор составлен и заверен по всей форме… И напрасно дофин Карл умоляет отца:
Вы меня бесчестите. Я пригласил на обед короля Наваррского и этих баронов, а вы с ними так обходитесь. Что обо мне скажут и подумают? Скажут, что я их предал.
Это в самом деле скажут, и многие подумают, что пир герцога Нормандского был ловушкой. Даже мэра Руана обвинят, что он намеренно снял охрану с подземного хода.
Король Иоанн слишком взбешен, чтобы выслушивать жалобы сына. Они даже разжигают его ярость. Оттолкнув принца — как скажут, пнув ногой, — он хватает булаву у сержанта.
Жан д'Аркур может только пожалеть, что сел за стол вопреки совету дяди. Король Франции оскорбляет его, наносит такой удар булавой по спине, что белый корсет[53] лопается от воротника до пояса. И вот его тоже арестуют вместе с двумя-тремя другими баронами, известными преданностью партии короля Наваррского.
Король непрестанно кричит, угрожает: мол, он не сможет ни есть, ни жить до тех пор, пока виновных не покарают. Эти слова напоминают о кануне казни коннетабля Бриенна. Иоанн Добрый в гневе был скор на расправу.
Если вдуматься, поспешность, возможно, была и кстати. Король, конечно, не мог рассчитывать, что в Нормандии его любят больше, чем местных знатных нормандцев, таких, как Аркур. У него не было уверенности, что неприятие налога не выльется в ненависть к короне. Короче говоря, в интересах Иоанна II было в Руане не мешкать. Он вызвал «короля гуляк» (roi des ribauds) — чиновника, играющего при дворе трудно определимую роль исполнителя любых приказов.
О процессе не было и речи. Как и в случае с Бриенном. Король был верховным судьей королевства, и все очень хорошо знали его права: верховный суд, иначе говоря, парламент, судил только именем короля. Если король лично вершит суд вместо того, чтобы поручать это судьям, которые не более чем его представители, кто мог бы найти возражения? За нарушение ленного права, за вероломство вассала, поднявшего мятеж против сеньора, последний мог судить только в окружении двора, то есть других вассалов. Но за преступление судил король, потому что он обладал правом высокого суда[54]. Обычному суду в данном случае делать было нечего. Заговор против короны — это тебе не нарушение договорного ленного права.
Конечно, в Руанском замке право высокого суда принадлежало герцогу Нормандскому, а не его сеньору, королю Франции. В пределах юрисдикции вассала сюзерен не имел иного права, кроме как на апелляционный суд. Но кого в тот суматошный день, 5 апреля, волновала юрисдикция герцога Карла? Арестованные бароны узнают о своем приговоре, только когда их поведут на казнь. Однако с появлением короля они уже ждали худшего для себя.
Еще не наступила ночь, когда три телеги отвезли Жана д'Аркура и троих из его спутников на ярмарочное поле к северу от города, на Нефшательской дороге. За несколько минут все было кончено. Тщетно Аркур пытался оттянуть казнь, обещая сделать некие разоблачения. Прием был слишком избитым. Дофин и маршал Одрегем убеждали не спешить и выслушать его. Король Иоанн остался непоколебим.
Велите избавить этих предателей!
Он повторил эту фразу дважды, с раздражением. Избавить (delivrer) не означало освободить. Случайный палач сделал свое дело; это был убийца, приговоренный к смерти, который тем самым заработал помилование. Аркур умер первым, без исповеди. Он изменил королю; он заслуживал не только смерти, но и ада.
Чтобы поскорей покончить с делом, плаху поставили прямо перед графом, силой поставили его перед ней на колени, нагнув ему голову, обнажив шею и завязав глаза.
И палач ударил по шее топором. Понадобилось шесть ударов, чтобы голова упала на землю.
Священника предоставили Колену Дублелю. Он был виновен в том, что поднял оружие на короля, но он это сделал из верности господину, а не как сознательный изменник.
В окружении дофина воцарился страх. Четверо жертв акта насилия погибли, толком не зная, в чем их обвиняют. Короля Наваррского, сидевшего в заключении, считали невинной жертвой наветов, и простой народ сочинит песни, оплакивающие его участь. Филипп Наваррский попытается вступить в осторожные переговоры о судьбе брата, а потом, в конце мая, направит вызывающее письмо, представляющее собой верх дерзости:
Я вижу и знаю, что разум и справедливость Вам неведомы.
Многие нормандские сеньоры в то же время сообщили Иоанну Доброму, что берут назад оммаж. И, совершенно естественно, переходят к другому возможному сюзерену — Эдуарду III. Старый Жоффруа д'Аркур даже начал переговоры с Плантагенетом о передаче ему всего наследства. В представлении Наваррцев и их вассалов это была не измена королю Франции, а непризнание Валуа как узурпатора короны. Какая важность, сколько воды утекло, прежде чем они отвергли выбор, сделанный в 1328 г. баронами, несколько похожими на них…
Иоанн II совершил немало оплошностей и диких выходок. Но он очень дорого платил за вынужденное политическое решение, на которое пошли преемники Людовика X, чтобы сохранить свой свежеприобретенный трон: за лишение дома Эврё его главного наследия — Шампани. Карл Злой в тюрьме остро ощущал, что обокрали его мать, что обокрали его самого, что его сделали посмешищем — отдав Ангулем Карлу Испанскому — и что в конечном счете с ним обходятся как со злодеем.
Пока Иоанн Добрый, весь двор и его пленники ехали на север по Сене, чтобы незадолго до Пасхи достичь Парижа, недовольство расползалось. По столице ходили слухи. Карла Злого поместили под стражу в Лувре, потом в Шатле и в конце концов решили, что Париж ненадежен: один из вассалов Наваррца, Жан де Фрикан, только что бежал. Поэтому пленника перевели в лучше изолированные крепости — сначала в Кревкёр и наконец в Арлё, близ Дуэ.
На что рассчитывал Иоанн Добрый, посадив его в заключение? В Руане он не решился немедленно покарать принца крови. Несомненно, когда приступ гнева у него прошел, он больше не думал о примерном наказании. Но пребывание Наваррца в плену просто-напросто означало легкий конец борьбы, в которой французский король, откровенно говоря, видел только долгую череду заговоров и измен. Иоанн Добрый не считал, что вывел противника из игры не самым честным способом, поправ законы гостеприимства и нарушив заключенный по всей форме мир. Он полагал, что обезвредил неисправимого и дурного подданного.
Если кто извлек из этого дела выгоду, так это Робер Ле Кок. Его надежно защищал епископский сан. Он им воспользуется, легко манипулируя Генеральными штатами.
Финансовый кризис
В то время, как интриги и недопонимания привели к этому роковому событию в Руане, почти столь же наглядно провалилась финансовая политика. 8 мая по новой сессии Штатов стало понятно, насколько все устали. У прелатов и баронов теперь были другие дела, и одни только бюргеры взялись за новое изменение налоговой системы. Они надеялись наконец найти действенные методы. По сути они довольствовались упрощением расчета налогов.
В связи с этим против королевской власти и поднялась власть Этьена Марселя, еще не выглядевшего противником, но уже выступавшего в роли партнера. Лояльный, даже умеренный, купеческий прево Парижа полагал, что интересы короля и интересы парижских деловых кругов в конечном счете очень близки: война — это перекрытие экономических путей, это ужесточение кризиса. Процветание Парижа как центра экономики плохо сочеталось с боями на Сене. Когда в ноябре 1355 г. Этьен Марсель привел в Пикардию парижский контингент королевского оста, он использовал также возможности «речного товара» (marchandise de Геаи) — эта трудно определимая реалия означала прибыль, которую парижские бюргеры извлекали из монополии на все водные перевозки в парижском регионе и из контроля за ними.
Пусть себе англичане спокойно остаются в Кале, а суда по-прежнему спускаются по реке с грузом вина и леса, а возвращаются груженые зерном, солью, сеном и фруктами. Политическая позиция «речных купцов» (marchands de l'eau) была достаточно ясной.
В июне король Иоанн выступил в поход на наваррскую крепость Бретёй-сюр-Итон. Парижане и руанцы находились в первых рядах королевской армии. Париж интересовала судьба короля Наваррского, но со знатными баронами, такими как Аркур, деловое бюргерство не испытывало особой солидарности. Аристократия до сих пор никогда не проявляла особой заботы о Гревской площади[55].
Все бы ладно, если бы поступал налог. Этого не происходило. Пусть даже головы главных заправил событий кровавой аррасской недели были выставлены на всеобщее обозрение — насажены на колья на стене у городских ворот — и никто больше не смел противиться сбору королевского налога. Но близилось время возобновления военных действий, а казна была пуста и курс турского ливра на валютном рынке падал. В конце июля Иоанн Добрый сделал из этого два вывода.
Во-первых, он призвал в Совет тех, кого сторонники реформ считали ответственными за ситуацию, сложившуюся прежде, даже тех, чьего отстранения полгода назад добились Штаты. Никола Брак возглавил Счетную палату, Жан Пуальвилен — Монетный двор. Для Марселя и его друзей возвращение этих людей было победой спекулянтов. А ведь по личным причинам, к которым мы еще вернемся, Марсель считал себя одной из жертв спекулянтов. Он был вне себя.
Вера парижского бюргерства в короля Иоанна была серьезно подорвана.
Во-вторых, он провел девальвацию. Хоть она была бесспорно неизбежна, ее восприняли как признак политического поворота. Король прежде обещал твердую монету. Порча ливра истребляла остатки доверия к власти. Арендная плата переставала приносить доход, ренты снижались. Через несколько недель бюргеры Парижа, Амьена или Руана забудут отправить в королевскую армию свои отряды, обычно составлявшие ядро пехоты. Что касается крупных землевладельцев, прелатов и баронов, их не радовало, что их чинш снова обесценивается. Девальвация на какое-то время облегчала жизнь должникам, арендаторам и держателям. К несчастью для короля, они в конечном счете острей воспринимали рост цен на продукты питания. Короче говоря, роптали все, и не без оснований.
Ланкастер в Нормандии
В то время Иоанн Добрый вел кампанию в Нормандии против англо-наваррцев. В первые дни июня Филипп Наваррский и Жоффруа д'Аркур получили первые подкрепления, присланные Эдуардом III. Это был отряд Роберта Ноллиса, который поддерживал партию Монфора в Бретани и соединился на Котантене с недавно высадившимся корпусом под командованием герцога Ланкастера. Черный принц отвечал за Гиень; война в Нормандии выпала на долю его младшего брата Ланкастера, принца, которого двор прозвал Джоном Гонтом (Гентским), потому что он родился в то нелегкое время, когда Эдуард III и королева Филиппа жили во Фландрии.
Отправив одного сына на север, а другого на юг, Эдуард III умело распределил командование. Он с безупречным искусством использовал принцев, уже взрослых, чтобы, как десять лет назад, снова не покидать Англию на произвол судьбы и шотландцев. Лично Эдуард III больше не будет руководить делами на материке.
Ланкастер разбил постоянный лагерь в Монтебуре, близ Валони. Оттуда было несколько часов хода до бухты Сен-Вааст-ла-Уг, в удобстве которой еще десять лет назад убедился Эдуард III. Прежде чем Валуа успел отреагировать, Ланкастер направился к Сене. Казалось, история повторяется.
Не заходя в Эврё — сердце домена Наваррца, — который французы заняли несколько дней назад, англичане сожгли Вернон и предместья Руана. 4 июля они остановились в Вернёе. Ланкастер не хотел терять время на взятие замка Вернон и не собирался по-настоящему угрожать такому укрепленному городу, как Руан. Он устраивал набег и не более чем набег. Услышав о приближении французов, он сразу удалился.
Французы осадили Понт-Одемер, и Робер д'Удето два месяца тратил силы в борьбе с наваррским гарнизоном, который вполне мог продержаться все лето. Потом он сразу снял осаду — это был единственный непосредственный успех Ланкастера и его союзников. Тогда же Иоанн Добрый сосредоточил силы на Нижней Сене и, наконец, двинулся по следам Ланкастера.
Англичанин не стремился к правильной битве, в которой у французской армии изначально было бы численное преимущество, а чудо Креси могло не повториться. Он отступал. Иоанн Добрый, напротив, искал сражения. Он уже дал острастку герцогу Нормандскому, своему сыну, и бросил в тюрьму короля Наваррского, своего зятя. В таких условиях поражение англичан позволило бы, наконец, сбросить бремя, тяготевшее над Нормандией как достоянием династии Валуа. Как и его отец Филипп VI в 1346 г., Иоанн Добрый пытался настичь врага, чтобы вынудить принять бой. Кстати, эта погоня 1356 г., когда тяжело нагруженная армия гналась за легким отрядом налетчиков, стала для французов сложной задачей…
Встреча произошла под Леглем 8 июля. Теперь здесь были сосредоточены все французские силы. И все командование, потому что Иоанн Добрый разделения обязанностей не практиковал. Урок Креси явно не пошел впрок. При французском короле находился его старший сын, герцог Нормандский; это наводит как минимум на мысль, что у короля Иоанна были весомые причины не терять наследника из виду. Но здесь же были его брат герцог Орлеанский, его коннетабль Готье де Бриенн, оба его маршала — Клермон и Одрегем. Не то чтобы забыли о гекатомбе Креси, просто создателю ордена Звезды ни на миг не приходило в голову, что все эти люди могут погибнуть или попасть в плен. Для вящей красоты подвига должен был собраться весь цвет французского рыцарства. А побежденным будет Ланкастер.
Иоанн Добрый послал к англичанину двух герольдов, вызывая его на битву. Обе армии готовы к бою. Необыкновенное зрелище. Никто не шелохнется, ни один конь не выходит из строя.
Французы были утомлены преследованием. И король предпочел дождаться следующего дня, чтобы напасть на них. Англичане знали, что их слишком мало: от них инициатива исходить не будет. Пока противники смотрели друг на друга, день кончился.
Ночью французские дозорные видели костры английского лагеря. Бог свидетель, они были бдительными!
Они выставили многочисленный дозор, ибо ожидали нападения, полагая, что наваррцы в этот день не тронулись с места.
Настало утро. Французы увидели над длинным частоколом силуэты вражеской кавалерии, выстроенной в ряд. И Иоанн Добрый велел трубить к бою. Забились на ветру знамена и стяги. Наконец начнется конное сражение, настоящее сражение, по рыцарским правилам. Конечно, было немного странно, что в рядах англичан нет никакого движения, предвещающего начало боя. Но конница Ланкастера укрылась за изгородями, а французский король предпочел бы, чтобы она подставила себя под удар, перейдя в атаку. Идти одновременно на частокол и копья не хотелось.
Шли часы. Во французском лагере нарастало напряжение. Чего хотят эти всадники — копий двести, замерев неподвижной цепью, в то время как главные силы армии не видны за ними?
Во второй половине дне наступила неожиданная развязка. Двести всадников внезапно пришпорили коней и исчезли в бокаже. Иоанн Добрый послал гонцов, чтобы выяснить ситуацию. За частоколом никого не было.
Что случилось, французы узнают от крестьян. Еще в полночь англо-наваррцы ушли. Они оставили двести человек на лучших скакунах, чтобы до девятого часа французы ничего не предприняли. Теперь эти двести всадников скачут галопом к месту встречи, назначенному накануне вечером. Англичане идут на Шербур, а наваррцы, делая большие переходы, возвращаются по крепостям, которые уже удерживают в Нормандии. Против такого рассредоточения вражеских сил армия французского короля предпринять ничего не сможет.
У Иоанна Доброго была сильная армия, способная выиграть битву. Но у него не было возможностей прочесывать Нормандию в поисках рассеявшихся отрядов. Кто добрался до Конша, кто до Бретёя. Ланкастер теперь возвращался в Монтебур. Ноллис собирался осадить Домфрон.
В глубине души Иоанн Добрый, должно быть, считал себя победителем. Он предложил битву. Противник уклонился от нее. И король тут же попал в ловушку, которую ему расставили Ланкастер и Филипп Наваррский: двинулся осаждать Бретёй, одну из наваррских крепостей. Там, имея ограниченные средства для обороны, капитан Санчо Лопис — нормандцы его называли Сансон Лопен — сумел сковать до середины августа армию, стоившую французским податным людям круглую сумму.
Осада Бретёя стала красивой демонстрацией военного искусства. Поскольку времени хватало — в самом деле, кто думал о Гиени и Черном принце? — вновь почтили вниманием старинную технику осады при помощи башен, благодаря которой два с половиной века назад Готфрид Бульонский смог, воздев меч, прорваться в Иерусалим. Лестница — это эскалада поодиночке, а башня — массовый приступ.
Люди из оста установили и воздвигли большие орудия, каковые днем и ночью метали снаряды на крыши башен, нанося немалый ущерб. И велел король Франции великому множеству плотников выстроить штурмовую башню в три яруса высотой, каковую бы возили на колесах туда, куда требовалось. На каждый ярус вполне могло войти две сотни человек и всем пособить. И была она снабжена бойницами и обтянута кожей, дабы выдержать сильный обстрел. Иные называли ее «котом», другие же — осадным устройством.
В то время как ее сколачивали и ладили, окрестным крестьянам было велено принести и доставить дерево в великом множестве, и свалить его во рвы, и засыпать сверху соломой и накрыть тканью, дабы подвезти оное орудие на четырех колесах к стенам ради сражения с теми, кто пребывал за оными. И так добрый месяц заполняли рвы в том месте, где желали приступить к штурму и применить «кота».
Пока под Бретеём рубили и вязали ветки на радость будущему Фруассару, в поход выступил и Черный принц. Он без труда заново набрал лангедокскую армию, готовую к новым грабежам. Через Перигор и Лимузен он в середине августа достиг Берри. Он сжег предместья Буржа, не смог взять Иссудён, разорил Вьерзон, захватил Роморантен. Ситуация прояснилась, когда стало известно, что Ланкастер покинул свое убежище на Котантене и в сопровождении того же Филиппа Наваррского пытается соединиться в Турени с гиенской армией.
В Бретёе время тянулось медленно. К пятнадцатому августа все было готово к приступу. Ров был засыпан в предусмотренном месте, «кот» крепко сколочен и надежно обшит толстой кожей.
В оную штурмовую башню вошли лучшие рыцари и оруженосцы, каковые желали сразиться первыми. И стронули башню на четырех колесах, и подвезли ее к стене.
Люди в гарнизоне хорошо видели, как строится оная башня, и отчасти поняли, как намерены штурмовать их крепость. А были у них пушки, огонь мечущие, и большие снаряды, дабы все сокрушать. И разместились они, дабы напасть на оную башню и защититься с большим успехом.
И поначалу, прежде чем стрелять из своих пушек, они вступили в рукопашный бой с теми, кто вошел в башню, лицом к лицу. И много было там славных схваток. Изрядно натешившись, они начали стрелять из своих пушек и метать огонь на оную башню и внутрь нее, вместе же с огнем бросать во множестве большие и тяжелые снаряды, каковые ранили и умертвили весьма немало народу.
Оглушенные, обожженные, приведенные в расстройство, латники короля Франции почти не имели выбора. Покинув разрушенного «кота», они обратились в бегство. С высоты стен кричали «Наварра» и «Святой Георгий».
В этот момент Иоанн Добрый поступил бы очень верно, сняв осаду с Бретёя. Маленькому гарнизону Сансона Лопена было не по силам преследовать королевскую армию. Самое большее, что он мог, — это, как ни смешно, сковывать в Нормандии войска, которые были бы полезней на Луаре.
Но король знал, что обе английских армии пытаются объединиться. После этого возникнет единый фронт от Нижней Сены до Лимузена. Поэтому Иоанн Добрый форсировал осаду, мобилизовал несколько сот крестьян, чтобы заполнять рвы вокруг всего города, велел готовить лестницы. Внезапно удача как будто ему улыбнулась. Наваррец Сансон Лопен выполнил свой долг, но ничего от героя в нем не было. Видя, что не выдержит штурма, он приступил к переговорам о сдаче: он знал, что его люди не смогут защищать город сразу по всему периметру.
При условии сохранения жизни себе и своим людям Лопен сдал Бретёй. Иоанн Добрый снова считал себя победителем. После Легля был Бретёй. Разве король Франции мог не утвердиться в мысли, что пришло время прочно закрепить победу Валуа над Эврё-Наваррой и над Плантагенетами? Его упрямое желание сражаться несмотря ни на что во многом станет следствием преувеличенной оценки своих последних «побед».
Набег Черного принца
Однако Черный принц достиг долины Луары. В начале сентября он вошел в Амбуаз. На другом берегу реки он уже видел армию Ланкастера. Оставалось захватить мост, и французский король попадает в «клещи».
Позиция Иоанна Доброго была тем более шаткой, что в Нормандии подняли голову Наваррцы. Бальи Котантена даже был вынужден, чтобы сохранить свободные сношения с Парижем, перебраться южней, из Кутанса в Сен-Жам-де-Беврон, центр своего бальяжа.
Иоанн Добрый собрал новые войска, навербовал лотарингцев, швейцарцев, немцев, шотландцев. Все французское рыцарство, вместе с этими наемниками, в первые дни сентября появилось в Шартре. Двинулись к Луаре. 8 сентября первые отряды перешли Мёнский мост. Король и главные силы армии форсировали реку в Блуа 10 сентября. Дофин отправился следить за переправой в Туре. Как англичанам, так и французам казалось, что Валуа контролирует Луару. Черный принц не строил никаких иллюзий: он отошел и расположился к югу от Эндра, в Монбазоне.
13 сентября французский король был в Лоше. Принц Уэльский отступил в Лаэ-сюр-Крёз — ныне Лаэ-Декарт, — который ему предстояло покинуть на следующий же день, так его теснили французы.
Тогда-то король Иоанн, до сих пор хозяин положения, и совершил две ошибки. Во-первых, отклонил мирные предложения, с которыми приехал к нему от англичан кардинал Перигорский, во-вторых, двигался слишком быстро и уже вслепую. Он хотел во что бы то ни стало вступить в сражение.
Эли Талейран, брат графа Перигорского, был видной фигурой на европейской сцене: епископ Лиможский в 1324 г., епископ Оксерский в 1328 г., титулярный кардинал[56] Сан-Пьетро-ин-Винколи в 1331 г., кардинал-епископ Альбанский в 1348 г., он за тридцать лет повидал все переломные моменты европейской истории. В курии он возглавлял «французскую партию», которая интриговала на папских выборах и договаривалась о кардинальских шапках. Не имея возможности стать папой, он принадлежал к числу людей, которые жестко ограничивали власть пап и контролировали подбор кандидатур. В 1352 г. он не допустил избрания одного святого человека[57], который бы несколько растерялся — как некогда Целестин V — в новой роли арбитра европейской политики. При Иннокентии VI, столь же слабом, как и нерешительном, у Эли Талейрана были развязаны руки.
Ведь если кардинал Перигорский трижды упустил тиару, он не упустил ни одного случая выступить в качестве посредника между монархами. Он влезал в дела Неаполя, плел заговоры в Провансе, договаривался с дофином Вьеннским. Вмешиваясь в конфликт между Валуа и Плантагенетом, сын Эли VII, графа Перигорского, ощущал в себе естественное призвание стать политиком и миротворцем. Как потому, что он был перигорцем, так и потому, что его род, восходивший к каролингским графам, не был ничем обязан обоим коронованным суверенам…
Иннокентий VI послал двух легатов, чтобы добиться мира: Эли Талейрана Перигорского и римлянина Никколо Капоччи. Первый был известен враждебностью к англичанам (скорей скажут обратное: ведь он хотел лишить победы французского короля), а второй — недоверием к Франции.
Лучше бы Иоанн Добрый прислушался к мнению кардинала Перигорского. Но он уже считал себя победителем. О мире в тот момент он не хотел и думать. Когда англичане топчут Францию, словно завоеванное королевство, не подобает ли ему проучить их, прежде чем вступать в переговоры? Упрямство Иоанна Доброго, несомненно, не казалось бы таким глупым, если бы мы не знали, что из этого дела он не выйдет победителем.
Черный принц хорошо видел, что противник ищет сражения. Он также видел, что его собственное положение невыгодно: французский король загнал его в угол между реками Эндром и Вьенной, а дорогу на Бордо англичане уже не контролировали. Принц собирался сделать набег в сердце королевства Валуа; теперь он мог бы его продолжить через земли, оставшиеся от Аквитании Алиеноры.
На самом деле Иоанн Добрый уже обходил противника с востока, причем ненамеренно. Выйдя из Лоша, он дошел до реки Крёз, а потом перешел Вьенну в Шовиньи. Полагая, что Пуатье под угрозой, он теперь двинулся на запад. Он не знал, что Черный принц еще находится северней той дороги из Шовиньи в Пуатье, по которой королевская армия идет, не опасаясь удара справа.
Тогда-то именно справа и появились всадники из маленького английского отряда. Они хотели только скрытно пересечь дорогу, чтобы достичь большой дороги на Бордо южней Пуатье. Между английским отрядом и французским арьергардом завязался импровизированный бой, который проиграли все: французы — потому что они потеряли несколько человек убитыми, а три-четыре барона попали в плен, англичане — потому что они демаскировали себя, и такая победа стеснила их в движении.
Иоанн Добрый повернул назад. Черный принц, отрезанный от своих тылов — Бордо — королевской армией, был отрезан и от Ланкастера, который мог бы поддержать его, мостами на Луаре, которые французы слишком прочно удерживали, чтобы осталась надежда на соединение армий. Пытаться ускользнуть было поздно. В то время как французский король собирался уничтожить захватчика. Черный принц готовился к обороне. Его преимущество состояло по крайней мере в том, что он пропустил французов вперед: это давало ему возможность выбрать место боя. Англичане снова хотели использовать изгороди вдоль дороги в низине.
Принц Уэльский ждал французского короля в Нуайе, в двух лье к юго-востоку от Пуатье. Там было плато с пологими холмами, задачу обороны которого облегчали ручей Миоссон и ряд крутых скатов. Атака для Иоанна Доброго должна была стать делом очень опасным. На всякий случай Черный принц даже занял соседнюю высоту, пригодную для использования в качестве наблюдательного пункта.
Обе армии теперь стояли лицом к лицу: тысяч десять англо-гасконцев и двадцать тысяч французов. Но было воскресенье. День 18 сентября ушел на смотр, военные советы, высылку разведывательных дозоров. И на бесполезные переговоры.
Старый лис кардинал Перигорский еще пытался не допустить столкновения. Курсируя между лагерями, он хотел воспользоваться воскресным перемирием — его он добился без труда, — чтобы покончить со всем этим делом. Во французском лагере поползли слухи, что легат играет на руку англичанам. Если сражение все-таки произойдет, перемирие позволяло Черному принцу укрепить свою позицию: в воскресенье 18 сентября крайне спешно готовили траншеи, заграждения из кольев, позиции для стрелков.
Главное, англичанину было выгодно, чтобы тем все и кончилось, так что он был готов на уступки, которые предлагал легат. Ведь принц Уэльский посеял достаточно паники по всему Пуату и Берри. Он соглашался отпустить пленников, взятых накануне, вернуть крепости, захваченные в последние два месяца, заключить перемирие на семь лет. Тем самым он выбрался бы из сложной ситуации, сохранив за собой Бордо. Пусть его капитаны уже сожалели, что им не посчастливится провести красивый бой, — ведь если бы их победили за счет численного превосходства, это бы не было для них позором, а как бы они гордились, победив численно превосходящего противника, — принц Уэльский соглашался на переговоры.
Иоанн Добрый об этом и слышать не хотел. На все предложения, на все стоны кардинала Перигорского он отвечал одно и то же: пусть англичане сдаются на милость победителя. Принц Уэльский был согласен не искать победы; французский король говорил так, словно уже победил. В течение всего дня Эли Талейран вовсю тратил свое терпение и талант. Напрасно.
Накануне король Иоанн показал себя рассудительным, согласившись на Божье перемирие. Фруассар скажет, что он «рассудительно допускал все разумные пути». Теперь, когда воскресенье прошло, Иоанн Добрый был непреклонен.
Потом не менее трех веков часто высмеивали этого короля, который назавтра повергнет Францию в самую беспросветную катастрофу, а за несколько часов до краха делает столь безапелляционные заявления. На самом деле в то воскресенье, 18 сентября 1356 г., Черный принц был крайне слаб, его армии не хватало провианта, его столица была незащищенной, а цель — достигнутой. Если бы Иоанн Добрый снова позволил ему уйти, европейские монархи — более того, даже французские бароны — сочли бы, что Плантагенет снова безнаказанно попрал права короля Франции. Королевство ничего бы не потеряло, но корона Людовика Святого была бы опозорена.
Если бы никто не подрывал власть короля в самом его королевстве, это еще было бы меньшим злом. Но в Нормандии по-прежнему вел войну Жоффруа д'Аркур, все еще плел заговоры Робер Ле Кок, в Париже во весь голос говорил Этьен Марсель. Податные оплатили армию и скажут, что она так ничего и не сделала. Иоанн Добрый не мог согласиться на перемирие, позволявшее англичанину уйти как ни в чем не бывало.
Пока обменивались дипломатическими предложениями, тратя время, шла подготовка к битве. Англичане собирались обороняться — они укрепляли свои окопы. Французы намеревались атаковать первыми — они использовали оставшиеся часы для изучения местности. Обе стороны под прикрытием Божьего перемирия посылали шпионов, чтобы разведать позиции противника и оценить его силы. Впрочем, перемирие избавляло разведчиков от необходимости скрываться, представители обеих армий охотно переговаривались. Для рыцарей армия, готовящаяся к бою, всегда была излюбленным зрелищем.
Это также давало повод для завтрашних подвигов. Разве англичанин Джон Чандос, будущий победитель Дюгеклена, не встретился с маршалом Франции Жаном де Клермоном? И оба барона тут же стали задирать друг друга, поскольку каждый считал, что другой его оскорбил: гарцуя по плато, они только что заметили, что у обоих на левой руке и на груди вышит один и тот же «девиз»[58], изображающий белокурую даму в лучах солнца[59]! В этом все англичане, бросил Клермон: сами они не способны ничего придумать, а как увидят что-то, что им понравится, — хватают. Спор разрешится завтра.
Отчиталась разведка, а именно Эсташ де Рибемон, который представил французскому королю оценку численности англо-гасконских сил, основанную на самых грубых подсчетах. И Рибемон посоветовал, какую тактику применить завтра: не подвергать армию опасности, направляя ее по слишком узкой дороге, идущей наверх между изгородями, за которыми будут укрываться лучники, а, напротив, атаковать непосредственно англо-гасконские рубежи, проведя конную атаку, чтобы «открыть и изрубить лучников». После этого армии будет проще взобраться по склону пешим порядком.
Напрасно Жан де Клермон возражал, что это будет побоище; у англичан кончается провизия, и их запросто можно было бы осадить на их плато. Иоанн Добрый искал победы, добытой храбростью, а не измором. Коллега Клермона маршал Одрегем заявил, что осада плато была бы «трусостью». Дело было решено. И французские рыцари принялись состязаться в смелости, демонстрируя, что они никогда и не думали ни о чем ином. Клермон так и сказал Одрегему: он не потому предложил отказаться от атаки, что будет в бою во вторых рядах.
Вы будете сегодня смелым, только если упретесь мордой вашего коня в зад моего.
Маневр, предложенный Рибемоном, был принят. Для атаки выделили триста рыцарей; командовать ими назначили коннетабля Готье де Бриенна и обоих маршалов, Клермона и Одрегема. После уничтожения лучников остальные должны были атаковать пешими — непрерывной цепью, которая растянется более чем на лье.
Воскресным вечером французы были заняты переделкой своего кавалерийского снаряжения для пешей атаки: снимали шпоры, укорачивали копья — всего до пяти футов — и обрезали удлиненные носки башмаков «а ла пулен»[60].
Ранним утром понедельника кардинал Перигорский попытался в последний раз не допустить сражения. Но было поздно. Восходящее солнце уже положило конец перемирию. Даже несколько рыцарей из эскорта легата, во главе с приором Сен-Жнля из ордена госпитальеров, Хуаном Фернандесом де Эредиа, отпросились у кардинала, чтобы рядом с французским королем выполнить свой долг с оружием в руках.
Капитаны французского короля развернули свои знамена над пуатевинской равниной. Развевалась и орифламма, которую гордо держал рядом с королем рыцарь Жоффруа де Шарни, теоретик и певец рыцарского боя. Все было готово для рыцарского праздника — битвы по всем правилам.
Об ордене Звезды больше почти не упоминали. Но дух, вдохновивший пять лет назад его основателя, определял как стратегию, так и риторику короля Франции. В торжественной речи воскресным утром, после мессы, король Иоанн напомнил о нем в насмешливой форме:
Все вы, находясь в Париже, Шартре, Руане или Орлеане, желали, надев бацинеты, увидеть их перед собой. И вот они перед вами!
Настало время перейти от храбрости на словах к храбрости в бою. Иоанн Добрый, не говоря об этом вслух, создал импровизированную копию ордена Звезды, для чего из разных сеньориальных «баталий» всей армии выделил тех, кого считал «цветом рыцарства», и посадил их на «цвет боевых коней». Несколько часов маршалы выбирали, переходя от компании к компании, три сотни рыцарей и оруженосцев, которые станут элитной кавалерией короля и прежде всего прорвут оборону противника.
Никто не обманывался. Этот цвет рыцарства выбором короля был обречен на смерть. Он проложит путь армии, превратившейся в пехотную, но примет на себя первый удар английских лучников. В первой конной атаке при Пуатье было нечто от «Битвы тридцати»: элитному отряду запрещено отступать. Орден Звезды представлял собой не что иное, как форму отбора самых отважных и верных.
На линии атаки находились не все. Иоанн Добрый сформировал и собственную «баталию», которая собиралась оставаться с ним до конца и, если понадобится, встать в последнее каре. Двадцать три знамени развевались вокруг французского короля, сидевшего на белом коне. Было там и трое юных принцев, которые через четверть века будут вместе держать бразды правления: герцог Людовик Анжуйский, герцог Иоанн Беррийский и ребенок Филипп — ему было четырнадцать лет, — которого потом назовут Храбрым и который станет родоначальником бургундской ветви рода Валуа. Они будут «дядьями короля», когда корона Франции перейдет к сыну того, кто пока еще был всего лишь их старшим братом, дофином Карлом, и который — несмотря на колебания Иоанна Доброго, еще помнившего Руан, — лично командовал одной из «баталий», предназначенных для общей атаки.
Старшего сына, чьи совместные авантюры с королем Наваррским наводили на подозрение, что дофин наивен и обладает темпераментом скорей книжника, чем бойца, французский король для верности окружил надежными людьми. Поэтому рядом с будущим Карлом V мы видим нескольких опытных капитанов, доверенных людей Иоанна Доброго. В том числе герцога Бурбонского, который в случае тактических сложностей мог бы стать настоящим командиром «баталии» дофина.
Едва занялась заря понедельника, 19 сентября 1356 г., армия получила приказы. Коннетабль Готье де Бриенн и маршалы Жан де Клермон и Арнуль д'Одрегем с конницей должны пробить брешь в английской обороне; большие пешие «баталии», одной из которых командовал дофин, другой — герцог Орлеанский, брат короля, разгромят армию принца Уэльского. Приказы были четкими: убить как можно больше англичан — о Креси еще помнили — и взять живым Черного принца. «Баталия короля» вступит в бой только при необходимости, чтобы спасти или завершить сражение.
Битва монархов: могло ли уложиться в голове, что это столкновение двух династий происходит в сердце бывшего домена Плантагенетов, в нескольких лье от дворца предков Алиеноры. По сути, решающую роль здесь сыграют профессионалы. В «баталии» Иоанна Доброго находился «Протоиерей» Арно де Серволь и его банда рутьеров[61]. Рядом с Черным принцем был Чандос, который, «дабы беречь его и ему советовать», не покинет своего господина во время всего сражения; было несколько наемных капитанов и прежде всего множество гасконских сеньоров, для которых война действительно была ремеслом. Кто бы мог представить себе капталя де Буша, Жана де Грайи, в иной роли, кроме воина?
Какую бы роль ни играли мастера своего дела, этика здесь была этикой орденов Подвязки и Звезды. Это станет понятно, когда Джеймс Одли, один из лучших английских стратегов, заявит Черному принцу, что дал обет быть первым в атаке и самым рьяным в бою, если доведется участвовать в сражении, где примет участие английский король или один из его сыновей. И попросит предоставить ему место в первом ряду. Одли выдержит атаку маршала Одрегема.
Теми же рыцарскими критериями руководствовался орифламмоносец Жоффруа де Шарни, предложив накануне Иоанну Доброму повторить Битву тридцати. Пусть выберут по сто бойцов с той и другой стороны, и они решат исход дела. Но предложение Шарни оставляло слишком много шансов англичанам, а Иоанн Добрый не хотел лишать себя преимущества, которое ему давала численность.
Джон Чандос, со своей стороны, был вынужден соразмерять требования чести с суровой реальностью: английская армия была голодна и уступала в численности. Благоразумные хотели разбежаться и вернуться в Бордо, отважные — сразиться с французами, но есть хотели все. Уже три дня как не хватало хлеба, в то время как со стороны противника доносился шум пиршеств, которые напоказ устраивали рыцари французского короля, пользуясь перемирием.
Поздно ночью Черный принц собрал совет. Остановились на тактике, предложенной наставником Чандосом: покинуть укрепленную позицию в лесу Нуайе, но не отходить назад, где французские рыцари легко искрошат отступающую армию, не защищенную укреплениями. Надо выдвинуться вперед, под нос к французам; на время естественным прикрытием послужит опушка леса. В случае сражения рельеф Мопертюи компенсирует недостаток численности. Короче, поскольку атаковать было невозможно и дальше ждать на голодный желудок — тоже, Чандос придумал одну провокацию. Либо англичанам удастся уйти, либо сражение произойдет в наименее неблагоприятных условиях.
Битва
Осуществление этой провокации возложили на Эсташа д'Обершикура. Как только забрезжил рассвет, он выдвинулся из леса Нуайе с несколькими рыцарями и занял позицию на низкой дороге на Мопертюи, меж двух изгородей, которые не скрывали этого маневра, но атака французской конницы, налетев на них, могла бы захлебнуться.
К несчастью для англичан, Иоанн Добрый не попался в ловушку. Вместо того чтобы дать сигнал к бою, он послал нескольких немецких наемников из компании графа Нассау. Обершикура разоружили, и в течение всего сражения ему предстояло лежать крепко связанным во французской телеге. В этот самый момент Иоанн Добрый был действительно вправе сказать себе, что правильно сделал, не послушавшись кардинала: дело начиналось хорошо. Обнадеженные легкой победой, французы ждали продолжения.
Все остальные придут после!
Означало ли это, что компромисс, найденный Чандосом, был неудачным решением? На совете Черного принца взяли верх сторонники быстрого выхода из окружения. Нет ничего постыдного в том, чтобы избежать боя, где поражение неизбежно. Точно так же под Леглем поступил и Ланкастер. На рассвете английская армия покинула лес и в правильном порядке вышла на дорогу из Мопертюи. Маршалы Уорик и Саффолк вместе с капталем де Бушем возглавляли авангард, принц Уэльский и Чандос — основную колонну, Солсбери и Оксфорд — арьергард. Валлийские и ирландские лучники шли бокажами, прикрывая фланги, Иоанн Добрый не реагировал. Он не мог быть ни в чем уверен. Маневр англичан можно было истолковать двояко: то ли отступление, то ли новая хитрость. Черный принц хотел выйти из затруднительного положения, но французскому королю были неведомы мысли принца Уэльского. Не отличаться проницательностью еще не значит быть полным идиотом. Зато Иоанн Добрый видел, что местность мало годится для атаки. Кстати, на фоне леса и при слабом пока утреннем свете было толком не разглядеть, все ли англо-гасконцы вышли или основные силы противника остаются в укрытии и готовы дать отпор.
На самом деле, как мы знаем. Черный принц и Чандос пытались посредством одного и того же маневра избежать сражения, не запятнав чести, и обеспечить себе новое поле боя, более удобное в случае, если король Иоанн решится атаковать. Разумеется, получалось, что англо-гасконцы зря сооружали все укрепления, на которые они потратили воскресенье. Но, оставаясь в лесу, они ничего бы не выиграли. Провиант сам по себе не придет.
Но Черный принц не знал, что Иоанн Добрый отверг идею просто ждать победы, для чего хватило бы самой обычной блокады.
Коннетабль и маршалы Франции стояли впереди со своей элитной «баталией». Простые «баталии», дофина и герцога Орлеанского, начали готовиться к бою, пока не вступая в него.
Жан де Клермон вел себя столь же осторожно при виде двусмысленного маневра англичан, сколь предусмотрительно — накануне при виде их укреплений. Коннетабль Бриенн был согласен с Клермоном. Но им нужно было считаться с Одрегемом, желавшим атаковать немедленно, не из тщеславного желания во что бы то ни стало подраться — маршал был не дурак, — а потому, что он видел: англичане движутся к новой сильной позиции. В воскресенье он хотел их атаковать прежде, чем лес Нуайе превратится в крепость. Утром этого понедельника он хочет занять брод на Миоссоне раньше, чем враг извлечет все преимущества из позиции, которую будут прикрывать как кусты, так и вода. Брод имеет капитальную важность для отступающих англичан — в этом маршал Одрегем сходился с Джоном Чандосом.
Чего же ждать? Через виноградник, спускавшийся по пологому склону к Миоссону, Арнуль д'Одрегем пошел в атаку, а сразу за ним — немцы графа Нассау. Бриенн и Клермон атаковали тоже, но продемонстрировали несогласие с Одрегемом, выбрав другую цель: они напали на английский арьергард, еще выходивший из леса.
Вспомним, что с фланга английскую колонну прикрывали лучники. Им было достаточно укрыться за изгородями и виноградными шпалерами, чтобы занять позицию для стрельбы. Несколько минут происходила гекатомба. Тяжело раненный Одрегем попал в плен, прежде чем достиг брода. Клермон был убит, не успев пересечь дорогу, «изрядно укрепленную изгородями и кустами», которую английские стратеги сумели превратить в импровизированную ловушку.
Шотландцы из французской армии меньше всего хотели попасть в руки англичан. На этом участке сражения они просто-напросто отступили.
Битва еще по-настоящему не началась, а Иоанн Добрый уже потерял почти всю элитную конницу. Конечно, основные силы армии не понесли урона, но о ее наступательной способности этого сказать было нельзя. Неожиданный успех вернул англо-гасконцам желание сражаться. Чандос и прочие пересмотрели свою точку зрения: может быть, больше нет необходимости отступать с боем. На восходе солнца броды на Миоссоне казались спасением для армии, отрезанной от дороги на Бордо. Через час они стали элементом оборонительной стратегии, целью которой была уже победа, а не бегство.
Французская армия наконец подготовилась к бою. По приказу короля она в свою очередь стала спускаться к Миоссону, в основном сосредотачиваясь напротив западного крыла англичан, за излукой ручья с болотистыми берегами. Выбор этого направления был глупостью: топкая почва затрудняла движение наступающих.
Несмотря на единый характер маневра, снова начался беспорядочный бой. Это была скорей не правильная битва, а ряд отдельных схваток. Слабым местом французской армии неизменно было молчаливое неприятие тактической дисциплины: Иоанн Добрый это хорошо знал, ведь ордонансом от 30 апреля 1351 г. он попытался разделить армию на компании, более сплоченные, чем множество феодальных «знамен», а над естественными начальниками — королевскими вассалами, приходящими в войско со своими отрядами, — поставить нескольких капитанов, выбранных за командирские способности. Надежда была тщетной: во время боя командиров откровенно недоставало. Король со своим резервом стоял в тылу и в движениях армии явно был неспособен видеть что-либо кроме леса знамен, толпы людей, обуреваемой жаждой подвигов. Слышались крики «Монжуа! Сен-Дени!», равно как «Святой Георгий! Гиень!», но не приказы. Герольд Чандоса напишет в рифмованной песни:
Каждый думает о своей чести.Это относилось к Джеймсу Одли, выполнявшему свой обет. Он пошел в атаку первым, несколько раз был ранен, и наконец четыре оруженосца вынесли его из боя.
Его принесли весьма слабого и израненного из битвы и уложили возле изгороди, дабы он немного охладился и отдохнул. И столь деликатно, как могли, сняли доспехи, и сумели перевязать и обработать раны, зашив самые опасные.
На сей раз тяжелей всех в бою пришлось «баталии» дофина. Карл даже потерял своего верного Меньеле, который нес рядом с ним знамя с гербом Нормандии.
Поле битвы было усеяно трупами. Черный принц велел отправить кардиналу Перигорскому, удалившемуся в Пуатье, тело его племянника Роберта де Дураццо, положив на щит. Многие сочтут, что принц Уэльский хотел отомстить: англичан разозлило, что в рядах врагов они увидели нескольких рыцарей, которые еще накануне находились в свите легата. Будь либо папским дипломатом, либо бойцом, но не тем и другим сразу!
Теперь Иоанн Добрый отослал своих сыновей с поля боя. Всех, кроме одного, — младшего Филиппа. Сенешаль Сентонжа Гишар д'Англь обеспечит им охрану для проезда до Шовиньи, где принцы на время будут в безопасности. Так дофин Карл, Людовик Анжуйский и Иоанн Беррийский оставили будущему герцогу Бургундскому всю славу пребывания в бою рядом с отцом.
Будь это решение принято вовремя, оно было бы мудрым. Любой мог понять, что жизни королевских детей ничто не должно угрожать. Конечно, они были «весьма молоды летами и советом», как напишет Фруассар. Но к восемнадцати годам дофин уже вошел в возраст воина, даже если испытывал мало интереса к оружию.
Может быть, король вдруг задумался, во что может обойтись выкуп принца крови? Скорей Иоанн Добрый внезапно сообразил, что здесь, не защищенное от превратностей войны, находится все потомство Карла Валуа. Для главы королевской династии, еще не совсем прочно утвердившейся на троне, рисковать жизнью и свободой всей мужской линии рода было бы чрезмерно неосторожным. Если бы все попали в руки врага, единственным средством их освобождения могло бы стать только отречение от короны…
После представителей рода Валуа, находившихся 19 сентября 1356 г. на берегах Миоссона, самым прямым потомком Людовика Святого был Карл, граф д'Эврё и король Наваррский, иначе говоря, Карл Злой, сидевший в то время в заключении…
Правду сказать, Иоанн Добрый рассуждал при Пуатье точно так же, как некогда при Креси героический слепой король Иоанн Чешский. Предпочтя умереть с оружием в руках, но не сдаться, Иоанн Чешский позволил выйти из боя своему сыну Карлу, который вскоре станет императором Карлом IV. Иоанн Добрый не обратится в бегство, как его отец Филипп VI при Креси. Он выполнит свой долг до конца. Но он обезопасил будущее короны. Он сберег род Валуа.
Карл Нормандский сделает из этого вывод, что короной рисковать нельзя. Дюгеклен и некоторые другие избавят французского короля от контакта с опасностями, не касающимися лично королевской особы.
Итак, решение отослать принцев из боя было мудрым. Но в тот момент сражения оно стало катастрофическим. Конечно, рисковать всеми принцами крови Франции сразу было нельзя. Но нельзя было и показывать, что утрачена вера в победу. Нельзя было вместе с дофином и двумя его братьями выводить из боя сильный отряд, которого будет очень недоставать рядом с королем. Отправка принцев была политический ходом; многие восприняли ее как проявление трусости, что стало особо заметным при попытке преследования, предпринятой Уориком. Многие рыцари французского короля после этого сочтут себя вправе уйти. «Иные удалились из армии».
Герцог Орлеанский со всей своей «баталией» — тридцать шесть «знамен», двести стягов — двинулся, чтобы встать за «баталией» своего брата-короля. Сзади резерва! Теперь позиция короля оголилась.
Иоанн Добрый был человеком смелым и отреагировал как храбрец. Все, от врагов до самых преданных друзей, будут возносить хвалу его отваге в тот день. Этот человек, который не был ни великаном, ни атлетом и от которого Карл V унаследует любовь к текстам и книгам, спешился, взял боевую секиру — рыцарский меч был слишком длинным для пешей схватки — и принял бой с английскими маршалами Уориком и Саффолком. В рукопашную вступила и королевская «баталия».
Через несколько мгновений Чандос сказал Черному принцу: теперь все дело решится там, где находится сам король.
Повернемся к вашему противнику, королю Франции. Там и происходит все самое главное. Я точно знаю, что он слишком смел, чтобы бежать.
В самом деле, вокруг Иоанна Доброго, видного издалека благодаря высокому росту, и разыгралась драма, где-то между виноградником и карьером на склоне холма. Там присутствовал коннетабль Бриенн, как и орифламмоносец Шарни. А также Бурбон и многие другие. И юный принц Филипп, помогавший отцу, смело оберегая его: «Враги справа… слева…»
Ветер разгрома веял над французским лагерем. Иоанн Добрый погубил лучших рыцарей в начальной схватке, допустил, чтобы основные силы армии пришли в расстройство в ходе беспорядочного боя, слишком поздно двинул резерв, чтобы тот мог что-то изменить. Теперь его верные люди падали мертвыми вокруг него. Шарни погиб с орифламмой в руке. Пал Бриенн, так же как и Бурбон, как и сир де Понс. Не столь смелые бесстыдно бежали. Чтобы стать героем, мало этого хотеть, и не все сделаны из того же теста, что и участники Битвы тридцати.
Повернулись все спиной И вскочили на коней.Иоанна Доброго эти дезертирства не удивляли. С утра он велел увести лошадей, чтобы отбить охоту у желающих бежать. Король все еще тяжело переживал унизительное бегство отца вечером после Креси. Что выиграла или проиграла от этого бегства Франция — таким вопросом он не задавался.
Французская армия разбегалась, порой бежали целые «знамена». Об этом бегстве будут говорить еще долго, причем люди, не принадлежащие к рыцарству. Об этом заговорят на Генеральных штатах. Об этом будет известно и «жакам», они повторят этот рассказ и присочинят от себя. Скоро с удовольствием начнут противопоставлять героизм короля и трусость знати, поспешив забыть таких людей, как Бурбон и Шарни. Заговорят об измене. Как известно, это слово было модным.
Англичане взяли пленных — в частности, Хуана Фернандеса де Эредиа, которому по приказу принца Уэльского едва тут же не отрубили голову, чтоб знал, как вечером изображать посредника, а на следующее утро сражаться. Будущему великому магистру ордена госпитальеров[62] спас жизнь Чандос, убедив принца, что кардинал Перигорский заплатит хороший выкуп за своих людей.
На этом деле некоторые уже сколачивали целые состояния например Обершикур, которого мы оставили связанным во французской телеге. Друзья в конечном счете освободили случайную жертву неудачной утренней провокации, и теперь он занимался тем, что приумножал капитал.
И вот оный Эсташ вновь сел на коня. После он в тот день совершил не один подвиг, беря в плен тех, чье богатство успел оценить, и требуя с них выкуп, что позволило ему немало разбогатеть.
Удача в бою иногда очень переменчива. Один англичанин преследовал Удapa де Ранти, рыцаря, реалистично смотревшего на вещи — «он видел, что битва проиграна бесповоротно, и отнюдь не хотел ставить себя под удар англичан». Но англичанин принял беглеца за труса, окликнув его:
Рыцарь! Обернитесь, ибо так бежать — великий стыд!
Услышав его, Удар сразу развернул коня, выхватил меч и стал ждать нападения. Своим щитом он отбил клинок англичанина. На том был прочный бацинет, Удар так ударил по нему мечом плашмя, что преследователь потерял сознание. Когда тот пришел в себя, он лежал на земле, а к его груди было приставлено острие меча. Удар получил за него немалый выкуп.
Тогда же пикардийский оруженосец Жан д'Аллен аналогичным образом разбогател за счет молодого сеньора Беркли, который бросился за ним в погоню на коне, принадлежащем к «цвету боевых коней», закричав:
Обернитесь, латник! Так бежать — бесчестно и трусливо!
Но в схватке в воздух полетел добрый меч Беркли — замечательный бордоский клинок, а английский рыцарь безуспешно попытался его подобрать, соскочив с коня. Тяжело раненный мечом пикардийца, он пообещал любой выкуп, какой захочет его победитель, при условии, что его перевяжут, принесут в Шательро и две недели будут за ним ухаживать. В конце концов его доставили на носилках в Пикардию. Все за счет победителя. Доход стоил затрат: возвращение в Англию обойдется Беркли в шесть тысяч золотых ноблей. Не все французы все потеряли при Пуатье.
В то время как некоторым улыбалась удача, Иоанн Добрый собирал последних из своих приверженцев. Черный принц и Джон Чандос, в первые часы боя находившиеся в обороне, теперь перешли в решительное наступление. Как раз вовремя — ведь англо-гасконцы были не менее измотаны, чем французы. У валлийских лучников кончились стрелы, и им приходилось бродить меж трупов, чтобы подобрать уже выпущенные. Английские и гасконские рыцари устали за день, начавшийся задолго до зари и растянувшийся до вечера. Но дело нужно было заканчивать.
Совершив широкий обход, капталь де Буш зашел в тыл к тому, что оставалось от «баталии» французского короля. Теперь Чандос мог пойти в решительную атаку с фронта. Время сидеть в обороне кончилось. Сам Черный принц направился в схватку. С утра он почти не покидал своего наблюдательного поста на опушке леса Нуайе.
На сей раз была только рукопашная. Лучники прекратили стрелять — как потому, что у них кончились боеприпасы, так и потому, что они не хотели лишать себя приличного выкупа. Если бы кто-то убил короля Франции или его сына, его бы не похвалили. Теперь дело решали мечи, боевые секиры, булавы.
Тяжело вооруженные рыцари в неразберихе боя окружающее видели плохо. Но внезапно все заметили, что перед принцем Уэльским всякое сопротивление прекратилось. Над расстроенными рядами уже не развевались французские знамена. Больше не было видно стягов французов. Чандос счел нужным разобраться в ситуации и просто-напросто снова собрать войска. Прислушавшись к его мнению. Черный принц согласился на время перевести дух. Его знамя водрузили над кустами, достаточно высоко, чтобы оно могло служить ориентиром для сбора. Ему подали питье. Принц спросил у Уорика и у Саффолка: известно ли, где французский король. Никто не знал. Изгороди, трупы, неразбериха.
Двум баронам поручили выяснить обстановку. Они поднялись на холм.
И узрели большую массу пеших воинов, каковые двигались медленно. Там королю Франции грозила великая опасность, ибо он был во власти англичан и гасконцев и уже сдался мессиру Дени де Морбеку.
Морбек ненадолго сохранил пленника при себе. Едва Иоанн Добрый передал ему перчатку с правой руки — ему оставалось либо сдаться, либо позволить себя убить, — как толпа англичан и гасконцев стала оспаривать этот приз. И тогда король попросил, чтобы его отвели к его кузену, принцу Уэльскому.
Французского короля взяли в плен, — объяснили обоим наблюдателям Черного принца, увидевшим, что на них валит радостно горланящая толпа, готовая на все, лишь бы извлечь из этого дела выгоду для себя.
Хотели того добиться, и претендовало на то более десятка рыцарей и оруженосцев.
Каждый клялся, что царственный пленник принадлежит ему. Гвалт дошел до предела. Вдруг толпа расступилась. Это Уорик, маршал Англии, оттеснил претендентов на награду и склонился перед французским королем. Может быть, пленным, но королем.
Иоанну Доброму было не по себе. Появление маршала его успокоило. В конечном счете он выполнил свой долг до конца. Теперь он был уверен, что с ним обойдутся в соответствии с его саном. Правила рыцарского боя по-прежнему действовали.
Через несколько мгновений Иоанн Добрый, король Франции, и Эдуард, принц Уэльский, встретились лицом к лицу. Ни в прошлом, ни в этот день оба кузена прежде не виделись.
Глава VIII Обезглавленное королевство
Поражение
«Вы потеряли своего отца». Вот что Иоанн Добрый счел нужным написать, подданным, более или менее ошеломленным вестью о его пленении, чтобы их утешить и побудить быстро заплатить выкуп. Не то чтобы такой случай был исключительным. Ричард Львиное Сердце попадал в плен к герцогу Австрийскому, Людовик Святой — к мамлюкам. В том и другом случаях подданные и вассалы пленника не чувствовали себя сиротами. Превратности войны не исключали плена. К тому же Ричард, как и Людовик IX, теряли свободу очень далеко от своих королевств, и заточение явно отрезало их в большей мере от армии, чем от гражданской администрации и государства, уже организованных так, чтобы в их отсутствие обходиться без них.
А на сей раз Иоанн Добрый сдался англичанам посреди Франции. Чтобы добраться до Бордо, ему под солидной охраной пришлось ехать дорогами Пуату и Ангумуа. Это подданные французского короля, были они людьми Плантагенета или нет, видели, как их король проезжает мимо, покорившийся, но не подавленный.
Ведь положение пленника было из самых блестящих. Эдуард, принц Уэльский, был слишком рад своей неожиданной победе, чтобы не проявлять к королю величайшего уважения. Чем больше чести он оказывал последнему, тем больше подчеркивал важность его пленения. Иоанн Добрый был весьма далек от отчаянья: он выполнил свой долг, он проиграл, но как верный и смелый рыцарь. В попадании в плен и выплате выкупа кодекс феодальной чести не видел ничего дурного, и в большинстве кутюм выкуп за плененного сеньора считался одним из случаев, когда вассалы обязаны оказывать финансовую помощь.
Если короля что и смущало, то только мысли о старшем сыне, который выбрался из мясорубки Пуатье благодаря не слишком славному бегству. Карл уехал по отцовскому приказу. Тем не менее иерархия рыцарских приличий ставила пленника ниже победителя, но выше беглеца. Конечно, Иоанн Добрый потерпел поражение, но с соблюдением всех правил.
Молодой человек, удалившийся из боя 19 сентября 1356 г. — он больше никогда не испытает влечения к красивым подвигам, — был очень слабым главой расколотого королевства. Карл, дофин Вьеннский, с тех пор как в 1349 г. это имперское княжество ему уступил дофин Юмбер II — последний отпрыск рода Ла Тур дю Пен, был также, как известно, с 1355 г. герцогом Нормандским. Но к восемнадцати годам у него не было настоящего опыта управления. Отец мало привлекал его к делам королевства. Вьеннским дофинатом, полученным им в двенадцать лет, на самом деле управляли люди короля. Нормандия, где помнили, что Иоанн Добрый, когда он сам считался ее герцогом, очень долго был просто подставным лицом — ставленником королевской администрации, была слишком широко представлена во всех центральных институтах монархии, чтобы выглядеть самостоятельным фьефом. В Руане Карл в свое время устроил праздник, доказывая себе, что он герцог и что-то значит на деле; сплел заговор против отца, доказывая себе, что он уже не маленький. На самом деле ничем он не был.
В дни после поражения при Пуатье и до бесславного въезда в Париж 29 сентября Карл принял титул наместника короля. Он был старшим сыном и единственным принцем, способным претендовать на власть в отсутствие короля: брат Иоанна Доброго, Филипп Орлеанский, находился в руках Эдуарда III. Впервые дофин чувствовал себя свободным в действиях. Но он был страшно одинок и знал, что его власть столь же непрочна, сколь и эфемерна. Именно чтобы упрочить свою власть, он в 1358 г. примет более весомый титул «регента».
Наместник короля — это представитель суверена. Регент — глава королевского правительства. У тех, кто помнил времена 1316 и 1328 гг., когда вдовствующая королева ждала ребенка и было неясно, кто станет наследником, слово «регент» вызывало очень четкие ассоциации: если есть регент, значит, короля нет. Переведем на политический язык: существование регентства исключало любые поползновения апеллировать к королю на решения дофина.
Сложности возникли с той стороны, где их ждали меньше всего. Парижское бюргерство, относительно сдержанное на прежних Генеральных штатах, в свое время задетое опалой нескольких парвеню, таких как Жан Пуальвилен и Пьер дез Эссар, и быстро утешенное их возвращением в милость, это крупное бюргерство, до сих пор покорное и занятое прежде всего своими экономическими выгодами, теперь поднялось против дофина и взяло его в ежовые рукавицы.
Конфликт разразился на заседании Штатов. Карл был вынужден созвать их снова, потому что казна была пуста. Дело было не только в выплате выкупа за короля, которую феодальное право предусматривало безусловно, без необходимости испрашивать согласия податных. Этого принципа никто не оспаривал: вассал и его люди должны защищать сеньора с оружием в руках, а если поздно — помочь деньгами освободить его. Зато согласие страны требовалось для получения денег на нормальную работу административного механизма, на воссоздание такой армии, которую бы победитель не мог разогнать за день, — короче говоря, на деятельность государства.
Этьен Марсель
К несчастью для дофина Карла, парижане только что избрали купеческим прево человека, уже нам знакомого: Этьена Марселя. Сам по себе этот факт не представлял собой ничего странного, и выбор был из самых классических. Этьен Марсель был одним из богатейших бюргеров столицы, наследником старинного рода суконщиков, а также менял, при случае поставщиков двора, имевших немало доходных домов и долговых обязательств. В Марселе, процветающем дельце, не было ничего от революционера. Он был в родстве со всем парижским бюргерством — с семьями Барбу, Бурдонов, Кокатриксов. Его первая жена была дочерью эшевена. Вторая — дочерью того самого Пьера дез Эссара, который еще в царствование Филиппа V достиг высших должностей в финансовой администрации; Пьер дез Эссар дал за дочерью царское приданое — три тысячи золотых экю. Так что Этьен Марсель, благодаря как семье, так и родственным связям, оказался на пороге получения дворянства, какое Филипп V в 1320 г. пожаловал своими грамотами его тестю Пьеру дез Эссару. Никто не мог особо сомневаться — новый купеческий прево в один прекрасный день станет дворянином.
На этом пути должность купеческого прево была важным этапом. Ее носитель был не только главой очень привилегированной организации — «ганзы речных купцов», которая к наибольшей выгоде для них объединяла всех крупных негоциантов, использовавших реку для перевозки своих товаров и получавших часть общего дохода от всей парижской торговли. Он — ведь коммуны в Париже не было — также был чем-то вроде муниципального советника, не нося такого титула, непременным партнером на переговорах с королевской администрацией; фактически, если не официально, он считался выразителем общих интересов парижан и их общей политической воли. Желая убедить парижан — в частности, заплатить налог, — король обращался к купеческому прево и его четырем эшевенам. Это далеко не значит, что купеческий прево был главой парижан. По сравнению с парижским прево, резиденция которого находилась в Шатле и который, по сути, исполнял обязанности бальи, купеческий прево, чей «Бюргерский двор» (Parloir aux bourgeois) возвышался над Гревской площадью, с полным правом говорил от имени самых богатых бюргеров королевства.
Положение зятя Пьера дез Эссара за десять лет принесло Марселю нелегкие испытания. В октябре 1346 г. тот, доверенный человек Филиппа VI, одновременно личный советник, банкир и (вполне официально) докладчик прошений, попал, как многие другие и как сам наследный принц Иоанн, в коллективную опалу, в которой после разгрома при Креси оказались власть имущие, без разбора признанные бездарными и мошенниками. Король тогда слишком зависел от податных, чтобы не угодить их мнению. Пьера дез Эссара бросили в тюрьму и конфисковали все его имущество.
Этьен Марсель был зятем самого влиятельного денежного воротилы и приближенного короля; прямо в год своей свадьбы он стал зятем человека, официально признанного виновным в злоупотреблениях. Женившись, на свое счастье, слишком недавно и не успев втянуться в дело, из-за которого другой зять Пьера дез Эссара, королевский секретарь Робер де Лоррис, тоже угодил в тюрьму, Этьен Марсель успел сообразить, что ему повезло.
Если бы Пьера дез Эссара повесили, его зять, несомненно, не расстроился бы. Но, как и другие жертвы чистки 1346 г., за деньги докладчик прошений выпутался из этой истории. В мае 1347 г. он вышел из тюрьмы, без суда, даже без составленной по всей форме грамоты о помиловании, — он просто заплатил колоссальный штраф, пятьдесят тысяч золотых монет типа «шез»[63] (изображающих короля на престоле), то есть в шестнадцать раз больше, чем Маргарита дез Эссар принесла в приданое Этьену Марселю.
На какое-то время, казалось, все уладилось. Немилость была забыта. Возвращалось процветание. Пьер дез Эссар сумел поправить свои финансовые дела. Он вновь играл прежнюю роль королевского банкира, когда в 1349 г. его унесла Черная чума.
Этьен Марсель был осторожным дельцом. Он отказался от наследства. Его тесть ворочал слишком большими королевскими деньгами, чтобы его счета не стали проверять. Быстро найдут растраты, подлоги, незаконные операции, подделку подписей. Король в свое время спас жизнь своему доверенному человеку, но заботиться о его достоянии у него нет никаких резонов. Более того, это удачная возможность пополнить королевские финансы — таких примеров было немало. За то, чтобы получить наследство, — как будто бы здраво рассудил Этьен Марсель, — придется слишком много «возместить» королевской казне. Расход может намного превысить доход, и придется брать деньги даже из приданого.
Его свояк Робер де Лоррис принадлежал к тому королевскому окружению, которое с шумом разогнали в 1346 г. и незаметно вернули в 1347-м. Он водил дружбу с герцогом Нормандским, то есть с будущим королем. Он чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы принять наследство.
Через три года Иоанн Добрый реабилитировал Пьера дез Эссара. Оказалось, что тот не был ни в чем виноват. Штраф взяли незаконно. В конце 1354 г. казна скрупулезно отсчитала пятьдесят тысяч золотых монет Роберу де Лоррису, который тем самым унаследовал состояние тестя не в том виде, в каком тот его оставил, восстановив перед смертью, а в том, когда оно было наибольшим.
В 1356 г. Этьен Марсель все еще не мог забыть и простить эти пятьдесят тысяч золотых монет, двуличие королевского правительства и плутни собственной родни. Дважды попав впросак из-за финансовых спекуляций королевского окружения, он не упустит случая ни провести реформу, ни свести счеты. Этот крупный бюргер, у которого политическое «хорошее общество» увело из-под носа состояние, был готов объявить ему войну ценой самых неожиданных союзов.
Штаты 1356 г.
Едва Генеральные штаты Лангедойля были созваны в октябре 1356 г., Этьен Марсель стал выразителем всех претензий, выдвигаемых теми, кто считал, что Францией управляют плохо. Взять столько налогов, чтобы позволить себя разбить! Вот точка зрения среднего горожанина. Но королевская харизма была очень сильна, несмотря на шаткое положение династии, и обвиняли в этом поражении отнюдь не жалкого стратега Иоанна II. Упрекали советников, чиновников — высшую и низшую администрацию. Жители добрых городов во главе с парижанами, которых возглавлял Этьен Марсель, требовали реформ и, для начала, отставок.
Они сразу нашли общий язык с другими недовольными, прежде всего со сторонниками короля Наваррского, склонными считать: если Валуа за десять лет дважды были разгромлены, в этом нет ничего особо странного. Карл Злой, пока сидевший под стражей в Артуа, в замке Арлё, знал, что родился слишком поздно и к выбору 1328 г. вернуться уже нельзя. Но когда побежденный король оказался в плену, в Бордо, а затем в Лондоне, сторонники Карла Злого сочли, что принц, дед которого был французским королем, мог бы встать во главе Франции.
Возглавлял этих «наваррцев» все тот же Робер Ле Кок, епископ Ланский. Марсель был сторонником реформ из ненависти к людям высокого положения, даже из желания мстить. Ле Кок стал таковым по расчету. Он просто-напросто хотел продолжить карьеру по образцу других, которые, как и он, начали в парламенте, а стали канцлерами или получили кардинальские шапки.
Недостало одного человека: Жоффруа д'Аркур остался в Нормандии. Он погибнет в ноябре, в заурядной стычке.
В пустоте, созданной в результате случившегося под Пуатье, возможным казалось все. Штаты во главе с Робером Ле Коком и Этьеном Марселем дошли до того, что потребовали своеобразного участия в управлении — формирования выборного Совета в составе четырех прелатов, двенадцати дворян и двенадцати бюргеров. Это означало прямо-таки установление опеки над королевской властью.
Кстати, в финансовой сфере бедствий для Франции не ждали. Еще в декабре 1355 г. Штаты Лангедойля, где Этьен Марсель уже выступал от имени городов, но пока, по видимости, сотрудничал с Иоанном Добрым, поставили очень четкие условия, на каких города могут быть обложены налогом: прежде всего они потребовали, чтобы налог, вотированный для обороны королевства, использовался в целях этой обороны и только в них. Артуа, Нормандия, Вермандуа уже добились этого — каждый для себя. На сей раз в масштабах всего королевства был выдвинут принцип: суммы, вотированные на оборону королевства, имеют право выдавать только те, кто их вотировал.
Скажем сразу, что Штаты переоценили свои возможности. Это можно было бы предвидеть, исходя из того, что предыдущая попытка Иоанна Доброго закончилась неудачей. Податной охотно давал деньги на местную оборону, на защиту своей области или города. Его трудней было убедить, когда речь шла о вопросах более общих — обороны королевства. Уполномоченные Штатов, взимая «эд», встретятся с теми же трудностями, что и люди короля до них.
Этих депутатов Штатов называли «делегатами» (elus, буквально «избранными»). Были делегаты от каждого диоцеза, которым поручалось оценить базу обложения и централизовать поступления от города и деревни. Были «генеральные делегаты» — три прелата, три дворянина и три бюргера, — задача которых состояла в том, чтобы выплачивать деньги и направлять их движение. Те и другие были подотчетны Штатам, тем самым мало-помалу превращавшимся в постоянный контрольный орган.
Этим добрым людям слегка вскружила голову совсем новая власть, которую они получили в конце 1355 г. из-за бедственного положения короля, лишившегося средств на проведение своей политики. Но они забыли об одном: это снадобье стоило дорого. Добрым городам вскоре наскучит содержать в Париже депутатов, склонных урезать расходы короля, но не собственные затраты на проживание.
Но в октябре 1356 г. потребовали совсем другого. Пусть дофин Карл допустит Штаты к политической власти. Теоретически заседая посословно, в трех раздельных залах, а фактически потратив большую часть своего времени на тайные совещания, где три сословия выступали как стороны в переговорах, депутаты за две недели сформулировали свои требования. Об оказании финансовой помощи власти дофина речи пока не было. Депутаты даже забыли, что созваны для обсуждения именно этого вопроса. Зато со второго дня Штаты продемонстрировали независимость, сообщив членам Королевского совета, что те могут удалиться: в их присутствии работать больше не будут.
В конце октября дофина попросили прибыть в монастырь целестинцев на левый берег, чтобы выслушать предварительные условия оказания финансовой помощи. Штаты не довольствовались тем, что потребовали увольнения «дурных советников» и освобождения короля Наваррского, что выглядело просто дежурной фразой. Они пожелали, чтобы был сформирован выборный верховный Совет, куда вошло бы четыре епископа, двенадцать рыцарей и двенадцать горожан. В начале сессии уже избрали постоянную комиссию из пятидесяти-восьмидесяти человек; не предвосхитило ли это избрание будущие требования Штатов? Предполагалось, что такой комиссии проще следить за действиями верховной власти, чем ассамблее из восьмисот человек с очень разными полномочиями.
Этьен Марсель уже предвидел крушение тех, кто его обманул и кого он считал виновниками несчастья Франции. Робер Ле Кок уже предвидел власть в своих руках.
По привычке дофин Карл стал тянуть время. Он сослался на необходимость посоветоваться с королем — своим отцом и даже с императором. Он попробовал торговаться. В конце концов, не скрывая, что следовало бы созвать Штаты заново, потому что финансовую помощь они так и не вотировали, 2 ноября он их распустил. Робер Ле Кок попытался провести решение, чтобы сессия продолжилась, несмотря на роспуск. Его не поддержали.
Приближалось Рождество. Герцог Нормандский собрался провести праздники в обществе дяди, императора Карла IV Люксембурга. Он направился в Мец, куда прибыл за три дня до Рождества. Там он застал весь императорский двор, в присутствии которого как дофин Вьеннский, князь империи, должен был принести оммаж за свое княжество. Не меньше, чем о формальностях феодального права, там позаботились и о соблюдении определенных приличий: чтобы дело не выглядело так, будто старший сын французского короля явился по вызову, заранее договорились, что он привезет дяде-императору от имени отца-короля бесценный подарок — две тернии из Тернового венца, хранящегося в парижской часовне Сен-Шапель со времен Людовика Святого.
Таким образом, поездка в Мец никак не была связана с поражением и не означала призыва о помощи. Самое большее, что можно сказать: присутствие кардинала-легата Эли Талейрана придало этой встрече облик некоего совещания христианских монархов. В отчете, который в день Рождества составили герольды, наряду с сотней герцогов и маркграфов, архиепископов и епископов упоминается три тысячи триста пар золотых шпор, иначе говоря, три тысячи триста рыцарей. Сам дофин Карл прибыл с большой помпой — со всем двором и сильной охраной. У него были великолепные кони.
Прежде всего говорили о делах империи. Карл IV обнародовал окончательный текст Золотой буллы — официального документа, скрепленного золотой печатью, или «буллой», — которая определяла права курфюрстов и должна была уберечь империю от новых кризисов наследования: список курфюрстов был завершен.
Карл IV был мало склонен усложнять европейскую политическую игру, вмешиваясь во внутренние дела Франции. Он достаточно хорошо знал историю, чтобы забыть, чем может заплатить император, если на миг отвлечется от своего Германского королевства. Он долго беседовал с племянником, дофином Вьеннским, и убеждал его держаться. Самое большее, что он обещал, — побудить англичанина приостановить враждебные действия, пока тот держит в плену короля Франции, пока не заключат окончательный мир. Это было все.
В то время как дофин отсутствовал, в Париже ситуация осложнилась, и Этьену Марселю представился случай перейти на сторону народной партии, которая была враждебна интересам крупного бюргерства, близкого к трону. В Тулузе Штаты Лангедока вотировали «эд», но этот союз собственников и кредиторов поставил одно условие — возврат к твердой монете. Почти того же в свое время требовали ассамблеи, созванные Филиппом Красивым, и бароны, участвовавшие в феодальных движениях 1314 и 1315 гг. Еще Штаты 1355 г. добились от Иоанна Доброго такого обещания. Когда ты получаешь ренту и взимаешь арендную плату, ты против инфляции.
Больше думая о налоге, чем об интересах простого народа, городского съемщика или сельского держателя, который всегда имел больше или меньше долгов, уполномоченные дофина в Тулузе велели немедленно начать чеканку новой монеты — «белого гроша с короной», которая имела великолепную пробу (958-ю) и при официальном курсе всего два турских су сразу же увеличила стоимость в серебре турского ливра более чем вдвое.
Нельзя было ввести в Лангедоке сильную монету, а в Лангедойле оставить слабую. Дофин и его Совет решили на Севере усилить монету не настолько, как сделали на Юге, однако и этого хватило, чтобы вызвать раздражение должников, не принеся никакой выгоды кредиторам: последние отказались вотировать налог. Во всяком случае, собственники нашли слишком робким изменение, усилившее турский ливр всего на четверть.
Об этом усилении монеты 10 декабря оповестил молодой Людовик Анжуйский, временно замещавший брата-дофина. Парижане немедленно заволновались. Этьен Марсель нашел наконец удобную территорию для борьбы с теми, кто нанес ущерб его интересам, — их собственные интересы. Он возглавил движение. В Лувр направилась делегация, Людовик Анжуйский ее принял. Немедленного ответа дано не было. После двух дней волнений принц отсрочил выполнение ордонанса, предписывавшего чеканку новых монет.
Парижский народ взял верх над интересами тех людей, из кого состояли Штаты. Отныне положение Этьена Марселя стало неопределенным: в ноябре он выступал от имени крупного бюргерства, а в декабре оказался во главе подмастерьев и лавочников. Он бы, несомненно, удивился, если бы ему сказали, что он не лоялен к королю. Когда дофин подъезжал к Парижу, купеческий прево выехал навстречу ему за пределы города, на большее расстояние, чем требовал протокол.
Однако Иоанн Добрый не упустил случая сделать глупость. 12 декабря, когда Этьен Марсель как раз диктовал условия правительству Людовика Анжуйского, французский король решил написать из Лондона парижскому купеческому прево, чтобы поблагодарить за усилия, предпринятые Штатами для его скорейшего освобождения.
Едва вернувшись в столицу, наместник короля попытался убедить парижан. Ему нужно было действовать быстро, потому что нового созыва Штатов избежать было невозможно — казна пуста. А ведь Штаты не преминут обострить ситуацию. У дофина было две недели, чтобы покончить с волнением; он попытался прибегнуть к силе.
19 января 1357 г. он направил в «Бюргерский зал» настоящее посольство: архиепископа Сансского, графа де Руси, Робера де Лорриса (и его тоже!) и еще нескольких членов Совета, попросивших купеческого прево и четырех его эшевенов немедленно прибыть к Сен-Жермен-л'Оксерруа — то есть к воротам Лувра, — чтобы получить срочное сообщение от правительства. Было сделано две оплошности разного характера: отправка архиепископа оказала слишком много чести Этьену Марселю, а отправка его свояка Лорриса, человека, получившего пятьдесять тысяч золотых монет, должна была привести его в ярость.
Было около десяти утра, когда парижане явились к Сен-Жермен-л'Оксерруа. Люди дофина ждали эшевенов, а увидели приближающуюся толпу, которая даже не пыталась скрывать, что она вооружена. Запахло мятежом.
Один из членов Совета обратился к горожанам: готовы ли они принять новую монету? Этьен Марсель сухо ответил, что парижанам она ни к чему. Они не потерпят, чтобы новая монета поступила в обращение. Советники не сочли уместным что-либо возражать. И хорошо сделали.
Купеческий прево и его спутники повернули обратно. Манифестантам, которые начали расходиться по городу, он поручил передать всем парижанам, чтобы прекращали всякую работу и вооружались. Дело откровенно шло к парижскому восстанию.
Дофин его не допустил, пойдя на уступки. Во время встречи у Сен-Жермен-л'Оксерруа он находился в Лувре, куда к нему спешно прибыли советники. На следующее утро созвали новую ассамблею, состоявшую бог весть из кого и в основном, несомненно, из тех, кто неотступно следовал за Этьеном Марселем. Заседание состоялось во дворце на острове Сите, в большом зале парламента. На сей раз дофин пришел лично и попытался сыграть как можно тоньше: он передал спорный вопрос на решение Штатов.
Сказал им, что право чеканить монету и менять ее принадлежит королю как наследнику французской короны, однако же, ради их удовольствия, он не допустит, дабы оная новая монета поступила в обращение.
Но пожелал, дабы, когда соберутся люди трех сословий, они бы предписали вместе с иными из людей оного монсеньера герцога, дабы он сие предписал, некую монету, каковая была бы приятна и полезна для народа.
Он простил парижан за то, что случилось накануне. Он отстранил девять советников, которых Штаты — фактически Этьен Марсель в Штатах — недавно назвали виновными в хищениях. Он обещал их арестовать, судить и конфисковать их имущество. История начиналась заново. Один только Жан Пуальвилен не покинул Париж вовремя.
Марсель и его друзья не доверяли устным обещаниям. Чего бы это ни стоило дофину, они потребовали официального акта и получили его.
Штаты 1357 г.
Штаты были созваны на 5 февраля 1357 г. Они заседали месяц, и тон в них задавал Робер Ле Кок, который говорил все громче, однако не смог добиться от дофина освобождения короля Наваррского. Первой целью этой сессии явно было введение налога. Штаты решили сами его взимать и распределять полученные средства. Для этого они будут собираться раз в квартал.
За два года как в добрых городах, так и в замках успели определиться с тем, что понималось под «реформой». То, что Штаты предложили дофину как условие для введения налога — и добились его оформления ордонансом от 3 марта 1357 г., — намного превышало уступки, на которые в условиях сходной политической и финансовой нужды в свое время пошел Филипп Красивый, чью корону, по крайней мере, никто не оспаривал. Реформа 1303 г., подтвержденная провинциальными хартиями 1315 г., сводилась к обузданию местных чиновников, соблюдению юрисдикции сеньоров, подтверждению прерогатив феодалов и привилегий церкви. Это была защита старой политической системы от монархии и ее нового аппарата. Реформа 1357 г. вводила новую систему управления, о которой мечтали — слишком рано, поскольку поражение еще не случилось, — Штаты 1355 г.: ограниченную монархию.
Ни о чем таком не говорилось ни в ордонансе от 8 марта, ни в текстах, которые немедленно появились как дополнения к нему. Были меры, принятые для решения злободневных вопросов, таких, как формирование комиссии из девяти «генеральных реформаторов» с целью чистки администрации, отправки виновных в тюрьму и конфискации их имущества. И даже временные меры, как отставка всех чиновников до назначения новой администрации. Меры с дальним прицелом: Штаты должны собираться с определенной периодичностью, налоговые поступления будут распределять «генеральные делегаты». Были компромиссы: в состав Совета ввели шесть делегатов от Штатов — среди них был Робер Ле Кок, но Этьена Марселя не было, — хотя несколько недель назад депутаты мечтали, чтобы Штаты просто-напросто выбирали весь Совет.
Были и недосмотры. Ничего не сделали, чтобы обеспечить контроль правительства над другими сферами, кроме финансовой. В частности, внешняя политика безропотно предоставлялась на откуп монарху. Главное, Штаты не взяли в свои руки то, что могло стать средством для контроля над страной: назначение чиновников. Единственное право, которое они здесь присвоили себе, — наказания виноватых. Право отбора людей осталось за королем.
Дофин Карл уже мог заметить один феномен, который станет для него спасительным: свистопляска происходила в Париже, где несколько депутатов упивались речами, а купеческий прево переводил город на военное положение, опасаясь то ли англичан, то ли возможной реакции армии регента, но провинция оставалась спокойной. Местные прево по-прежнему управляли королевским доменом, бальи и сенешали вершили суд и разбирали тысячу и один конфликт в местной и повседневной политической жизни. Муниципалитеты попросту контролировали экономическую жизнь и даже снабжение. Все худо-бедно заботились о местной обороне. Во всей Франции куда больше говорили о починке городских стен и обеспечении охраны, чем о центральном правительстве. Нотабли, правившие королевством, в большинстве своем и не думали брать на себя функции дофина.
Тот на несколько недель выехал в Верхнюю Нормандию и в Вексен. То, что он там увидел и услышал, укрепило его в желании противостоять давлению парижан.
Тогда-то, как «бог из машины», появления которого в истории в тот момент не ждали, против течения двинулся король Иоанн, опять перетасовав карты в политической игре. Королю было ясно одно: мир значит освобождение. Если война возобновится, он останется в плену. Коль скоро налог мог быть оправдан только подготовкой к походу против англичан, значит, его введение противоречило личным интересам короля. Мало ли что казна пуста и дофину уже не на что править.
В апреле Иоанн Добрый уже вызвал волнения в Париже, передав через своих посланцев условия перемирия, заключенного в Бордо, и заявив, что, следовательно, от сбора налога нужно отказаться. Для Этьена Марселя и его сторонников отмена сбора налогов означала конец Генеральных штатов, а значит, конец всякой надежды на ниспровержение политической системы. Это тогда же подтвердили и письма, которые король разослал разным сообществам жителей королевства, запрещая им отныне направлять депутатов в Штаты. Дофину потребовалось все его двуличие, чтобы выпутаться из этой ситуации, опровергнув в чистый понедельник то, о чем кричали на всех перекрестках в вербное воскресенье.
Будь Иоанн Добрый в Париже, дело оказалось бы трудным. Но он был далеко, и Штаты ничего не могли с ним поделать, как и парижане. Зато податные обрадовались, что им запрещают платить налог. Налоговые поступления сократились, и заметно. Поскольку Штаты упорно домогались налогов, население в массе отвернулось от них. Ложный шаг короля, в ближайшее время обрекший казну на опустение, в долгосрочной перспективе спас королевскую власть.
В августе дофин решил, что настало время прибегнуть к силе. Он вновь призвал советников, принесенных в жертву в январе, приостановил деятельность «генеральных реформаторов» и отменил большинство их решений, восстановил на постах чиновников, уволенных в марте. Наконец, он не без резких выражений уведомил купеческого прево и эшевенов, чтобы они отныне занимались только муниципальными делами.
Рановато. Карл пользовался симпатиями многих, но армии у него не было. А под началом Этьена Марселя была маневренная группировка — парижские подмастерья и лавочники, и он держал в своих руках оборонительную систему города.
Однако пока что дофин мог считать, что победил. Марсель растерялся, Ле Кок спешно выехал в свой епископский город Лан. Несколько последующих соглашений, в сентябре и октябре, определили политическую линию этого нового правительства: дофин явно не обижает парижан, которые не обижают его. Фактически стороны наблюдали друг за другом и на компромисс согласились не без задних мыслей.
Этьен Марсель держал в руках дофина, потому что держал в руках столицу со всем правительственным и административным аппаратом, обосновавшимся там уже век. Очень скоро условием сохранения мира в Париже стало разделение власти. Это был странный компромисс, в результате которого начали непрерывно заседать два правящих совета: один — «реформаторский», группировавшийся вокруг купеческого прево и епископа Ланского и созванный в начале ноября, другой — реакционный, где тон задавали дофин и прежние советники, наконец возвращенные. Оба правительства даже сотрудничали в организации созыва Штатов, ожидаемого 7 ноября; чтобы никто не отказался явиться, для каждого адресата составили два письма, одно — от имени наместника короля, другое — от имени купеческого прево. Это стало формальным признанием, что во Франции есть города, не подчиняющиеся наместнику короля, пока приглашение не пришлет купеческий прево Парижа.
Возвращение Наваррца
Штаты заседали уже два дня, когда пришла весть, разом опрокинувшая шахматную доску: король Наваррский свободен. Этого ждали давно. Поздно ночью с 8 на 9 ноября 1357 г. знатный барон, связанный с наваррской партией, губернатор Артуа Жан де Пикиньи, просто-напросто взял штурмом замок Арлё, где держали Карла Злого. Шателен спал так крепко, что сам был схвачен, прежде чем понял, что происходит. Амьенские бюргеры предоставили маленький отряд и несколько телег с лестницами.
Карл Наваррский прибыл в Амьен, согласился, чтобы его встретили бюргеры — это был ловкий политический ход, — и стал изображать суверена, выпуская заключенных в честь радостного въезда в добрый город. Он также с удовольствием разослал повсюду сообщения о том, что назвал своим «выходом» из заключения. Так, графу Савойскому он писал:
Рад Вам сообщить, что, благодаря нашему Господу и некоторым моим добрым друзьям, я вышел оттуда, где пребывал, не испросив разрешения у своего хозяина, 9 дня ноября месяца, в добром здравии.
Несомненно, скорей проявлением тонкого политического чутья, чем просто настроения, надо считать его тогдашнее публичное высказывание о своих правах на французскую корону: они больше, — сказал он, — чем у Эдуарда III. То есть Наваррец не собирался атаковать своего кузена Валуа. Он предпочитал занять прочное положение в Совете последнего, чем снова, при сомнительных шансах на успех, ставить под вопрос выбор наследника, совершенный уже тридцать лет назад. Карл Злой жалел, что родился слишком поздно, и ничуть не отказывался от притязаний на Шампань, но он понимал, что роду Эврё уже поздно пытаться обойти род Валуа. После Пуатье это грозило бы тем, что верх возьмет Плантагенет.
У Карла Наваррского был лучший вариант действий. Иоанн Добрый в плену, а для субтильных молодых людей задача представлять в Париже королевские лилии слишком тяжела. Зрелый человек, политик и безупречный рыцарь, каким Карл считал себя, — вот кто должен управлять. Король Наваррский счел небесполезным напомнить, что он тоже принц крови.
Побег из Арлё был пощечиной для дофина. Эта пощечина превратилась в поражение, когда Этьен Марсель, Робер Ле Кок и некоторые другие потребовали от него того, о чем уже умоляли обе королевы из рода Эврё, Жанна и Бланка[64], до которых дошла весть о «выходе»: дофин Карл должен предоставить пропуск своему шурину, которому срочно надо в Париж. И тот прибыл туда 29 ноября, но довольствовался тем, что пересек город и заночевал за его стенами, в Сен-Жермен-де-Пре.
Речь, произнесенная им на следующее утро с высоты трибуны, которая стояла напротив Пре-о-Клер и которую обычно занимал король во время турниров, была повтором речи в Амьене. Король Наваррский был достаточно ловок, чтобы впрямую не нападать ни на короля, ни на дофина. Но в течение всего рассказа о своих «злосчастьях» он давал волю ненависти к «дурным советникам», которые его оклеветали, подвергли гонениям и обобрали.
В своем положении дофин мог только делать новые уступки. Он согласился ввести своего шурина в Совет. Он согласился рассмотреть жалобы рода Эврё. Он согласился 2 декабря сделать все для примирения — без оружия и охраны направился во дворец королевы Жанны д'Эврё.
Там, у своей тетки, поселился Карл Злой. Он принял наместника короля с нарочитой холодностью. Присутствовала вся наваррская партия, весь двор, притом при оружии. Дофин был один, и ситуация выглядела двусмысленной: вспомним обстоятельства, при которых двадцать месяцев тому назад люди короля Франции арестовали Наваррца, когда тот был гостем дофина. На самом ли деле оба молодых принца плели тогда заговор против короля Иоанна? Карл Злой, как все знали, в то время был другом герцога Карла Нормандского, но со времен Пуатье тот и не подумал вернуть свободу другу и, может быть, сообщнику. Он, несомненно, знал по собственному опыту, что король Наваррский любит ловить рыбку в мутной воде…
Как бы случайно Этьен Марсель и несколько бюргеров на следующий день явились в Совет с просьбой созвать общее собрание знати и добрых городов. Это был не более чем предлог, что стало понятно очень скоро. Робер Ле Кок немедленно начал уговаривать коллег, чтобы парижан попросили остаться и присутствовать на заседании Совета. Те воспользовались приглашением, чтобы высказать свое мнение.
Сир, любезно предоставьте королю Наваррскому то, о чем он у Вас просит, ибо это надлежит сделать.
Это было предупреждение. Дофин воспринял его так. Было решено компенсировать убытки графу д'Эврё и королю Наваррскому, может быть, отдать ему Шампань и (почему бы нет?) Нормандию, а также реабилитировать его друзей, казненных в Руане в апреле 1356 г. Если учесть обстоятельства дела в Руане, понятно, что герцог Нормандский выглядел глупо. Но выбора у него не было — он сделал вид, что доволен.
Неделю оба принца встречались по любому поводу. Робер Ле Кок ходил за ними как тень. Потом Наваррец отправился в свои нормандские домены — отметим, что ехать в Наварру он и не подумал, — поскольку заговорили об освобождении Иоанна Доброго в ближайшее время, и Карл Злой хотел проследить за выполнением решений, принятых восемь дней назад. Возвращение короля вполне могло поставить под вопрос его приобретения, если они не будут обеспечены.
Наваррцу было наплевать на реформы с тех пор, как он отстоял свои интересы. Ему нужно было как можно скорей вернуть себе крепости, чтобы Иоанн Добрый и Эдуард III не заключили между собой мир за его счет. Он также должен был отомстить: он поехал в Руан, чтобы похоронить тела казненных в 1356 г. Четыре из них, обезглавленные, еще висели на виселице, подвешенные под мышки. Он устроил им в соборе торжественные похороны.
Новоиспеченный «наваррец» Этьен Марсель слишком поздно заметил: меч, на который он рассчитывал, выскальзывает у него из рук. Когда Карл Злой вернулся в Париж после революционных дней февраля 1358 г., он нашел в купеческом прево крайне уклончивого союзника.
Тем временем купеческий прево поднимал боевой дух своих импровизированных войск. Он раздавал красно-синие шапероны и эмалевые броши тех же цветов. Он выбрал девиз «К успешному завершению» (А bonne fin), вызвавший много толков. Несмотря ни на что, парижане чувствовали себя в изоляции. Многие тянулись к дофину, то есть были склонны проявлять лояльность. Но сохранялся страх, что вернутся злоупотребления, растраты, спекулянты. Те, кого выраженное стремление к реформам толкало на сторону Этьена Марселя, плохо представляли, куда он их ведет. Сам Робер Ле Кок уже толком не знал, что ему выгодней, с тех пор как король Наваррский в какой-то мере вышел из игры. Правду сказать, у Карла Злого хватало причин для сдержанности: Марсель его ревновал, парижане недолюбливали, дофин ненавидел.
Магистры Парижского университета сочувствовали городу и Наваррцу, но сознавали нечеткость как политической программы реформаторов, так и притязаний короля Наваррского.
Что касается Штатов, которые снова заседали в январе и феврале 1358 г., то они вотировали налог без малейшего энтузиазма. Зато они откликнулись на новые волнения: в стране нарастало беспокойство.
Настоящее равновесие страха возникло, когда «меняла-слуга» — независимый меняла, но не мастер — убил прямо на улице Нёв-Сен-Мерри казначея герцога Нормандского, тоже менялу. Возможно, это был внутрицеховой конфликт, но он тотчас принял политическую окраску. Дофин велел ночью арестовать убийцу, который укрылся в церкви Сен-Мерри, и повесить. Это вызвало гнев епископа — как потому, что было нарушено право убежища в церкви, так и потому, что забыли о его полномочиях судьи в этом деле. Убийцу сняли с виселицы и устроили ему церковные похороны. До сих пор все было достаточно обычно: о праве судить труп спорили не впервые. Новой была немедленная реакция Бюргерского двора. Купеческий прево вступился за убийцу не потому, что тот был бюргером, — убитый был таким же бюргером, — а потому, что в его отношении дофин превысил свою власть.
27 января 1358 г. в Париже встретились два кортежа: похоронная процессия казначея, в которой участвовали регент и его сторонники, и похоронная процессия «менялы-слуги», иначе сказать, убийцы, в которой шли Этьен Марсель и его люди.
Убийство маршалов
В этой до предела накаленной атмосфере и вспыхнуло восстание 22 февраля. Восстание подготовленное, восстание без очевидной причины. Этьен Марсель искал конфронтации, так как опасался, что неопределенное состояние продлится до возвращения короля Иоанна. Если Наваррец боялся мира с Англией, купеческий прево боялся любого мира: будь он заключен с англичанами, с Наваррцем или с теми и другим, он неминуемо наносил ущерб бюргерству.
Рано утром три тысячи вооруженных человек собрались у Сент-Элуа, в сердце Сите. Уже очевидным было намерение устроить масштабную манифестацию. Зачем? Против кого? Первый повод к возмущению этим людям, возбужденным, поскольку встревоженным, невольно предоставил Рено д'Аси. Он был королевским адвокатом в парламенте. А также советником Иоанна Доброго, и он только что привез из Лондона текст проекта договора, в котором нельзя было усмотреть ничего иного, кроме замысла раздробить Французское королевство. А ведь Рено д'Аси жил на острове Сите, северней собора Парижской Богоматери, и он возвращался домой, когда возбужденная толпа, окружавшая Сент-Элуа, его узнала. Его стали оскорблять, потом бить, а потом растерзали. Смысла в этом не было, но это распалило толпу. Этьен Марсель воспользовался этим, чтобы дать приказ идти на дворец.
В противоположность Лувру, возвышавшемуся за пределами стены Филиппа Августа, дворец на острове Сите не был рассчитан на оборону. В один миг восставшие оказались в покоях дофина, над галереей галантерейщиков.
Карл находился там без охраны, рядом с ним было лишь несколько приближенных, в частности, маршалы Нормандии и Шампани — Робер де Клермон и Жан де Конфлан.
Начавшийся разговор показал все злые намерения купеческого прево, настроенного тем утром придать событиям драматический оборот. Он яростно спросил дофина, когда тот решится править.
И весьма раздраженно спросил его, как намерен тот разрешить нужды королевства и какой совет дать, дабы уберечь королевство, каковое должно ему достаться, от хозяйничающих в нем банд, и они бы далее не терзали и не обирали страну.
Наместник короля к тому времени с немалым трудом сохранял какую-то долю власти. Он дал резкий ответ. Если финансы препоручили другим, надо и обращаться к другим!
Все это было бы сделано охотно, будь у него такая возможность. Но это должен был сделать тот, кто присвоил доходы и права королевской власти. Пусть он это и делает!
Этьен Марсель только и ждал этих слов. Он бросил:
Сир, не изумляйтесь тому, что вы увидите, ибо мы так решили, и так должно свершиться.
После этого несколько человек купеческого прево схватили Жана де Конфлана и убили его. Маршал Нормандии попытался спастись, укрывшись в соседней комнате и совсем забыл, что он должен защищать своего герцога; тем не менее его тоже убили. Оба тела вынесли на двор, где они оставались до ночи. Люди дофина похоронили их тайком.
Ни маршал Нормандии, ни маршал Шампани не показали себя противниками ни реформы, ни Штатов, ни парижан. Своим жизнями они, несомненно, заплатили за то, что были маршалами и несли вместе с другими ответственность за поражение.
Они ее разделяли со всей знатью, той самой знатью, которая не приняла участия в последнем заседании Штатов, потому что Штаты начали превращаться в третью партию наряду с партией дофина и партией Наваррца. Знать не выполнила своей миссии — защищать королевство; к этим простым словам многие сводили сложную политическую игру двух последних лет.
Дофин видел гибель обоих приближенных. Он испугался. Этьен Марсель только этого и ждал: издавна знакомый с distinguo[65] между добрым государем и дурными советниками, он выступил в качестве покровителя принца.
Сир, ничего не бойтесь.
Чтобы убедить молодого принца, что тому ничего не грозит, он надел ему на голову собственный красно-синий шаперон, «разделенный на части красную и синюю, синяя справа», а себе — шапку, которую носил дофин.
Обойдясь с наместником короля как с равным. Марсель поспешил на Гревскую площадь, где толпа росла с каждой минутой. Площадь и соседние улицы были черны от народа, когда купеческий прево появился в окне «Бюргерского двора». Он произнес несколько слов. Их смысл сводился к тому, что он и его спутники выполнили свой долг, злодеи мертвы, дофин не пострадал. Как могла толпа воспринять эти слова? И, главное, как их понять? Во всяком случае. Марселю ответили рукоплесканиями. Он счел, что его действия одобрены.
Потом он вернулся во дворец, где Карл снова принял его в помещении, в котором уже не был хозяином. Принц был запуган. Он согласился публично одобрить двойное убийство, совершенное несколько часов назад в его присутствии. Он друг парижанам. Он скажет им это. Чтобы явно это показать, он немедленно велел своим приверженцам и чиновникам надеть шапероны, «разделенные на красную и синюю части».
Этьен Марсель мог быть доволен. Он унизил наместника короля, доведя его до слез. Возможно, в тот день он зашел слишком далеко; тем же вечером ему пришло в голову, что в Париже более чем необходимо присутствие короля Наваррского. Если после двойного убийства, совершенного утром, фортуна отвернется от него, последствия могут быть самыми зловещими.
Париж — еще не Франция. Этьен Марсель это знал, и дофин тоже. В самом Париже бюргерские депутаты от добрых городов королевства, если не вернулись по домам раньше, были вовлечены в водоворот событий. Те, кто остался, не могли быть уверены, что по возвращении их похвалят. И купеческий прево написал властям всех городов послания, чтобы объяснить действия парижан и добиться одобрения. Более из осторожности, чем из неприятия большинство городов не ответило. Некоторые, как Амьен, где движение за реформы возглавили скорняки, велели своим жителям носить красно-синие шапероны. Возбуждение парижан не нашло подражателей, кроме как в Аррасе, где народ 5 марта убил нескольких дворян. Это был единичный случай.
Дофин и провинция
Дофин производил впечатление марионетки в руках купеческого прево. Это с согласия последнего Карл Нормандский 14 марта присвоил себе титул «регента». Позже он воспользуется этим титулом, чтобы показать собственную власть. Пока что это была лишь позолота на верховной власти, которую опосредованно сумел присвоить Этьен Марсель. Принц, наделенный правами суверена, пусть даже временно, отныне был декоративной фигурой.
Этьен Марсель чувствовал все больше уверенности в завтрашнем дне. Пожелав в свое время приезда короля Наваррского, он скоро дал тому понять, что не надо оставаться в Париже слишком долго. Теперь, когда регент стал его креатурой. Марсель, бесспорно, мог быть первым человеком в столице.
Официальные акты хорошо отражали новую политическую ситуацию. Они начинались со слов: «Карл, старший сын короля Франции, регент королевства, герцог Нормандский и дофин Вьеннский». Об Иоанне Добром больше не упоминалось. Дезавуировать Этьена Марселя из Лондона не могли.
Регент в течение этих недель, когда он был лишь марионеткой, добивался как посредник, чтобы знать, отсутствовавшая на последних совещаниях Штатов, наконец одобрила то, что сделали другие без нее. В основном эта миссия ему не удалась: знать Северной Франции — Пикардии, Артуа, Верхней Нормандии, — собравшись в Санлисе, не сказала ни да ни нет. Что касается короля Англии, в тот период он задавался вопросом, стоит ли иметь дело с такими людьми. Что они на самом деле собой представляют?
Тогда-то Иоанн Добрый впервые забеспокоился. Один королевский секретарь, пересекший Ла-Манш в начале апреля, привез регенту устное послание.
Герцог Нормандский чувствовал себя изолированным. Королевское послание ободрило его. Внезапно он решил переломить ход событий. Собрание в Санлисе дало ему повод покинуть Париж, не отрекаясь открыто от дружбы с парижанами, на которую ему приходилось ссылаться во всех высказываниях. Он воспользовался этим отъездом, чтобы посетить города парижского региона. Его видели в Компьене, Мо, Провене, где он председательствовал на заседании Штатов Шампани. Не говоря этого открыто, он уже обращался к провинции за помощью против Парижа.
Внешне он по-прежнему играл на стороне парижан. Впрочем, Марсель приставил к нему десять горожан, которые должны были неусыпно шпионить за ним, контролировать его слова, следить за его разговорами. Но на самом деле регент зондировал настроения провинции. Он пытался оценить, насколько исконная Франция способна противостоять смуте парижан. Его двуличие скоро принесло свои плоды. 10 апреля в развитии сюжета возник первый неожиданный поворот. После изобилующей намеками речи, где он объяснял Штатам Шампани «весьма чудесные» события, случившиеся в Париже в течение последних недель, — шампанская знать плохо отнеслась к убийству маршала Шампани, — регент попросил одобрения и финансовой помощи. Депутаты ответили, что подумают. Во всяком случае, — добавили они, — в Париж они больше не поедут.
Игра шла самая тонкая. Ораторы шампанских Штатов заявили, что объяснения, данные королем, их не вполне устраивают. Это правда, что маршал Шампани заслужил смерть? За что? Они уточнили, не без иронии: в том, что касается маршала Нормандии, они доверяют нормандцам. Оба парижанина, присутствовавшие там в тот момент, явно ждали, что регент в ответ подтвердит виновность маршала Жана де Конфлана. Они были удивлены.
Регент ответил: он считает и твердо верит, что оный маршал Шампани и оный мессир Робер де Клермон верно и преданно служили и давали советы, и никто не ведал за ними обратного.
Симон де Руси, граф де Брен, говоривший от имени шампанских баронов, поймал мяч на лету:
Монсеньор, мы, шампанцы, присутствующие здесь, благодарим Вас зато, что Вы сказали. Мы рассчитываем, что Вы свершите правосудие над людьми, каковые без вины умертвили нашего друга.
Дофин пригласил их на обед. Они вышли вместе. Эта история вполне могла вызвать недовольство Этьена Марселя; тогда же он узнал о распоряжениях, сделанных дофином в связи с этой поездкой в Шампань: тот поставил гарнизон в замке Монтеро и внезапно захватил «Рынок» Мо, подобие укрепленного лагеря, образованное излучиной Марны. Дофин явно готовил средства, чтобы перекрыть навигацию вниз по течению реки к Парижу, а значит, снабжение города по Сене, Йонне и Марне.
Парижане хорошо осознали, какой маневр готовится. Когда люди регента пришли в Лувр за стрелковым оружием, которое там хранилось, чтобы отправить его по реке в Мо, Марсель понял: его подопечный переходит в атаку. Он не позволил вывезти и конфисковал оружие, распорядился поместить его в ратушу и, изображая скрупулезное следование законам, составил расписку об изъятии.
Да будет всем известно, что мы, Марсель, купеческий прево, и эшевены города Парижа, во избежание величайших скандалов и бед, каковые бы немедля приключились в оном городе, забрали и изъяли шестьдесят ящиков болтов двухфутовых, шестьдесят ящиков болтов семифутовых, сорок ящиков виретонов, шестьдесят арбалетов по два-три фута, двенадцать арбалетов с воротом, триста толстых болтов для стрельбы из оных арбалетов, двенадцать фонарей и двести круглых щитов, двадцать пять павез, три пушки ручных, то есть с ложей, две пушки без ложи, шесть фунтов пороха для стрельбы из пушек, одну катушку, один оспье, пятьсот стрел для арбалетов с воротом, двадцать пять копий и один моток веревки, дабы делать тетивы для арбалетов.
В тот же день Этьен Марсель отослал регенту Карлу со специальным гонцом письмо, больше походившее на ультиматум, чем на оправдание.
Ваш парижский народ весьма ропщет на Вас и Ваше правление…
Он очень хорошо знает, — писал он, — чем объясняется все и, в частности, напрасная попытка вывезти в Мо стрелковое оружие из Лувра. Он вполне догадывается, какие советы дали регенту.
Сир, кто угодно, хоть бы и сеньор сего замка, может бахвалиться, что грозен для этих парижских мерзавцев, и многие близ него могут грызть ногти от нетерпения…
Если Вам угодно знать, сеньор, добрые парижане не считают себя мерзавцами, они достойны и верны, таковыми Вы их нашли и найдете. Но они говорят: мерзавцы те, кто творит мерзости.
Дофин продолжал свою поездку. Настоящий отпор он встретил только в Амьене. Этот город открыто объявил, что поддерживает парижан; он передал, что перед регентом ворота не откроются. Тот предпочел не настаивать и не поехал дальше Корби.
Именно тогда Карл, чтобы организовать совместную акцию провинций против Парижа, 4 мая созвал Штаты в Компьене. То, что делегаты добрых городов согласились там заседать, даром что что раньше приняли решение никогда не заседать вне Парижа, встревожило Этьена Марселя и его сторонников.
Купеческий прево попытался начать переговоры о мире. Он отправил к регенту короля Наваррского, затем делегацию магистров университета. Регент был непреклонен: он очень хорошо знает, что не весь город виновен, но совершены преступления, которых он простить не может. Пусть ему выдадут пять-десять заправил, а там будет видно. В те же дни он подтвердил Штатам Компьеня свое желание поддерживать реформы. Все было понятно: да, реформы — в той мере, в какой они обуславливают финансовую помощь, но для вождей парижской революции — веревка.
Марсель тоже это понял. Он велел укрепить городскую стену, проводить учения для ополчения. Двух нотаблей, главного королевского плотника и смотрителя Большого моста, четвертовали на Гревской площади по обвинению в том, что они организовали заговор с целью открыть ворота людям регента Карла.
Горожане были в смятении. Общую тревогу вызвало то, что во время казни на палача Рауле напал припадок эпилепсии.
Он упал и начал корчиться от жестокого страдания, так что изо рта у него пошла пена. Оттого многие в парижском народе роптали, говоря, что это чудо и что казнью безвинных прогневили Бога.
В середине мая 1358 г. ситуация казалось безвыходной. Регент мог брать столицу на измор, но захватить ее не мог. Этьен Марсель мог держаться в Париже, но убедить королевство не мог. Король Наваррский выказывал симпатию к парижанам, но помогал им мало. Кстати, его войска отчасти были иностранными, и парижане не слишком желали впускать в город наваррцев и англичан, не представляя, как потом удастся их выставить. Что касается других городов, то большинство из них колебалось, не зная, к тому или к другому лагерю примкнуть.
Жакерия
События ускорил случай. Ведь не может быть ничего более случайного, чем такое совпадение: в то же время разразилось совсем другое восстание — крестьян области Бовези. Жакерия, вспыхнувшая в результате местного инцидента в Сен-Лё-д'Эссеран в области Валуа 28 мая 1358 г., имела лишь очень косвенное отношение к тому, что уже двадцать лет волновало Францию и Париж, Штаты Лангедойля и «Дом с колоннами» на Гревской площади.
Она могла бы стать восстанием и против установленного порядка, гарантом и одновременно символом которого был регент. Годом раньше, может быть. Жакерия и была бы таким восстанием. В мае 1358 г. она случилась как раз кстати, чтобы помочь реакции консолидироваться, к выгоде того же регента.
Всех, кто после поражения осложнял жизнь дофину Карлу, объединяло одно, о чем они не знали и догадались только в конце этой весны: все они, кроме Этьена Марселя с его застарелой личной ненавистью, входили в число людей, которых «жаки» хотели уничтожить. Нотабли, считавшие себя сторонниками реформы, с ужасом обнаруживали, что есть другие представления о реформе, на другом уровне, и что борьба за эту другую реформу в первую очередь сводится к тому, чтобы вешать, сажать на кол, жечь заживо их самих — их, кто два года только и говорил, что о реформе. Толкая в объятия гаранта старого порядка всевозможных нотаблей, для которых проводить реформу значило просто обеспечить себе власть, «жаки», так и не догадавшись об этом, обеспечат победу регенту Карлу.
Что представляли собой эти «жаки»? Все что угодно, только не отверженных с крестьянской земли. Характерно, что это восстание, самое жестокое из всех, какие с давних времен пережила Северная Франция, было ограничено самыми богатыми землями Парижского бассейна: областями Бове, Суассона, областью Бри. Это не был бунт последних нищих, умирающих с голоду. Это было восстание мелкого крестьянства, собственников со скудным достатком, насколько слово «собственник» употребимо для средних веков, когда никто не имел полных прав на имущество, не будучи чем-то кому-то обязан. Отдельные бывшие солдаты, бывшие доманиальные служащие землевладельцев, отдельные безместные священники примыкали к восставшим с пользой для последних, иногда выбиваясь в вожди.
Эти крестьяне-середняки, жившие на земле, плодородие которой было выше среднего, уже почти век страдали. Прежде всего, в этих областях не хватало земли — здесь с XI по XIII в. распахали все что можно, до мыслимых пределов. Прошли времена, когда, если у тебя увеличилась семья или ты хочешь продать на рынке чуть больше, достаточно было лишь освоить новые земли, расширить пределы возделываемых территорий за счет земли, которую сеньор предлагал задешево, потому что получал свою выгоду от экспансии. Теперь было поздно. Приходилось довольствоваться тем, что имеешь, и очень соблазнительной была мысль: если я живу плохо, то жил бы лучше, будь у меня больше земли.
На этих илистых почвах выращивали преимущественно зерновые. Но в течение полувека цены на зерно — на этих богатых землях прежде всего на пшеницу и ячмень — не менялись на всех рынках, которые снабжали город, потребляющий продукты. Население прекратило расти, предложение превышало спрос, и село как производитель пришло в растерянность.
Промышленные или ремесленные изделия, в которых нуждался крестьянин, не обесценивались вместе с зерном. Железо для орудий труда, ткани для одежды оставались дорогими. Более того, из-за демографического кризиса, усугубившегося в результате Черной чумы, подскочила стоимость всей специализированной рабочей силы. Урожая собирали все меньше, но замена лемеха была делом разорительным. Вот драма этих крестьян, которые не дошли до нищеты, потому что плуги у них были, но которые видели, что плуг с железным лемехом уже скоро станет для них слишком дорог. Вот парадокс истории местностей, которые первыми применили составной плуг и внедрили трехполье.
Долгое время положение крестьянина, державшего землю за чинш, не столь бедственным делала инфляция. Чинш, который первоначально был арендной платой за землю, начислялся в денежной форме: один денье, один су, десять су. Когда знаешь, что счетная монета — денье, су, ливр — веками постоянно обесценивалась, а в конце XIII в. ее курс рухнул, становится понятной выгода для крестьянина, который по-прежнему был должен один денье за ту же землю. В XIII в. денье стоил 0,35 г чистого серебра, в 1350 г. — 0,11 грамм. В 1355 г. он стоил 0,03 грамма. Инфляция и девальвация как выражение и следствие инфляции были разорением для сеньора и благом для такого хронического должника, как крестьянин. Медленное уменьшение покупательной стоимости турского ливра в течение века спасло сельскую местность Парижского бассейна от многих восстаний.
Однако сеньоры предприняли свои меры. Недостаточно эффективные, чтобы вернуть позолоту на их герб, но достаточно, чтобы сделать тяжелей бремя крестьянина, страдавшего, как и сеньор, от снижения цен на зерно. Сеньор не мог пересматривать размеры чинша — их фиксировали кутюмы, — но он мог ввести дополнение к чиншу. Это был «добавочный чинш» (croit de cens), нечто вроде ренты, компенсировавшей падение арендной платы за землю. А за все земли, которые предоставляли заново, назначали натуральный чинш — полевую подать, позволявшую сеньору взимать лучшую часть урожая и продавать ее с максимальной выгодой, притом что крестьянину разрешалось продавать свою долю, только когда цены упадут до минимума.
Черная чума пресекла все логические пути развития. Не будем здесь разбираться, кто проиграл и кто выиграл от этого демографического удара, подорвавшего как производство, так и потребление. Главное, Черная чума произвела эффект грома среди ясного неба. Она разрушила подгнившие постройки. Она нарушила все шаткие равновесия. И она вселила ненависть в тех, кто видел, что богатые умирают реже, чем бедные, потому что лучше питаются, лучше живут, лучше защищены.
Ситуацию обострил и ряд случайно совпавших бедствий: поражение, которое восприняли болезненно и за которое упрекали тех, чьей задачей было сражаться, налоговое бремя, выросшее за два года, усиление сеньориальной системы эксплуатации в период, когда многие сеньоры, как и король, попали в плен и нуждались в выкупе, беспомощное раздражение сборщиков налогов, слышавших со всех сторон обвинения то в жадности, то в неспособности, бродячие отряды рутьеров, не слишком уважавших крестьянский труд… Боялись солдатни, оставшейся без дела после поражения 1356 г., головорезов Наваррца, живущих за счет населения, наемников, распущенных англичанами после своей вылазки. Многие города — как Париж, так и другие — закрывали ворота для любого, кто не мог доказать, что знаком хотя бы с одним горожанином. Повсюду царил страх.
Жакерия была не столько восстанием бедноты, сколько реакцией на тревогу. И это было восстание той социальной группы, которая проиграла по всем статьям, не выгадав даже, как безземельные поденщики, от роста зарплат в результате демографического спада, не выгадав даже от возможностей найти себе новое занятие, которые дала война.
Но эти люди были достаточно состоятельны, чтобы их облагали податями, налогами, подвергали реквизициям. Их земля была достаточно плодородной, чтобы они могли не слышать разговоров о «добавочном чинше» и субаренде. В условиях снижения среднего крестьянского достатка землевладельцы, епископы и аббаты, бароны и рыцари, иногда горожане могли временно отсрочить свое обеднение за их счет. Ни прелаты, ни горожане пока не жили в сельской местности. Поэтому восставшие набросятся на тех, кто еще жил на своей земле — а где еще им было жить? — и, однако, жил неважно: на мелких дворян, не слишком удачливых рыцарей, на тех, кого постепенно разоряла инфляция, кто имел достаточно земли, чтобы не наниматься на службу к принцам, и недостаточно связей или талантов, чтобы преуспеть на новых путях карьеры, которые открывало развитие монархического государственного аппарата.
Смешной и часто звероподобный крестьянин в городском фольклоре и в лексиконе аристократии фамильярно именовался «Жак Простак». Поэтому восстание, вспыхнувшее в конце мая 1358 г. на равнине Валуа, станет как для знати, так и для бюргеров Жакерией. Но очень скоро город и замок утратят всякую охоту смеяться над мужланами.
Все началось с сельской драки. Раздраженные крестьяне напали в Сен-Лё-д'Эссеран на латников, которые проходили через бург, бесцеремонно обращаясь с жителями и занимаясь грабежом как под видом реквизиции, так и открыто. Через эту деревню часто проходили купеческие обозы, направлявшиеся в Париж. Чаша терпения крестьян переполнилась.
Новым было то, что они впервые взяли верх. Соседние деревни с изумлением и восторгом услышали, что простые мужики перебили дворян. И у героев дня немедленно нашлись подражатели — ведь у любого были свои гонители. Поэтому восстание распространилось по сельской местности областей Бове, Суассона, Западной Шампани. За несколько дней оно достигло Монморанси, Ле-Трамбле, Лонжюмо и Арпажона. Оттуда за одно утро можно было добраться до столицы. Бунт докатился до Бургундии, Лотарингии, Нормандии и Артуа, однако не получил в этих провинциях того трагического накала, который изначально приобрел в окрестностях Парижа.
Все партии, боровшиеся меж собой в Париже, растерялись. Такого никто не предвидел. Тем более не организовывал. Ведь Жакерия меньше всего была сплоченным движением: у нее не было ни настоящих вождей, ни структуры, ни программы. Так никто и никогда не узнает, чего по сути хотели «жаки», кроме как выплеснуть свой гнев. Был один лозунг — «Убивайте дворян».
Конечно, в крестьянской массе военными способностями или бойкой речью выделялись отдельные дворяне, порвавшие со своим кругом, отдельные малоимущие священники и сельские нотабли, захваченные потоком, и из нее как будто выходили отдельные вожди — по воле собраний, происходивших на деревенских площадях и перекрестках дорог. Вожди часто случайные, а порой и поневоле. Такими были Гильом Карль в Бовези или Жакен из Шенневьера, «избранный» в Монморанси несмотря на свой отказ и с согласия королевского прево, которого вынудили одобрить происходящее.
Гильом Карль, или Каль, который будет выступать в роли капитана «Жаков» в их последних боях и который первым догадался установить тактические отношения с парижской революцией, изначально принял роль вожака, только чтобы его не убили. Высокий, сильный, красноречивый, этот красивый и отнюдь не глупый крестьянин был, тем не менее, лишь одним из случайных вожаков, которые водили на грабеж неорганизованные орды, быстро разраставшиеся за счет любителей половить рыбку в мутной воде. Карль прежде был солдатом и, когда будет командовать во время сражения, попытается применить какие-то зачатки тактики, но ему придется лишь сожалеть об отсутствии дисциплины у людей, которые не имели даже представления о военной организации. Чаще всего он будет не в состоянии провести совместную операцию. Такой была реальность Жакерии: сколько восставших деревень, столько и ватаг.
Большинство тех, кого опьяняла собственная дерзость, считало, что надо спешить. К порядку вернутся без долгих церемоний, и они это знали. Так зачем сдерживаться?
Несколько дней царил террор. Кровь проливали без причин. Даже очевидцы, больше всех симпатизирующие народным движениям, даже те, кого меньше всего можно заподозрить в привязанности к установленному порядку, наперебой сообщают о бессмысленной жестокости «жаков». Так, приор монастыря кармелитов с площади Мобер, Жан де Венетт, о котором мы знаем, что он обычно не скрывал сочувствия к обездоленным, пишет:
И всех знатных мужчин, каких только встречали, даже собственных сеньоров своих убивали и уничтожали без жалости.
Не довольствуясь этим, дома и крепости дворян сравнивали с землей и, что еще более достойно жалости, знатных дам и малых детей их, которых встречали, предавали мучительной смерти[66].
Хорошо осведомленный благодаря рассказам очевидцев, льежец Жан Ле Бель не скрывает ужаса и множит примеры, не желая рассказывать всего:
Никогда не осмелюсь ни написать, ни рассказать как об ужасах, так равно и о непристойностях, каковые они творили с дамами. Среди прочих недостойных деяний они убили рыцаря, насадили его на вертел и поджарили. Это видели дама и дети.
После того как десять или двенадцать из них изнасиловали даму, они силой ее заставили его есть. Потом они ее умертвили злой смертью.
Неписаный средневековый кодекс чести защищал женщин и детей. Тем более возмутительным выглядело такое насилие в глазах современников. Но, правду сказать, странным казалось и то, почему люди, знающие военное ремесло и в какой-то мере защищенные стенами своих замков, даже не подумали защитить себя и свою семью от банд простолюдинов, бесспорно, неспособных три дня осаждать крепость.
Они вошли, гурьбой, без иного оружия, кроме палок с железными наконечниками и ножей, в дом одного рыцаря. И вломились в дом и убили его, и его жену, и его детей. Потом дом сожгли.
Позже они пошли в один крепкий замок и поступили того хуже, ибо взяли рыцаря и весьма крепко привязали, и изнасиловали на его глазах даму и дочь. Потом они убили даму, беременную, и дочь, потом рыцаря и всех детей. И сожгли замок.
Так они поступили во многих замках и добрых домах.
Наваррец против «жаков»
Дыхание ужаса, пронесшееся над парижским регионом и прежде всего над равниной «Франции»[67], ощущением общего интереса быстро объединило тех, кого ранее сделали противниками непостоянство и поражение короля Иоанна. Карл Злой был достаточно умен, чтобы понимать: аплодисментов на парижских улицах недостаточно, чтобы сформировать для него политическую ситуацию. Он был жертвой Валуа, но это же не программа управления. Карл догадался, что лучший шанс для него — договориться со знатью. Ведь знать искала вождя, чтобы ответить на неистовства простолюдинов, и каждый, естественно, думал, что это место должен занять принц. Король Наваррский был слишком королем, чтобы не подумать, несмотря на все свои предубеждения против короны Валуа, что он выиграет все, превратившись в поборника порядка. Тем он привлек на свою сторону знать и дешево купил признательность бюргеров, достаточно состоятельных, чтобы не чувствовать беспокойство, когда жгут усадьбы и убивают их владельцев без долгих выяснений, принадлежат ли они к старинной знати или нет. Что касается купцов, то от небезопасности на дорогах они теряли все; тот, кто позволил бы возобновить движение обозов, заслужил бы их уважение.
Хитрый Наваррец хорошо знал, что его вмешательство в дело даст ему еще и возможность выступить в качестве принца крови. Тем самым он демонстрировал и неспособность регента взять на себя роль военачальника, которая была тому слишком не по душе. Когда король в плену и побежден, а дофин не в состоянии сражаться, то второстепенный персонаж, роль которого Наваррцу отвели его кузены Валуа, заслуживает внимания зрителя. Карл был достаточно ловок, чтобы упустить такой случай.
Этьен Марсель, однако, пришел к другим выводам. В то время как некоторые тряслись за свое добро и надеялись, что не придется трястись еще и за свою жизнь, простые горожане, мелкие ремесленники и купцы, испытывали естественную симпатию к повстанцам, воспринимая их как сельскую бедноту. А ведь купеческий прево, все прочней забывающий о назначении своей должности, больше руководствовался ненавистью к королю Иоанну и дофину вместе взятым, чем заботился о солидарных интересах деловых кругов.
Марсель знал также, что зашел слишком далеко, чтобы надеяться на королевское милосердие. Если для тех, кто вдохновлял депутатов Штатов начиная с 1356 г., дело обернется плохо, его, безусловно, вздернут первым. Так же, как и «жаки», он мог проиграть только один раз, а значит, мог найти спасение лишь в ужесточении своей позиции. «Жаки», заставлявшие трепетать столичное общество, становились сильными союзниками для купеческого прево. Он мог только принять предложения Гильома Карля.
Для прояснения ситуации провели ряд операций под самым Парижем. Несколько мастеровых и несколько «жаков» совместно снесли усадьбу в Гонессе, принадлежавшую одному из президентов парламента, смещенных в 1357 г., — Пьеру д'Оржемону. Другие разграбили в Вожираре, в Исси, в Вирофле роскошные загородные резиденции бывшего первого президента Симона де Бюси, одного из советников дофина, — Бюси тогда находился в бегах.
Марсель пошел дальше. Он велел одному из своих верных людей, Жану Вайяну, привести в помощь «жакам» небольшую армию — триста человек лавочников, разоренных кризисом, и безработных подмастерьев; они соединились с Гильомом Карлем 7 июня близ Эрменонвиля.
К этому времени стало известно, что Карл Наваррский и отряд его рыцарей направляются в область Крея, где на плато Мелло собрались основные силы «Жаков». Парижане не решились идти против Наваррца, своего вчерашнего друга. Поэтому Карль и Вайян расстались. «Жаки» Карля двинулись одни на помощь своим товарищам. Союз «жаков» и «парижской революции» просуществовал всего день.
Кодекс рыцарской чести действует только в отношении рыцарей. Так рассудил Карл Злой, мало склонный относиться как к равным к людям, способным вспарывать животы беременным женщинам. Поэтому стесняться в средствах он не собирался. Король Наваррский предложил Карлю переговоры, принял его у себя в лагере, велел арестовать и отправил в Клермон-ан-Бовези, где главного вождя Жакерии поспешили обезглавить. Что касается «жаков», оставшихся на плато Мелло без вождя, то рыцари короля Наваррского безо всякого труда изрубили их.
В то же время, а было это 9 июня, парижане подошли к Мо. Они не знали, что у них больше нет союзников, что их друг король Наваррский как раз уничтожает их временных союзников — «жаков».
Дело в Мо, которое совершил решительный отряд с хорошими командирами, явившийся туда форсированным маршем, было настоящей операцией в духе «коммандос». Город Мо, стоящий на правом берегу Марны, был старинным епископским городом с крепостными валами. На левом берегу, в излучине реки, в месте, которое было легко оборонять, находился «Рынок» — укрепленный квартал, который уже век назад создал граф Шампанский, прорыв канал, превративший излучину в остров. Покинув Мо в мае, регент оставил там свою жену, дофину Жанну де Бурбон, ее сестру и еще несколько ее приближенных. Внезапно захватить «Рынок» Мо значило получить бесценных заложниц.
Вайян и его люди по дороге забирали с собой всех вооруженных крестьян, которых встречали. Это были остатки Жакерии. Несколько подкреплений, отправленных Этьеном Марселем, примкнули к ним под Мо. Их было около тысячи, когда мэр Мо Жан Сулас просто-напросто открыл им ворота правобережной части города. Теперь проще простого было перейти мост и выйти на левый берег.
Но гарнизон «Рынка» тоже недавно получил подкрепление. Там находились, в частности, граф де Фуа и «капталь» де Буш, Жан де Грайи, два вельможи из партии Наваррца, которые привели туда сильный отряд конных латников и пеших сержантов. Все разногласия между партиями были забыты, ведь рыцари не могли оставить без защиты дофину и стольких знатных дам, доверенных их покровительству: будущей королеве Франции, бесспорно, грозило насилие. Если бы наваррцы еще не были так потрясены недавними зверствами «жаков», может быть, они вспомнили бы о своем союзе с парижанами. Еще не зная о результате полицейской операции, проведенной их королем на Мелло, они чувствовали солидарность с жертвами «жаков», а значит, были мало склонны к соглашению с горожанами, которые, как теперь было известно всем, поддержали «жаков».
В то время как парижане радовались, что заняли мост и теперь могут без труда достичь стен «Рынка», ворота этого самого «Рынка» вдруг внезапно открылись. Это бароны и их рыцари пошли в атаку. Осаждающие готовились к штурму, а не к рукопашной на мечах спинами к Марне. Фруассар яркими красками описал этот разгром парижан:
Когда оные злодеи узрели так построенных (наваррцев), хоть тех и было против них не великое множество, они стали отнюдь не столь неистовы, как прежде. Но первые начали пятиться, благородные же всадники преследовали их и поражали копьями и мечами, и сражали их.
Тогда те, что были впереди и получали удары — или опасались их получить, — постыдно отхлынули все разом, сбивая с ног друг друга.
Марна наполнялась трупами в тот самый час, когда «жаки» плавали в собственной крови на плато Мелло. Те, кому повезло не оказаться ни на Мелло, ни в Мо, поспешили как можно быстрей вернуться кто к своей мотыге, кто к своей наковальне, готовые поклясться, что ни разу не поднимали глаз от работы.
9 июня 1358 г. рухнуло многое. Союз короля Наваррского и купеческого прево был подорван. Марсель потерял свои лучшие войска. Даже знать перестала трястись от страха. До ответных действий было недалеко. В Мо жители дорого заплатят за всего лишь однодневное соучастие. Собор останется чуть ли не единственным зданием, которое люди дофина не сожгут.
Во всем парижском регионе начались репрессии, накал которых соответствовал размаху восстания и пережитому страху. Всякого уличенного в принадлежности к компании «жаков» вешали почти без суда. Пусть даже король Наваррский призывал к умеренности — знать была слишком унижена собственным страхом. Находя виновных реже, чем ей хотелось бы, она вымещала гнев на домах, на полях, на деревьях. В прекрасном июле, когда созревали хлеба, дворяне с радостью — и с ненавистью — скакали галопом по золотым полям. Многих крестьян, которым в те дни посчастливилось спасти себе жизнь, на следующий год неизбежно ждал голод.
Как и месяц назад, настало раздолье для любителей ловить рыбку в мутной воде, только жертвы их теперь были другими. Латникам, которых перемирие оставило без дела и без денег, изысканное развлечение и заметную выгоду приносило превращение хибар, риг и скирд в потешные костры, после того как они прихватят топор, окорок или шапку.
Поистине англичане, — писал Жан де Венетт, — эти главные враги королевства не смогли бы наделать столько зол, сколько наделали тогда [наши] собственные дворяне[68].
Смерть Этьена Марселя
В Париже дела шли все хуже. Этьен Марсель «топтался на месте». Регент приближался и обосновался уже в Шелле. Его сторонники поднимали голову в городе и почти открыто плели заговоры против власти купеческого прево. Бюргерскому населению надоели волнения. Депутаты добрых городов уже давно дистанцировались от происходящего. Король Наваррский, снова поселившийся в Сен-Жермен-де-Пре и назначенный капитаном города, видел, что приверженцы покидают его, чтобы им не пришлось сражаться с регентом. Впрочем, парижане, потерявшие одного из своих в деле «Рынка» города Мо, были мало склонны петь хвалы Наваррцу.
Тот мог вернуть себе популярность, накормив Париж. Так как Верхнюю Сену и Марну контролировал дофин, Карл Злой попытался деблокировать другие пути подвоза. Отказавшись открыть ворота, Санлис не пустил его в Пикардию.
Наваррский король ощутил потребность несколько усилить личный состав и набрал свежие отряды. Парижане, увидев, что в этих войсках есть англичане, вознегодовали.
Прежде король Наваррский спас общественный порядок; теперь события захлестывали его. Один его отряд 11 июля в Берси напал на людей регента. Дофин успел ввести в бой резервы. Менее чем в лье от Сент-Антуанских ворот, почти рядом с тем местом, где позже построят Бастилию, наваррцы и их парижские союзники были разбиты. В Париже роптали.
Люди дофина стали продвигаться вперед. Их можно было увидеть в разных местах недалеко от столицы. Перейдя реку близ Шарантона по надводному мосту, они разграбили несколько деревень на левом берегу.
Этьен Марсель послал отряд с заданием разрушить мост. Отряд был разбит.
Все чувствовали, что выходить из этой ситуации путем военного столкновения нельзя. Королева Жанна д'Эврё — вдова Карла IV, последнего из Капетингов, — предложила свое посредничество и смогла убедить своих племянников, регента и короля Наваррского, что в ситуации, когда может быть возобновлена война с Англией, необходим компромисс. 19 июля соглашение казалось достигнутым: оба принца встретились на Шарантонском мосту.
Дофин проиграл эту партию в игре и хорошо это знал. Его войска разбрелись, потому что им не платили и потому что они толком не понимали, какую выгоду могут извлечь из этой войны, которая была не их войной. Конечно, он показал свою силу под Парижем, а его противник хорошо справился с истреблением «жаков». Но он не мог диктовать свои условия. Как исполняющий обязанности короля он был вынужден идти на сделку. Понимая, что теряет главный козырь, он согласился снять блокаду столицы. Потом он провел несколько дней близ Бри-Конт-Робер и наконец уехал в Мо. Поход на Париж завершился поражением: победой было бы вступление в город и наказание мятежников.
Парижане прежде опасались последствий этих событий. Удивившись, что стало легче, но, не проявляя наивности, они воздерживались от всякого великодушия. Для них это была победа, а не мир. Людям дофина, считавшим инцидент исчерпанным, они отказали в праве входить в город. А когда стало известно, что под стенами Парижа жили какие-то приверженцы регента, поступил приказ сжечь их дома, чтобы они не рассчитывали запросто сюда вернуться.
В эти печальные дни на душе у будущего Карла V было скверно. Он всерьез подумывал уехать в Дофине, во Вьеннуа, имперскую землю, не входившую в состав королевства, в ожидании лучших времен, поскольку воинственным нравом он не обладал. Он назначил отъезд на 31 июля. Подводы с багажом должны были покинуть Мо в ночь с 30 на 31 июля.
Нескольким парижанам, тайком сообщившим ему, что для него можно устроить тайное возвращение в столицу и потом попытаться совершить новый переворот, он ответил (якобы), что ноги его не будет в Париже, пока жив Этьен Марсель и некоторые другие. Если регент этого и не сказал в таких выражениях, он так думал. Марсель и его друзья узнали об этом и поняли, что на переговоры рассчитывать не приходится.
Через неделю регент Карл, герцог Нормандский и дофин Вьеннский, триумфально вступит в Париж. Политическая обстановка переменилась за несколько часов.
Все случилось из-за поведения нескольких англичан, недавно завербованных, как мы видели, королем Наваррским в качестве латников и пока что пользовавшихся псевдо-миром от 21 июля, чтобы пить и гулять в парижских тавернах. Ведя себя как в завоеванной стране, они вызвали ненависть населения, и парижане не упускали случая разделаться с одиноким англичанином, которого сюренское вино иногда лишало его природного проворства. После одной потасовки, когда тридцать англичан осталось лежать на мостовой мертвыми, пришлось принять меры общего характера, и Этьен Марсель счел за благо арестовать всех англичан, находившихся в городе. Прежде всего взяли командиров — сорок семь человек, которых схватили сразу после совместного обеда у короля Наваррского в Нельском дворце.
Таким образом, в то жаркое воскресенье 22 июля 1358 г., когда парижане отмечали день святой Магдалины и большими глотками пили красное вино, ситуация сложилась парадоксальная. Арестованным накануне англичанам среди ночи отворили дверь, потому что Марсель не знал, что делать со столь обременительными пленниками. Но они отправились за город и присоединились к бандам соотечественников, попавших туда как наемники короля Наваррского. Тот почувствовал, что его положение становится шатким, и попытался объясниться. Он пришел в Дом с колоннами и обратился с речью к толпе, которая еще раз собралась на Гревской площади. По сторонам от Карла Злого стояли Этьен Марсель и Робер Ле Кок, и он произнес длинную речь, напоминая парижанам, что он пригласил англичан, только чтобы защитить город от поражения, спекуляций и реакции.
Упреки короля Наваррского поддержки не встретили. толпы раздались крики: всех англичан надо бы убить. Поскольку все знали, что основные силы Наваррца расквартированы в Сен-Дени, некоторые зеваки заметили, что пора пойти туда и перебить оставшихся англичан.
Карл Злой слишком поздно осознал, что не стоило набирать наемников из соотечественников тех, кто победил при Пуатье. Он предпринял отвлекающий маневр, вызвавшись вместе с Этьеном Марселем и отрядом парижан пойти и положить конец бесчинствам одной банды грабителей, которая в числе прочих разоряла окрестности города. Благоразумней было бы отложить дело на завтра, но король Наваррский спешил показать парижанам, что они выигрывают от его присутствия. Ждать не стали, ведь возбужденную толпу надо было успокоить.
Выступили немедленно, хотя в такое время суток следовало бы идти на вечерню, а не в поход. Карл Наваррский и Этьен Марсель командовали отрядом, который вышел через ворота Сен-Дени и вскоре прошел мимо ветряной мельницы на склоне Монмартрского холма. Уже толком не знали, что делать, и время было позднее. Полчаса потратили на обсуждение, куда идти. Карл Злой занервничал, решил, что завтра будет видно, и отправился спать в Сен-Дени в расположение своей армии.
Другой отряд, однако, покинул Париж через ворота Сент-Оноре и дошел до Сен-Клу, где обнаружил англичан. На опушке Булонского леса, под открытым небом, находились полсотни англичан, хорошо заметных. Парижане, не лишенные простодушия, набросились на них. Основные силы англичан скрывались в лесу и обнаружили себя в момент, когда заботиться об осторожности было уже поздно. Англичане были профессиональными бойцами, парижане — лавочниками и ремесленниками. Только быстрое бегство через ворота Сент-Оноре спасло тех, кого не убили сразу.
Дело получилось не слишком славным. Это была новая неудача после Мо. В среде людей, считавших, что война — дело не для жестянщиков и сапожников, над этой историей смеялись. Те, кого в свое время поверг в дрожь союз парижан и «Жаков», наперебой злословили, как и добрый Фруассар, который описал эту сцену, не видев ее:
И один нес свой бацинет в руке, другой в котомке…
В Париже было не до смеха. Как и любое поражение, разгром в Булонском лесу пытались объяснить изменой. Притом горожане задавались вопросами о странном бездействии короля Наваррского и его людей. Не нарочно ли он слишком поздно выступил в поход на бригандов[69], слишком быстро организованный? Разве он не тянул время под Монмартром? Разве он не заночевал в Сен-Дени, чтобы не находиться в Париже?
Видели — по крайней мере, так говорили, — как три всадника покинули отряд в тот момент, когда тот проходил мимо ветряной мельницы, и во весь опор поскакали в Сен-Клу… Не предупредил ли англичан Карл Злой? Насколько его одобряли прежде, настолько им возмущались теперь.
Этьен Марсель вернулся с отрядом, когда наступила ночь. Только что стало известно о деле в Булонском лесу. Марселя освистали. И он теперь был отрезан от единственного союзника, короля Наваррского, достаточно дальновидного, чтобы не оставаться в Париже. Чтобы вернуться, Карл Злой ждал подкреплений, которые его брат Филипп набирал на Котантене. Над столицей нависала новая наваррская угроза.
Столица, подвоз провизии в которую с севера, выше по течению Сены, по-прежнему отрезал регент, а теперь и с юга, ниже по течению, — король Наваррский и его англичане, которую беспокоило непостоянство политики купеческого прево, повторяла все сплетни, все ложные слухи. Повсюду видели заговоры. И действительно, население везде агитировали, одни за Наваррца, другие за дофина. Те, кто прежде сидел тихо из страха перед простым народом, подняли голову с тех пор, как последний заколебался или раскололся на группировки. Это, конечно, относилось к дворянам, укрывшимся в городе во времена «жаков», но и сами бюргеры устали от этой нескончаемой авантюры. Один из эшевенов, Жан Бело, через несколько месяцев станет доверенным лицом победоносного регента; можно с уверенностью сказать, что он скорей предавал Этьена Марселя, чем поддерживал его.
Купеческий прево не мог долго обходиться без короля Наваррского. Он решил пренебречь растущей настороженностью населения и впустить Карла Злого в ночь с 31 июля на 1 августа. За ночь до этого подручные Этьена Марселя отметили знаками дома подозрительных людей. Многие поняли, что жители этих домов вскорости должны стать жертвами убийц. Несомненно, они были правы.
Политическая философия этих бюргеров была простой. Их смущала собственная дерзость, и они знали, что произошло с «Жаками». После такого количества пролитой крови сделка с дофином уже невозможна — остается только продолжать в том же духе.
И в конечном счете сочли, что лучше остаться в живых и сохранить благоденствие себе и своим друзьям, нежели быть истребленными. Лучше, казалось им, убить, нежели быть убитыми.
Утром 31 июля ничего не случилось. Этьен Марсель отправился осматривать городскую стену и прежде всего ворота Сен-Дени, в которые по всем правилам обещал впустить короля Наваррского следующей ночью. Карл Злой ждал своего часа в Сен-Дени. Из Мо начали вывозить скарб: регент уезжал.
Перед воротами было укрепление — то, что называлось «бастидой» (bastide) или «бастилией» (bastille). Никто не мог войти в Париж через ворота Сен-Дени, не попав под огонь маленького гарнизона из пяти-шести человек, охранявших бастиду.
Купеческий прево сразу же потребовал у стражников передать ему ключи. Месяцем раньше никто бы не подумал ему отказать. Ситуация изменилась, и горожане, которых воля случая сделала к тому часу стражниками, отказали наотрез. Начальника квартала — позже его назовут «квартальным» (quartenier) — звали Жан Майяр; он, сверх того, отвечал за бастиду, обеспечивавшую безопасность его квартала. Распорядились его вызвать.
Майяр был зажиточным суконщиком, раньше преданным Этьену Марселю. Но его убеждения как раз менялись, и он уже посоветовал своим людям присматривать за людьми короля Наваррского: у Карла Злого может возникнуть мысль пройти именно здесь, если он решит вернуться в Париж. Впрочем, у Марселя было не меньше сомнений в отношении своего старого друга Майяра; вместо того чтобы посвятить его в тайну, он попытался одурачить последнего.
Жан Майяр почувствовал, что дело нечисто, и отказался отдать купеческому прево ключи от бастиды. Он увидел, что рядом с Этьеном Марселем стоит казначей короля Наваррского. У него уже не могло быть сомнений в намерениях его собеседников. Спор ожесточался. Майяр увидел в этом признак, что речь идет о чем-то важном.
Потом, в то время как Марсель отправился попытать счастья в другое место, к Сент-Антуанским воротам, Майяр вскочил на коня и поскакал вниз по широкой улице Сен-Дени с криком: «Монжуа королю Франции и герцогу!» Это был боевой клич регента.
Все, кому надоела повседневная драма, побежали за ним. Толпа росла. Вот и Крытый рынок. Показательно было уже то, что эти добрые люди не направились по привычке, как столько раз в недавнее время, на Гревскую площадь. Собрание было настроено против ратуши.
На Крытом рынке Майяр рассказал, о том, что случилось. Наваррец намерен вернуться — тот самый Наваррец, по вине которого столько братьев и кузенов парижан пострадало от рук англичан в Булонском лесу. Весть, что купеческий прево, в свою очередь, изменил, пожелав наложить руку на бастиду Сен-Дени или на Сент-Антуанские ворота, возбудила толпу. Коль скоро Марсель направился к Сент-Антуанским воротам, манифестанты устремились по маленьким улочкам, которые на уровне Гревской площади сливались в «большую» улицу Сент-Антуан, самую широкую из артерий Парижа. Над толпой развевалось знамя с лилиями. Никто не знал, откуда некий Пепин дез Эссар вдруг его извлек. Но для красно-синих шаперонов было уже не время.
Однако у ворот для Этьена Марселя дело обернулось плохо. Вести туда добрались быстрее, чем он, и стражники встретили его так же, как их коллеги с ворот Сен-Дени. Поэтому Марсель терял время в переговорах, когда подоспели первые манифестанты.
В одно мгновение купеческий прево был взят в кольцо. От него потребовали закричать: «Монжуа королю и герцогу!» Он отказался, потом наконец крикнул «Монжуа королю!», а потом кричал все, что от него хотели. Он уже изнемогал. Все кричали на него и изливали в тирадах все тревоги и нелепые страхи прежних дней. Марсель больше не мог сопротивляться.
На самом деле уже было решено его убить, и уже была приготовлена фраза, которая должна была стать сигналом: «Это что?» Заговор, тщательно подготовленный врагами Этьена Марселя, легко нашел себе место в отчасти спонтанном выплеске чувств горожан, которые устали от треволнений и были готовы к ответной реакции. Здесь была и семья дез Эссар в полном составе. Племянники и другие зятья Пьера дез Эссара находились в первых рядах манифестантов, наблюдая, как происходит последний акт их сражения с паршивой овцой, допущенной в круг их семейных и финансовых связей. Когда-то Этьен Марсель хотел отомстить за себя родственникам. Они ничего ему не простили.
Один из его спутников пал замертво: железный бацинет его не защитил. Через недолгое время рухнул и Этьен Марсель, которого толкали, били, пинали ногами. Может быть, его сразил удар секиры. Трое-четверо приближенных купеческого прево были в свою очередь затравлены и убиты. Те, кто успел спрятаться в первый час, остались в живых. Остальные довольствовались тем, что их всего лишь посадили в Шатле. Никто их не защитил: ни один парижанин не вспомнил, что когда-то шел за Этьеном Марселем или за его другом Наваррцем.
Неожиданная победа
На следующее утро, 1 августа, Майяр созвал толпу на Крытом рынке и произнес длинную речь, убеждая идти в Мо. Чтобы просить регента Карла все простить и как можно скорей вернуться в его добрый город Париж, сформировали делегацию: кроме Симона Майяра — брата Жана в нее вошли декан капитула собора Парижской Богоматери, докладчик прошений Этьен Парижский — выдающийся знаток канонического права, которому предстояло стать кардиналом, и королевский адвокат в парламенте Жан Пастурель. В данном случае было ловким ходом призвать двоих из служителей государства — служителей как короля-судьи, так и подсудных и подвластных ему подданных, — воплощавших собой тот факт, что юридическая осведомленность начинает превращаться в средство для социального возвышения и даже открывает путь к богатству и знатности. Круги профессиональных судей и адвокатов заметно сторонились народных волнений и феодальных распрей. Во время этого кризиса в Шатле, в Счетной палате и особенно в парламенте они обеспечивали преемственность государственных функций. Рядом с суконщиком Майяром, символом старого ядра бюргерской аристократии, они представляли некую живую силу, верность, надежность.
Регент прибыл в Париж вечером следующего дня, 2 августа. У Карла была привычка демонстрировать притворное доверие: он въехал в город с небольшим эскортом. История с англичанами короля Наваррского послужила ему уроком: он оставил за воротами наемников, которых сам набрал в Германии. Он предпочитал иронию, а не оружие.
Когда проезжал он по улице, некий негодный и дерзкий предатель, побуждаемый чрезмерным высокомерием, молвил столь громко, что он мог это слышать:
— Ей-богу! Поверили бы мне, вы никогда бы не въехали. Но, клянусь, вам еще достанется!
И когда граф де Танкарвиль, ехавший прямо перед ним, услышал сии слова и хотел убить негодяя, добрый государь сдержал его и ответил, улыбаясь, словно не придавал этому значения:
— Вам не поверят, прекрасный сир…
По видимости, регент простил простой народ. Предводители так дешево отделаться не могли. Была назначена следственная комиссию, в которую вошли представители парламента и королевские бальи. С самого прибытия дофина начались казни. Они по-прежнему были излюбленным зрелищем зевак. За четыре дня скатилось восемь голов. Один из осужденных, капитан Лувра, сказал «немало дурных слов» по адресу короля Франции и его сына; ему отрезали язык, прежде чем отрубить голову.
10 августа все закончилось. Канцелярия скрепила печатями жалованные грамоты, даровавшие коллективную амнистию. Через неделю в Дом с колоннами пришло письмо из Лондона: король Иоанн благодарил парижан за то, что они здраво отреагировали на события, «изобличив и раскрыв измену и злые намерения каждого».
Мало было официальных репрессий — к ним добавилась личная месть. Сообразительных царедворцев вознаграждали за верность имуществом, конфискованным у тех, на кого они доносили. Таким путем братья Брак, беззастенчивые денежные воротилы и спекулянты, не отличавшиеся ложной скромностью, сколотили солидное состояние, хотя глас народа уже десять лет тщетно обличал их самих. Что касается канцлера короля Наваррского, которого нельзя было казнить как каноника, то его убили неизвестные, когда его перевозили из одной тюрьмы в другую…
Когда в октябре регент хотел возобновить следствие и отдать под суд новых подозреваемых, парижане заволновались. Карл был достаточно чуток, чтобы понять, что заходит слишком далеко. Сделав, чтобы не потерять лица, вид, что продолжает это дело, он стал его затягивать. В конечном счете подозреваемых отпустили.
Впрочем, настало время подумать о другом. Дофин победил по всем пунктам, причем в момент, когда он уже считал, что все потеряно. Уже давно прекратили говорить о реформе в королевстве. «Делегатов» оставили, чтобы собирать королевский налог, но теперь обходились без Штатов — отныне «делегаты» будут назначаться королевской властью.
Попытка установить опеку нации над монархией не удалась. Когда через несколько лет снова заговорят о выборах членов парламента и даже канцлера Франции, эта идея будет отражать стремление к сплоченности корпораций государственных служащих. Это будет победа кооптации, а не демократии. Как и в 1358 г., когда он был регентом, Карл V в дальнейшем всегда будет править, опираясь только на философию своих советников.
Следует ли сказать, что этот хрупкий молодой человек железной рукой насадил реакцию именем королевской власти? Конечно, нет. В соответствии со своим характером Карл лавировал, хитрил, выдергивал отдельные нити, пользовался случаем, рассчитывая, что время все уладит. Проницательный наблюдатель событий, он умел их направить, не пытаясь им противодействовать. Тем не менее он считал, что проиграл партию, и в самом деле едва не проиграл ее. В этом уже был весь Карл V: больше чувства меры, чем героизма, и умение мудро выжидать. У «жаков» был свой шанс, и парижские бюргеры не любили слишком затянувшиеся авантюры.
Глава IX Расчлененная Франция
Анархия
Если дела в Париже вновь пошли привычным ходом, политический небосклон тем не менее ясным не был. Регент не обладал властью над тремя четвертями королевства. Налог поступал еле-еле. Курс монеты падал: с 1356 по 1360 г. она потеряла девять десятых стоимости. Что касается войны с англичанами, она, несмотря на Бордоское перемирие, постоянно проявлялась в бесчисленных стычках, в отношении которых никто по-настоящему не знал, стараются ли английские солдаты для своего короля или просто-напросто пытаются выжить за счет населения.
В свое время Эдуард III и Иоанн Добрый, каждый со своей стороны, набирали под свои знамена всех подряд. Перемирие сразу же не оставило всем этим людям иных средств к существованию, кроме грабежа, и иного развлечения, кроме насилия. Среди них были англичане, но встречались также и немцы, испанцы, итальянцы. К ним добавлялась наваррская армия, состоящая из банд, действия которых согласовывались лучше или хуже, столь же разношерстная и столь же праздная, как и армия английского короля.
Время от времени какой-нибудь капитан устраивал настоящий набег, не завязывая сражений с противником, но опустошая сельскую местность и угрожая городам. Так, бывший ткач Роберт Ноллис прошел от Бретани до Бургундии во главе своего английского отряда, наведя ужас на долину Луары, заставив откупиться Оксер, предав огню сто деревень и столько же приоратов. Во время другого набега едва не взяли Амьен. Низовья Сены были во власти наваррцев, чьих крепостей было достаточно, чтобы парализовать всю торговлю. Редкие отряды регента вели себя не лучше: Арно де Серволь, которого называли Протоиереем, потому что он раньше был клириком, бесчинствовал в сельской местности Берри и Ниверне, разграбил Невер и без всякого стеснения перебил там нотаблей. Еще через двадцать лет одно упоминание его имени вгоняло в дрожь население.
В большой Аквитании дела обстояли еще хуже. Англичане с легким сердцем предвосхищали будущий договор и вели себя в Керси и Лимузене так, словно эти земли уже принадлежали им. Никто не мог оспорить у них эту территорию. Население давно ясно поняло, что в Аквитании имя Валуа уже ничего не значит. Крестьяне, которым надоедало, что их не защищают, а англичане жгут их урожай, очень часто решали платить английским компаниям за то, чтобы те позволяли им обрабатывать землю и складывать хлеб в амбары.
Регенту Карлу понадобилось несколько месяцев, чтобы перехватить инициативу. Он нашел какие-то деньги, набрал войска, нанял более серьезных капитанов, чем Протоиерей. Мутон де Бленвиль — по-настоящему его звали Жан де Моканши, сир де Бленвиль, — возглавил поход в родную Нормандию, на Гравиль и на Сен-Валери-сюр-Сомм. Бывший солдат Иоанна Доброго Ле Бодрен де ла Эз вернулся на службу в Руанской области и немало досаждал англичанам, пока те не взяли его в плен. С маленьким отрядом в пятнадцать рыцарей Жан де Вьенн, будущий адмирал Франции, точно так же тревожил наваррцев в Бургундии. Бретонец Бертран Дюгеклен, капитан Понторсона и Мон-Сен-Мишель с 1357 г., принял командование в области Мелёна. В 1360 г. он стал рыцарем-баннеретом и наместником короля в графствах Алансон, Мен и Анже.
Пока англо-наваррцы хозяйничали в этих краях, они успели стать непопулярными. Поэтому население в целом помогало королевским войскам, когда те вновь появились на севере королевства. Во время осады Сен-Валери армия регента усилилась за счет ополчений из Амьена, Арраса, Абвиля, Булони, Руана и даже из Турне. Горожане Руана сыграли решающую роль в освобождении Лонгвиля, горожане Кана — в очистке от противника деревень в окрестностях города, где прежде долго господствовали англо-наваррские крепости, как Крёйи.
В Труа ответными действиями горожан руководил епископ. В Реймсе, где на архиепископа Жана де Краона полагаться было трудно, жители города сумели отстранить его от руководства обороной города, так же как и замка. Затем, чтобы показать свои предпочтения, жители Реймса взяли Руси именем французского короля.
Как прежде феодалы, теперь объединялись города, чтобы изгонять противника общими усилиями. Так, Реймс, Шалон, Ретель сформировали настоящую сеть с целью взаимопомощи, согласованного контроля окрестностей, оживления экономики.
Самой удивительной была храбрость крестьян, проявленная в боях с англичанами. Еще шесть веков популярным сюжетом патриотической пропаганды будет история «Большого Ферре», из которого простодушные сказители быстро сделали нечто среднее между римским Геркулесом и патриархом Иаковом, борющимся с ангелом.
Дело было в Лонгёй-Сент-Мари близ Крёя, в самом сердце той местности, где год назад восстали «жаки». С согласия аббата Компьеня, их сеньора, около двухсот крестьян Лонгёя и окрестностей укрепили усадьбу и укрылись там, опасаясь латников, к какой бы нации те ни принадлежали. Их капитаном был крестьянин по имени Гильом л'Алу. Его помощником был местный деревенский великан, крепкого сложения, со стальными мышцами, которого назвали Большой Ферре. Притом он был прекрасным человеком, бесхитростным, но очень дисциплинированным. Его хвалили за честность. Он был образцом крестьянских достоинств.
Созданию его репутации немало способствовало природное бескорыстие. В то время как дворяне наживались на пленниках, требуя с них выкуп в зависимости от их богатства. Большому Ферре ни на миг не приходило в голову обратить свою храбрость в деньги. Своих врагов он просто убивал. И не менее честный кармелит Жан де Венетт с восхищением подсчитывает англичан, которых Большой Ферре уложил один, топором. Этот топор обычный человек едва мог поднять на уровень плеч, и то двумя руками.
Ход мыслей славных крестьян Лонгёй-Сент-Мари и окрестностей был очень прост, и почти так же, не особо думая о патриотизме, рассуждали все, кто брался за оружие, чтобы лучше или хуже бороться с англичанами в 1359 г.:
Продадим наши жизни дорого. Иначе эти люди нас безжалостно убьют.
Англичане заблуждались, рассчитывая, что смогут без труда занять усадьбу и выбить из нее крестьян. Они увидели настоящую крепость, готовую к обороне и снабженную всем необходимым. К их великому изумлению, крестьяне встретили воинов в топоры, а один только Большой Ферре сразил восемнадцать врагов.
Бился он самым простым способом, как на крестьянской работе, — большими ударами наискось на высоте голов, «словно молотил цепом».
Чтобы окончательно проучить врагов, он убил английского знаменосца и вернул знамя осаждающим самым простым способом: бросил его в ров, где барахтались беглецы.
Англичане, отброшенные и, кроме того, задетые за живое, не смирились с поражением: на следующий день они вернулись с новыми силами. Поскольку их стало больше, Ферре счел это основанием продолжать их убивать. Некоторые сдались; когда атака была отбита, крестьяне, чтобы покончить с делом, решили обезглавить пленных. Палача не было, и Большой Ферре снова взялся за топор.
Было жарко. Нашему герою после работы захотелось пить. Он утолил жажду, выпив полный сосуд холодной воды. Слишком холодной, и он простудился. Вернувшись в свою деревню Рибекур, он лег, положив топор поблизости.
Англичане узнали, что он болен, и воспользовались случаем. На всякий случай их пошло двенадцать человек. Но жена великана вовремя их заметила: «Это англичане. По-моему, они ищут тебя. Что ты будешь делать?» Англичане, войдя на двор, с удивлением услышали: «Шайка воров! Вы пришли, чтобы схватить меня в постели!»
Большой Ферре стоял спиной к стене. Англичане замешкались. Вдруг мнимый больной бросился на них. Англичан парализовал ужас, и кто лишился головы, кто как минимум руки. Семеро, унесшие ноги, бежали долго.
История на том и кончилась. Большой Ферре снова лег, но его опять стала мучить жажда. Ему принесли большую чашу ледяной воды. Через несколько дней он умер от горячки, перед тем набожно причастившись. Его оплакивала вся округа.
Будь он жив, англичане бы не вернулись в наш край.
В этой истории много удивительного. Это ведь Роланд, раскалывающий мечом «твердый камень», и Готфрид Бульонский, разрубивший неверного надвое вместе с его верблюдом. Будь история Большого Ферре лишь частным фактом времен войны, несомненно, приукрашенным и связанным с незаурядным человеком, ее бы постигло забвение, как подвиги многих безвестных героев. Но для современников, конечно, очень плохо ее осознавших, и для историков, едва ее заметивших, она означала рождение нового менталитета. Так же как два века назад городское население против феодалов, теперь сельский люд самоорганизовался, чтобы обеспечить собственную безопасность. Большой Ферре был персонажем эпохи, когда уже зарождались первые общины. Но причины, побудившие его к борьбе, — и причины его посмертной славы, — обретают и новую окраску: национальную.
Не будем играть словами. Ферре убивал англичан потому, что видел в них лютых разбойников, а не потому, что они были англичанами. Но сразу же сложившаяся легенда называет жертв гиганта именно англичанами. И поскольку для многих разбойники были англичанами, англичан возненавидели. В те годы, когда король Иоанн томился в Лондоне и все наводило на мысль, что королевство утратило некоторые из богатейших провинций, французский народ питал больше неприязни к тем распущенным англичанам, которым было плевать на Эдуарда III, чем к тем, которые благодаря успешной тактике разгромили армию французского короля.
Предварительные переговоры в Лондоне
Однако война — официальная, если так можно сказать, — возобновилась только после получения средств, которые Генеральные штаты в мае-июне 1359 г. согласились предоставить регенту.
Тот счел нужным покончить прежде всего с Наваррцем — с одной стороны, потому что англо-французские отношения усложняло пребывание короля в плену, а с другой — потому что нужно было срочно вернуть Мелён, который занимал Карл Злой и который давал тому возможность запросто перекрыть путь в Париж. Там укрывались все три королевы из дома Эврё-Наварры: вдова Карла IV, вдова Филиппа VI и супруга Карла Злого. Так что Мелён мог стать для дофина выгодной добычей. 18 июня 1359 г. началась осада.
Слишком далеко дело не зашло. Король Наваррский узнал, что его английский союзник напрочь не учел наваррских интересов на первых переговорах в Лондоне. В свою очередь регент только что отверг статьи первого договора, который с грехом пополам согласовали в Лондоне, и знал, что его отказ может означать возобновление войны. Поэтому оба монарха договорились закончить дело до английского вторжения, которого Карл Злой больше совсем не желал, с тех пор как понял, что англичанин не поделится с ним завоеванным.
Договор, заключенный в Манте и ратифицированный в августе в Понтуазе, давал королю Наваррскому разные территориальные компенсации и обещал ему крупное вознаграждение за ущерб. Но Карл Злой взамен поклялся «трудиться изо всех сил для обороны Французского королевства».
Примирение было показным. Едва обосновавшись в Лувре, где он стал гостем дофина, король Наваррский снова начал плести заговоры с выжившими сторонниками Этьена Марселя. Его войска внезапно заняли замок Клермон-сюр-Уаз. Его люди отказались передать Мелён регенту. Оба монарха по-прежнему следили друг за другом. Может быть, мир между ними и был восстановлен, но отнюдь не доверие.
В то время как Париж снова заволновался, а дофин пытался наконец отделаться от Наваррца, Иоанн Добрый убивал время. Ему в изобилии поставляли бордоское вино. Ему разрешали пировать. Он произвел торжественный въезд из Лондона в Вестминстер на своем белом коне, в сопровождении Черного принца, столь же счастливого, сколь и почтительного. Толпу восхитила величественная осанка короля Франции.
Манор Савой на дороге между Лондоном и Вестминстером, потом замок Виндзор, замок Гертфорд и, наконец, замок Сомертон были позолоченными тюрьмами. Там король Иоанн жил с мая 1357 г., пользуясь почти полной свободой, и развлекался как только мог вместе со своим окружением. Он принимал друзей. Он даже давал обеды в честь короля и королевы Англии. Он читал. Он ездил на охоту. У него было выделенное место на турнирной трибуне.
Такую свободу объясняло одно: было известно, что французский король — человек чести. Пленником он был, пленником честно и останется в Англии до заключения договора, статьи которого активно обсуждались.
Иоанну Доброму не улыбалось надолго остаться в тюрьме, он был готов на многие уступки, чтобы вернуться в Париж. Он откровенно писал это подданным: лучше потерять часть королевства, чем оставить короля и далее томиться в плену. Мысль, что его подданным придется жертвовать последним ради его выкупа или что будет погублен терпеливый труд десяти поколений французских королей, отнюдь не тревожила сон эгоистичного и прославленного побежденного при Пуатье. Смело сражаясь, он выполнил свой долг. Пусть его люди выполнят свой, освободив его. И никоим образом не следовало думать об «отвоевании»: подобная попытка прежде всего означала бы, что англичане отправят его в более далекую тюрьму с более суровыми условиями.
Совсем иной была точка зрения дофина Карла и его Совета. Спешить-то было некуда: перемирие, заключенное в Пуатье под нажимом легатов Иннокентия VI, давало возможность еще два года — до осени 1358 г. — договариваться с англичанами об условиях мира. Регент и его советники хотели освободить короля, но не были согласны, чтобы королевство заплатило за это любую цену. Дать деньги на выкуп королевской особы — разумеется. Но идея платить за поражение землями и даже делиться суверенитетом вызывала куда больше сомнений.
После Креси никто и не думал о переговорах. После Пуатье пришлось договариваться, потому что надо было вызволить короля. Пуатье было бы меньшей катастрофой, если бы Иоанн Добрый нашел смерть, потерпев поражение. Карл V сделает из этого вывод, что королю на поле битвы не место.
Отказываясь заключать договор на любых условиях, регент получил поддержку со стороны «реформаторов» и прежде всего парижан, с тревогой догадывавшихся о политических последствиях пацифизма, в который вдруг впал Иоанн Добрый. За «добрый мир», которого хотел король, пришлось бы заплатить территориальными уступками, и ни один обычай не запретил бы короне их подписать. Нация здесь не имела слова. Но конец войны означал бы и конец налога, а крупные бюргеры, постаравшиеся вновь взвалить на народ налоговое бремя, понимали, что конец сбора налогов — это конец вотирования налогов, иначе говоря, конец Генеральных штатов. Если прежде они враждебно относились к просьбам о предоставлении финансовой помощи, когда воспринимали ее как бремя и когда эта враждебность была средством давления на власть, они изменили свое отношение, когда эта финансовая помощь стала средством поставить ту же власть под контроль.
Послы Эдуарда III, Иоанна Доброго и регента Карла встретились в Лондоне, в присутствии папских легатов, в сентябре 1357 г. Французы ожидали худшего. В апреле 1354 г., когда папа еще надеялся положить конец войне, которая никак не кончалась (в Бретани, в Нормандии) но прямого столкновения обоих суверенов не ожидалось, Эдуард III выдвинул свои требования: он хотел получить всю бывшую империю Плантагенетов, какой она была во время расцвета.
Ему нужны были Нормандия, Мен, Анжу, Турень, Пуату, Аквитания, причем как полностью суверенные владения. Он не собирался приносить Валуа оммаж ни в каком виде. Он не желал быть ничем обязанным своему французскому кузену. Понятно, какие последствия повлек бы подобный раздел, ведь Эдуард, с другой стороны, был королем Англии, тогда как у Иоанна Доброго не было ничего, кроме своего королевства и де-факто Дофине. Валуа по сравнению с Плантагенетом стал бы совсем мелким князьком.
Если бы французы уступили, Эдуард III вполне мог бы отказаться от всяких притязаний на французскую корону. Запросто. Корона Валуа больше не имела бы большого политического значения.
Собирался ли Иоанн Добрый одно время уступить, чтобы заключить мир и чтобы противник наконец перестал претендовать на наследие Капетингов? Во всяком случае, в присутствии папы в Авиньоне французские уполномоченные отвергли условия, на которые реально или притворно согласились несколько месяцев назад.
Знакомства с этими требованиями 1354 г. достаточно, чтобы понять, какое облегчение испытали французы, услышав в Лондоне претензии победителя при Пуатье. Кроме выкупа в четыре миллиона экю за особу короля и за других пленных Эдуард III потребовал на условиях полного суверенитета бывшую большую Аквитанию с Лимузеном, Керси, Руэргом и Бигорром. Но он уже не говорил о провинциях к северу от Пуату. Он ни слова не сказал о Нормандии, как и об Анжу.
В обмен на это, то есть на треть королевства Франции, Плантагенет отказывался от притязаний на французскую корону. Иоанн Добрый счел, что это разумная плата за поражение и что главное спасено. В конце концов, ставка была той же, что и в иных обстоятельствах, когда бывало, что французские короли конфисковали большой аквитанский фьеф потомков Алиеноры. Когда-то король Франции хотел лишить герцога его герцогства. Герцог-победитель отказывает королю в оммаже.
Все казалось настолько естественным, что папские легаты, сочтя дело оконченным, покинули Англию и отправились в Авиньон отчитываться об успехе.
Эдуард III быстро догадался, что был слишком скромен после победы. Поскольку, с другой стороны, он мог оказать давление на папу в деликатном вопросе назначения епископов, он спешно добился, чтобы заключение окончательного договора, который могли ратифицировать на основе соглашений, принятых в Лондоне в 1358 г., отложили. Узнав же о том, что дофин больше не хозяин столицы, о новом подъеме политической значимости короля Наваррского, о парижском восстании и Жакерии, король Англии решил, что проявлять умеренность ему больше не обязательно.
Выплаты первых сумм выкупа запоздали, потому что Франция дожидалась выяснения точной общей суммы, прежде чем начать платить. Этой задержки Эдуарду III хватило, чтобы оправдать пересмотр условий соглашения. Заодно он внезапно ужесточил условия содержания побежденного короля. Иоанна Доброго посадили под усиленную охрану в лондонский Тауэр. Время турниров кончилось. Половину слуг пришлось отослать во Францию. Король Иоанн мог опасаться, что кончит дни в какой-нибудь камере.
В то же время Эдуард III нашел общий язык с Карлом Злым. Англо-наваррский договор от 1 августа 1358 г. был настоящим планом раздела королевства Валуа.
Накануне благодаря событию у Сент-Антуанских ворот исторический ветер переменился. Но в Лондоне не сразу оценили значение политической перемены, совершенной за несколько часов сторонниками дофина. Иоанн Добрый был готов согласиться на что угодно, лишь бы не умереть в тюрьме. В Англии больше не было папских легатов, которые бы следили за соблюдением справедливости, и посланцев дофина, которые бы следили, чтобы Франция не принимала недопустимых условий. 24 марта 1359 г. король Иоанн согласился подписать договор, в суровой реальности поражения напоминавший притязания, которые во время переговоров 1354 г. еще казались химерическими.
Французское королевство в пользу Плантагенета теряло весь морской фасад, от Кале до Наварры. Речь шла уже не только о старинном наследии Генриха II Плантагенета и Ричарда Львиное Сердце, от Аквитании и до Нормандии. Речь шла о побережье Пикардии, о графствах Гин и Булонском, о сюзеренитете над Бретанью. В руки победителя переходили все порты. Франция Валуа должна была остаться, подобно Франции первых Капетингов, без единого порта на Ла-Манше или атлантическом побережье. Утверждалось, что Руан, Тур и Пуатье — уже не французские города.
Договор предусматривал, чтобы до ближайшего Иванова дня обсудили дела короля Наваррского, а также шотландские и фламандские. У Наваррца были все шансы воспользоваться случаем, чтобы вернуть Шампань, принадлежавшую его прабабке Жанне.
Таким образом, Валуа оказывался в полной зависимости от победителя — в столице с неопределенным статусом и в королевском домене, главная артерия которого, Сена, теперь текла в иностранное королевство. Договор, на который соглашался Иоанн Добрый, был губителен для королевства лилий. Впрочем, иллюзий ему почти не оставили. Хоть в тексте, подготовленном для ратификации, Эдуард III и довольствовался титулом короля Англии, но Иоанн был назван просто «французский король».
Эдуард отстал от времени. Пока он ужесточал свои требования, надеясь воспользоваться слабостью регента, тот поправлял свои дела. Карлу хватило смелости созвать Генеральные штаты, чтобы представить им на рассмотрение договор. Он добился от них заявления, согласно которому этот договор был «неприемлем и невыполним». И Штаты распорядились начать честную борьбу с англичанами. Эдуард III одновременно узнал, что Франция дезавуировала то, на что согласился ее король, и что Штаты вотировали субсидию, которая позволит быстро набрать армию. Бросив Иоанна Доброго в Лондоне, дофин и его люди явно готовились взять реванш за Пуатье и возобновить войну. Королю Франции трудно было питать иллюзии, что в Париже очень нуждаются в его присутствии.
Напрасный набег Эдуарда III
Ситуация возникла совершенно парадоксальная. Победив французского короля, Эдуард III теперь должен был сражаться с регентом — затем, чтобы королевство, уже слишком проникшееся сознанием своего единства, чтобы соглашаться на дробление, приняло последствия своего поражения. В свое время король Англии захотел слишком многого. Теперь ему нужно было либо отступать, либо снова воевать. 28 октября 1359 г. он высадился в Кале, как на парад. Рядом с ним был победитель при Пуатье — Черный принц. Герцог Джон Ланкастер, четвертый сын короля, опередил их на месяц и уже нанес немало ущерба сельской местности в Пикардии.
Этой новой пробе английских сил регент Карл противопоставил ту же тактику, которая оказалась столь успешной в прошлом году против наваррцев и Этьена Марселя. Он не спешил. Он обеспечил надежную оборону крепостей, уверенный, что Эдуард III не совершит такой ошибки, как подрыв своих сил долгой осадой. Эдуарду хватило и Кале. Сельской местностью жертвовали сознательно; крестьянам во время прохождения врага оставалось только укрываться — либо в соседнем городе, либо в замке сельского сеньора.
Это был красивый, но бесполезный набег на опустевшие земли. У Эдуарда в самом деле не было средств, чтобы брать города. Месяца бесполезного ожидания под стенами Реймса — с 4 декабря по 11 января 1360 г. — ему хватило, чтобы в этом убедиться. Шампанская столица имела превосходную стену, достроенную прошлым летом. Капитаном города был рыцарь из знатного рода Гоше де Шатийон, внук коннетабля, служившего Филиппу IV и его сыновьям. Он принял все меры предосторожности: велел замуровать трое ворот, пожертвовать соседней крепостью Порт-Map, вырыть второй ров, снести несколько домов, примыкавших к городской стене и упрощавших доступ к ней для саперов.
В то время как основные силы английской армии теряли время, осаждая Реймс, маленькие отряды одерживали в этой местности довольно легкие победы. Так, один отряд взял в Кормиси замок архиепископов Реймсских, где, тем не менее, тридцать человек держались против англичан две недели. Другой отряд разорил верхнюю долину Эны и оттуда дошел до Аргонна. Его командиром был не кто иной, как Эсташ д'Обершикур, попавший в плен в первые минуты сражения при Пуатье и освобожденный в разгар битвы; это был сообразительный человек, который захватил в Аттиньи три тысячи бочек шампанского и стал благодаря этому известен всей английской армии, страдавшей от жажды, несмотря на зиму, в течение месяца бездействия под стенами Реймса.
Эдуард III потерпел неудачу. После Артуа, Тьераша и Шампани он двинулся через Бургундию. Намеревался ли он принять миропомазание в соборе, предназначенном для таких таинств? Непохоже. Во всяком случае, сопротивление Реймса лишило его всяких иллюзий. Ему было необходимо кормить свою армию.
Филиппу де Рувру, герцогу Бургундскому, совсем не хотелось воевать. С ним вступили в переговоры. Герцог обещал англичанам все, что они захотят, заплатил выкуп и тем отделался. Продолжая безумный поход, армия повернула к Босу.
Французы начали насмехаться над королем Англии, тратящим силы на то, чтобы таскать с собой по Франции бесполезный двор. Ведь Эдуард прибыл с большой помпой, и простой народ с восхищением глазел на вереницу повозок длиной в два лье, легкие лодки из вываренной кожи, предназначенные для ловли рыбы в пруду, а также ручные мельницы и передвижные печи для выпечки хлеба. Подобное снаряжение производило большое впечатление, но ничуть не приближало разрешение конфликта. Эдуард III терял силы в напрасном поиске боя.
Приближалась весна. Англичане устали. Многие солдаты разбрелись. Те, кто остался, на пасхальной неделе бездействовали близ Монлери. Праздник был печальным. Эдуард III попытался, без особой надежды, покончить с этой ситуацией как рыцарь: он выдвинулся к Парижу со стороны Нотр-Дам-де-Шан и потребовал назначить «день битвы». Ответом ему было молчание. Похоже, здесь Эдуарду не на что было рассчитывать; ему оставалось только удалиться. К тому же сильная гроза обрушилась на английскую армию, шлепавшую по грязи и терявшую под ливнем свои знаменитые повозки.
Дурные вести тем временем пришли из Англии. К побережью Сассекса подошла французская флотилия и высадила отряд, вторгшийся в Винчелси, городок в нескольких лье от Гастингса, где в свое время Вильгельм Завоеватель разгромил англосаксов короля Гарольда. Трагедии в этом не было, но этой истории хватило, чтобы пробудить неприятные воспоминания и вызвать новые тревоги. К тому же регент вел переговоры с шотландцами, а с их стороны Эдуард ничего хорошего ждать не мог. Конечно, захватчики Винчелси вернулись на корабли, едва совершив свое злодеяние, но они унизили Англию, а Эдуард III знал, что в его королевстве его упрекают в том, что он слишком любит тратить время на материке.
Не вступая в бой с английской армией, совершающей набег, дофин Карл начал выковывать себе репутацию непобедимого руководителя, которую через несколько лет уступит Бертрану Дюгеклену, и тот станет стратегом удивительной войны, в которой сильнейший истощал силы, не имея возможности сражаться.
Король Англии уступил. Он принял новые предложения папских легатов о посредничестве. Регент Карл тоже не возражал против этого, потому что каждый перенаселенный город был потенциальным очагом восстания, а по мере увеличения проблем со снабжением недовольство в народе нарастало. Париж, лишившись в пост морской рыбы, роптал: есть мясо было запрещено, а лини, усачи и щуки, выловленные в Сене и во рвах, были не по карману людям среднего достатка. Вино поступало плохо. Цены на хлеб росли. Кстати, не утешали и вести из провинции. В Нормандии англичане, нередко с успехом, вновь и вновь нападали на королевские крепости, и один английский отряд захватил крепость л'Иль-Адам недалеко от Парижа. Из столицы иногда был виден столб дыма, означавший, что горит деревня. Враг разорил Вожирар, Ванв, Исси.
Свою лепту внесло и солнце. Весна выдалась особо теплой, и виноградари Сюрена или Шайо, укрывшиеся в Париже, сетовали, что сок наливается слишком рано и что срезать лозы потом будет невозможно.
Договор в Бретиньи
Мирная конференция открылась 1 мая в Бретиньи, близ Шартра. Председательствовал аббат Клюни Андруэн де ла Рош от имени папы Иннокентия VI. Английскую делегацию возглавлял Джон Ланкастер — Джон Гонт; его знали как сторонника примирения. Было и несколько известных капитанов — Уорик, Солсбери, Чандос, Грайи, несомненно, не такие пацифисты, но реалисты. Они хорошо понимали, что эта война, где не сражаются, ничего не даст.
Регент прислал своих представителей. Военные там были только для проформы — Жан Ле Менгр, один из маршалов Франции, желавший, чтобы его называли Бусико, и несколько знатных баронов, таких как Танкарвиль или Монморанси. Главными были легисты, клирики, бюргеры. Был королевский адвокат Жан де Марес, отметили присутствие и Жана Майяра, организатора внезапного падения Этьена Марселя. Переговоры от имени Франции вел епископ Бовезийский Жан де Дорман, канцлер Нормандии и один из советников дофина — герцога Нормандского, вместе с братом Гильомом.
Договорились быстро. 7 мая было заключено перемирие. 8 мая подписан договор из тридцати девяти статей, который составили в дипломатической форме хартии регента Карла, предлагаемой для ратификации королю Иоанну. Иными словами, договор в Бретиньи не означал ни конца войны, ни конца торга, но воплощал баланс взаимоприемлемых требований.
Перед встречей в Бретиньи англичане получили возможность оценить, до каких пределов готовы уступать их противники. Во время первой встречи 3 апреля в Лонжюмо французы прервали переговоры, как только речь зашла о сохранении Плантагенетом титула короля Франции. Через неделю легат снова потерпел неудачу, когда возникло то же требование. К концу апреля Эдуард III и Черный принц знали, что в этом пункте им нужно уступить.
Договор в Бретиньи, в самом деле, был не столь неприемлем для Валуа, как результаты лондонских предварительных переговоров. Конечно, и это было тяжелей всего, сохранялся вопрос о дроблении суверенитета Французского королевства. Но речь шла только о большой Аквитании, в тех границах, которые были установлены в 1358 г. Анжу и Нормандия оставались за французским королем. Англичанин довольствовался несколькими плацдармами к северу от Луары: Понтьё, графством Гин и большинством городков вокруг Кале и Гравелина. Сколь бы опасными ни были эти уступки, они не означали ни изоляции Французского королевства, ни уничтожения королевского домена. И не парализовали торговую навигацию по Сене и ее притокам.
С четырех миллионов экю, в которые выкуп за короля Иоанна оценили раньше, сумму снизили до трех миллионов, считая два экю равными одному английскому «золотому ноблю». Шестьсот тысяч экю подлежали выплате в Кале, через четыре месяца после перевозки короля в Кале, четыреста тысяч — выплате в Лондоне через год, остальное должны были выплатить в форме пяти взносов по четыреста тысяч экю. Все обеспечивалось: в Аквитании — немедленной передачей нескольких крепостей, в Кале — выдачей заложников.
Заложник — это не обязательно пленник. Это кто-то, чье присутствие гарантирует выполнение договора или вообще обязательства. Так, многие юные принцы в средние века проводили немалую часть детства в роли заложников, то есть вырастали при дворе иностранного монарха, служа залогом дружбы или просто нейтралитета. Но заложник — это гость, и тот, кто его принимал, был связан по отношению к нему законами чести, как если бы пригласил его. Разумеется, нельзя сказать, что жизнь заложника была в полной безопасности. Но заложник заложнику рознь, с одними обращались лучше, с другими хуже. А некоторые более болезненно переносили разлуку и относительное отсутствие свободы.
Во всяком случае, англичане сделали самый разумный выбор. В список заложников входил сорок один человек — принцы и знатные бароны. В нем были брат и три сына короля, герцог Бурбонский, дофин Овернский, графы де Сен-Поль, Водемон, Форе, Понтьё, Блуа, Алансон, Аркур, Э, Порсиан, Сансерр, Валентинуа и многие другие. Маршал Одрегем, захваченный в плен при Пуатье, тоже числился там. Захватывая, таким образом, в качестве заложников за короля все французское баронство, англичане ловко использовали феодальное право, обязывавшее вассала лично подвергать себя опасности ради жизни, свободы и чести сеньора. Они также играли на некой рыцарской этике, в соответствии с которой вассалы, не сумевшие спасти короля при Пуатье, должны были чувствовать себя виноватыми. Но это был также и, возможно, прежде всего, чрезвычайно ловкий политический маневр. Ведь список заложников прямо-таки обезглавил французскую знать до момента, когда выкуп выплатят полностью.
Дело в равной степени коснулось и добрых городов. В качестве заложников надо было выдать четырех парижских бюргеров и по два от каждого из девятнадцати основных городов королевства, то есть территории, которая от него осталась: Сент-Омера, Арраса, Амьена, Бове, Лилля, Дуэ, Турне, Реймса, Шалона, Труа, Шартра, Тулузы, Лиона, Орлеана, Компьеня, Руана, Кана, Тура, Буржа.
Возможно, эти заложники были финансовой гарантией для победителя. Прежде всего они гарантировали ему политическую и военную безопасность.
Территории, подлежащие уступке, следовало передать под полный суверенитет короля Англии. Это означало, что Аквитания больше не будет частью Французского королевства. Но была предусмотрена отсрочка на год для передачи этих земель, чтобы уладить некоторые правовые формальности, без которых население могло бы не осознать, что суверен у него поменялся.
Оному королю Англии и всем его прямым наследникам и преемникам будут переданы и отданы, и уступлены им, все должности, зависимости, оммажи простые и тесные, вассалы, фьефы, повинности, права, бан и арьербан и все виды высшей и низшей юрисдикции, все формы охраны прав, сеньории и суверенитеты.
Таким образом, уступка как расплата за поражение королевства и выкуп как расплата за пленение короля — это было совсем не одно и то же. Англичанин мог потребовать выплаты части выкупа до освобождения французского короля, но не уступки территорий, которая была платой только за мир, иначе говоря, за удовлетворение победителя. Это удовлетворение выражалось в отказе от любых других притязаний. Словом, Аквитания компенсировала окончательный отказ Плантагенета от возможных прав на корону своего деда Филиппа Красивого.
Поскольку регент — а впоследствии король Карл V — мало дорожил этим отказом, этим удовлетворением, а значит, этим миром, выгода от победы при Пуатье свелась для англичанина к выкупу за короля Иоанна.
Тем не менее сделали все, чтобы ускорить осуществление этих процедур. Дофин хотел прежде всего освободить короля, своего отца. Дальше будет видно. Соглашение было заключено 8 мая. 10 мая Жан де Марес публично зачитал его дофину в присутствии Совета, нового купеческого прево Жана Кюльдо и делегации парижских бюргеров. Дело происходило в парижском дворце архиепископов Сансских — должность архиепископа Парижского появилась только в 1622 г., — в здании, которое через несколько лет войдет в состав дворца Сен-Поль короля Карла V.
Перешли в часовню, где архиепископ Гильом де Мелён отслужил мессу Святого Духа. После исполнения «Агнус Деи» регент поднялся на алтарь, протянул руку над освященной облаткой и положил другую на открытый молитвенник.
Близ него стояли шесть английских рыцарей. Они следили, чтобы не было подвоха. Немало клятв было безнаказанно нарушено, потому что их запросто могли дать над пустыми реликвариями или над мирскими книгами, выданными за Евангелие…
Текст клятвы подготовили еще в Бретиньи. Карл зачитал ее вслух. В окне появился сержант и провозгласил, что мир заключен. Все направились в собор Парижской Богоматери, где был исполнен гимн «Те Deum».
На следующий день регент привел этих шестерых англичан в Сен-Шапель, показал реликвии Страстей Господних, дал великолепный обед и подарил каждому дорогого коня. Шесть французских рыцарей — три баннерета, три рыцаря-башелье — проводили англичан до Лувье, где они встретили Черного принца. Там 15 мая в церкви Богоматери старший сын английского короля сделал то же, что уже сделал в Париже старший сын короля Франции. Эдуард III оставил за собой окончательную ратификацию договора вместе с Иоанном Добрым.
Теперь, когда к соглашению пришли, надо было освобождать побежденного при Пуатье. Карл обложил податью каждый диоцез, добился обложения южных провинций; считалось, что Север слишком пострадал от войны, чтобы ожидать от него многого. Южанам такая логика пришлась не по душе.
В начале июля 1360 г. регент передал англичанам, что готов выплатить две трети первого взноса. И отправил под солидной охраной четыреста тысяч экю в Сент-Омер, где их поместили на хранение в аббатство Сен-Бертен. Еще до выплаты Иоанн Добрый прибыл в Кале. Эдуард III решил проявить великодушие: пока достаточно и четырехсот тысяч экю.
Как ни парадоксально, трудней оказалось передать заложников, чем найти деньги или хотя бы часть денег. Многие бароны послали вассальную мораль ко всем чертям: больше им делать нечего, кроме как отправляться в Лондон вместо короля. Протестовали крепкие города, такие как Ла-Рошель:
Они бы предпочли, чтобы у них каждый год отбирали половину дохода, чем попасть в руки англичан.
Само собой разумеется, что жители Ла-Рошели ответили бы иначе, если бы у них вознамерились забрать пятьдесят процентов дохода. Но преимущество Ла-Рошели состояло в том, что это был атлантический порт французского короля, как Бордо — английского. Понадобилось полгода, чтобы город уступил.
Договор в Кале
Тем не менее 24 сентября этот договор официально положил конец войне. В Кале приехали оба короля. А также дофин и Черный принц, который собирался править новой Аквитанией.
Две недели они пировали и делали все новые заявления о братской любви. Демонстрируя великодушие, Эдуард III обещал примириться с графом Фландрским, а Иоанн Добрый уверял, что заключит мир с Наваррцем.
Они поклялись соблюдать мир. Там были советники обоих королей, оба двора. Не обошлось и без политической подоплеки. Эдуард III дал последний пир — самый роскошный из всех. Он обещал сократить количество заложников.
Иоанн Добрый на следующий день покинул Кале. Он приехал в Сент-Омер, где в честь него устроили турниры, потом в Эсден, где постарался реорганизовать королевский двор. Через Амьен, Нуайон, Компьень и Санлис он направился в Париж, широко пользуясь вновь обретенной свободой, чтобы выслушивать приветствия народа. На самом деле, подданные были искренне счастливы видеть своего короля и в тот момент отнюдь не задавались вопросом, что им это будет стоить.
13 декабря под балдахином из золотой парчи король Франции совершил в свою столицу такой же въезд, какой бы устроил, если бы одержал победу над англичанами.
Улицы и большие мосты, по коим он проезжал, были увешаны тканями, а за воротами Сен-Дени был фонтан, столь обильно источавший вино, будто это была вода.
Во время уточнения окончательного содержания договора советники дофина уже добились нескольких поправок к договору в Бретиньи. Эти изменения, представлявшие собой просто стилистическую правку, должны были завуалировать важную оговорку, на которую англичане как будто легко согласились. Передача сеньорий, уступаемых французским королем, должна была происходить в обычных формах традиционного феодального права — а на суверенитет не было и намека. Само слово «суверенитет», фигурировавшее в трех статьях договора в Бретиньи, из договора в Кале исчезло.
Зато было решено, что обмен заявлениями об отказе произойдет до Андреева дня следующего года — до 30 ноября 1361 г., — то есть раньше назначенного срока территориальных уступок. Чтобы не было недомолвок, документы составили заранее. Иоанн Добрый в них отказывался от всех своих прав, включая суверенитет, на уступаемых территориях. Эдуард III так же поступал с территориями, которые договор оставлял в руках Валуа. Иначе говоря, француз уступал суверенитет над Аквитанией, англичанин отказывался от притязаний на французскую корону.
А дофин (он или его советники?) ловко разделил в договоре временное и постоянное — владение фьефом и суверенитет. Он легко уступил права на владение, зная, что реальное вступление во владение он в состоянии отсрочить: передача могла происходить только на месте, потому что феодальное право требовало передачи материальной, а не юридического акта, составленного где-то далеко. Нужно было, чтобы уполномоченный передавал сеньорию за сеньорией уполномоченному нового владельца. При этом никаких уступок суверенитета не происходило.
Регент позволил урезать домен. Он не мог этому помешать. Но, в конце концов, фактически в королевский домен Аквитания уже давно не входила. Что до королевства, то он уступил только одно виконтство. Непоправимое должно было наступить лишь позже, после того как свой нескончаемый труд завершат феодисты[70] и землемеры. Один год удалось выиграть до раздела королевства. Дипломатия проволочек пришла на смену дипломатии выжидания.
Те, кто потрудился ради мира, очень скоро выгадали от этого. Легат Андруэн де ла Рош, который десять лет был аббатом Клюни, получил на следующий год кардинальскую шапку — об этом совместно просили оба короля. Канцлер Нормандии Жан де Дорман станет канцлером Франции, а потом кардиналом. Его брату Гильому предстояло сменить его на посту канцлера.
Папа, со своей стороны, наконец увидел воплощение своей мечты о великой дружбе христианских монархов, которой Святой престол и его легаты непрестанно добивались со времен Бонифация VIII. Казалось, может настать час крестового похода. Иоанн Добрый, практически лишенный способности смотреть реальности прямо в лицо, решил: первое, что ему необходимо предпринять во вновь обретенном королевстве после четырех лет отсутствия, — «заморскую переправу»[71]. Вместо того чтобы взять в свои руки восстановление разоренного королевства и задуматься над тем, что поражение реформаторов и истребление «жаков» не решило ни одной из проблем, вставших еще до военного поражения, король Франции стал упорно добиваться, чтобы Иннокентий VI назначил его верховным предводителем христианского войска в походе за освобождение Гроба Господня. В августе 1362 г. он покинул Париж и выехал в Авиньон. Когда он добрался до этого города, в ноябре, уже две недели как папской тиарой был увенчан Урбан V.
Иоанну Доброму пришлось туда ехать левым берегом Соны и Роны по единственной причине, что там была имперская земля. Земли королевства были недостаточно безопасны. Другой король, может быть, задумался бы над этим характерным фактом и пересмотрел свои приоритеты.
Король перезимовал в Вильнев-лез-Авиньон — то есть на земле королевства, на правом берегу, напротив папского города, — демонстрируя хорошие манеры и тратя время на напрасные переговоры. Весной туда в поисках помощи прибыл король Кипра Пьер де Лузиньян. Иоанн Добрый с радостью его встретил.
Они очень много говорили о крестовом походе. В великую пятницу французский король был назначен его предводителем. Потом он в изобилии запасся каноническими привилегиями и индульгенциями и вернулся в Париж. Затем к нему приехал и Лузиньян. Того опять же встретили с запоминающимися почестями.
Нельзя даже сказать, чтобы перспективы крестового похода дали возможность собирать десятину, что было бы выгодно для королевской казны. Урбан V знал о крайней бедности клириков. Доходы архиепископа упали точно так же, как и доходы самого скромного сельского капеллана. Папа прежде был аббатом монастыря Сен-Виктор в Марселе и не забыл, в какое расстройство пришли его приораты. 27 февраля 1363 г. он даровал церковным бенефициям большей части Северной Франции паушальное снижение тарифа, по которому рассчитывалась сумма десятины. В то время как Иоанн Добрый просил о десятине, папа отменил обложение тридцатиной, которое ввел его предшественник.
Когда наконец король Франции окончательно решился отправиться в Святую Землю, Урбан V разрешил ему ввести десятину на шесть лет. Но ее следовало взимать по уменьшенному тарифу. И папа уточнил, что ее сбор будет возложен на епископов: они будут следить за ее использованием. Король попал в собственную ловушку. Крестовый поход не принес ему ни су.
Уполномоченные Плантагенета мало-помалу вступали во владение переданными территориями. По неясным причинам операция передачи началась только в августе 1361 г., то есть с большим опозданием. Возможно, просто-напросто понадобилось несколько месяцев на подготовку документации. Осенью многие вассалы уже принесли оммаж своему новому господину, и многие города уже дали клятву верности. Чиновники французского короля без колебаний отдавали ключи от ворот и сундуков, податные списки, домениальные документы. Приказ об этом был дан в январе сенешалям Сентонжа, Пуату и Лимузена, Керси и Перигора, Ажене, Ангумуа, Бигорра и Руэрга, а также их сборщикам налогов:
Отдавать и выдавать людям оного нашего брата (короля Англии), имеющим на то право, всякий раз, когда обратятся они к вам либо к одному из вас, все книги, тетради, бумаги, реестры, счета, хартии и послания, каковые имеете вы при себе или в другом месте либо можете иметь оные и знать о них, касающиеся до земель, сеньорий, доменов, суверенитета и доходов.
В то же время два посланника Эдуарда III приняли в Париже двадцать шесть счетных книг за период с царствования Филиппа Красивого по царствование Иоанна Доброго, сданных двору чиновниками переданных сенешальств. Самой старой была книга из Сентонжа за 1291 г.
Двадцать шесть счетных книг, относящихся к управлению семью сенешальствами в течение трех четвертей века: люди французского короля слегка посмеялись над англичанами…
Однако, несмотря на сопротивление некоторых баронов и некоторых городов, решивших поторговаться о своем согласии или обеспокоенных тем, что больше не будет возможности апеллировать к французскому королю на возможный произвол Плантагенета, операция передачи весной 1362 г. завершилась. Но тем временем уже прошел срок, когда в Кале должна была произойти церемония обмена заявлениями об отказе.
Уверенный в своей силе, Эдуард III не проявил на этот счет никакого беспокойства. Он не мог представить, чтобы поверженный накануне враг мог передать ему эти земли иначе, чем под полный суверенитет. Эти процессы происходили на местах. Официально их зафиксируют позже. Английские уполномоченные приняли уступленные земли, и никто не принес за эти земли оммажа королю Франции. Казалось, из отсутствия оммажа логически вытекает суверенитет.
Эдуард III был слишком уверен в себе. Это одна из редких ошибок его великого царствования. Король Англии и его советники воспринимали королевство слишком упрощенно — как феодальную пирамиду, что объясняется феодальной властью короля — со времен Вильгельма Завоевателя — над его Английским королевством.
Карл V и его легисты, лучше понимавшие различия между статусом отнятых земель и понятием суверенитета, без труда убедили себя, что сеньор, не принесший оммажа, может быть аллодистом — человеком, который ни от кого не «держит» свое владение, — однако не сувереном. В самом деле, на Юге Франции было много таких аллодистов, которые не были ничьими вассалами, но в полной мере оставались подданными французского короля.
Сознательно ли король Иоанн, дофин Карл и их советники пошли на эту двусмысленность? Неужели они с двуличием искушенных юристов сыграли на невнимательности и самонадеянности Плантагенета? Поверить, что позднейшие уловки легистов Карла V стали следствием случайности, было бы очень наивно. Равно как и уверовать в необычайную проницательность Карла V, создавшего еще до восшествия на престол запутанную ситуацию, благодаря которой он будет ловко плести козни. Вероятно, этой зимой 1361-62 г. все было на его стороне: неосторожность англичанина, упустившего время, сопротивление населения, не очень желавшего, чтобы чиновники Черного принца сменили людей короля Иоанна, преднамеренные недомолвки французов, не желавших распространяться, какую выгоду они смогут извлечь из возникшей юридической неопределенности…
Пока что Эдуард III умело пользовался финансовыми трудностями бывшего противника и все еще должника. Налог, введенный на выплату выкупа в декабре 1360 г., приносил меньше дохода, чем надеялось правительство Иоанна Доброго. Из-за небезопасности торговых путей плохо поступал налог с крупных продаж, в результате демографического спада меньше платили налогов на вино, а из-за уклонений от уплаты налогов — явления, с которым налоговая администрация, находящаяся еще в зачаточном состоянии, не могла справиться, — фискальной системе не раз приходилось сталкиваться с недополученным налогом и незаконными доходами.
Задержка выкупа означала, что заложники дольше будут находиться в плену. Хотя материальная сторона жизни там была достойной их ранга, принцы скучали в Лондоне, а бюргеры дорого обходились своим городам. Реймс платил 1250 экю в год за содержания двух своих заложников. Суассон, Сен-Кантен, Компьень, Шони и Нель объединились, чтобы платить за своих. Ни на миг не сомневаясь, что Франция одобрит эту сделку, заложники заключили с Англией в ноябре 1362 г. новый договор. Они попросту пообещали, помимо всевозможных непосредственных выплат и уступок, уже предусмотренных в Кале, передачу в залог почти всей провинции Берри. Было известно, что Иоанн Добрый согласится, а у дофина теперь власти не было. В ожидании ратификации нового договора Эдуард III переправил заложников в Кале. Берри за принцев и бюргеров, абсолютно ненужных в Лондоне, — выигрыш был очевиден.
Тогда король Англии вдруг выдвинул совсем неожиданное требование, на удивление современное. Он захотел, чтобы этот «договор заложников» ратифицировали Генеральные штаты Французского королевства.
Еще в Бретиньи и в Кале французскому королю пришлось обещать, что договор:
поклянутся соблюдать и хранить прелаты, когда будут приносить клятву верности, и главы церкви нашего королевства, наши дети, наш брат герцог Орлеанский, наши кузены и прочие родичи нашей крови, пэры Франции, герцоги, графы, бароны и вельможи, мэры, присяжные заседатели, эшевены и консулы, университеты или коммуны нашего королевства и наши чиновники, вступающие в должность.
Однако в 1360 г. речь шла только о клятве, что договор будет исполняться. Эту клятву давал каждый частным образом и задним числом. Можно сказать, что клятва содержала признание права, полученного ранее; впрочем, ее надо было приносить несколько раз:
И велим им заново приносить оную клятву каждые пять лет, дабы лучше о ней помнили.
В 1363 г., напротив, это была ратификация в юридической форме — нацией в лице ее депутатов. Без этой ратификации договора не будет. Хотел ли Эдуард III сделать обязанность платить выкуп более ощутимой для податных? Хотел ли сделать это дело государственным, в то время как прежде оно было делом вассалов, заинтересованных в свободе сеньора? Хотел ли напомнить французам об их поражении?
Если только, предчувствуя то, что произойдет, Эдуард просто-напросто не проводил политику «чем хуже, тем лучше». Может быть, требование вмешательства Штатов преследовало цель показать, что только король Англии играет благородную роль и готов к соглашениям, а французы, король и народ, дружно забывшие об изгнанниках, — роль низкую. Ведь, несмотря на благоприятное мнение короля Иоанна и проявив такую же сдержанность, как дофин и его приближенные, Штаты, собравшиеся в Амьене в октябре 1363 г., отвергли договор. Освобождение нескольких принцев, баронов и бюргеров не стоило того, чтобы отдавать Берри.
Уже одиннадцать месяцев заложники считали, что освобождение близко. Их вернули из Лондона в Кале, где они жили на широкую ногу. Теперь они узнали, что их надежды рухнули. Несомненно, их отошлют в Англию и будут содержать в худших условиях. Молодой Людовик Анжуйский — будущий король Неаполя — попросил разрешения отправиться в паломничество к Булонской Богоматери. Следуя стезей благочестия, он встретил в Булони жену, которой не видел более двух с половиной лет. Они вместе бежали. К ним приехал дофин и пытался вразумить брата. Тщетно.
Нарушение кодекса чести было очевидным. В Кале царило негодование. Содержание пленных со дня на день могло ухудшиться. Что касается Эдуарда III, находившегося в Лондоне, то он был вне себя. Он написал беглецу резкое письмо:
Вы запятнали честь своего рода!
Главой рода был король. Иоанн Добрый не нуждался в том, чтобы ему напоминали об этом дважды. Он назначил дофина Карла регентом и в январе 1364 г. прибыл в Лондон, чтобы в качестве заложника занять место сына. Отметим различие: честь не требовала от Иоанна Доброго возвращаться в свою тюрьму, ведь заложники были гарантами выполнения договора, а не только свободы короля. Но честь требовала от главы рода нести ответственность за слабодушие членов рода.
Эдуард III был достаточно деликатен, чтобы принять короля Франции, как в первый раз. Он встретил его с радостью и поселил в маноре Савой. Выдавалась прекрасная возможность вступить в новые переговоры, и англичанин, несомненно, подумывал заменить финансовые статьи договора — очевидно невыполнимые — статьями о территориальных уступках, легче осуществимых и в долгосрочной перспективе более выгодных для победителя.
Смерть короля Иоанна 8 апреля 1364 г. не позволила появиться на свет этому воплощению (оно было бы шестым) последствий битвы при Пуатье.
Французскому кузену устроили пышные похороны в лондонском соборе Святого Павла. Этого требовали правила приличия. И политические соображения: следовало напомнить, что в Лондоне сознают значение сана короля Франции. Ведь изнурительную обязанность платить выкуп за своего героического суверена, возложенную на Французское королевство, смерть узника отнюдь не отменяла. Если бы он умер, когда был пленником по своей вине — с 1356 по 1360 г., — тогда бы, умерев, Иоанн Добрый лишил короля Англии всякого выкупа. Выкупают свободу живого, а не право перевезти труп. Но Иоанна Доброго уже освободили. Место, которое он занимал в Лондоне, было не его местом, а местом заложника, гарантировавшего выкуп. А ведь Людовик Анжуйский был вполне жив…
Экстраординарная ситуация: Иоанн в тюрьме выступал гарантом платы за собственное освобождение, случившееся четыре года назад! Где бы он ни умер в 1364 г., в тюрьме или нет, — короля, взятого в плен при Пуатье, освободили в кредит в 1360 г. Франция по-прежнему должна была платить.
Глава X Время «компаний»
Карл V был слишком посвящен в курс дел, чтобы не знать: к моменту его восхождения на престол страна была обескровлена, королевский домен опустошен, положение короны едва ли было менее шатким, чем во времена Этьена Марселя. Во всяком случае, Карл уже возглавлял страну — с самого момента отъезда короля Иоанна в Лондон. Так что регент, ставший королем, знал, что надо делать: положить конец внутренним конфликтам в королевстве, приструнить уволенную солдатню, распоясавшуюся после Пуатье, восстановить свои финансы и свой авторитет.
Мечтал ли он уже тогда отвоевать то, потерю чего узаконил договор в Кале? Это было маловероятным, по крайней мере в ближайшее время. Слабому Валуа пока оставалось только смириться. Но он избежал худшего по сравнению с результатами предварительных переговоров в Лондоне и успел оттянуть, хоть и не добивался этого, совершение жеста с необратимыми последствиями — обмена отказами, в ходе которого французский король должен был отвергнуть всякую мысль о суверенитете над Гиенью, а король Англии — отказаться от любых притязаний на наследие Капетингов.
Политический горизонт предыдущего поколения омрачали две реалии: война в Бретани и мятеж Карла Злого. С обращения к ним и началось восстановление порядка во Французском королевстве.
Герандский договор
Англичане удерживали Бретань и обирали ее, ничуть не заботясь об интересах своего ставленника — герцога Иоанна IV, сына Жана де Монфора и Жанны Фландрской. В 1356 г. Ланкастер осадил Ренн, рассчитывая покончить с преобладанием партии графа Блуаского — иначе говоря, французской, — в Восточной Бретани. Гарнизон держался стойко. Тем самым Ланкастер хотел компенсировать неудачную попытку соединиться с Черным принцем на Луаре (мы знаем, что он не сумел захватить мосты) и снова не добился успеха. Зима кончилась. Англичанин снял осаду.
Среди рыцарей, прославившихся при обороне Ренна, выделялся Бертран Дюгеклен. Рыцарь, уже известный смелостью и энергией, опытный воин — таким в то время был сын Робера Дюгеклена, сеньора Броона, маленького фьефа на реке Ране недалеко от Динана. Робер был недостаточно богат, чтобы обеспечить состояние своим десяти детям, и не так беден, чтобы по-настоящему выглядеть «солдатом удачи». Бертран сделал войну своим ремеслом, но столь же по необходимости, сколь и по душевной склонности. В детстве он был драчуном, в зрелом возрасте грубияном, и его влекли сражения и выгоды, которые можно было от них получить. Бертран Дюгеклен был не из тех дворян с впалыми щеками, которые нанимались на службу, чтобы не умереть с голоду, но он знал, что отцовский фьеф, унаследованный им в 1353 г., не обеспечит ему в будущем роскошной жизни. Посвященный в следующем году в рыцари шателеном Кана Эсташем де Маресом, он таким образом лишь в тридцать пять лет надел золотые (или позолоченные) рыцарские шпоры. Конечно, многие дворяне не достигали и этого и всю жизнь оставались оруженосцами. Но кого-то посвящали в рыцари и в пятнадцать лет.
Дюгеклен служил в Ренне в отряде капитана Понторсона, которого он после сменит на этом посту. С самого начала войны он неизменно находился в рядах блуаской партии; совершенно естественно, что он пошел на службу к французскому королю. Он служил в Нормандии, перебрался в Бретань, вернулся в Нормандию.
В Бретани англичане довольствовались тем, что удерживали свои позиции. Как одной, так и другой стороне казалось, что борьба никогда не кончится.
Молодой герцог Иоанн IV приехал из Англии, настроенный совсем по-новому. Выросший при дворе Плантагенета, он научился ненавидеть своего покровителя; он хотел договориться с Карлом Блуаским. Оба принца были готовы согласиться на мир ценой раздела Бретани. Против этого восстала Жанна де Пантьевр: она сражалась не для этого. Ведь наследницей была она. Карл Блуаский смирился. Иоанну IV пришлось вернуться в английский лагерь.
В 1363 г. и вправду возобновилась война. Карл Блуаский одержал несколько побед, по большей части благодаря Дюгеклену, который стал тем временем рыцарем-баннеретом. Карл попытался продолжить борьбу, и Дюгеклен направился в Нормандию, чтобы пресечь наваррскую угрозу. Он осадил Бешерель, но безрезультатно. Тем он и ограничился. Начались новые переговоры в Эвране. и во второй раз Жанна де Пантьевр не позволила прийти ни к какому компромиссу.
Инициатива перешла к Иоанну IV. В августе 1364 г. с помощью Джона Чандоса, военного советника Черного принца, и капитана Роберта Ноллиса он осадил Оре. Карл Блуаский призвал Дюгеклена, потом попытался снять осаду с города. Сражение, которое он дал 29 сентября, кончилось для него разгромом. Иоанн IV сумел в последний момент ввести в бой резерв, который опрокинул сторонников французского короля. Карл Блуаский пал на поле сражения. Оливье де Клиссон потерял глаз от удара копьем. Дюгеклен был вынужден сдаться, когда в руке у него остался лишь обломок меча. Тот, кто будет считаться образцом рыцарства для новых времен — до появления Байярда[72], — в третий раз попал в плен.
Узнав, что она овдовела и все потеряно, Жанна де Пантьевр пала духом. Дело, чтобы уладить его, взял в свои руки Карл V. Герандский договор (12 апреля 1365 г.) закрепил победу партии Монфора: король Франции признал Иоанна IV герцогом Бретонским, а тот принес ему оммаж. В случае отсутствия наследников Бретань должна была перейти к потомкам Жанны де Пантьевр, сохранившей за собой также Пантьевр и Лимож, который достался ей от матери. Гордая принцесса держалась двадцать три года, прежде чем уступить наследие деда и своего дяди Иоанна III.
В этой истории появился мнимый побежденный — Карл V. Ведь верх взял кандидат англичанина, а кузен Карла V граф Блуаский ни за что погиб. Но Бретань сохранит верность оммажу; она останется в составе королевства. В момент, когда Аквитания могла выйти из-под королевского суверенитета, Бретань прочно закрепили под ним. Пусть даже Иоанн IV отказался принести тесный оммаж (приоритетный), который бы сковывал его в политическом плане, а во время приезда в Париж в 1366 г. принес только простой оммаж, позволявший ему заключать любые союзы, Карл V выиграл в главном: у короля был вассал — ненадежный, но слишком дорожащий миром, чтобы избегать опрометчивых шагов. Это было лучше, чем отпадение территории.
Соглашаясь на Герандский договор, король Франции выиграл еще одно очко в борьбе с претендентами на свою корону: в самом деле, договором предусматривалось, что наследник мужского пола независимо от степени родства отныне имеет приоритет при наследовании герцогства Бретани перед любой наследницей. Эта статья закрепляла поражение Жанны де Пантьевр, а значит, и поражение короля, но ничем не усугубляла этого поражения, в любом случае очевидного. Зато она упрочивала введение принципа мужского наследования в наследственное право. После Пуату и Франции была Бретань — воистину Робер д'Артуа родился слишком рано.
Увы, этим бретонское дело не кончилось. Договор уладил вопрос наследования престола Иоанна III, не убедив Жанну де Пантьевр, которая уже думала о правах своего сына Анри. Но он не снял напряжение, возникшее в самой Бретани в результате конфликта, в котором будут тратить силы еще два поколения.
Бургундское наследство
Добиваясь успехов в Бретани и не афишируя этого, Валуа обделал в Бургундии очень выгодное дело, выгодное по крайней мере в ближайшем будущем. Филипп де Рувр, который был там герцогом с 1349 г., 21 ноября 1361 г. умер в возрасте пятнадцати лет, пав жертвой второй большой эпидемии чумы. Он был последним из длинной династии герцогов, родоначальником который стал один из младших сыновей Роберта Благочестивого[73]. Филипп де Рувр был Капетингом и всегда считал себя таковым. В Королевском совете бургундская партия часто играла первую роль, особенно во времена короля Филиппа VI и герцога Эда IV. Таким образом, со смертью последнего герцога из Капетингов возрождалась подзабытая опасность отпадения Бургундии и перехода ее в состав империи.
Наследство было существенным. К Бургундскому герцогству своего предка Эда IV Филипп де Рувр присоединил Бургундское графство — Франш-Конте — и графство Артуа, которые его мать Жанна получила от своих предков Отгона Бургундского и Маго д'Артуа. Уже из-за одного этого стоило обратить внимание на наследство юного герцога. Но не меньшего интереса заслуживала его юная вдова: Маргарита была дочерью и единственной наследницей последнего графа Фландрского из дома Дампьерров, рода, который с годами и при помощи браков умело присоединил к Фландрии графства Невер и Ретель. Граф Людовик Мальский пока что прочно владел фламандским наследством, но его дочь отныне стала вдовой. Давно уже не было такой выгодной партии.
Дело провернули очень быстро. Едва узнав о смерти Филиппа де Рувра, Иоанн Добрый наложил руку на Бургундское герцогство. Беглое знакомство с капетингской генеалогией позволяет утверждать, что король Франции был ближайшим родственником. Разве он не приходился сыном Жанне Бургундской, сестре великого Эда IV? Большего и не требовалось.
В то время как в Бургундии чиновники, уже поддерживающие дело Валуа, хранили в тайне факт смерти и размещали в крепостях гарнизоны на случай конфликта, каких боялись после бретонского прецедента, король обнародовал жалованные грамоты о присоединении герцогства к королевскому домену «по праву близкого родства, а не в интересах короны». Иоанн Добрый не захватывал, он наследовал. Бургундцы одновременно узнали, что у них новый герцог и что это король Франции.
Организовать присоединение послали графа де Танкарвиля, а ему вдогонку выехал Никола Брак, чтобы контролировать финансовые дела. Арно де Серволь и его компания отправились обеспечивать порядок; демонстрировать силу необходимости не было. Бургундия сохранила спокойствие. 23 декабря Иоанн Добрый мог торжественно вступить в герцогство.
Далее надо было чем-то жертвовать. Может быть, король в качестве ближайшего родственника покойного и имел право наследовать Бургундское герцогство, но не Артуа и не Бургундское графство. Если схватить слишком много, можно все выронить. Артуа и Графство были предложены двоюродной бабке герцога Филиппа по материнской линии, иными словами, Маргарите Французской, внучке Отгона IV и Маго. Она вышла за графа Фландрского и приходилась бабкой Маргарите Фландрской, о повторном замужестве которой уже думали.
Это было рискованно: при таком раскладе все зависело от двух вдов, которые могли расстроить игру, повторно выйдя замуж так, что это не будет соответствовать интересам французского короля.
Тогда Иоанн Добрый и вступил в контакт со своим шурином, императором Карлом IV Люксембургским. Уже прошел год после смерти Филиппа де Рувра, а Маргарита еще не принесла оммажа императору; в январе 1363 г. секретным актом тот предоставил инвеституру на Графство третьему сыну короля Франции — Филиппу, в то время герцогу Туренскому. Это был юный герой Пуатье («Отец, берегитесь…»), которого вскоре станут называть Храбрым. За Маргаритой ее графство осталось, но шла подготовка дальнейших событий.
Тот же Филипп Туренский в июне 1363 г. приехал в Дижон как королевский наместник. Через три месяца отец сделал его герцогом Бургундским.
Опять-таки не сочли нужным раскрывать карты слишком рано. Бургундцы знали, что в ту зиму, когда осаждали Реймс, нейтралитет герцога спас их от разграбления, которое могли устроить английские войска. Им также могло прийти в голову, что королевские налоги могут быть тяжелей, чем герцогские. Потому эту новость какое-то время держали в тайне. В этой политике «проникновения», очень непохожей на манеру поведения пылкого Иоанна Доброго, позволительно увидеть растущее влияние того человека, который станет Карлом V, на управление королевством.
Король Наваррский несколько месяцев ставил палки в колеса. Заявить, что его права имеют приоритет над правами Валуа, он никак не мог. Конечно, он сразу же выразил интерес к бургундскому наследству, а потом сделал паузу, чтобы подготовиться. Когда он потребовал расследования, когда он апеллировал к суду палаты пэров, стало понятно, что он ищет ссоры. Тщетно папа, к которому обратился Иоанн Добрый во время пребывания в Авиньоне, предлагал посредничество: король Наваррский его отверг без объяснения причин. Зато последний появился в Бордо, где встретился с Черным принцем. Когда выяснилось, что наваррский капитан Санчо Лопис — Сансон Лопен из Бретёя — тоже совещается в Бордо с англичанами, поняли, что готовится война.
Карл Злой сплел сеть союзов, направленных против своего кузена Валуа. В августе 1364 г. он заключил мир с королем Педро IV Арагонским, заплатив за отсутствие угроз со стороны Испании обещаниями, сделанными в ущерб французскому королю. Арагон должен был получить Нижний Лангедок, сенешальства Бокер и Каркассон. Тем не менее король Наваррский отправил своего брата Людовика сражаться против Арагона на стороне кастильцев. Людовик попал в плен; эта ситуация поставила под угрозу мир с Арагоном.
В то же самое время, чтобы наносить Бургундскому герцогству удары с тыла, Карл Злой содействовал формированию наваррской партии в Графстве. С расчетом на войну в Бургундии он навербовал новые отряды, в том числе уже известные, такие как компания Сегена де Бадфоля или Бертюка д'Альбре.
Бургундия была всего лишь поводом. Карл Злой не скрывал своей игры: он велел вышить на своем знамени гербы Франции — не Эврё — и Наварры. Речь шла о пересмотре старых счетов, счетов 1316 и 1328 гг.
Кошерель
Дофин Карл после отъезда короля Иоанна Доброго в Англию снова стал регентом. Он приказал конфисковать владения Наваррца. Он тоже набрал войска. Командование ими он поручил Бертрану Дюгеклену, назначенному генерал-капитаном Нормандии.
После деревенских драк и геройств во время осады Ренна Дюгеклен приобрел репутацию умелого командира. Не просто стратега с живым умом, а лидера. На самом деле хорошо зная солдат, он вербовал их с разбором. Он следил за раздачей вина так же, как и за выдачей жалованья. Он берег своих людей, что, впрочем, не помешало ему ответить с циничной насмешкой герцогу Ланкастеру, когда тот, чтобы убедить его отказаться от атаки, сослался на возможные потери в людях:
Тем лучше для выживших. Им достанется больше наследства.
К побежденному врагу Бертран Дюгеклен относился беспощадно. Если он был забиякой — а мальчишки из его деревни кое-что об этом знали, — то безупречные подвиги его не интересовали. Военные хитрости и притворство входили в его арсенал, и он этого не скрывал, рискуя разойтись во взглядах с «самым безупречным и доблестным рыцарем» времен Иоанна Доброго — Жоффруа де Шарни, чья «Книга рыцарства» для двух поколений стала кодексом чести в ратном деле.
Он придавал мало значения дипломатии, политическим тонкостям, нюансам. Его верность была неколебима. Встретив в жизни много покровителей, которые помогли ему возвыситься и которых звали Карлом Испанским, Людовиком Анжуйским, Арнулем д'Одрегемом, Карлом Блуаским, Дюгеклен, разумеется, получил поддержку и со стороны дофина Карла в борьбе против всего, что имело отношение к Наваррцу и его союзникам. В отличие от баронов наваррской партии, которые путались в политических противоречиях и противоречащих одно другому обязательствах (дофин против короля, Этьен Марсель против дофина, дофин против «жаков») Дюгеклен знал одно: надо драться с наваррцами, англичанами, сторонниками Монфора. Профессиональный военный, если можно так сказать, он тем не менее не был наемником, готовым служить тому, кто заплатит. У него был один господин — Валуа.
Распорядиться конфисковать владения Наваррца было мало, надо было еще и отобрать их. В апреле 1364 г. Бертран Дюгеклен получил приказ без предварительного уведомления занять крепости, благодаря которым Карл Злой, граф д'Эврё, контролировал Сену; Мант, Мёлан, Ветёй и Рони были взяты за неделю, вместо тарана сгодилась хитрость. Засада, молниеносная атака на людей, едва осознавших, что противник напал, налет в тот самый момент, когда ворота открываются, чтобы пропустить телегу, — и дело сделано. Карл V — он стал королем на той же неделе — отныне получил полную свободу действий.
Через несколько дней в Нормандию вступила армия, набранная в Наварре (а также в Гаскони, отчего всегда будут говорить об «англичанах» при Кошереле) Карлом Злым, который под предлогом возможной войны с Арагоном обложил свое пиренейское королевство новыми налогами. Армия силой в тысячу человек, если не больше. В конце апреля 1363 г. они подошли к Сене.
Их возглавлял Жан де Грайи, капталь де Буш — один из виднейших вельмож Гаскони, по-прежнему вассал и преданный капитан Плантагенетов. Никто бы не мог обмануться, даже если настоящих англичан под Кошерелем не было (откуда им там взяться, если заключен мир?): присутствие капталя де Буша означало, что франко-английская война и франко-наваррский конфликт связаны между собой.
Капталь не был наемником, как Арно де Серволь или Сеген де Бадфоль. Он точно так же не продавался, как и его теперешний противник Бертран Дюгеклен. Капталат Буш был одним из самых старинных фьефов Гаскони. Жан де Грайи приходился внуком принцессе из дома Фуа. По ней он был потомком Робера д'Артуа; его кузеном был граф де Фуа — Гастон Феб, великий охотник и воистину просвещенный человек, образец рыцарских добродетелей и независимый князь-суверен. Кроме того, капталь де Буш был женат на даме из рода д'Альбре, сестре того самого Арно Аманьё д'Альбре, в чьей политике прослеживалось яростное стремление к независимости.
Когда такие люди воевали, даже если соображения вассальной верности и принадлежности к клиентеле приводили их в какой-то лагерь и на чью-то сторону, они всегда сражались за себя. Ничего странного, если они сегодня тут, а завтра там, они не ощущали политических противоречий и ни в малейшей мере не имели национального чувства. Жан де Грайи не был ни французом, ни англичанином, он был капталем де Бушем.
Его реакция на события была реакцией человека из его рода. Из «Рынка» Мо он атаковал бюргеров и «Жаков», выручая дофину. Его ничуть не смущало, что при Пуатье он находился на стороне Черного принца. Между тем он выполнил долг христианского рыцаря, отправившись в крестовый поход в Пруссию вместе с кузеном де Фуа.
Английская война кончилась. Капталь до конца выполнил свой долг гасконского вассала Плантагенета. Теперь настал мир, но капталь был не из тех, кто бы охотно отложил оружие. Чтобы найти себе занятие, а также заработать денег, он пошел на службу к арагонцу, потом вернулся к королю Наваррскому; тот ему хорошо заплатил — шесть тысяч флоринов, помимо тысячи ливров ренты, — и дал ему хорошие земли.
Что касается короля Англии, то он не вмешивался. Черный принц даже пытался завербовать, без особого успеха, еще нескольких видных гасконцев. Мир, заключенный в Кале, запрещал Плантагенету искать новых ссор со своим кузеном Валуа, но отнюдь не мешал вассалам герцога Гиенского по собственному почину вступать в армию Наваррца. Если дело не зайдет слишком далеко — ведь гасконские бароны стали испытывать куда больше расположения к королю Франции с тех пор, как победа при Пуатье укрепила власть их герцога. Черный принц правил Аквитанией, сделав из нее почти независимое княжество. Спокойствие вассалов включало по меньшей мере негласное соглашение с самым слабым из претендентов на роль правителя Аквитании. Поэтому многие отклонили предложение короля Наваррского вступить в его армию. Некоторые, как неуемный сир д'Альбре, сочли уместным предостеречь регента Карла о том, что замышляется.
В Париже хорошо знали, как к этому отнестись. Капталь де Буш был в Бретиньи одним из послов Эдуарда III, потом с первых дней активно участвовал в бургундском деле и входил в число уполномоченных короля Наваррского, которым тот поручил предъявить и отстаивать его права. Было очевидно: наваррская армия, вошедшая в Нормандию, во многом походит на победителей при Пуатье.
В начале мая капталь под Эврё примкнул к «наваррским» войскам, собравшимся из всей Нормандии, из Бретани, Мена и даже из Берри. Но многие на призыв не откликнулись, и можно было почувствовать, как кульбиты короля Наваррского надоели нормандским баронам. Немало капитанов назначили охранять какой-нибудь наваррский замок или наняли на время с их отрядом рутьеров. Но нормандские феодалы уклонялись от участия в этом деле. Даже Аркур теперь был на стороне Валуа.
Может быть, все пошло бы иначе, присутствуй там лично Карл Злой. Ведь он был графом д'Эврё. Род родом, а Жан де Грайи был гасконцем.
Наступление Дюгеклена на Нижней Сене круто изменило ситуацию. Французы обошли противника, и наваррцы вынуждены были, теряя время и опасаясь удара с тыла, привыкать обходиться без Манта и Мёлана в качестве опорных баз. Капталю пришлось импровизировать.
Не меньше впечатления произвела и весть, что король Франции умер и что регента, о слабостях которого знали, сменил король, от которого не было известно, чего ждать. Королю Наваррскому выдалась возможность сказать свое слово в один из моментов, при которых его права еще никогда по-настоящему не принимались во внимание, — в момент наследования французского престола. Карл Злой родился слишком поздно, чтобы взойти на престол в 1328 г., и в 1350 г. наследование произошло без проблем. В 1364 г. он мог извлечь выгоду из трудностей Валуа, чтобы поставить под вопрос наследование или, по крайней мере, с позиции силы добиться существенной компенсации для семьи Эврё. Жан де Грайи был не главарем шайки, а вельможей, разбиравшимся в династических проблемах; он вбил себе в голову, что должен не допустить миропомазания.
Иоанн Добрый умер 8 апреля. Его останки перевезли во Францию и как раз только что похоронили. 7 мая, в день начала тридцати заупокойных служб, его погребли в Сен-Дени. Еще можно было успеть в Реймс. Капталю де Бушу нельзя было терять времени.
Не растерялся и Дюгеклен. На Сене у него была сильная армия, которой он дал разумный приказ снять осаду Рольбуаза — маленькой крепости, которую защищал рутьер Жан Жуэль и его компания. Жуэлю не было никакого дела до франко-наваррского конфликта, но он чувствовал симпатии к врагам короля Франции и поэтому в Эврё примкнул к капталю де Бушу. Тем временем армия Дюгеклена выросла. Капитан Руана Мутон де Бленвиль занял крепости, которые у Наваррца и его сестры королевы Бланки — вдовы Филиппа VI — еще оставались на правом берегу: Гурне, Нефшатель-ан-Бре, Лонгвиль. Потом он соединился с Дюгекленом. Тот призвал под свои знамена также гасконскую компанию Аманьё де Помье, компанию Жана де Вьенна — будущего адмирала — из Графства и бургундскую компанию Арно де Серволя, перигорского клирика, который сделал своим ремеслом сражаться за тех, кто заплатит, и которого называли Протоиереем.
Капталь де Буш контролировал Эврё и Верной. Дюгеклен привел свою армию в Пон-де-л'Арш и встал лагерем на левом берегу реки Эр. Тогда Грайи занял высоту Кошерель, предоставив противнику инициативу атаки. Так же рассуждал Черный принц при Пуатье девять лет назад.
Карл Злой со двором находился в Памплоне, не проявляя ни малейшего беспокойства. Ему даже в голову не пришла идея возглавить армию. Не то чтобы его внезапно поразила робость, но когда после отправки войск в Нормандию стало известно о падении Манта и Мёлана, король Наваррский счел, что его армия, прибыв слишком поздно, чтобы помешать падению этих крепостей, должна теперь просто их отвоевать.
Может показаться странным, что Карл Злой, выслав столь сильную армию, как будто забыл о ней. Правду сказать, в те дни его внимание было больше приковано к запутанной ситуации в Испании, чем к берегам Сены. Наварра снова сближалась с Арагоном. Кастильская угроза пока что вытеснила из мыслей короля его интересы в Нормандии.
Утром 16 мая 1364 г. при Кошереле сражение началось так, как и ожидал капталь де Буш, стяг которого развевался над густым колючим кустом на вершине холма. Французы пошли в атаку с боевым кличем «Богоматерь Гекленская!» — кличем, о котором капитаны договорились накануне. Жан де Грайи не реагировал: он хотел позволить противнику полностью развернуться, чтобы его ясно было видно.
Ошибку совершил Жан Жуэль, бывший защитник Рольбуаза. Не дожидаясь приказов капталя, он ринулся навстречу атакующим. За ним поскакали другие капитаны, вопреки желанию растерявшегося Грайи, который в конечном счете был вынужден последовать за теми, кого уже не мог удержать.
Капталь был прав, ожидая подвоха. Он хорошо знал, как хитер Бертран Дюгеклен. Едва только наваррцы начали эту несвоевременную атаку, французы отпрянули назад. Видя, что те в беспорядке отступают, некоторые люди капталя обрадовались. Большинство сочло, что это наводит на подозрения. Но они слишком поздно увидели двести конных латников — двести свежих и энергичных бретонцев, которых Дюгеклен укрыл в лесу на фланге. Наваррцы промчались мимо них, не заметив. И подставили французам незащищенные фланг и тыл. Вернуть атакующую конницу назад очень трудно, и люди капталя, неспособные дать отпор, наконец поняли, что мнимые беглецы не были беглецами. У наваррцев, зажатых между основными силами французской армии, внезапно остановившимися, и атакующим с тыла отборным отрядом, не могло остаться иллюзий относительно исхода сражения.
Капталь де Буш сдался последним. Его победителем был смелый бретонец по имени Тибо дю Пон, карьера которого началась в тот день.
На ближайшее будущее Карл V вышел победителем. Таким было мнение Карла Злого, который о случившемся узнал в Памплоне на званом вечере 24 мая и тем же вечером решил подготовить реванш.
Сам Карл V узнал о своей победе, когда подъезжал к Реймсу. Миропомазание 19 мая сделало его настоящим королем, а присяга в ходе коронации обязала защищать веру; он сошлется на это через четырнадцать лет, во время Великой схизмы, когда сыграет важную роль в укреплении авторитета авиньонского папы.
Нельзя было терять времени. 28 мая Карл V и Жанна де Бурбон друг за другом торжественно въехали в Париж, украшенный тысячами занавесей и ковров, свисающих из окон на Великой улице Сент-Антуан. Несомненно, спеша вернуться к управлению страной, король обогнал процессию: он вступил в Париж в полдень, быстро съездил помолиться в собор Парижской Богоматери, потом достиг дворца на острове Сите и принялся за дела. Горожане, одетые в зеленое и белое — о красно-синем пытались забыть, — радостно приветствовали его на протяжении всего пути. Вечером прибыл кортеж королевы, которую сопровождали тетка и невестки. Коня королевы держал под уздцы новый герцог Филипп Бургундский. Как и утренний, кортеж направился в собор Парижской Богоматери, а потом дошел до дворца. Там был устроен большой пир. Оба последующих дня были заняты турнирами.
Ничто не вызывало опасений. Король Кипра Пьер де Лузиньян, с которым Иоанн Добрый познакомился в Авиньоне, отличился на турнирах. Добрые горожане пили за здоровье короля и танцевали по случаю праздника. Кто еще помнил о прежнем союзе парижан и Наваррца против дофина Карла?
В лагере побежденных царило уныние. Многих потеряли мертвыми, в том числе пылкого Жана Руэля. Многие попали в плен, в первую очередь Грайи, которого надо будет выкупать. Карл Злой им поможет деньгами из своей казны.
Карл V отметил свое воцарение актом, предвещавшим конец феодальных войн и снова включившим в законы военного времени понятие о праве государства. Пленникам-французам — гасконцев к ним не причисляли — отказали в праве освобождения за выкуп. Это были предатели, и им отрубили головы. Когда-то Филипп Красивый так же по-разному относился к противнику-англичанину, обходясь с ним как с королем, и к графу Фландрскому, обойдясь с ним как с побежденным мятежником. Для одного — примирение и свадьбы, для второго — тюрьма.
Суровость Карла V по отношению к французам из армии короля Наваррского означала следующее: может быть, рыцарь и имеет право на частную войну, но против суверена частных войн не бывает.
Впрочем, отношение баронов было показательным с самого начала кампании. Наваррской партии больше не было. В борьбе против короны Валуа дом Эврё проиграл окончательно.
Все это не помешало Карлу Злому сохранять сильные позиции в Нормандии. Дюгеклен развил свою победу при Кошереле, взяв несколько крепостей — Конш, Берне — и разорив графство Мортен, а потом заняв Карантан и Валонь в сердце Котантена. Но за Наваррцем остались основные его крепости. Он удержал Бретёй и Орбек, Бомон и Понт-Одемер. Он сохранил свой порт Шербур, позволявший ему легко добраться до Байонны и Наварры. Несмотря на попытку осады, которую быстро сняли, его столица держалась стойко: Эврё остался в его руках.
В наваррские крепости снова поставили гарнизоны и снабдили их припасами. В качестве организатора обороны своего кузена-капталя заменил Пьер де Ландира. К концу года военные последствия поражения удалось нейтрализовать. Одни наваррцы захватили форт Мулино ниже Руана, а другие тем временем вновь заняли Котантен. К Рождеству Дюгеклен не сохранил практически ничего из весенних завоеваний.
Карл V был достаточно умен и не стал ждать, пока ситуация переменится окончательно, чтобы предложить кузену приемлемый компромисс. Карл Злой знал, что Наварра больше не может оплатить войну, к которой податные на землях за Пиренеями испытывают мало интереса. Англичанин воздерживался от вмешательства. Капталь де Буш очень спешил вернуть себе свободу. Весьма кстати вмешался Урбан V. Короче говоря, начались переговоры. В марте 1365 г. заключили договор. За Карлом Злым были признаны нормандские домены, которые он не терял или которые вернул. По-настоящему он утратил только Мант и Мёлан — потенциальные затворы для блокады, стратегические крепости, передача которых королю надолго избавляла столицу от угроз, — и графство Лонгвиль, одну из самых богатых сеньорий земли Ко. Таким образом, крупный нормандский барон, каким оставался король Наваррский, сохранял свою власть в Западной Нормандии, но больше не мог претендовать на контроль над Сеной.
Взамен Карл V уступил кузену город и сеньорию Монпелье. Этот обмен свободы навигации по Нижней Сене на порт на Средиземном море — единственный настоящий порт, который был на этом море у Валуа, и единственный, который когда-либо будет у Наваррца, — красноречиво свидетельствует о том, насколько мало значения в 1365 г. еще придавали экономическим перспективам, которые открывала для Франции морская торговля с Востоком. В Париже, как и в Авиньоне, на финансовом рынке и на доброй части торгового рынка доминировали крупные тосканские компании. Похоже, король Франции вполне привык к тому, что роль вынужденных посредников между Францией и Востоком исполняют итальянские купцы.
Что касается Лонгвиля, Карл V немедленно преподнес его в дар Дюгеклену. Бретонский дворянчик стал графом. Между тем, и об этом знали, победитель при Кошереле уже был разбит при Оре, и Джон Чандос ждал за него хорошего выкупа.
Пока обменивались ратификационными грамотами франко-наваррского договора, Герандский договор вновь закрыл бретонское дело. Весной 1365 г. Карл V не одержал победу, но у него впервые были развязаны руки. Мог ли он догадываться, что впоследствии дочь Карла Злого выйдет за герцога Бретонского Иоанна IV де Монфора, а потом — за короля Англии Генриха IV Ланкастера?
Компании
Если король Франции заключил мир со своими знатными баронами, ему еще надо было восстановить порядок в королевстве. Ведь последствия войны во многих отношениях были хуже самой войны: по всей стране «компании» (compagnies) оказывались тем опасней, чем меньше у них было дела.
В компанию входили пятьдесят-двести человек под командованием капитана, игравшего одновременно роль и предпринимателя, и администратора военного сообщества, и военачальника. Компания, обычно более многочисленная в период приближения ежегодной кампании, чем после осеннего расформирования, росла и таяла в зависимости от обстоятельств, но имела прочное и почти постоянное ядро, состоящее из самых первых и самые верных капитану бойцов, которых связывала с ним судьба, а не только жалованье.
Капитаны, хоть и были авантюристами, не оставались вне закона. Многие из них, более или менее титулованные, чаще более родовитые, чем богатые, принадлежали к старинной знати. Будь они рыцарями-баннеретами («со знаменем»), рыцарями-башелье или даже простыми оруженосцами, они делали своим ремеслом войну; но это ремесло ничуть не мешало им применять к себе требования рыцарской этики. Такие люди, как Мутон де Бленвиль и Бертран Дюгеклен в одном лагере, или Жан де Грайи в другом служили королю, который им платил — но не какому попало королю. Пусть они были наемниками — их поступление на службу имело характер политического выбора. Однако были и другие, которые искали того, кто больше заплатит, и куда более пламенно желали продолжения войны, чем окончательной победы. Они сражались за жалованье, за добычу, которую собирали в набегах, за выкуп, который получали за плененного врага и от города, оказавшегося под угрозой. И тут все средства были хороши и любой улов годился.
Среди капитанов можно было встретить кого угодно — от принца до мелкого дворянчика. Одной компанией командовал даже клирик-расстрига по прозвищу «Протоиерей», Арно де Серволь. Несколько бастардов, много младших сыновей, немало старших из мелких сеньорий. Точно так же среди их людей были уроженцы всех стран и областей. Рядом с брабантцем был ломбардец, рядом с испанцем шел немец, с бретонцем делил судьбу льежец. С тех пор как они вызывались служить, их дорога пересекалась с дорогой компании. Они оставались в ней.
По крайней мере было бы лучше, чтобы они оставались там, куда пришли. Но компании распадались и собирались снова. Солдат шел туда, где его завербуют, дисциплина ему надоедала, он искал лучшей доли и более надежного дохода в других местах.
Уже в 1351 г. Иоанн Добрый запретил воинам без конца переходить из отряда в отряд. Этот обычай уже начал вызывать у властей тревогу, поскольку зачастую приводил к тому, что, что королевские чиновники платили дважды, не сознавая этого, одному и тому же человеку в двух компаниях: условиями перехода из одной компании в другую были разрешение коннетабля (или маршала) и исключение из списков для «смотра». Через семь лет, призывая своих военачальников набирать войска, необходимые для защиты области, на местах, тот же король пытался ограничить влияние космополитизма, легко приводившего к анархии.
Не менее разнообразной была иерархия компаний. Некоторые в самом деле выглядели воинскими частями: они неизменно служили одному и тому же принцу, имели почти постоянный личный состав и участвовали в походах по известным местностям. Они признавали монархическую иерархию (король, принцы крови) и феодальную (герцоги, графы, бароны), более очевидные в великие дни «битв» по всем правилам, чем в рутине будничных засад и безрезультатных осад. Они подчинялись также генерал-капитанам — капитанам, которых верховная власть выделяла из числа им подобных и которым поручала месяцами руководить нескончаемой войной, состоявшей из захвата или сжигания поместий, блокирования и деблокирования дорог, нападений на обозы и случайных стычек.
На другом полюсе находились компании, еле-еле связанные с армией, совершающей поход. Их участью был наем на три месяца. Скорей вольные отряды, чем регулярные части, они находились во власти своего капитана, потому что по сути другого господина, кроме него, у них не было. При этом двенадцать месяцев из двенадцати капитану надлежало обеспечивать пропитание и поддерживать боевой дух людей, которые оставались при нем в ожидании лучших времен.
Когда мы направлялись в набег куда придется, нам в руки попадали кое-какие богатые купцы из Тулузы, Кондома, Ла-Реоля или Бержерака. Каждый день мы не упускали случая захватить богатую добычу, из которой запасались излишками и безделицами.
По окончании похода они ожидали следующих. Мирного договора было достаточно, чтобы лишить их всякой надежды. Франко-английская война кончилась, с Наваррцем заключили мир, в Бретани как будто восстанавливался порядок. Солдатам, которых не привлекало возвращение домой, к упорядоченной жизни, приходилось что-то придумывать. Надо было выживать. Какой-нибудь Арно де Серволь, Бертюка д'Альбре, Бернар де ла Саль или Сеген де Бадфоль не собирались жить на ренту, посоветовав своим людям стать ремесленниками. Солдатами они были, воинами и останутся. Но врага больше не было.
Если нельзя рассчитывать на законное жалованье, добычу и выкупы, начнется разбой. Черный принц понял это сразу же после заключения мира: он запретил компаниям из собственной армии, оказавшимся в Пуату или в Берри, возвращаться в Гиень. Иоанну Доброму они были не нужны, но он не мог их прогнать. Население земель, которые опустошали эти банды, в большей или меньшей степени состоящие из гасконцев, быстро привыкло называть бродячих солдат «англичанами». Не будет преувеличением сказать, что эти последствия войны, которую никто по-настоящему не воспринимал как конфликт наций, способствовали вызреванию национального чувства. Ведь это на Англию негодовали из-за преступлений англичан, которые в большинстве были вовсе даже уроженцами Франции.
Договоры 1365 г. оставили без дела другие банды — те, которые король Франции сохранил или воссоздал в Нормандии и Бретани, те, которые постоянно содержали Монфоры, те, которые нанял король Наваррский. Волна 1360 г. навела ужас на Лангедок, Овернь, Бургундию. Она достигла кульминации к концу 1361 г, когда одна «большая компания», образованная в Шампани, в обстановке полной анархии спустилась по долинам Соны и Роны, захватила и разграбила Пон-Сен-Эспри, где нашла «сокровище» — на самом деле часть казны сенешаля Бокера, — и взяла выкуп с папы за то, что не вторгнется в Авиньон. Волна 1365 г. нанесла на карту бедствия также Иль-де-Франс и Нормандию, Мен и Анжу.
Компании не брезговали ничем. Собирали дань с населения, грабили, забирали всё, что стоило каких-то денег. Капитаны договаривались с городами и деревнями о сумме «выгонов» (patis), иначе говоря, выкупов, который те должны заплатить за то, что их обитатели останутся живыми, дома целыми и пути их снабжения не перекроют. Точно так же с Иннокентием VI и авиньонцами обошлись «опоздавшие» (Tard-Venus) — так сами себя назвали рутьеры 1361 г., несколько огорченные тем, что им приходится грабить земли, уже разоренные другими. Купцов обирали как на дорогах, так и в городе. Чтобы выжить, надо было без конца платить, и крестьянин, неспособный быстро найти деньги, трепетал при мысли о том, что его амбар скоро сгорит.
Усилия для обороны предпринимались только на местах. В 1355 г., когда нужно было прежде всего вновь вернуть солдат в армию и пресечь свободное передвижение по стране для бывших вражеских солдат, Иоанн Добрый разрешил подданным самозащиту. Через десять лет вопрос об этом больше не возникал: каждый знал, что должен рассчитывать лишь на себя.
Дело «большой компании» приняло другой масштаб после заключения мира: десятки компаний остались без занятия. Опасность стала серьезной, и попытались прибегнуть к сильнодействующим средствам. Папа объявил крестовый поход против «опоздавших». Некоторых рутьеров увел маркиз Монферратский, завербовав их для похода в Италию. Долину Роны на время окончательно избавила от них чума. Но основные силы этого отряда оказались в Лангедоке, где коннетабль Робер де Фьенн и маршал Арнуль д'Одрегем упорно их преследовали. Штаты Лангедока вотировали субсидию, позволившую набрать полторы тысячи «копий»[74] и три тысячи пехотинцев. Наняли даже побежденных в кастильской войне — несколько отрядов, которые Энрике Трастамарский, потерпев поражение от единокровного брата Педро Жестокого, тщательно собрал заново к северу от Пиренеев.
В конечном счете люди короля вступили в переговоры. Штаты Лангедока предпочли заплатить, чтобы рутьеры ушли, чем расплачиваться за то, что их не удается разбить. За деньги Сеген де Бадфоль и его люди — это была самая сильная из компаний — оставили Лангедок в покое. Но они двинулись в Лионскую область, Бургундию, Форе и повели себя там как обычно. Когда они хотели вернуться в Овернь, Энрике Трастамарский и Арнуль д'Одрегем перекрыли им путь.
В начале 1362 г. Иоанн Добрый попытался выработать единую стратегию. Возглавив армию, сформированную на основе бана и арьербана на угрожаемых землях и дополненную несколькими нанятыми компаниями, в том числе компаниями Протоиерея, Жан де Танкарвиль должен был оттеснить безначальные банды на юг, в то время как Одрегем сдержит их на северных границах Лангедока. Обе армии соединятся, и делу конец. Никто не осознал, что для взятия в «клещи» надо два сплошных фронта, а для создания сплошного фронт нужна численность войск, которую тогда было трудно даже и представить.
Ход кампании круто изменился. 6 апреля под Бринье, близ Лиона, французские рыцари попали в ловушку, какую хотели расставить сами, и были перебиты воинами-профессионалами. Жак де Бурбон, граф де ла Марш, и граф Луи де Форе погибли. Танкарвиль и Протоиерей попали в плен. Маршал Одрегем подоспел 9 апреля, опоздав.
Компании с удовольствием воспользовались победой. Конечно, Энрике Трастамарский по-прежнему вел с ними войну в Лангедоке, где его войск боялись почти так же, как и рутьеров; многие капитаны, которым таким образом не давали покоя, сочли слишком обременительным таскать за собой пленников, которых они взяли под Бринье, и наконец отпустили их без выгоды для себя. Однако некоторые были достаточно дальновидны, чтобы в связи с этим начать переговоры о новом найме на королевскую службу: это означало скрытое подчинение в обмен на гарантированную занятость. В том числе о найме в армию Энрике Трастамарского, набиравшего ее, чтобы вернуться в Испанию; для этого французский король выделил сто тысяч флоринов. Сделка была выгодной: отсчитали флорины, и рутьеры без труда нашли несколько предлогов, чтобы Энрике Трастамарский отправился на родину без них.
Таким образом, ситуация сложилась по меньшей мере неопределенная. Понятно, что осенью, чтобы без помех достичь Авиньона, Иоанн Добрый предпочел дорогу по левому берегу Роны, проходившую по землям империи. Французское королевство было небезопасным.
Тем временем Сеген де Бадфоль играл в свои игры в окрестностях Лиона. В сентябре 1363 г. он занял богатый город Бриуд, разорил Форе, захватил и обобрал аббатство Савиньи. Штаты Оверни заплатили огромный выкуп, чтобы он покинул эту провинцию. Он направился в Лионскую область и перерезал снабжение Лиона по Соне, заняв в начале ноября 1364 г. маленькую крепость Анс. Потом он сделал попытку сыграть двойную игру — более или менее откровенно предложил королю Наваррскому передать ему Анс, в то же время обещав жителям вернуть им город за сорок тысяч флоринов, которые бы ему выплатили в два приема. Карл Злой не любил, чтобы его дурачили: он пригласил Сегена де Бадфоля в Наварру, выслушал его жалобы и угостил отравленными фруктами.
Прекращение войн в Бретани и Нормандии первоначально, в 1365 г., привело только к росту численности бродячих компаний. Этот рост стал эхом успехов предыдущих лет. После Бринье никто уже не пытался избавиться от компаний. Поэтому рутьеры потянулись к центру Франции, в Овернь, Форе, Перигор. Сколько пострадало земель, где этих людей преследовать было трудно и где они без труда захватывали городок или торговый путь.
Но Карл V тоже наконец развязал себе руки. Англия не имела никаких причин возобновлять борьбу, во всяком случае, пока выкуп за короля Иоанна выплатили лишь отчасти. Можно было заняться другими делами. Король попытался одним ударом убить двух зайцев: избавиться от нежелательных компаний и вернуться к смелой внешней политике, оставленной в некотором пренебрежении первыми Валуа, не настолько уверенными в том, что их собственная корона прочно сидит на голове, чтобы надолго рисковать своими силами за пределами страны.
Первой мыслью был крестовый поход. Предшественники Карла V никогда не теряли его из виду, а Иоанн Добрый даже принял крест в период, когда у него хватало других забот. О походе думали, но, конечно, в поход не шли.
Однако Адрианополь только что пал, и османская угроза все плотней сжимала кольцо вокруг Венгрии. Урбан V, ощущавший опасность для Авиньона со стороны бродячих компаний и как раз заключивший в Италии мир с Бернабо Висконти, сеньором Милана, первым догадался направить бурную энергию компаний против турок. Король Кипра в 1363 г. уже пытался нанять некоторые из этих отрядов для боев на Востоке, но его план не получил особого развития. Сколько бы папа ни обещал этим шалопаям отпущение грехов, если они согласятся сражаться с турками, рутьеры сочли это дело слишком рискованным, а выгоду от него — временной и очень сомнительной. Может быть, зря им предложили в качестве цели Восток, а в качестве дороги море. И папа сделал новое предложение: в следующем году он предложил Центральную Европу и сухопутную дорогу. Император Карл IV, приезжавший в Авиньон на Троицу 1365 г., гарантировал свободный проход и снабжение припасами на дорогу.
Папа даже уверял, что такое вмешательство побудит греческого императора Константинополя, Иоанна V Палеолога, способствовать объединению церквей. Вновь надеялись покончить с расколом, начавшимся в 1054 г., во времена патриарха Михаила Керулария. Римский Запад со времен Первого крестового похода уже испытал в этом плане немало разочарований. Тем не менее можно было надеяться.
Папа и император, предлагая королю Франции это решение проблемы бродячих рутьеров, в то же время предложили возглавить новый крестовый поход… Протоиерею. И это никому не показалось смешным.
Карл V испытывал восхищение перед сыном того самого Иоанна Слепого, который, будучи королем Чехии, пришел, чтобы погибнуть как граф Люксембургский на поле сражения при Креси. Карл IV Люксембургский вскоре должен был принять на хорах церкви Сен-Трофим в Арле каролингскую корону — о которой часто не вспоминали веками — королей Арелата, сделавшую его сувереном этих мест, земель за Роной, жители которых всегда считали, что живут не во Франции, но охотно игнорировали власть императора. Французский король передал, что он бы с удовольствием исполнял там обязанности викария империи. Император уклонился от ответа.
Планы крестового похода так четко и не определились. Протоиерей снова отправился в походы, радея о собственных интересах. Он навел страх на Лотарингию, некоторое время повоевал под знаменем герцога Барского в войне с Мецем, взял с горожан выкуп в восемнадцать тысяч флоринов. Потом перебрался в Эльзас, жителей которого скоро встревожил приход «англичан», но они поставили его в вину императору, чье попустительство Протоиерею было двусмысленным, но известным. Карл IV не мог не вмешаться: он вытеснил рутьеров, и те обосновались в Бургундии. Арно де Серволь ловко прикинулся дурачком: разве его не просили идти к восточным границам христианского мира? А как туда добраться, не переходя Рейн?
Протоиерей теперь пытался выгадать повсюду. В этой опасной игре его предшественником был Бадфоль. Грабитель и в то же время пенсионер принцев, тут землевладелец, там главарь банды, так же бесцеремонно обращавшийся с наследством жены — ведь он женился, — как и с флоринами папы, всем дававший обещания и никогда их не сдерживавший, Арно де Серволь в конце концов стал никому не нужен. 26 мая 1366 г. его убили его же помощники.
Кастильский поход
Планы крестового похода Карл V преобразил в 1365 г. в одну идею — зарубежной экспедиции. Но на сей раз цель была ближе и должна была привлечь вояк, мало склонных рисковать жизнью в далеких землях. Речь шла просто-напросто о походе на Кастилию, чтобы свергнуть Педро Жестокого. Кастильский король, которого часто предавали его подданные, имел полное право на подозрительность, но его грубый и недоверчивый нрав в конечном счете отталкивал от него и самых верных. Уже всеобщей враждебности, окружавшей его в собственном королевстве, было достаточно, чтобы оправдать иностранную интервенцию. Педро уморил в тюрьме свою жену — Бланку де Бурбон, сестру королевы Франции. Это было доказано. Французская пропаганда не жалела красок: Педро I стал кровавым людоедом, метисом с еврейской кровью и сообщником гранадских сарацин…
Был и претендент на престол — Энрике, граф Трастамарский, сводный брат Педро Жестокого. Энрике был бастардом, но имел сторонников. Его вытеснили из Кастилии, но он уже получил возможность зарекомендовать себя в Лангедоке, на службе Валуа против рутьеров. Из него можно было сделать вполне приемлемого короля Кастилии.
Можно было также рассчитывать на союзника за Пиренеями — Педро IV Церемонного, короля Арагона, монарха едва ли менее свирепого, чем его кастильский сосед, но воздерживавшегося от того, чтобы обижать дам из рода Бурбонов. Из-за старого пограничного спора между Кастилией и Арагоном веками сохранялась враждебность, которую время от времени обостряли инциденты в ходе неизбежного соперничества на море.
Каждый пытался действовать как можно хитрей. Вечно безденежный арагонец получил возможность с помощью Франции финансировать войну; если с его помощью на престол возведут Энрике Трастамарского, он мог надеяться на уступку спорных провинций. Карл V принял контрмеры против англо-кастильского союза, который — Людовик Анжуйский, наместник короля в Лангедоке, не упускал случая напомнить об этом брату, — в случае возобновления конфликта в Гиени мог побудить Педро Жестокого бросить туда все свои силы. Людовик Анжуйский не верил в прочность мира, заключенного в Бретиньи, и не хотел, чтобы кастильцы появились по эту сторону Пиренеев. Подрывая власть Педро Жестокого, можно было уменьшить риск его интервенции во Францию. Естественно, лучше было бы заменить короля Кастилии ставленником французского короля. Тогда Кастилия и Арагон были бы на стороне последнего, если бы война в Гиени возобновилась. Нельзя забывать и о Карле Злом, который всегда мог повернуть Наварру против своего кузена Валуа, а вот изменение ситуации в Испании несомненно утихомирило бы его на время.
Планы «крестового похода» в Кастилию вызрели в течение 1365 г. Людовик Анжуйский в переговорах, которые вел в Тулузе с арагонскими посланниками, зашел очень далеко. Речь шла о совместном завоевании сначала Наварры, потом Гиени. То есть о действиях исключительно на благо короля Франции. Но Педро Церемонный потребовал, чтобы сначала покончили с Кастилией.
Для этого нужны были деньги. И, как обычно, обратились к папе. Урбан V с уважением относился к королю Кастилии; его заверили, что речь идет о финансировании крестового похода против гранадских мавров за счет десятины, которой обложат духовенство. Но было очевидно, что арагонская экспедиция, чтобы достичь Гранады, должна пройти через Кастилию… Папа не стал так глубоко вникать в суть вопроса: ведь компании по-прежнему угрожали Авиньону.
Нужен был и командующий. Карл V предложил кандидатуру Бертрана Дюгеклена, который, впрочем, был в плену у Джона Чандоса после поражения при Оре. Поэтому король Франции поручился за него, выплатил основную часть выкупа и официально поручил бретонцу увести за границы королевства компании, разорявшие Нормандию, Бретань и земли Шартра.
Причудливый состав имело командование этим крестовым походом. Папа и Арагон объединились с Францией, чтобы отправить в Кастилию отлученных нечестивцев. И никто не думал, что Дюгеклен через пять лет станет коннетаблем Франции. Но под началом этого «генерал-капитана» были маршал Одрегем, граф де ла Марш и сир де Божё!
Не менее причудливой была армия. В ней рядом с победителем при Кошереле можно было увидеть бывших победителей при Пуатье, таких, как Эсташ д'Обершикур, рутьеров из наваррской армии, расформированной в Нормандии, бывших участников бретонских войн. В общем, странное сборище висельников, наводившее на население такой же ужас, как во времена, когда французский король еще не собрал их вместе. Губернатор Бургундии Жан де Сомбернон даже не хотел их пропускать через свою территорию; он забыл, что это королевская армия. Вынужденный уступить, он велел «очистить всю провинцию» — иначе говоря, предоставил Дюгеклену идти по опустошенной местности. Города Конта-Венессен были переведены на осадное положение.
Первые компании к середине ноября были в Авиньоне, к концу месяца — в Монпелье. В Каталонии все оказались в январе 1366 г. 5 апреля готические своды Бургосского собора огласило пение «Те Deum» в честь коронации Энрике Трастамарского, короля Кастилии. Хватило двух месяцев, чтобы король Педро прекратил сопротивление. Дюгеклен одержал победу. Одним из первых приказов новый король сделал его герцогом.
Радоваться надо было поскорей. Вскоре настали горькие дни. 23 сентября Либурнский договор закрепил соглашение трех врагов Карла V. Черный принц набирал армию, король Наваррский обещал пропустить её через свои земли, Педро Жестокий передавал — при условии завоевания этих земель — Гипускоа и 200 тысяч флоринов Наваррцу, Бискайю и 550 тысяч флоринов — англичанину. Было нанято несколько компаний, еще бродивших по Лангедоку. Их сменило множество рутьеров, которых Дюгеклен водил в Испанию и которые уже отхлынули назад, полагая, что после слишком быстрой победы в их услугах более нет необходимости.
Черный принц был рад, что может помешать усилению французов с помощью войны, которая во всяком случае не ставила под угрозу приобретенное по миру в Бретиньи. Другим преимуществом было то, что все расходы оплачивал бывший кастильский король. Тем самым Черный принц без лишних расходов создавал для своего княжества Аквитании внешнюю политику; иллюстрацией этого стал пышный прием, который он устроил в Бордо королям Кастилии (Педро Жестокому) и Майорки, королю Наваррскому и герцогу Бретонскому.
Медлить не стали. В феврале 1367 г. англо-гасконская армия — в основном английская — прошла через Ронсевальское ущелье. Ей командовал лично принц Уэльский и Аквитанский.
Навстречу противнику выступила армия Дюгеклена и короля Энрике. Энрике не хотел, чтобы его предшественник снова укрепился в Кастилии. Но, как только речь зашла о столкновении, стратега не нашлось. Одрегем враждебно воспринял эту идею. Дюгеклен — не слишком благосклонно. Энрике настоял на своем решении, потому что был королем. Под Нахерой, на полпути между Памплоной и Бургосом, их разгромили. Кастильцы разбежались, рутьеры Дюгеклена были опрокинуты. Вечером 3 апреля 1367 г. Бертран Дюгеклен в четвертый раз в жизни попал в плен, а Энрике Трастамарский бежал; вскоре он появится в Монпелье.
По-настоящему Франция выиграла только в одном: рутьеры, погибшие под Нахерой, больше не вернутся грабить Лангедок. Но это было слабым утешением.
Англичане тоже немногое выиграли. Педро Жестокий был очевидно не в состоянии заплатить жалованье. Пришлось обложить налогом Гиень, где поняли, что внешняя политика — дело дорогое. Ряды победоносной армии поредели из-за дизентерии. Слег и едва не умер сам Черный принц; с тех пор его здоровье было подорвано, что сказалось на управлении Гиенью. Узнав, что Энрике Трастамарский в Лангедоке и договаривается с герцогом Анжуйским о нападении на Аквитанское княжество, где налог воспринимали все более болезненно, Черный принц решил, что в Испании он попросту теряет время.
Педро Жестокий как будто выиграл, но его триумф был недолгим. Кастилия не замедлила снова восстать против короля. Через два года в Монтьеле Энрике Трастамарский своими руками убьет сводного брата во время переговоров, которые оказались просто ловушкой.
Положение Дюгеклена было неопределенным. В Бордо, куда увез его Черный принц и где о выкупе долго не заговаривали, потому что для Гиени было бы лучше, чтобы он оставался в плену, он стал хорохориться и сам назначил такую цену выкупа за себя — сто тысяч флоринов, — что англичанин усомнился, не шутка ли это. Была ли эта непомерная сумма проявлением неуместной гордости? Конечно, нет. И другие капитаны — в частности, Ноллис — поступали подобным образом, назначая, даже до начала кампании, сумму выкупа, которую можно будет требовать за них. Такая практика была выгодной для профессиональных воинов, которые жили за счет своего ремесла и не позволяли себе скромничать, а то их цена могла упасть. Назначая за себя непомерный выкуп, Дюгеклен просто повышал тариф на свои будущие услуги.
Черный принц предпочел бы оставить пленника у себя, но пошли разговоры. Отказ принять выкуп за пленного, чтобы помешать ему снова сражаться, мало вязался с рыцарскими обычаями. Об этом напомнил сир д'Альбре: подобный отказ считается признанием в трусости.
Сошлись на шестидесяти тысячах флоринов — бретонец твердо отказался, чтобы его оценили ниже. Он был уверен, что король Энрике в конце концов победит, и рассчитывал, что половину выкупа заплатит Кастилия. Король Франции не мог отказаться выплатить другую половину. Впрочем, добавлял Дюгеклен, не будет затруднений, даже если суверены откажутся.
Хоть бы для этого пришлось прясть всем прядильщицам Франции.
Действительно, к этому делу подключились все. Половину выкупа оплатил король, за выплату остального дали поручительство Жанна де Пантьевр и некоторые другие дамы. В конце концов Дюгеклен сам оплатил все, возместив королю то, что ему выделила казна. От испанской авантюры у него осталось несколько сеньорий за Пиренеями. Он продал их королю Арагона.
Дюгеклен покинул Бордо 17 января 1368 г. Он прибыл в Лангедок, посовещался с Людовиком Анжуйским и Одрегемом и снова поставил свой меч на службу королю Энрике Кастильскому.
Французы и англичане сражались между собой в Кастилии только под флагом помощи союзникам. Карл V демонстрировал, с каким рвением он скрупулезно соблюдает условия договора в Бретиньи-Кале. Ничто не предвещало возобновления войны. К тому же французскую армию давно распустили.
Карл V хорошо понимал, что компаний, отправленных в Испанию, будет недоставать, если придется снова набирать армию. От грабителей избавились; теперь следовало создать прочное ядро из бывалых компаний, численность которых во время операций можно было бы удвоить. Ничего сложного — отбор будет произведен в Испании.
Это дело поручили графу д'Арманьяку, и оно было деликатным: и для него, поскольку он был вассалом англичанина, и потому, что к явным приготовлениям к войне было нежелательно привлекать внимание. В июле 1367 г. Жан д'Арманьяк был в Париже. В сентябре компании, выбранные в Испании, прошли через Ронсевальское ущелье. Карл V велел нанять тысячу «копий»; девятьсот из них набрали из вернувшихся компаний. Но этим дело и ограничилось. Жан д'Арманьяк, обратившись с жалобой на своего сеньора — Плантагенета к своему суверену — королю Франции, сыграет в процессе возвращения земель совсем другую роль, чем предполагалось. Но многие из компаний, которые вернулись в конце 1367 г. из Испании — и которых не хотели видеть в Лангедоке, где вовсю возобновились грабежи, — через два года оказались в армии герцога Анжуйского.
Просчеты Черного принца
Однако Карл V не спешил. Как некогда в отношениях с Этьеном Марселем, он имитировал добрую волю и рассчитывал только на ошибки противника. Он делал вид, что платит выкуп за Иоанна Доброго, он форсировал передачу территорий согласно договору в Бретиньи.
Теперь выплата выкупа за короля Иоанна означала освобождение последних заложников — Иоанна Беррийского, Пьера Алансонского и некоторых других. Были введены специальные налоги, чтобы выплачивать этот долг (косвенные налоги на потребление, очень непопулярные, потому что собирались как с бедных, так и с богатых) но они служили прежде всего для финансирования внутренней политики и для борьбы против компаний. В 1360 г. Эдуард III требовал из трехмиллионного выкупа всего четыреста тысяч экю, чтобы освободить Иоанна Доброго. Через пять лет, когда еще не выплатили и первый миллион, Карл V, укрепив монетную систему за счет стабилизации франка в апреле 1365 г. (такой франк просуществует двадцать лет)[75], предложил англичанам сроки платежей, которые старался выдерживать. Предполагалось выплатить миллион в 1366 г. и полтора миллиона в 1367 г.
Передача уступаемых территорий завершилась в 1362 г. Об отказах, предусмотренных в Кале (Эдуарда — от прав на корону, французского короля — от своего суверенитета над Гиенью) речи больше не заходило. Каждый рассчитывал извлечь преимущество из фактического состояния дел, как будто отражавшего правовое, не ставя заново под вопрос результат переговоров, что, казалось, сделать непросто. Мог ли Эдуард III — после Пуатье, после Нахеры — бояться восстановления французского суверенитета над Гиенью, суверенитета, сама память о котором стиралась? Когда он сообразил, какой юридический козырь тем самым оставил для Валуа, было поздно.
А ведь Аквитания уже роптала на Черного принца. Тем не менее он сделал ее личным фьефом: в силу жалованных грамот от 19 июля 1362 г. бывшее герцогство было возведено в ранг его княжества (principaute), так что оммажи принцу Уэльскому отныне приносили не как представителю его отца, короля-герцога, а как принцу Аквитанскому лично. Это было сделано для удовлетворения его запросов, но к сути дела имело мало касательства. Доблестный рыцарь, гениальный полководец, образец смелости и энергии, которым на полях битв столько раз восхищались свои и чужие, мог сколько угодно приказывать изготовить для себя большую печать, чеканить золотую монету и удваивать двор, но не имел ни средств для удовлетворения своих амбиций, ни, может быть, политического чутья, соответствующего новой ситуации.
Позволив себя обмануть Педро Жестокому, который должен был оплатить поход в Кастилию, расточая золото и серебро аквитанцев на содержание двора, в пышности которого он не хотел уступать Лондону, усложняя административный аппарат и повышая постоянные расходы княжества. Черный принц недооценивал политическую весомость печального финансового итога своих походов. Начав с административной независимости и дойдя до грани политической независимости, он не осознал важности их финансовой составляющей. Совсем как король, он имел печать «тронного типа» (en majeste), на которой изображался восседающим под балдахином, с короной на голове и скипетром в руке. Но Эдуард III принял принципиальное решение, что Аквитания больше не нуждается в английской казне.
Представление, которое составил о своей княжеской власти первый из рыцарей Подвязки, больше соответствовало феодальной иерархии Англии, где все зависело от короля, чем иерархии гасконских сеньорий, маленьких пиренейских государств на грани автономии, иерархии края, где еще сохранилась немалая доля собственности свободных крестьян, многочисленные «аллоды», не зависящие ни от одного сеньора, и даже несколько сеньорий, которые не были фьефами. Характер Черного принца, столь же властный и гневливый, сколь и великодушный, толкал его к деспотизму. Знакомство с бюрократической традицией англо-норманнской административной системы диктовало ему систематический подход к политическим реалиям. От него ускользал такой нюанс, как феномен партикуляризма. Ему не хватало широты взглядов, а вовсе не решимости, творившей чудеса в бою. Он был недостаточно проницателен и плохо понимал, что с княжеством ему надо обращаться осторожно. Ведь он там жил в ожидании, когда воцарится в Англии, не так ли?
В свое он время увидел, что к королю Франции аквитанцы относятся враждебно и готовы приветствовать его. Черного принца, приход к власти в Бордо. Но он тогда не понял, что аквитанцы не приемлют не Валуа, а королевскую власть, что они бунтуют не против фиска Иоанна Доброго, а против всякого королевского фиска. Гасконцы довольно спокойно терпели власть временных наместников, которых отправляли из Лондона Плантагенеты; теперь они с немалым трудом переносили этого неотлучного повелителя, говорившего свысока и стоившего дорого.
В этом княжестве, возникшем в результате раздела по договору в Бретиньи, у короля Франции были необычные сторонники. Они поспособствуют как юридической акции ликвидации договоров, так и военной акции. Они оставят принца Аквитанского без многих вассалов, предоставив Валуа капитанов, солдат и даже крепости.
Представителями многих аквитанских баронов, которые сознательно выступили — не просто из враждебности к Плантагенету — на стороне Валуа и которым предстояло стать одними из основных организаторов возвращения французских земель, стали два человека — Жан д'Арманьяк, уже упоминавшийся, и Рено де Понс. Сентонжский магнат сир де Понс служил Черному принцу до самой Нахеры. Еще в 1369 г. он был рядом с Джоном Чандосом. До времен Азенкура Рено де Понс станет одним из самых верных капитанов Карла VI.
Идея пересмотреть политическую ситуацию, созданную в Бретиньи, исходила не от Карла V. Как и в других делах, он не мешал событиям идти своим чередом. Эта инициатива исходила от крупных гасконских феодалов. На сессии в Ангулеме в январе 1368 г. Штаты Аквитании вотировали новую подымную подать: десять су с «очага» в течение пяти лет. Как и в Штатах, которые в Париже или Тулузе собирали Валуа, в ангулемском собрании участвовали не все, кто имел на это право. Небезопасность дорог побудила некоторые города не посылать депутатов, из-за нежелания не приехали и некоторые бароны. В числе последних были Жан д'Арманьяк и его племянник Арно Аманьё д'Альбре. Они заявили, что решение, принятое в Ангулеме, их не касается и что у них собирать подымную подать не будут.
Принц Аквитанский попытался убедить Арманьяка. Напрасные старания — подымная подать была всего лишь предлогом. Строптивый барон ответил, открыто насмехаясь над сеньором: он так беден, что не может ни есть досыта, ни дать приданое дочери…
Насмешку сменила угроза. Арманьяк не допустил людей принца собирать налог в своем фьефе только после того, как посоветовался с юристами — знатоками как канонического, так и гражданского права. Он поинтересовался даже мнением богословов. Это значило, что дело не в десяти су с очага. Принц Аквитанский настаивал, чтобы во владениях Арманьяка взимали налог. Если бы он уступил, в его княжестве больше не осталось бы ни одного податного.
Феодальное право не исключало, что у вассала могут быть разногласия с сеньором. Жан д'Арманьяк апеллировал к своему сюзерену — королю Англии. Потом, не дожидаясь результатов следствия, которое велел начать Эдуард III, он решил, что его сюзерен уклоняется от выполнения своих обязанностей.
Гасконские апелляции
Вот когда Эдуард III мог пожалеть, что обмен отказами не состоялся. Формально Карл V по-прежнему был сувереном Аквитании, выше герцога-короля. Жан д'Арманьяк это хорошо знал, и сир д'Альбре тоже.
Чтобы приехать в Париж, у обоих баронов был удобный повод. 4 мая 1368 г. Арно Аманьё д'Альбре женился на сестре королевы Жанны де Бурбон. Жан д'Арманьяк был как дядей жениха, так и кузеном невесты по второй жене. На свадьбе был весь двор: можно было говорить о делах Гаскони, не привлекая внимания.
Решительность Жана д'Арманьяка озадачила Карла V и его советников. Поощрить его апеллировать к суверену, принять его апелляцию значило порвать с духом Бретиньи в одной из его важнейших составляющих — признании суверенной независимости плантагенетовской Аквитании. До тех пор вопросов по этому поводу почти не возникало. Теперь нужно было решать. Прежде всего следовало понять, хочет ли Франция реванша, хочет ли она его в данный момент, есть ли для этого средства. Конечно, прием апелляции или отказ от этого теоретически были только формальными решениями: это не означало ни признания правоты апеллянта, ни его неправоты. В данном случае больше политического значения имело немедленное решение, чем приговор, который потом вынесут судьи. Отказать в приеме апелляции значило окончательно отречься от всякого суверенитета над землями, утраченными в 1360 г. Вступит в силу срок давности. Прием же означал войну.
Черный принц уже набрал несколько отрядов для борьбы с мятежниками, которых с появлением сборщиков подымной подати становилось все больше. В Париже понимали, что это значит.
Карл V все-таки посоветовался с юристами. Одно дело — дух Бретиньи, другое — буква, а она позволяет принять апелляцию. Юристы и бароны были единодушны: король не только может, но и обязан ее принять. Карл V не вправе уклониться от долга вершить суд, как надлежит суверену. Позже он напишет:
Если бы мы отказались принять их прошение, это был бы отказ совершить суд, и они получили бы законное право искать другого суверена.
Все шло к разрыву. 1 июня за рентный фьеф от казны Арно Аманьё д'Альбре принес королю Франции «тесный» оммаж — иными словами и несмотря на все юридические оговорки относительно прежних оммажей, это означало публичное признание, что в случае конфликта сир д'Альбре окажется на стороне Валуа. А ведь никто не мог думать, что Арно Аманьё пожертвует своей сеньорией. Значит, Плантагенету останется выбор — потерять часть княжества или завоевать ее с оружием в руках. Пока что Арно Аманьё оказал королю несколько услуг в борьбе с компаниями, вернувшимися из Испании и дошедшими до парижского региона. Никто не обманывался. «Тесный» оммаж был принесен для достижения целей в Аквитании.
30 июня Карл V созвал Совет во дворце Сен-Поль. Присутствовали герцоги Беррийский и Бургундский, высокопоставленные чиновники, чиновники ведомства двора, нотабли парижской мантии, такие, как президенты парламента и прево Парижа Юг Обрио. Обсуждали мало — решение уже назрело. Проголосовали. Тридцатью шестью голосами из тридцати шести было постановлено, что апелляцию следует принять.
Юристы Карла V дошли даже до цинизма. Жан де Марес, Симон де Бюси, Пьер д'Оржемон и некоторые другие составили официальный акт, еще некоторое время остававшийся конфиденциальным, который уточнял позицию короля Франции: прежде чем открыто разорвать мир, ждали неизбежной английской реакции. Если отказами, предусмотренными в 1360 г., не обменялись, то якобы только по вине англичан.
В случае, если по причине принятия оной апелляции король Англии или принц, его сын, объявят войну нам или апеллянту, чего они не должны делать с учетом мира, нам отнюдь не следует отказываться от юрисдикции и суверенитета над герцогством Гиенским.
Арманьяк и его друзья вовсе не рассчитывали, что от них когда-то могут отступиться. Они отвергли своего сеньора-принца, но король Франции обещал им никогда не отказываться от своего суверенитета над их землями. Все члены Совета должны были поклясться на Евангелии, что никогда не посоветуют совершить такой отказ. Удивительное дело: даже братья короля, герцоги Беррийский и Бургундский, принесли эту клятву на случай, если унаследуют престол.
Уверенная в королевской поддержке и рассчитывающая на обещанные деньги, партия апеллянтов не замедлила вырасти, все так же балансируя между настоящим неприятием подымной подати и подходом к ней как к фискальному предлогу для восстания против англичан. Каждый барон и каждый город воспринимали проблему по-своему. Одним, видевшим в Плантагенете правителя, пришедшего к власти в результате поражения, казалось, что само провидение предоставляет удобный случай. Жители Ла-Рошели, Каора, Перигё в большинстве никогда не считали англичанина законным сюзереном. Другие, кого волновали мысли об относительной независимости (например, Аршамбо, графа Перигорского) и кто тем легче приспосабливался к верховной власти, чем дальше она была, предпочитали управление из Парижа, чем из Бордо.
Третьи, наконец, считали политическую ситуацию неясной, и им казалось, что для ведения дел выгодней сохранять статус-кво, чем идти на риск конфликта, всегда парализующего дела. Бордоские бюргеры за два века привыкли, что один король у них в Лондоне, потому что он герцог в Бордо, а другой король — в Париже, потому что он король для их герцога. Таким образом, апелляция гасконских баронов только запутывает ситуацию, в которой можно было бы не оказаться, если не задаваться некоторыми вопросами. Многие бордосцы считали это положение вещей естественным, потому что не новым, и прежде всего думали о том, от чего зависело процветание города: о торговле вином из всего бассейна Гаронны со всеми землями Северного моря.
И потом. Бордо впервые стал по-настоящему столицей государства. Прежние герцоги Аквитанские до времен Алиеноры имели основную резиденцию в Пуатье. Теперь, когда усложнение центральной администрации вынуждало каждого монарха размещать органы своего правления и суда в каком-нибудь городе, у Бордо появилось новое основание именоваться метрополией. Администрация, суд, финансы в основном располагались в самом сердце города, в замке Омбриер. Появлялись новые служащие — как у нового государства, так и у тех, кем управляли, у тех, кто подлежал суду, кто платил подати. Эта служба приносила свои выгоды, причем всем слоям населения, всем ремесленным цехам. Подъема Парижа в течение века, подъема Авиньона за пятьдесят лет было достаточно, чтобы просветить бордосцев. С этой стороны апеллянты едва ли могли питать надежды на поддержку.
Зато другие шли по стопам Жана д'Арманьяка, и прежде всех Альбре, который наконец окончательно решился и 8 сентября заверил у двух нотариев свое заявление об апелляции. Его примеру последовал Аршамбо Перигорский. К апеллянтам примкнул город Родез. 3 декабря Карл V написал всем городам Аквитании, чтобы оправдать свое решение; по сути, он призывал их к новым апелляциям, ловко обратив против Черного принца аргументы, так часто использовавшиеся против власти Капетингов и Валуа.
Наш племянник принц Уэльский повелел взимать с них подымную подать без их согласия и обложил край постоянной повинностью вопреки их старинным вольностям и привилегиям, каковые должно соблюдать и хранить в силу того же мирного договора.
Вольности, привилегии — для бюргеров и мелких сеньоров это были не пустые слова… За три месяца о подчинении королю Франции объявили восемьсот городов и бургов.
У Карла V были свои юристы. Впрочем, герцог Ланкастер не упускал случая съязвить: «Это не мудрый король, это адвокат!» Но этот дотошный король хотел быть уверенным, что ему не льстят, этот осторожный король старался убедиться, что другие юристы не говорят обратного. Он обращался за консультацией к юристам из университетов Тулузы и Монпелье. Получали запросы даже болонские магистры. Может быть, свое мнение высказывали и специалисты по каноническому праву из папской курии.
В то же время король искал консенсуса в политике. Он писал разным монархам, прося их излагать у себя французскую точку зрения. С этой просьбой он обращался в Лотарингию, Савойю, Брабант. Граф Фландрский Людовик Мальский воздержался от того, чтобы втягиваться в это дело, — неявно одобряя короля, от сотрудничества он тем не менее отказался:
Полагаю, у Вас в распоряжении есть и всегда будут столь столь благие и зрелые советы, чтобы Вы хорошо знали, что Вам должно делать. Касательно же того, чтобы сие показывать и обнародовать в моей стране и в моих городах… мне кажется, что не следует обнародовать подобные вещи для людей, каковые в этом ничего не понимают и не знают, что из этого может воспоследовать. Коль скоро это люди грубые и простые, таковое обнародование, думаю, не было бы благотворным для оного.
Карл V не настаивал. В отношении Фландрии главной его заботой было другое. В сентябре 1368 г. граф Людовик Мальский отдал — довольно неохотно — свою дочь и наследницу Маргариту за герцога Филиппа Бургундского. Фландрия переходила под руку Валуа.
Тогда же король Франции развил успех за Пиренеями, ведь там у него был должник, который мог стать самым ценным из союзников. Энрике Трастамарский решительно вступил в союз с Францией. Его победа несколько месяцев спустя позволит Валуа выиграть в деле, казавшемся весьма рискованным. Поэтому к началу 1369 г. у Карла V от Эбро до Шельды имелись силы, чтобы противостоять английской мощи. 28 декабря 1368 г. расширенный Совет — сорок восемь принцев, баронов и чиновников — констатировал, что можно продолжить процедуру.
Сенешаль Пьер-Раймон де Рабастан, уже несколько дней назад подготовивший повестку в суд, отправил из Тулузы двух королевских чиновников.
Одним из них был Бернар Пало, легист, доктор права и судья сенешальства, другим — Жан де Шапонваль, рыцарь, который прежде служил в должности бальи и знал феодальное право.
Черный принц был болен. После Испании и дизентерии победитель при Пуатье был обречен часто оставаться в постели. Ему зачитали повестку, вызывавшую его в Париж, на королевский суд, на ближайшее 2 мая. В комнате повеяло яростью. Принц приподнялся на подушке, посмотрел в угол, где стояли посланцы короля, и призвал в свидетели окружающих:
Мне кажется, судя по тому, что я вижу, французы считают меня мертвым. Если Бог укрепит мои силы и я смогу встать с этой постели, я причиню им еще немало неприятностей.
Обычный гонец отвез в Париж ответ:
Мы непременно явимся по вашему приказу, но в бацинете и со всей нашей ратью.
Другой гонец обогнал Пало и Шапонваля, которые возвращались, не посмев попросить пропуска. Сенешаль Ажена велел их арестовать и казнить.
Карл V не преминул воспользоваться — и поручить своим платным перьям это сделать — этим поступком, откровенно нарушавшим дипломатические обычаи, пусть даже Черный принц пытался оправдаться, утверждая, что оба посланца были наказаны за кражу лошади и вообще не имели пропусков. Через девять лет французский король даже расскажет об этом деле во всеуслышание своему дяде, императору Карлу IV. В свою очередь искажая реальность, автор «Сновидения садовника» — один из легистов Карла V — не побоялся сделать жертв «двумя важными особами из Совета» и использовать печальную историю Пало и Шапонваля, чтобы написать черной краской картину преступлений, приписываемых принцу Аквитанскому:
Оный Черный принц обходился с подданными Гиени сурово, налагая на них подати, талью, габель и многие иные экстраординарные налоги, невыносимые и противные рассудку, без уведомления и дозволения короля, своего верховного сеньора. И он уже словно навсегда поработил край Гиень, ибо без объяснения причин и безрассудно присваивал все его владения и части, сажал их [подданных] в заключение и творил им всякий прочий ущерб без числа. Когда же он замечал, что оные подданные желают апеллировать на таковые посягательства, он велел их умерщвлять или калечить, сажать в заключение либо претерпевать иное весьма жестокое обращение.
Разрыв договора, заключенного в Кале
Эдуард III сразу же понял, что от возобновления войны может все потерять. Уже в период между заключением соглашений в Лондоне и Бретиньи стало понятно, что уступки в последнем — предельные, на которые может пойти король Франции. Пытаясь добиться большего, англичанин рисковал тем, что ему пришлось бы завоевывать Францию замок за замком. Зато пересмотр договоров мог его лишить всех приобретений от победы 1356 г. Поэтому Эдуард попытался не допустить войны. Он отправил посольство в Париж для обсуждения вопроса, насколько обоснованным было принятие апелляций. Заодно он тогда же потребовал, чтобы завершили передачу территорий — было несколько спорных моментов, в частности, относительно Монтре-сюр-Мер, — и чтобы наконец заплатили выкуп.
После освобождения принцев в Лондоне остались заложники низшего разряда, простые рыцари и горожане, в отношении которых король Франции теперь считал, что выгодней их оставить там, где они есть. И Эдуард III почувствовал себя одураченным. Он убедился, что выкуп был плохо гарантирован, потому что свободе заложников значения не придавали. Добавим, что заложники понемногу умирали от старости и что Карла V в последнюю очередь волновал вопрос возмещения их численности в Лондоне.
Пришедший в январе 1369 г., как раз когда сенешаль Тулузы вызывал Черного принца в суд, ответ французской стороны оставлял мало надежд на сохранение мира, Карл V в счет невыплаченного выкупа включал убытки, которые Франции после заключения мира причинили английские наемники, оставшиеся без дела. Это правда, что недоброй памяти компании в немалой степени состояли из бывших солдат Черного принца, участников боев при Пуатье и Нахере. Но аргумент был новым. Эдуард III с полным основанием увидел в этом знак, что время доброй воли прошло. Однако он ухватился за самую очевидную возможность: он соглашался на урегулирование территориальных споров, которое предлагал король Франции, невыгодное для Плантагенета, но благодаря преимуществам, которые оно давало Валуа, позволявшее надеяться, что еще можно будет вести переговоры и избежать войны.
Эдуард III осознал, что зря в течение этих восьми лет забывал об обмене отказами, благодаря чему теперь Карл V был на коне. Он предложил наконец произвести этот обмен, добавив, что готов согласиться на арбитраж короля Франции в споре между принцем Аквитанским и его мятежными вассалами, лишь бы Валуа выступил в роли арбитра, а не судьи, разбирающего апелляцию. Эдуард жертвовал настоящим, чтобы спасти будущее. Его предложение осталось без ответа. Карл V не попался на удочку. Ведь он как раз искал войны.
Кстати, он готовился к ней энергично и прежде всего наполнил казну. В феврале 1369 г. Штаты Лангедока вотировали субсидию. В Лангедойле каждый триместр взимали подымную подать, вотированную шесть лет назад, чтобы платить компаниям за уход из местности. Такие налоги, как габель на соль, эд на вино и товары, собирали по-прежнему — официально на выкуп Иоанна Доброго. Но больше уже никто не отказывал французскому королю в средствах на управление страной. Налог по-прежнему взимали «делегаты» образца 1355 г., но после падения Этьена Марселя это были исключительно королевские чиновники. Никого не обманывало слово «экстраординарный», каким продолжали называть налог: Карл V создал на местах постоянную администрацию для оценки базы обложения, взимания налогов и их распределения. Финансами управляли «генералы по вопросам эда, введенного для войны». Казначеи и военные казначеи, выбранные как компетентные администраторы и финансисты — Жан Ле Мерсье, Этьен Брак и некоторые другие, — обеспечат регулярную выплату жалованья войскам и, чтобы не тратить денег зря, реальный и почти постоянный контроль численности личного состава.
Восстановление стабильной монеты значительно облегчило набор в армию. Франк, введенный в 1364 г. и стабилизированный в 1365 г., с тех пор не колебался, и жалованье, которое предлагал французский король, осталось неизменным в течение всей войны. Франк делался из чистого золота и стоил двадцать су. Грош — из чистого серебра и стоил пятнадцать денье. Воины доверяли этим монетам.
Готовясь к войне, дошли даже до организации «военной подготовки» резервов. Провели перепись арбалетов. Король поощрял состязания по стрельбе из лука. Строго инспектировали состояние укреплений городов и замков.
Герцог Анжуйский уже сосредотачивал армию для войны на фронте Лангедока, герцог Беррийский — свою для войны на фронте Пуату.
Эдуард III накануне войны предпринимал не менее лихорадочную активность. Конечно, его старший сын не угрожал Карлу V явиться в Париж на суд с шестьюдесятью тысячами воинов, как рассказал Фруассар, пытавшийся, как он часто делал, сделать реплики своего героя покрасивей, но Черный принц был вынужден собирать сильную армию. Зимой из Англии были направлены подкрепления.
Более деликатным оставался вопрос денег. Эдуард III весной смог на всякий случай выслать довольно большую сумму — около 130 тысяч турских ливров — принцу Аквитанскому, чтобы позволить ему набирать солдат на материке, не прибегая к подымной подати, причине мятежа. Но английскому королю приходилось ежегодно объясняться с палатой общин, делавшей вид, что плохо понимает, как это независимая Аквитания, имеющая собственное правительство и свои ординарные и экстраординарные ресурсы, не может обороняться, не обрывая пуповины, связывающей ее с английским казначейством. Эдуард III ежегодно был вынужден добиваться разрешения, чтобы взимать налог с экспорта шерсти, дававший ему основной доход. Палата общин довольно плохо отнеслась и к испанскому походу. Как она воспримет идею новой войны за ту самую Аквитанию, в отношении которой английские купцы полагали, что она поглощает больше денег, чем приносит?
Ответ был получен в июне, когда депутаты уже констатировали, что король не в состоянии оспаривать их условия. За вотирование налога он должен был уничтожить «этап» в Кале, иначе говоря, допустить свободу внешней торговли. Потом эпидемия чумы, обрушившаяся на Англию летом 1369 г., на добрую четверть сократила доход от предоставленного таким образом налога, очень тесно связанного с экономической активностью. Положение исправилось только благодаря помощи папы: духовенство выплатило десятину.
В течение недель, остававшихся до войны, англичанин уже не знал, что делать, и мог сожалеть, что проявил в Бретиньи такую алчность. К моменту, когда Ланкастер был готов идти в Бордо с сильной армией — пятьсот латников и шестьсот лучников, — взбунтовался Понтьё. К тому времени легист Гильом де Дорман, брат канцлера и сам будущий канцлер Карла V, объехал эту область и вошел там в контакт с нотаблями Абвиля, Рю, Сен-Валери, Ле-Кротуа. 29 апреля Абвиль открыл ворота командиру французских арбалетчиков Югу де Шатийону, при котором было шестьсот «копий». Через неделю люди короля Франции контролировали весь Понтьё — землю, полученную Эдуардом III в наследство от бабки и признанную за ним в Бретиньи. Английские гарнизоны только и добились, что права свободно уйти, забрав свои вещи!
Дело провели так ловко, что оно сорвало все планы похода, составленные Эдуардом III. Французов ждали со стороны Арманьяка, а они появились в Абвиле. Король велел своему сыну Ланкастеру повернуть к Кале, над которым нависла угроза, и передал ему сто латников и всех лучников, которые предназначались для Аквитании. Другому сыну, Эдмунду, графу Кембриджу и будущему герцогу Йорку, было поручено вести в Бордо другую половину армии. Англичане разделили силы обороны. Инициатива перешла к другой стороне.
В Париже знали, что Черный принц болен. Прибытие Кембриджа в Бордо здесь рассматривали как смену командующего.
Насмешка? Учтивость? Формальность? 26 апреля Карл V выслал английским суверенам в дар пятьдесят больших бочек бонского вина. Вино прибыло одновременно с вестями из Абвиля. Эдуард III воспринял это очень плохо, вернув вино и судно обратно. Счел ли он, что король Франции хотел его оскорбить, отправив к нему в качестве посла простого виночерпия? Это маловероятно, но в Лондоне шли такие толки.
Дело апелляций подходило к развязке. 9 мая в верхней палате во дворце собрались Генеральные штаты. Присутствовали король и королева вместе с герцогом Бургундским и четырьмя другими принцами крови. Были также кардинал Жан де Дорман (канцлер), три архиепископа, пятнадцать епископов, аббаты, богословы, юристы. Добрые города отправили своих депутатов. Зал был полон. Отметили отсутствие принца Аквитанского.
Оба брата Дорманы, канцлер Жан и его брат Гильом, по очереди произнесли речи. Присутствующие выслушали длинный список претензий к англичанину. Потом слово взял король. Было ли это проявлением скромности либо особой щепетильности или же последней юридической формальностью перед тем, как будет принято необратимое решение, но Карл V попросил, чтобы собрание соблаговолило сказать ему: не сделал ли он «того, чего не следовало». Ассамблея должна была это обдумать до завтрашнего дня.
Прелаты и знать в самом деле собрались на следующий день, пришедшийся на Вознесение. Вновь слово взяли братья Дорманы, перейдя, наконец, собственно к предмету заседания — апелляциям. Когда таковые одобряли, королевские легисты высоко оценивали позицию городов, но когда оспаривали, оказывалось, что горожане не должны рассуждать о правах фьефов.
Король велел спросить мнение всех присутствующих, одного за другим. Никто не отступился: король Франции прав, англичанин неправ. В ситуации, сложившейся в мае 1369 г., друзья Плантагенета должны были оправдываться.
Штаты в полном составе были собраны в пятницу утром. Заслушали краткое сообщение, и добрые города присоединили свое одобрение к одобрению прелатов и знати. Зачитали английский меморандум, поступивший в январе, а также ответы, предложенные Советом. Все аплодировали. С энтузиазмом было принято решение отправить текст, излагающий возражения короля, папе и императору.
Каждый знал, что этот отказ от английских предложений означал разрыв договора, заключенного в Кале. На самом деле в Понтьё, как и в пределах Арманьяка, уже начались бои. Решение короля и вотум Генеральных штатов лишь формально подтверждали разрыв и отказ идти на переговоры.
Карл V сам завершил дебаты несколькими фразами, жесткое красноречие которых произвело впечатление на присутствующих. Самое меньшее, что можно об этом сказать, — что в отношении Понтьё был выбран нагло извращенный исторический ракурс:
Все то, что было совершено в Гиени и в Понтьё, совершено по закону и в соответствии с мирным договором, тогда как король Англии в Понтьё и принц Уэльсский в Гиени следуют путем войны и произвола.
Война будет, и виноват в этом англичанин. Король велел устроить крестные ходы во имя победы, отдал герцогам Анжуйскому и Беррийскому приказ перейти в наступление. И 30 ноября без малейшего стеснения провел через суд решение о признании вероломства аквитанского вассала, поднявшего оружие против своего сеньора, короля Франции. Суд вынес приговор о конфискации герцогства.
19 июня в монастырской церкви Сен-Бавон в Генте Филипп Бургундский, брат короля, сочетался браком с Маргаритой Фландрской. Пир был запоминающимся. Король предоставил свои виолы, граф д'Э — столовое серебро. Через век результат этого союза будет называться государством Карла Смелого. Пока что, несмотря на экономические интересы делового бюргерства, по-прежнему связанного с Англией, и на то, что Франция дорого за это заплатила, возвратив графству Фландрии три шателении, когда-то аннексированные — Лилль, Дуэ и Орши, — свадьба Филиппа Храброго и Маргариты Фландрской означала изоляцию Кале и закрытие Брюгге для английских судов.
Всем было известно, что Людовик Мальский сделал все, чтобы избежать свадьбы с французом. В свое время он обручил дочь с графом Кембриджем, и понадобилось вмешательство вдовствующей графини Фландрской, дочери Филиппа V, чтобы оттеснить англичанина. Разве не рассказывали, что гордая принцесса расстегнула корсаж перед графом Людовиком, своим сыном, и пригрозила отрезать себе грудь и бросить ее собакам, если Маргарита не выйдет за французского принца? Сколь ни сомнительна эта история, она вполне соответствует духу времени. Конечно, вдовствующая графиня никогда бы не бросила грудь собакам, но совсем не исключено, что она произнесла такие слова.
Более вероятно, что она лишила бы сына прав на наследование Артуа, а граф Фландрский имел на Артуа большие виды.
Знали также, что разрыва помолвки с англичанином не произошло бы без исключительной услужливости папы. Разрешив брак герцога Барского с француженкой, хотя родство жениха и невесты по закону его исключало[76], Урбан V рассудил, что родство между графом Кембриджем и наследницей Фландрии[77] не позволяет им вступить в брак. Вмешательство понтифика вызвало немало толков: Урбан V проявил пристрастность.
Эдуард III сделал все, чтобы избежать войны. Теперь он готовился к обороне. У него было мало союзников. Он никак не мог надеяться на то, чтобы реально получить выгоду. По крайней мере, подвернулся удобный случай выиграть одно очко. Перед парламентом, собравшимся в Вестминстере 3 июня 1369 г., он заявил, что вновь принимает титул короля Франции, от которого отказался в Кале в 1360 г. Старый спор о наследии Капетингов был прочно забыт, и уже давно не было речи о правах Изабеллы Французской. Эдуард III не добивался короны Франции, это был ответный ход. Даже не аргумент. Один успех, и инициативу можно перехватить.
В 1369 г. задача состояла уже не в том, чтобы дойти до Реймса, а в том, чтобы сохранить Аквитанию, потому что она была богатой и притом вотчиной Плантагенетов, а также удержать Кале, потому что этот плацдарм был полезен.
Джон Ланкастер только что от имени короля, своего отца, взял в свои руки оборону Кале. Он не мог знать, что в один прекрасный день его внук всерьез воцарится во Франции и в Англии. И что для этого представитель рода Ланкастеров велит казнить последнего из Плантагенетов — сына Черного принца и воспользуется безумием представителя рода Валуа — Карла VI.
Глава XI Возвращение земель при Карле V
Цена войны
Прежде чем начать отвоевание земель, потерянных отцом, Карл V обеспечил для войны ее нервы. Налоговую систему укрепили в 1363 г. за счет введения подымной подати, продолжая при этом взимать налоги на потребление, введенные для выкупа Иоанна Доброго, а на самом деле используемые для оплаты всевозможных военных нужд, войны с Наваррцем или борьбы с компаниями. В 1366 г. эту систему модифицировали: сумму подымной подати уменьшили, срок ее взимания продлили. Этот прямой налог, который первоначально обещали взимать год, уже пятый год как собирали, когда Карл V делал последние шаги к войне.
Подымную подать попытались заменить новым косвенным налогом, обложив им помол зерна. От этой идеи быстро отказались. В декабре 1369 г. Штаты Лангедойля довольствовались тем, что вновь без ограничения срока вотировали подымную подать и налоги на потребление. Король был хозяином своих финансов. Фактически у него был постоянный налог.
На смертном одре Карла V, размышлявшего перед короной Франции, охватят сомнения. Насколько обосновано право короля так облагать своих подданных? Своим последним актом Карл V обречет на разорение правительство ребенка Карла VI, отменив подымную подать.
Если в Лангедойле принципиально разрешили взимать налог неограниченное время, а Штаты Лангедока — взимать в течение года, это ничуть не означало отмены прежних торгов. Каждый город, каждая провинция упорно торговались о сумме налога.
Все они пытались схитрить, сделав упор на базу налогообложения: сенешальство Каркасон, ссылаясь на опустошения, причиненные компаниями, добилось в 1370 г., чтобы в его составе считали не 90 тыс. очагов, а всего 35 623. Каждый отстаивал свое, и численность очагов по Лангедоку в целом уменьшилась с 210 тыс. до 83 тысяч. Надо ли говорить, что эти очаги не имели ничего общего с реальными очагами, с дымящимися каминами. Единицей раскладки стал «условный очаг» (faisant feu). В городе Альби, еще недавно насчитывавшем 1 333 очага, отныне их было 140: это просто-напросто значило, что жители Альби должны платить 140/83000 от суммы, вотированной Штатами Лангедока. Чтобы «сильный нес слабого», то есть реальная раскладка налога между жителями в какой-то мере учитывала имущественные различия, надо было постараться самим альбигойцам.
Спорили просто о сумме, назначаемой на год или на несколько лет. Лучшим оправданием для ее снижения был военный набег — или град. Даже самые неуступчивые из королевских чиновников знали, что остается от производительных сил в местах, где проходит армия, совершающая поход. После набега Ноллиса в 1370 г., после набега Ланкастера в 1373 г. прошли волны отсрочек, сокращений, снижений налогов.
Налог платили либо натурой, либо услугами. Если город ремонтирует стены или восстанавливает свой замок, укрепляет свои ворота или приобретает стрелковое оружие — все это было поводом для сокращения денежной суммы, которую он должен выплачивать королю. Ведь нужно было компенсировать затраты. Рвение и верность тоже были достойны поощрения. Люди короля очень хорошо знали, что с некоторыми городами надо вести себя осторожно.
На местах не всегда просили снижения налогов. Карл V без стеснения добивался, чтобы податные сами платили за свою безопасность. Одно дело — оплачивать нужды королевства, другое — платить за то, чтобы защищали вас самих. Подданные короля, на территории которых шла война и которые знали, чем грозит им разорение, часто сами просили о дополнительной налоговой нагрузке, лишь бы иметь полную уверенность, на что будут использоваться собранные средства.
Так, Штаты Нормандии без колебаний год за годом вотировали необходимые суммы, чтобы королевская армия могла взять Сен-Совёр-ле-Виконт, крепость на полуострове Котантен, английский гарнизон которой создавал постоянную угрозу для всей Западной Нормандии. Чрезвычайный налог, собранный пять раз, позволил нормандцам оплатить пять осад крепости. В конечном счете они заплатили пятьдесят пять тысяч франков, чтобы англичане ушли сами.
Самым тяжелым бременем для городов было содержание городской стены. Ее строили, чинили, укрепляли со времен Филиппа VI. Но понадобилось несколько лет, чтобы городские власти поняли: когда пришел враг, поздно проверять состояние ворот. Чтобы во время войны оборона была надежной, о ней следовало постоянно заботиться в мирное время. Эшевены и консулы усвоили это. Эдуард III, Ланкастер и Черный принц научили этому нормандцев и пуатевинцев, равно как Карл Злой и Дюгеклен. «Жаки» дали урок парижанам. Протоиерей и ему подобные сделали то же для лангедокцев и овернцев.
Многие города во время демографического роста расширились за пределы своей крепостной стены. Некоторые, как Париж, продолжали расти благодаря исходу населения из села, и бедствия едва сдерживали этот исход. Все эти города, у которых «за городской чертой» находились целые кварталы, знали, что им надо выбирать: жертвовать этими кварталами или укреплять их. Но даже обычное содержание стен в исправности порой было слишком обременительным для горожан. Тулузцы не пожелали использовать для починки стены хорошие кирпичи, как следует обожженные в печи, и довольствовались глинобитными постройками, хотя знали, что те осыплются на солнце и оплывут под ливнем.
Осознанию суровых военных нужд поспособствовал и король: ордонанс от 19 июля 1367 г. предписал настоящую «национализацию» крепостей. Владельцы укрепленных замков должны были привести их в состояние, позволяющее выдержать осаду, запастись провиантом и боеприпасами, приобрести стрелковое оружие, и все это за свой счет. Если они не могли этого сделать, им следовало снести высокие стены, чтобы враг не смог ими воспользоваться, после того как без труда их захватит. Можно догадаться, чего это стоило множеству мелких сеньоров, которые уже были измотаны экономическим кризисом и которых новые политические нравы часто вынуждали приобретать «вторую резиденцию» в Париже, Руане или Тулузе.
Что касается городов, то ордонанс Карла V предоставлял им выбор: включить предместья в состав города либо снести их. Владельцам этих домов, которые сожгли или разрушили, потому что те предоставляли дармовое укрытие для любителей подкопов или эскалад, позже компенсировали их стоимость.
В том же 1367 г. Карл V отправил свое доверенное лицо, Этьена дю Мустье, инспектировать крепости Нормандии. Бальи, со своей стороны, вместе с экспертами объехали свои потенциальные районы обороны. Когда, наконец, в 1370 г. разразилась война, военный казначей Жан Ле Мерсье все еще продолжал осмотр Нормандии.
Похоже, королевские стратеги первоначально различали два фронта — наступательный в Аквитании и фронт английских набегов, которых всегда можно было ждать из Шербура или Кале. Но ни одна область не могла быть уверенной, что маршрут такого набега не пройдет через нее.
Кампания, на которую пришлась битва при Креси, едва не дошла до стен Парижа. А ведь столица уже давно вышла на севере за пределы своей стены, то есть стены Филиппа Августа, оставив без всякой защиты на севере, западе и востоке «большие улицы» Сен-Дени и Сен-Мартен, Сент-Оноре и Сент-Антуан. От окрестностей Лувра до окрестностей дворца Сен-Поль Париж XIII в. был окружен поясом новых кварталов, и все больше домов вырастало вдоль Фландрской или Вексенской дорог, за старыми воротами, которых уже никто не мог бы запереть и названия которых уже становились просто парижской топографией.
Эта ситуация постоянно беспокоила чиновников, отвечающих за порядок, ведь жители предместий были подвержены панике и по любому поводу устремлялись в центр города, где дома, опустевшие после Черной чумы, очень быстро заселялись новыми парижанами. В 1360 г. Жан де Венетт с тревогой видел своими глазами, как жители трех крупных бургов левого берега — Сен-Жермен-де-Пре, Сен-Марселя и Нотр-Дам-де-Шам — покидают свои жилища и оставляют мебель, чтобы переселиться в тесноту Парижа.
Этот город, который был сжат старой окружной стеной как неудобным корсетом и порой должен был жертвовать окружающей городской застройкой — Сен-Жермен-де-Пре отчасти разрушили, — не мог вновь обрести внутреннего равновесия, не удвоив обороняемой площади. По инициативе энергичного прево Юга Обрио на правом берегу возвели новую стену — тем хуже было для Сен-Жермен-де-Пре, — которая отныне защищала кварталы, важные для поддержания как административной и политической деятельности, так и для экономического выживания города. Известны были богатые отели принцев и нотаблей-сановников, расположенные ниже по течению Сены вокруг Лувра и выше, близ королевской резиденции Сен-Поль. Теперь под защитой оказались и дома тысяч ремесленников и лавочников вдоль Пикардийской дороги, Фландрской дороги и дороги на Эно, за воротами Монмартр, Сен-Дени и Сен-Мартен.
Наконец, в новых «хороших кварталах» у ворот Барбетт и ворот Шом парвеню, разбогатевшие на управлении финансами и на войне, выкроили себе участки, чтобы построить резиденции, какие в слишком плотную застройку вокруг Сены и «Перекрестка Парижа» в старом городе вписать было бы нелегко. Дворец Барбетт оставил свое название в истории, когда был убит Людовик Орлеанский, выходивший оттуда после визита к королеве Изабелле. Дворец Клиссон оставил в парижском пейзаже XX в. силуэт двух своих башенок рядом с нынешним зданием Национальных архивов.
Это решение, которое утроило население правого берега, не увеличив населения левого, будет чревато последствиями для Парижа. Отныне городом финансистов, чиновников, суконщиков и менял был правый берег. Его называли просто «Город» (la Ville). Правый берег был «Университетом», населенным клириками, магистрами, адвокатами, книготорговцами, пергаментщиками.
Обрио довершил свое дело, начав возводить за счет короля, напротив Шампанской дороги, бастиду Сент-Антуан, из которой потомки сделают Бастилию. Первый камень, не без торжественности, заложили 22 апреля 1370 г. Составив на востоке пару для донжона Лувра, восьмибашенная Бастилия была прежде всего укрепленным пунктом на Венсенской дороге. Она защищала ворота, которые гарантировали безопасность короля. Англичане были тут ни при чем. Лишь память об Этьене Марселе объясняет, почему выходу с большой улицы Сент-Антуан было уделено такое внимание. Отсюда, пустив коня в галоп, король мог быстро укрыться в здании, которое было одновременно самой надежной из крепостей и самой приятной из резиденций — в Венсенском замке, где он родился.
Организовав тем самым систематическую пассивную оборону того, что удалось спасти от катастрофы в Бретиньи, Карл V чувствовал себя защищенным от сюрпризов. Оставалось сформировать армию для отвоевания земель. Армия Иоанна Доброго, наполовину феодальная, наполовину наемная, достаточно доказала свою несостоятельность — трусость и прежде всего недисциплинированность, — чтобы Карл V не счел первым условием для возвращения земель, потерянных в 1360 г., создание обновленной армии, набранной и организованной на новых основах и способной к новой стратегии.
Планы высадки десанта
Одно время французы подумывали поразить империю Плантагенетов в самое сердце. Старая идея высадки десанта в Англии, которую лелеял еще Филипп Красивый, вновь ожила по заключении союза с Кастилией. Флот короля Энрике Трастамарского был готов выйти в Ла-Манш. Надеялись, что шотландцы и валлийцы при этом не упустят возможности восстать. В таком случае, чтобы Аквитания пала, не понадобилось бы огня и меча, а значит, новых разрушений. Размаха приготовлений, которые с весны 1369 г. распорядился начать Карл V, было достаточно, чтобы показать значимость замысла: король Франции хотел не просто устроить диверсию, чтобы облегчить задачу будущего Аквитанского фронта. Он хотел напасть непосредственно на английский престол. Валуа понимал, что удар по Лондону гораздо быстрей принесет результаты, чем постепенный подрыв аквитанских позиций Черного принца. Тем самым Карл V «быстро дарует мир» Французскому королевству.
Состояние королевского военного флота было не блестящим. В нескольких портах стояли корабли, которые могли бы обеспечить свободу торгового мореплавания в ограниченном районе. В основном последствия удара, нанесенного при Слёйсе флотом Эдуарда III, не были восполнены. Карл V совершил усилие для этого, приказав оснастить пять галер для охраны побережья Лангедока и еще пять для нормандского побережья. Он вступил в контакт с Гримальди, сеньорами Монако, которые предложили несколько кораблей и — хоть их репутация во Франции упала после Слёйса и Креси — незаменимых генуэзских арбалетчиков. Кроме того, взяли на службу одного арагонского адмирала. В то же время активизировали работу Галерного двора в Руане. Но все зависело от кастильской помощи.
Тем не менее проект с самого начала был обречен на провал. Французы никогда не были в Англии и строили какие-то иллюзии относительно приема, который может им оказать англосаксонское население. Оливье де Клиссон, о котором можно вспомнить, что он вырос за Ла-Маншем вместе с будущим герцогом Бретонским, верно сказал Совету:
У них нет того опыта и навыка, чтобы идти в Англию и вести там войну, как у англичан — чтобы пересекать Ла-Манш и являться во Францию.
Заключенные французами союзы были поспешными. Новый король Кастилии был должником Карла V, но у него еще хватало дел в своей стране, чтобы вести войну вдалеке от нее. Шотландцы заключили с Англией перемирие, достаточно выгодное, чтобы не ставить его под вопрос так быстро. Многие валлийцы устали от войны. Король Франции несколько легкомысленно прислушался к сторонникам войны во что бы то ни стало, заинтересованным в войне с Англией: отдельным шотландцам, отдельным валлийцам в изгнании, таким, как князь Оуэн. Он прислушался к мнению тех, кто — вполне обоснованно — ожидал высадки английской армии и полагал, что лучше опередить врага и начать наступление первыми. А согласно такой гипотезе могло показаться, что лучше разорять английское село, спасая города и деревни Франции.
Налет англичан на Шеф-де-Ко — Сент-Адресс близ Гавра — в июле 1369 г. укрепил тех, кто считал, что срочно нужно переходить в наступление, в этой мысли.
Командование экспедицией было поручено Филиппу Бургундскому. Бюджет, выделенный ему, позволил нанять тысячу «копий». Рядом с арагонским адмиралом Перильосом были шкипер из Монпелье Жан Коломбье, который бывал на Ла-Манше, и Этьен дю Мустье, уже отвечающий за королевские верфи Галерного двора и Арфлёра. Для руководства финансами экспедиции до и после «переправы» «секретарем морского воинства» назначили менялу государственной казны Пьера Суассонского. Смотритель Галерного двора Ришар де Брюмар имел особое поручение контролировать стрелков.
Корабли, реквизированные во всех портах Ла-Манша, собирались в Арфлёре и в Лёрре — будущем Гавре, а берега устья Сены превращались в гигантский склад, куда поступали кони, боеприпасы, посуда, еда и питье на пять-шесть тысяч человек, которых ожидали здесь. Запасли также двести бочек вина и столько же сидра, тысячу штук свиного сала и сто тысяч селедок, двенадцать тысяч фунтов свечей. Плотники сколачивали пандусы для погрузки коней, портные шили из холста конские кормушки.
Набег Ланкастера
В то время как в Лёрре задавались вопросом, когда придут галеры кастильского короля, в начале августа 1369 г. стало известно, что в Кале только что высадились герцог Ланкастер и его армия. Королю Франции в свою очередь пришлось менять планы.
Филипп Бургундский получил приказ идти на Кале в контрнаступление, о котором останутся жалкие воспоминания. Карл V запретил брату активно ввязываться в боевые действия: память о Пуатье сильно повлияла на короля, и он страшился таких «битв», когда за несколько часов можно потерять или приобрести целое королевство. Кстати, Филипп хоть уже и доказал свою смелость, но полководцем был посредственным. Когда 23 августа он достиг Турнеэма, англичане уже контролировали все окрестности Кале. Пришлось остановиться.
Обе армии выжидали три долгих недели. Шли разговоры о том, чтобы сразились герои на ристалище — нечто вроде новой Битвы тридцати, но шесть на шесть. Идея заглохла сама собой.
Интенданты не могли менять планы так быстро, как воины. Стало не хватать провианта. Герцогу Бургундскому все это надоело. Он снял лагерь и, предоставив англичанам делать, что им заблагорассудится, просто вернулся в Париж.
Джон Ланкастер на это и не надеялся. Он отправился разорять Понтьё, а потом землю Ко. Потом форсированным маршем двинулся к Арфлёру, явно собираясь уничтожить французский флот. Гарнизон спас город. Ланкастер счел, что, оставаясь на оконечности земли Ко, рискует попасть в ловушку, и не стал упорствовать. Английская армия вернулась в Кале.
В течение всего похода в виду берега крейсировали английские корабли. Между берегом и флотом сновали лодки, нагруженные добычей, которую английская армия взяла в деревнях.
Ланкастер не перешел Сену, но в Западной Нормандии для короля Франции ситуация сложилась не лучшим образом. Амори де Краон и Оливье де Клиссон тщетно пытались взять Сент-Совер-ле-Виконт, крепость, которую Жоффруа д'Аркур передал королю Англии, а тот препоручил ее верному Чандосу. Наконец, в Шербуре снова высадился Карл Злой — эта весть не предвещала Карлу V ничего хорошего.
Пусть набег Ланкастера выглядит бесполезной акцией устрашения. Но он был чреват последствиями. Его быстрый успех заставил забыть о дорогостоящем провале военной прогулки 1359 г. — вспомним осаду Реймса — и укрепил стареющий штаб, определявший английскую стратегию, в мысли, что со времен больших победоносных набегов ничто не изменилось. Эдуард III и его сыновья не придумают лучшего ответа на продвижение французов на Гиенском фронте, чем рейды по Франции, от Кале до Бордо либо от Бордо до Кале. В этой войне Англия будет расточать деньги и силы, в то время как парламент будет делаться все скаредней. В правительстве Эдуарда III никому не приходило в голову, не лучше ли было бы собранный налог использовать для укрепления обороны Аквитании.
Этот ряд набегов обескровит Францию: Ноллисы, Ланкастеры и Бекингемы будут оставлять за собой в сельской местности след в виде сожженных деревень и уничтоженных урожаев. Но Карл V в возвращении герцога Бургундского, несомненно в какой-то мере умышленном, увидел зачаток стратегии презрения, которая на протяжении десяти лет станет его обычной реакцией на английское наступление. Пусть себе Ланкастер гарцует по стране, а нормандские крестьяне плачут над своими сожженными амбарами — это дешевле обойдется королевству в целом, чем большое сражение с его непредсказуемыми результатами. В конечном счете Англия потратила много денег, не взяв ни одного города. Добыча не компенсировала стоимости экспедиции, а выкупов при прогулках такого рода получали мало. Командир арбалетчиков Юг де Шатийон был одним из немногих, кому пришлось платить выкуп — король ему в этом помог, — потому что он довольно глупо попал в засаду под Абвилем.
Потребовалось несколько месяцев, чтобы Карл V осознал: направляться в Англию не время. В сентябре в ходе рейда сожгли Портсмут. В начале декабря, невзирая на время года, король предпринял новую попытку, менее амбициозную, чем первая: хотели просто разжечь в Уэльсе восстание в пользу Оуэна. Флот снялся с якоря, десять дней боролся со штормами и наконец вернулся в порт. Год, в который французский король хотел перенести войну на территорию врага, закончился чередой громких неудач.
Война на море
Карл V был человеком, умеющим учиться на опыте — как на собственном, так и на опыте отца. С одной стороны, он понял, что набеги бессмысленны и что нужно занимать территорию пядь за пядью. С другой стороны, убедился, что на союзные флоты можно рассчитывать только как на вспомогательные. А ведь надо было контролировать Ла-Манш.
Галерный двор возобновил деятельность с первых лет войны. Жан де Вьенн, сделанный адмиралом Франции в декабре 1373 г. вместо неспособного и, может быть, недобросовестного Эмери де Нарбонна, в одночасье сменил весь персонал и реорганизовал все службы, деятельность которых обеспечивала королевские эскадры надежной тыловой базой. В обязанности «смотрителя Галерного двора» входили покупка, постройка и содержание кораблей во всех портах королевства. Ускорили темп работы на верфях: в 1377 г. королевский флот насчитывал уже сто двадцать военных кораблей, в том числе тридцать пять судов с высокой посадкой, способных выходить далеко в море и нести тяжелую артиллерию.
Отныне король Франции мог защищать свои купеческие караваны, не допускать неожиданных нападений на нормандское побережье и даже посылать корабли к английским берегам. С 1377 по 1380 г. для острастки сожгли десяток портов, в том числе Портсмут и Ярмут. Не раз в свою очередь объявляли тревогу и лондонцы.
В 1372 г. англичане попытались реализовать масштабный замысел. Тогда им предстояло сразиться с кастильской эскадрой, наконец вышедшей в море в соответствии с обязательствами короля Энрике Трастамарского. Зная, насколько важна была связь по морю для Аквитании, снова зависевшей от Англии, можно понять политическое значение такого сражения, как бой при Ла-Рошели.
Английская эскадра была большой: тридцать шесть военных нефов, четырнадцать купеческих барок с людьми и деньгами. Ей командовал Джон Гастингс, граф Пембрюк, носивший титул королевского наместника в княжестве Аквитания, значение которого можно понять, если знаешь, что Черный принц, сильно страдая от болезни, в прошлом году вернулся в Англию, а у его братьев Ланкастера и Кембриджа хватало дел помимо того, чтобы спасать государство старшего брата. Весной 1372 г. именно графу Пемброку Эдуард III поручил организовать оборону Аквитании.
Морские союзы Карла V не слишком волновали Англию. Валуа в море всегда находился в одиночестве. Однако с 1369 г. ситуация изменилась, а Эдуард III это осознал слишком поздно. Кастильский король был наконец в состоянии оплатить старый долг признательности и, узнав, что английская эскадра держит курс на Они, вывел в море два десятка галер под командованием адмирала Кастилии, превосходного генуэзского мореплавателя Амброджо Бокканегра, родного племянника первого из дожей — Симоне Бокканегра. Эта эскадра устроила у Ла-Рошели засаду, дожидаясь подхода англичан.
Карл V тоже не остался в долгу. Он послал в Атлантику маленький флот, каким уже мог располагать, — восемь галер, кое-как обеспечивавших французское присутствие в Ла-Манше. Их командиром был другой генуэзец. Репье Гримальди. Его галеры прикрывали двенадцать барок, где находилось две-три сотни воинов под началом Оуэна Уэльского. Но если галеры Гримальди пришли вовремя, то они значительно опередили тяжелые барки, оставшиеся в личном распоряжении Оуэна. Тот не устоял перед искушением навредить англичанам: он устроил высадку на Гернси, не сулившую ничего в будущем. Потом он направился прямо в Кастилию, где стал добиваться организации десанта в Уэльс, но не убедил Энрике Трастамарского. Оуэн был еще в Сантандере, когда туда пришли вести из Ла-Рошели.
В районе Они и произошло столкновение 22 июня 1372 г. На стороне Бокканегры было численное преимущество. Он был также и намного более опытным моряком, чем Пемброк, которому он сразу перекрыл доступ в порт. Частой стрельбе английских лучников Бокканегра мог противопоставить не только арбалетчиков: он погрузил на борт огнестрельную артиллерию. Стрелы и болты были бесполезны, когда просто застревали в обшивке. А ядра ломали шпангоуты.
Столкновение 22 июня быстро приняло неблагоприятный для англичан оборот. Кастильцы захватили четыре торговых барки, с воодушевлением сбросив в море побежденные экипажи. Некоторые с удовольствием отправились бы в погоню и за остатком английской эскадры. Бокканегра сдержал свои войска и приказал отступить.
Англичане решили, что возьмут реванш на следующий день. Они недооценили хитрость генуэзца: Бокканегра просто-напросто рассчитывал воспользоваться отливом. Он сказал своим помощникам:
Они ждут нас во время прилива. Мы нападем на них при первом отливе, и вот почему. Наши галеры легче. Напротив, их большие нефы, их большие барки тяжелы и сильно загружены. Они не смогут двигаться при малой воде, а мы атакуем их огнем и стрелами.
Пемброк не имел задачи уничтожать вражескую эскадру: будь это так, он искал бы боя при высокой воде. Пемброк пытался войти в Ла-Рошель. Если бы английская эскадра в бою при приливе одержала победу, но потеряла половину кораблей, от нее было бы мало толку осажденным крепостям на гиенской границе. К утру 23 июня английское командование все еще думало, как обойти кастильцев.
Тогда-то Бокканегра и атаковал. Едва вода начала подниматься, он сразу бросил в бой свои галеры, и каждая направила к английскому кораблю брандер с жиром и маслом. Англичане думали, что сражение начнется позже, в час прилива. Они не успели ничего сделать, кроме как открыть бесполезную стрельбу из луков.
Три английских корабля, соприкоснувшись с брандерами, загорелись. Ветер раздувал пожар. В это время бриз дул с берега. Генуэзцы атаковали под ветром.
В трюмах английских кораблей находились кони для армии подкрепления. Почувствовав запах дыма, несчастные животные стали крушить переборки, метаться по пылающим кораблям, ломая деревянный набор. Матросы и солдаты, спасаясь от огня и копыт, бросались в море.
Адмиральский корабль смог вырваться из боя. Его взяли на абордаж; кастильцы захватили на нем несколько человек, за которых собирались взять хороший выкуп. Пленников доставили в Кастилию, приковав попарно к днищу трюма. Одного только графа Пемброка оценили в сто тридцать тысяч франков. Как раз тогда Бертран Дюгеклен, вернувшийся во Францию, уже толком не знал, что делать со своим испанским герцогством Молина; он решил совершить выгодную сделку — уступить это герцогство королю Энрике, который дал ему герцогство, а король Кастилии взамен передаст ему наместника Эдуарда III. Но Пемброк был беден, как церковная крыса: он не смог найти денег даже для первого взноса в десять тысяч франков. Можно было полагать, что король Англии проявит щедрость ради своего злополучного вассала; ничуть не бывало. Пемброк умер в 1375 г. пленником в одном замке в Пикардии, а Дюгеклен так и не получил ни су выкупа.
Карл V не был заинтересован, чтобы его коннетабль сожалел о том, что больше никогда не вернется в Кастилию. Он дал ему пятьдесят тысяч франков. Дело обернулось к выгоде для Энрике Трастамарского.
Командиры и солдаты освободительной армии
Французы не смогли высадиться в Англии, англичане потеряли военный флот. В конечном счете все должно было решиться на суше — сначала в одной крепости, потом в другой и так далее. Судьба княжества Аквитании будет зависеть от «латников и лучников» из компаний и гарнизонов.
Стратегия французов была проста и объяснялась как привычками Бертрана Дюгеклена, так и самим характером короля. Карл V был врагом ненужных подвигов и предпочитал оценивать — в тиши кабинета или на заседаниях Совета — политическую и финансовую стоимость каждой операции. Итак, никаких больших набегов на территории, которую предстоит завоевать, тем более никаких правильных сражений, в которых за время между первым каноническим часом и повечерием может решиться судьба страны. Конечно, Карл V мечтал о нападении на Лондон, но успех в Лондоне, несомненно, означал бы снятие сразу всех войск, обороняющих Гиень; рискованного рейда на Ажен или Бордо было бы для этого недостаточно.
Таким образом, отвоевание — это десять лет медленного продвижения настоящего фронта путем занятия территорий. Это десятки крепостей, которые терпеливо осаждаешь и систематически занимаешь либо сносишь. Это не молниеносные прорывы в виде рейдов, ничего не дающих в будущем, а методичное перемещение пешек-гарнизонов на шахматной доске из зубчатых куртин, укрепленных мостов и охраняемых перекрестков.
Война велась по мере возможностей, то есть дарований и финансов. Тыл был защищен, снабжение армии обеспечивалось — вспомним Турнеэм — и жалованье выплачивалось вовремя. Вопросы как тактики, так и материально-технического снабжения решались мудро. Стену сохраняли, если ее возможно было защитить и если при ее помощи можно было удерживать окрестную территорию. В противном случае ее сносили, чтобы на нее не мог рассчитывать противник. На крупномасштабные набеги Ноллиса, Ланкастера и Бекингема Карл V и его капитаны отвечали стражей и дозором. Вражескому набегу не пытались противостоять, войска противника не тревожили на флангах. Во всем этом было меньше блеска, чем в «битве», но больше надежности.
Не будем делать вывода об отсутствии стратегии. Реакция в форме пассивной обороны была результатом зрелого размышления. Она означала отказ идти в бой по инициативе англичан. Враг выбирает момент, чтобы напасть, — тот, который даст ему преимущество. Зачем это допускать?
Подобная стратегия не разумелась сама собой, и Карлу V приходилось сдерживать тех, кто даже в его Совете откровенно сожалел о доблестях былых времен. Так, в сентябре 1373 г., во время набега герцога Ланкастера из Кале, было сказано:
Немало баронов и рыцарей Французского королевства и консулов добрых городов шепчутся меж собой и во всеуслышанье говорят, что в том великое неприличие и великое поношение для знати Французского королевства — где имеется столько баронов, рыцарей и оруженосцев, могущество коих так прославлено, — когда они позволяют англичанам ходить, как тем заблагорассудится, и не сражаются с ними.
На это ответил Бертран Дюгеклен, и отголосок его слов услышат также в речах герцога Анжуйского и Оливье де Клиссона:
Те, кто говорит о сражении с англичанами, отнюдь не видят опасности, каковая может из того проистекать. Я не говорю, что с ними не должно сражаться, но хочу, чтобы это делалось при нашем преимуществе, как и они хорошо умеют пользоваться таковым, когда дело касается их.
Эта война, в которой ничто не ставили на ненадежную карту «заветного дня» большого сражения, воплощала в военном искусстве представления короля Карла V о стиле командования. Оправдывая слабым здоровьем тот факт, что он никогда не появляется на передовой, в отличие от отца или деда, он тем не менее всегда был в курсе событий и принимал все решения сам. Он лично контролировал как командирские качества своих капитанов, так и уместность выбранной тактики. Ведя подобную войну — и ведя ее таким образом, — Карл V вовсе не приобретал славы, но возвращал себе королевство.
С этим добрым правлением, как и с доброй войной, свое имя свяжут некоторые верные сторонники короля. Первым из них, конечно же, был Дюгеклен. Вернувшись из Испании в июле 1370 г., он 2 октября был назначен коннетаблем Франции. То в качестве главнокомандующего, то вместе с Людовиком Анжуйским он станет главным творцом отвоевания земель. Оливье де Клиссон тоже в жизни и в бою шел по стопам своего соотечественника Дюгеклена, которого он в 1380 г. сменит на посту коннетабля. Перебежчик из партии Монфора и эксперт по английским делам, Клиссон командовал войсками прежде всего на Западе, в основном в Бретани. Что касается адмирала Жана де Вьенна, который владел землями в графстве Бургундии и стал одним из вождей армии, отвечавшим в то же время за флот, то это был организатор, специалист по осадам, строитель осадных машин.
Не забудем такого посредственного тактика, как Юг де Шатийон, командир арбалетчиков. Этот знатный барон был олицетворением преданности. Таких, как он, в армии Карла V было много. Не хватавшие звезд с неба, но верные и надежные воины, они обеспечивали оборону областей от английских набегов либо военную оккупацию отвоеванных территорий. Так, например. Мутон де Бленвиль, маршал Франции с 1368 г., — на самом деле его звали Жан де Моканши, сир де Бленвиль[78] — стал в Нормандии незаменимым главой постоянного штаба.
Наконец, были принцы. Присутствовавшие в Совете, когда решались вопросы войны и средств для ее ведения, они командовали армиями в Гиени или в Нормандии, став настоящими королевскими наместниками — по должности или фактически, — с тех пор как Карл V находился в центре своих владений, а не в авангарде. За исключением герцога Бургундского, который плохо проявил себя в 1369 г. и которого слишком интересовали дела своих государств (тем не менее в Нормандии в 1378 г. он окажется в рядах королевской армии) все принцы крови худо-бедно играли эту роль генерал-капитанов. Даже Иоанн Беррийский, который при своем племяннике Карле VI станет настоящим центристом в политике и оставит по себе память как несравненный меценат, человек, весьма мало способный к полководческому ремеслу, командовал в годы молодости армией своего брата-короля. Герцог Беррийский в 1369 г. возглавлял армию Лангедойля — земель от Мена и Нормандии до Форе и Лиона. Однако в конечном счете Карлу V надоело зря терять солдат, доверяя командование ими брату.
В качестве военачальника выше ценили герцога Людовика Бурбона. Он почти всегда оказывал помощь зятьям на больших театрах военных действий, если только ему не поручали командовать войсками в местностях, которые было трудно удерживать, таких, как Овернь и соседние земли. Его кузен Жан де ла Марш служил при нем — в Лимузене, в Марше, в Нормандии.
Тем не менее первое место среди принцев причиталось Людовику Анжуйскому. Молодой человек, который не смог выполнить свой долг заложника в Лондоне, за несколько лет очень изменился. Он был старшим из братьев короля. В этом качестве он долго будет наследником престола, и Карл V увидит в нем регента на случай, если из-за позднего рождения будущего Карла VI возникнет потребность в регентстве. Установив самую странную из связей — через усыновление — с бывшей Анжуйской династией, которая еще царствовала в Южной Италии[79], позже он возмечтает занять в Неаполя место, которое раньше принадлежало внукам Карла Анжуйского, брата Людовика Святого. Пока что он был по преимуществу наместником брата. Только он обладал большим и прочным авторитетом. Он один или один из немногих имел право проявлять инициативу. Располагая даже собственным штабом, он наравне с королем был вправе набирать компании — теперь говорили «руты», — нанимая их на службу в армии. Его маршалы в Лангедоке играли ту же роль, какую в Лангедойле — маршалы Франции. Не будет преувеличением сказать, что сохранение Лангедока и покорение Гиени были прежде всего заслугами герцога Анжуйского.
Вслед за этими вельможами, которых непрерывная война сделала командирами-профессионалами, армия Карла V тоже парадоксальным образом стала одновременно армией профессионалов, возникшей из распада прежних компаний, и рыцарской армией, воскресшей после трагедий при Креси и Пуатье.
Сменилось поколение. Иллюзии развеялись, и теоретики чести, кодексы которой хранили рыцарские ордены или трактаты по военной казуистике, потерпели полное банкротство. Ни командиры, ни бойцы армии, возобновившей борьбу в 1369 г., не были теми героями, которые в свое время растерялись и были разбиты на берегах реки Клен[80]. Но они прошли через унижение поражением, пленением короля, расчленением королевства, которое, как все-таки продолжали верить, было основано троянцами отца Анхиза и король которого называл себя «императором в своем королевстве». В бою они проявляли суровость мстителей.
О феодальной армии практически речи больше не было. Конечно, еще прибегали к «общему зову» (semonce generale), чтобы собрать войска, необходимые для быстрого перевода области на оборонительное положение. Но было покончено с ситуацией, когда бароны служили в королевском войске с контингентом, который они были обязаны приводить как держатели фьефа, — контингентом, время службы которого было столь же ограниченным, как и его численность, и который был столь же ненадежен, как сами феодальные союзы. Теперь король нанимал профессиональных солдат, которым он платил и которых содержал. Было покончено с избыточным и бесполезным арьербаном, который, если его удавалось созвать по-настоящему, самим своим появлением надолго подрывал как сельское, так и городское хозяйство. Крестьянам место на поле, ремесленникам — в мастерской, солдатам — в армии. Разве что иногда созывали арьербан отдельной области, чтобы противостоять ограниченной угрозе, как в Руанском бальяже в 1369 г., когда там вдруг появились солдаты герцога Ланкастера.
Это ничуть не мешало набирать в армию баронов — Луи де Сансерр, сир де Понс были такими «наемниками», — и вести сыновей отвоевывать земли, потерянные отцами. Французское рыцарство было не узнать, и Кристина Пизанская воздавала честь феномену своего героя — Карла V:
Рыцарство Франции, словно совсем ослабленное ужасом былых бедствий, было им [королем] разбужено, воспряло и вновь предстало в блеске превеликой смелости и удач.
И добрый рыцарь Фруассар — совсем недавно большой поклонник Эдуарда III и Черного принца — вибрировал в унисон с этим самым французским рыцарством:
Англичане в свое время привыкли говорить, что мы лучше танцуем и водим хороводы, чем ведем войну. Но времена переменились. Они будут почивать и водить хороводы. А мы сохраним свои марки и свои границы.
Если внимательней присмотреться, можно понять, что главным талантом Карла V было умение выбирать капитанов и удерживать их на службе, сохраняя тем самым постоянным состав войск. Капитаны были добрыми рыцарями, выходцами из известных родов, не в традициях которых было пренебрегать военной подготовкой. Конечно, пропаганда исказила образ Бертрана Дюгеклена и лживо выдала его биографию за типичную. Большинство капитанов Карла V училось военному искусству не в драках с мальчишками на перекрестках деревенских дорог. Но король разбирался, кто умеет командовать и кто нет, и без колебаний ставил рыцарей под начало простого оруженосца, если тот показал себя лучшим командиром. Что касается войск, они были опытными и имели навык участия в общих операциях. Благодаря продлению «договоров о найме» король Франции с 1369 г. получал почти постоянную армию. Такое положение вещей его устраивало.
В большинстве капитаны и латники были просто подданными короля, которые шли на службу, потому что земля не могла их прокормить, потому что их сеньория не соответствовала их амбициям, потому что они желали играть роль в масштабе всего королевства. Мотивы графа де Комменжа или Ангеррана де Куси, который командовал своими двумястами латниками, были не теми, что у Бертрана Дюгеклена, прошедшего за пятнадцать лет путь от капитана крепости Понторсон до коннетабля Франции, и не теми, что у каких-нибудь Филиппо Коровы, Бопуаля или Маленького Жана из Лотарингии, которые служили у герцога Анжуйского за десять су в день.
Эти «латники» были выходцами из крупного и мелкого дворянства со всех концов страны и всех уровней общества. Было замечено, что среди них много бретонцев; должно быть, многих земляков подтолкнул пойти на службу Дюгеклен, но Клиссоны или Роганы не нуждались ни в каком рекомендателе. Впрочем, во всем королевстве еще очень живо было представление, что война короля — это дело знати и что для знати естественно жить за счет военного ремесла.
Вассалы в былые времена рассуждали точно так же, когда взамен за воинскую службу получали надежное материальное положение, которое обеспечивал им фьеф. Знать XIV в. не пренебрегала королевским жалованьем, и вполне естественно, что она жаждала таких реальных выгод от войны, как добыча и выкупы. Единственное различие, которое рыцарская мораль делала между благородным латником и разбойником с большой дороги, состояло в том, кого они выбирали в качестве жертвы: одно дело — брать выкуп с побежденного врага, другое — обирать бюргера или крестьянина, угрожая изнасиловать его жену и сжечь его дом.
Численности мелкого дворянства во Франции было вполне достаточно, чтобы предоставить королю пять-шесть тысяч латников, которых он мог нанять самое большее, и две с половиной тысячи латников и тысячу арбалетчиков, которые в среднем образовали постоянные вооруженные силы Карла V, — армию, которая служила круглый год и выходила на смотр каждый месяц, армию, которая охраняла Францию от неприятных сюрпризов.
Незнатные люди, желавшие сделать карьеру в армии, теоретически могли подняться очень невысоко. Они были слугами, сержантами, кутилье. В лучшем случае арбалетчиками. Но Карл V, который лично следил за подбором капитанов и, стараясь обеспечить настоящую оплату солдатам, умел держать в армии только настоящих бойцов, намного выше ценил воинские данные, чем социальное происхождение. В ряды конных латников явно попадали оруженосцы, которые не смогли бы доказать принадлежность к знати. Впрочем, Буало и Бономы[81] почти не пытались скрывать своего низкого положения, и эта двусмысленная ситуации, выгодная для всех, никого не обманывала. Дерутся они хорошо. Им платят как оруженосцам. К черту право! В армии Иоанна Доброго их бы оттеснили на скромные роли. Как себя проявила эта армия?
Когда после поражения при Пуатье развернулось мощное антидворянское движение, охваченные рвением бюргеры были готовы занять место знати. Но их энтузиазм поутих, едва эти чувства остыли. Кто займется их делами, если они отправятся в поход? Кто заставит работать их подмастерьев? Поэтому бюргеры довольствовались тем, что непосредственно касалось их повседневной безопасности: стражей и дозором. Они тренировались в стрельбе из лука и даже из арбалета с тем большим усердием, что король поощрял братства стрелков и что мужчины там встречались, чтобы поговорить и осушить кувшин красного вина. Иное дело — идти в армию. Пусть знать занимается своим ремеслом…
Значит ли это, что Карл V не набирал иностранных солдат? Конечно, среди арбалетчиков уроженцы королевства встречались редко. Арбалетчики бывали пьемонтцами или тосканцами, провансальцами или лотарингцами, каталонцами или кастильцами и даже немцами. И прежде всего генуэзцами под началом капитанов, носивших фамилии Гримальди, Спинола, Дориа. Было и несколько компаний, конные латники которых — во всяком случае отчасти, ведь военная среда редко была однородной, — собрались со всех концов христианского мира: несколько немцев, несколько шотландцев, несколько валлийцев. Здесь можно было встретить кого угодно, от принца в изгнании до последнего рейтара, и каждый случай был уникальным. Например, случаи графа Энрике Трастамарского или знатного валлийца Оуэна Лаугоха.
Мы уже упоминали его под именем, которое ему дали французы — Оуэн Уэльсский, когда они не называли его просто Ивен. Оуэн был племянником последнего из независимых князей Уэльса, Ллевелина, и в армию Валуа еще при Филиппе VI его привела старинная ненависть к англичанам. Он был из тех, кого англичане не смогли взять в плен при Пуатье. Одно время князь Оуэн отводил душу, воюя в других местах, и несколько раз нанимался на службу в Италии. Но он вернулся, едва услышав, что снова будут убивать англичан. Ему удалось убедить Карла V, что высадка десанта в Англии возможна. Он захватил Гернси, в результате пропустив бой при Ла-Рошели. Он проведет много сражений, пока его не убьют в 1378 г. во время осады Мортаня.
Были главные силы армии, в которые входили конные латники и находящиеся при них слуги и сержанты. Были стрелки (hommes de trait), стрелявшие, вместо того чтобы рубить или колоть: они составляли отдельный корпус, которым командовали свои капитаны и коннетабли — специалисты, а не принцы, — находившиеся под началом командира арбалетчиков Юга де Шатийона. У стрелков было мало общего с латниками. Зато много с моряками: сходное происхождение, тот же тип вербовки, похожее жалованье, даже отдельное место в тактических построениях. Впрочем, разве одно только присутствие арбалетчиков на судне не превращало его, как правило, в военный корабль?
И потом, была артиллерия; в первых боях Столетней войны она участвовала только для шумового эффекта, но она найдет себе применение при осадах. Огнестрельная артиллерия здесь соперничала с прежними осадными машинами — баллистами и требюше, которые еще долго можно было видеть у подножия стен осажденных крепостей. Но пушка имела преимущество как оружие, способное пробивать бреши в стенах и подрывать сопротивление горожан, ломая стены домов. Стреляя в другом направлении, она рушила осадные башни, громила военные лагеря. Она топила корабли, разрушала мосты, перекрывала дороги.
Уже во времена Дюгеклена было невозможно предпринять осаду без нескольких «огнестрельных камнеметов», метавших ядра весом в двадцать-сорок фунтов, и даже отдельных тяжелых орудий, способных метать глыбы по сто или двести фунтов. Литейщики Парижа, Кана или Сен-Ло могли изготовить орудие любого типа, любого калибра. В том числе чудовищные, весившие больше тонны и стоившие, как целый гарнизон. Большинство этих «огненных жерл» стреляло на короткое расстояние ядрами диаметром в дюйм или два, не наносившими значительного ущерба; ничего странного, что многие стратеги пока предпочитали осадные машины рычажного либо пружинного типа и катапульты, которые метали просто каменные глыбы, не нуждались в проверке калибра и никогда не взрывались, убивая собственную прислугу.
Все это в годы отвоевания, которые были и годами неослабных финансовых усилий, обходилось королю от шестисот до восьмисот тысяч ливров в год. Но Карл V не забывал упрека, который столько раз делали его деду и отцу: ресурсы, предназначенные для войны, надо тратить на войну. Он знал, что первая задача, которую в свое время ставили перед собой реформаторские Штаты, состояла в том, чтобы от имени податного населения взять в свои руки использование денег, выделенных на оборону. Растрата средств, полученных от сбора налога, и задержка жалованья столь же закономерно приводят к мятежам, как и к поражениям. И Карл V ввел целый институт военных казначеев, обязанных обеспечивать на самом театре военных действий регулярную оплату войск.
Дошли и до того, что стали систематически выплачивать аванс, пока что ограниченного размера; этого солдатского «pret» во многих случаях хватало, чтобы во время похода наемник не искал лучшего места.
Так, например, рыцарь Гильом де Борд, служивший со своей компанией с 1 ноября 1369 г. по 1 марта 1370 г., во время службы по контракту получил 12 212 ливров из 14 137, которые ему причитались, то есть 87 %, а в течение следующего месяца — остальное. Через десять лет за службу в Лангедоке в течение лета 1380 г. капитан Колар д'Эстутвиль тоже получил 86 % своего жалованья до окончания кампании. Подобные цифры характеризуют королевскую волю. Они позволяют догадаться о моральном духе войск.
Карл V не только дал Франции армию, регулярно оплачиваемую, а значит, боеспособную. Он вновь упрочил политическую ситуацию, подорванную за двадцать лет скверным правлением Филиппа VI и Иоанна Доброго. Больше не было речи о том, чтобы в обороне какую бы то ни было роль играли представители Генеральных штатов, вся та система, которую ввели в 1355 г. и главным элементом которой были «делегаты». Если король взял в свои руки рекрутирование компаний, то он же организовал и контролировал выплату жалованья. С тех пор в деле восстановления королевства, разрушенного в 1360 г., все зависело от него.
Наступление французов
Задуманное в основном было осуществлено за четыре года. Еще до того, как официально объявили войну и пока Ланкастер тратил силы на разорение пикардийских крестьян, Людовик Анжуйский в начале 1369 г. предпринял наступление, заняв восточную часть княжества Аквитании — Руэрг, Керси, часть Перигора и Ажене. Это было не очень трудно — эти края в основном плохо восприняли и переносили английское владычество. Город Монтобан, чему способствовало присутствие Чандоса, сопротивлялся до августа. Город Мило долго колебался: консулы придирались к правам Карла V, совещались с юристами, торговались о своем переходе на сторону французов. Бурдей и Ла-Рок-Вальзерг пришлось брать приступом. Но в большинстве случаев солдатам французского короля открывали ворота. Родез и Перигё были заняты без боя, Нажак сдался, Каор — и вслед за Каором весь Керси — внял страстной проповеди архиепископа Тулузского Жоффруа де Вейроля.
Действовавший на севере герцог Беррийский был не из тех, кто энергично делает свое дело. Французы взяли Ла-Рош-Позе и потеряли Ла-Рош-сюр-Йон. Виконт де Рошешуар сдал свой замок, и был занят Шалюссе в Лимузене, но Чандос совершил набег до самого Анжу. Перспективы здесь были неопределенными.
Зато на юго-западе натиск Арманьяка уже позволил французам вторгнуться в пределы Гаскони. В руки короля Франции перешли Лектур, Овиллар, Флёранс, Кондом, как и старинный город Оз, о котором еще помнили, что во времена Меровингов он был резиденцией архиепископа.
Кампания 1370 г. имела решающее значение. Каждая сторона предприняла существенные усилия: англичане — спешно прислав Ланкастера с подкреплениями (в июле он соединился с Черным принцем), король Франции — направив в помощь своим братьям Дюгеклена, которого он вновь задорого нанял. В обоих случаях это были блистательные помощники, но Ланкастер должен был заменить больного (Черный принц вернется в Англию), в то время как Дюгеклен просто повысил маневренность французов, сначала сменив герцога Анжуйского на Гаронне, а потом поддержав герцога Беррийского, взяв на себя Лимузен, пока брат короля сражался в Пуату.
В мае пал Муассак. Не замедлил с этим и Ажен. Взятие Эгийона — крепости, перед которой армия будущего Иоанна Доброго топталась так долго, пока Эдуард III безнаказанно пересекал Нормандию, — окончательно позволило французам взять под контроль такой стратегический перекресток, как место слияния рек Ло и Гаронны. В начале августа в свою очередь покорился Сарла.
Ланкастер взял в свои руки оборону Бордо и Сентонжа. Дюгеклен привел крепость Перигё в состояние, позволяющее выдержать осаду. Он перерезал три дороги на Бордо, Ангулем и Лимож, захватив Монпон, Брантом и Сент-Ирье.
Герцог Беррийский и маршал Сансерр тем временем начали из Берри наступление на Лимож. Несколько месяцев население города тайно агитировали эмиссары короля Франции и прежде всех его епископ, будущий кардинал Жан де Кро. Лиможские горожане почувствовали, что им пора отступиться от англичан, а у людей Карла V были убедительные аргументы: они обещали создать две ежегодных ярмарки, гарантированный источник новых доходов для местного купечества. 24 августа герцог Беррийский совершил триумфальный въезд в Сите — старинный епископский город — и тем же вечером ушел оттуда, оставив в Сите маленький гарнизон. Поскольку брат короля вошел в город, который ему сдался, без малейшего усилия, триумф сочли преувеличенным. Мало того: в то время как Дюгеклен старательно укреплял свою власть в Перигоре, оставлять в Лиможе так мало сил было неосторожным.
В середине сентября лиможцы увидели приближающуюся английскую армию. В ней были все — Черный принц, Ланкастер, Кембридж, и все они пребывали в крайнем раздражении. Операция явно не была второстепенной с точки зрения английского командования. Может быть, падение лиможского Сите сильней задело Ланкастера, едва высадившегося, чем уже давняя потеря Перигё и Ажена. Здесь французы впервые добились большого успеха со времен прихода подкреплений, и Ланкастер должен был оправдать свое присутствие в Аквитании. Людям Карла V надо было показать, что ситуация переменилась, а лиможцам — что они зря перешли в другой лагерь.
Осада была короткой. Благодаря удачно заложенной мине проделали брешь. 19 сентября англичане уже были в Сите. Произошла бойня. Нескольких рыцарей захватили ради выкупа. Горожан убивали, их дома сносили. Черный принц велел даже разрушить городскую стену. Этот пример должен был отбить у других охоту переходить на сторону Валуа.
Епископу Жану де Кро тоже угрожали смертью, его взяли в плен, а потом выслали в Авиньон. Там восшествие на папский престол его кузена Григория XI принесет ему красную шапку кардинала.
Роберт Ноллис
Карл V заботился о пропаганде. При дворе о резне в Лиможе говорили мало. Впрочем, парижанам тем временем стало о чем беспокоиться самим. Через пятнадцать лет после «Жаков» Иль-де-Франс начали разорять англичане Роберта Ноллиса. Со стен столицы еще раз увидели дымы горящих деревень.
Ноллис высадился в июле с довольно сильным отрядом — полторы тысячи конных латников и столько же лучников. Чтобы переправить их из Саутгемптона в Кале, понадобилось не менее сорока трех барок. Планы были дерзкими: «отвоевать» наследие Плантагенетов. Набег был рассчитан на то, чтобы овладеть Французским королевством, где Аквитания и Понтьё были всего лишь составными частями. Предполагалось, что владения принца Аквитанского останутся в целости и право короля Наваррского на вотчину Эврё будет соблюдено. Кроме того, новый поход должен был привести просто-напросто к оккупации всей северной половины Франции.
С самого начала это был грабительский рейд, по большей части импровизированный. Солдат Ноллиса намного больше интересовал выкуп с городов и деревень, который они брали, угрожая грабежом, чем укрепление королевской власти Плантагенета во Франции. Результат мог быть только негативным: Франция очень пострадала, Англия ничего не добилась.
Инструкции Карла V были строгими: боя не принимать, на провокации не поддаваться. Гарнизонам осажденных городов также особо запрещалось предпринимать вылазки, часто кончавшиеся трагически: Кан это испытал на себе в 1346 г., Жанна д'Арк станет жертвой такой вылазки в 1430 г. Было известно, что армия Роберта Ноллиса не имеет достаточного снаряжения для долгой осады. Пусть же англичане теряют время перед закрытыми воротами, которые только и могли спасти крестьян, в массе стекавшихся в крепости, и запершихся там горожан.
Король и его советники сознавали недостатки пассивной обороны: она полностью жертвовала деревней ради города. Это стало хорошо заметно, как только Ноллис вторгся в Аррас: он ничего не мог сделать с городом, но аббатства Сен-Вааст и Мон-Сент-Элуа были разорены, предместья сожжены, урожай вытоптан накануне жатвы. По сути, более активная оборона Арраса не спасла бы провинцию.
Англичане шли короткими переходами: два-три лье утром, отдых и попойка вечером. Так они дошли до Руа, потом до Нуайона. Они сожгли Пон-л'Эвек, пощадили область Суассона, сеньором которой был Ангерран де Куси — зять Эдуарда III, потом сделали вид, что намерены напасть на Реймс и далее на Труа. Пройдя через Гатине, они создали угрозу для Парижа с юга. Было несколько стычек близ бурга Сен-Марсель, недалеко от горы Святой Женевьевы. Запылали Вильжюиф, Жантийи, Кашан, Аркюэй. Карл V стоял на своем: французы не отвечали.
Ноллис решил сыграть в монарха. 24 сентября он развернул свою армию в боевой порядок на Вильжюифской равнине. Его не удостоили ответом. Оливье де Клиссон подытожил в Совете королевскую доктрину в этой сфере — более политическую, нежели стратегическую:
Государь, Вам надо только настроить своих людей против этих одержимых. Пусть ходят, пока не надоест. Они не смогут ни отобрать у Вас наследие, ни выкурить Вас дымом.
Дым на самом деле поднимался над деревнями парижских окрестностей, но король Франции не терял своего королевства из-за того, что какие-то деревни обращаются в пепел. Со времен Пуатье было известно, каким образом французский король теряет свое наследие. Но не факт, что пахари Бисетра и виноградари Ванва легко сдерживали гнев, видя бездействие сотен латников парижского гарнизона.
Англичане довольствовались тем, что разорили Бос. Потом, обойдя Вандом и Ле-Ман, они попытались добраться до Бретани прежде, чем начнется холодное время года. Но в окружении Ноллиса начали роптать: те, кто хотел получить лучшую часть добычи, оспорили его решение.
Дело резко приняло новый оборот. В Париже заволновались. Весть о разгроме при Ла-Рошели укрепила решимость короля. Принимать битву с англичанами не следовало. Но надо было дать им взбучку.
Давно вызванный, только что прибыл Дюгеклен. Его сделали коннетаблем, и он мог диктовать свои условия: одним из них был принудительный заем у королевских чиновников, никто из которых не мог отрицать, что обогатился, и у крупного делового бюргерства нескольких больших городов, которые могли заплатить сразу, как Париж и Руан. На полученные средства новый коннетабль набрал войска в Бретани и Нормандии. 1 декабря он покинул Кан во главе своей армии.
Раздор в рядах англичан принес первые результаты. Джон Минстреворт обозвал Ноллиса «старым бандитом». Знамя мятежа было поднято, когда узнали о приближении коннетабля Франции. Несколько капитанов заявили, что им нечего делать в Бретани — где у Ноллиса был собственный замок Дерваль близ Шатобриана, — и отказались идти дальше. Некоторые, как маршал Томас Грансон, просто-напросто ушли.
Дюгеклен тем временем двигался через Мен форсированным маршем. Он перешел в авангард, оставив с главными силами Клиссона, Вьенна и Одрегема. Французская армия настигла Грансона 4 декабря на рассвете близ Понваллена и обратила его в бегство. На следующий день Дюгеклен с бою взял крепость Ваас, где укрепился Минстреворт. Потом он преследовал до Брессюира третий отряд англичан, бежавший в беспорядке. 6 декабря он был в Сомюре. Мен был освобожден, французы захватили пленников, за которых можно было взять выкуп, Ноллис спешно отступил, и английских гарнизонов в Анжу — в частности, в Пон-де-Се и Лион-д'Анже, — больше не было.
Крепость Сен-Мор, которую Дюгеклен не хотел осаждать долго, удерживал английский гарнизон. Поэтому Дюгеклен заплатил англичанам за уход, а деньги на это велел взять из налогов на товарные перевозки по Луаре. Этот налог, называемый «trépas de Loire» [переправа через Луару][82], будут взимать еще во времена Тюрго…
Передышка 1371 г.
Коннетабль вернулся в Париж. 1 января 1371 г. он провел смотр войск, набранных для весенней кампании. Там присутствовало 1135 латников — 54 рыцаря, 1080 оруженосцев, — то есть армия силой в четыре-пять тысяч человек. Ланкастер, в свою очередь, отбил у французов крепость Монпон, один из заслонов на дорогах в Бордо. Казалось, никто не склонен ждать лета.
Однако и та, и другая сторона потратили год на проволочки. Дюгеклен очень скоро перешел в наступление, но потерпел неудачу в феврале под Юсселем. Англичане сенешаля Томаса Перси — преемника Джона Чандоса — заняли Монконтур и убили всех защитников. Оливье де Клиссон прибыл слишком поздно, чтобы спасти крепость, и недостаточно оснащенным, чтобы ее отбить. Чуть позже гасконские рутьеры, нанятые англичанами, захватили Фижак.
В то же время люди короля Франции вошли в тайные сношения с жителями другой части Лиможа, Замка (Chateau). Так называли город виконта в отличие от Сите, города епископа. Жители Сите на собственном опыте узнали, чем можно заплатить за то, что слушаешь приверженцев французского короля, но жители Замка полагали, что англичане слишком плохо защищают их от разбоя, и не хотели быть последними среди тех, кто воспользуется экономическими привилегиями, которые, как мы помним, Карл V предлагал тем, кто к нему присоединится.
Люди короля вели двойную игру. Виконтессе Лиможской, коей была не кто иная, как Жанна де Пантьевр, Карл V пообещал передать отвоеванный Лимузен. Консулам он предложил сеньориальную власть над собственным городом. Договорятся намного позже. После двухвекового процесса соглашение было победой виконтов. Тем временем бюргеры Замка, осыпанные ощутимыми привилегиями и пустыми обещаниями, в апреле 1372 г. открыли ворота армии маршала Сансерра.
Итак, 1371 год был годом передышки. После быстрого завоевания Восточной Аквитании французами каждый упрочивал новые позиции. Карл V прежде всего снова урегулировал спорные вопросы с Наваррцем, прибывшим в Нормандию, чтобы подороже продать свой нейтралитет. Но позицию Наваррца было сложно отстоять: нормандцы Котантена косо смотрели на англо-наваррскую солдатню из Сен-Совёр-ле-Виконт, а принц Уэльсский мало значения придавал союзу с Наваррой, поняв по кастильскому делу, что зря тратил на этот союз деньги. Так что двойная игра короля Наваррского провалилась. Вынужденный выбирать, он против воли обратился к Франции.
В конце марта 1371 г. Карл V прибыл в Верной в сопровождении Дюгеклена и Мутона де Бленвиля. Здесь он встретил своего наваррского кузена. Тот выказал добрую волю: преклонив колени перед королем Франции и принеся тесный оммаж за свои нормандские баронства, он пошел на все, чтобы вернуть себе место во французской политической жизни. Договор, заключенный в Верноне, давал Наваррцу преимущества в Монпелье и закреплял передачу Валуа бывших крепостей дома Эврё на Нижней Сене. Нужно еще было приструнить нормандские гарнизоны, составленные из наемников, более склонных разорять окрестности, чем уважать договоры: Дюгеклен и Клиссон посвятили часть года эффективной нейтрализации таких крепостей, как Бретёй, Бешерель и Конш.
Решающий год: 1372-й
Действительно, в 1372 г. возобновилась война. Фронт сузился, и Дюгеклен мог наступать совместно с герцогами Беррийским и Анжуйским. Уничтожение флота Пемброка в июне означало, что англичане теряют возможности интервенции в Гиень. Дело лиможского Замка выявило пределы доверия, которое население питало к будущему княжества Аквитанского.
Доселе верные своему английскому сюзерену, Пуату, Ангумуа и Сентонж без особого сопротивления пропустили на свою территорию солдат короля Франции. При помощи Клиссона и Сансерра Дюгеклен сделал дело за несколько недель. В их руки попали Монморийон и Шовиньи. Они отбили Монконтур и воспользовались перемирием в Пуату, чтобы занять в Берри Сен-Север. 7 июля коннетабль Франции вступил в Пуатье: ворота просто-напросто открыла французская партия — по большей части состоявшая из простолюдинов, — которую англичане не смогли опередить.
Потеря Пуатье сильно подорвала боевой дух пуатевинской знати, сохранившей верность Черному принцу. Армия капталя де Буша, подоспевшая к Пуатье слишком поздно, разделилась. Англичане направились к Ньору, гасконцы капталя — к Сен-Жан-д'Анжели, большинство пуатевинцев — к Туару.
Оставив на потом завоевание Пуату, который нужно было оккупировать крепость за крепостью, Дюгеклен предпринял наступление на Они. Он мог воспользоваться шоком, вызванным морской победой Бокканегры. Поэтому Рено де Пон осадил замок Субиз в устье Шаранты. Узнав об этом, капталь де Буш двинулся на Субиз и внезапно разгромил французский лагерь; сир де Понс и несколько его соратников попали в плен. Но, едва Жан де Грайи снял осаду с Субиза, поздно ночью вдруг явился Оуэн Галльский, который был совсем не прочь загладить дурное впечатление от своего отсутствия при Ла-Рошели. На англо-гасконцев напали, когда они крепко спали. Жан де Грайи и сенешаль Пуату Томас Перси в свою очередь оказались в плену.
Через несколько дней после этого сражения при факелах Субиз пал. 24 сентября 1372 г. открыл ворота и Сент. Английский сенешаль тщетно пытался принудить жителей к сопротивлению. Епископ Сентский Бернар дю Со открыто проповедовал в пользу короля Франции. Он одержал верх.
В свою очередь были заняты острова Экс и Ре. Как морской, так и сухопутный прямые пути из Ла-Рошели в Бордо оказались перерезаны. Дюгеклен взял на себя задачу блокировать дорогу, в то время как Оуэн подошел к Ла-Рошели. Горожане сочли, что лучше выторговать серьезные преимущества для своей торговли. 8 сентября город открыл ворота. Отныне, в противовес Бордо, Ла-Рошель будет портом французской Аквитании.
Английское сопротивление рушилось. Вскоре сдались Ангулем и Сен-Жан-д'Анжели. Туар пал немного позже, после долгой обороны.
Оставалось прочное ядро из пуатевинских баронов, верных своему сеньору Плантагенету. Они собрались в Сюржере, маленькой крепости между Ла-Рошелью и Сен-Жан-д'Анжели, и были там осаждены. Сохраняя надежду без всяких оснований, они добились 28 сентября перемирия до Андреева дня, обязавшись сдаться к этому числу, если их сеньор, король Англии, не придет им на помощь. Этот прием был вполне традиционным. Во многих случаях разрешалось прекращать осаду, чтобы избежать штурма и резни. Но пуатевинские бароны действовали и в полном соответствии с феодальным правом: они посмотрят, обеспечит ли их сеньор им защиту, которая со времен возникновения вассальной зависимости была нормальной компенсацией службы вассалов.
Дюгеклен с уверенностью разрешил отсрочку, которой попросили пуатевинцы: после осады Субиза уже не было сил, способных в конце этого сезона снять осаду Сюржера.
И 1 декабря во францисканском монастыре Лудёна состоялась примечательная церемония. В ней участвовали, с одной стороны, оба брата короля Франции — герцоги Беррийский и Бургундский, коннетабль Дюгеклен и его соратник Клиссон, с другой — представители «прелатов, духовных, баронов, сеньоров, дам и прочих из земли Пуату и Сентонжа». Они изъявили покорность и принесли оммаж Карлу V. Тот даровал общую амнистию, вернул конфискованные владения, подтвердил привилегии. Пуатевинские бароны дешево отделались. Король Франции добился, что они безоговорочно перешли на его сторону.
Победители кампании 1372 г. совершили 11 декабря запоминающийся въезд в Париж. Как в античном триумфе, доброму народу показали пленников и прежде всего капталя де Буша. При Кошереле он мог считаться естественным союзником короля Наваррского, и когда он попал в плен, ему оказывали такие почести, что сторонники Валуа смотрели на него с завистью. Прошло десять лет, и Жан де Грайи начал выглядеть просто-напросто бароном, взбунтовавшимся против своего короля. Времена настали иные: конфискация Аквитании резко изменила статус побежденных. Теперь Грайи был всего лишь мятежным подданным, и, получалось, Карл V зря потерял время, пытаясь после Кошереля переманить его. Капталь оказался в прочной башне Тампля и имел некоторые основания испытывать горечь, если знал, что пуатевинские бароны закончили войну, получив привилегии. Грайи предстояло остаться в Тампле до самой смерти. Карл V не простил ему, что тот пренебрег авансами французского короля.
Земли Они и Ангумуа присоединили к королевскому домену. За счет Пуату округлили апанаж Иоанна Беррийского.
Диверсии
Следующие годы — с 1373 по 1375 г. — были временем консолидации. Армия Карла V методично занимала крепости, пропущенные во время быстрого похода на Они. Лузиньян, Ньор, Ла-Рош-сюр-Йон были взяты почти без боя. Англо-гасконцы предприняли контрнаступление, но были опрокинуты 21 марта 1373 г. при Шизе. С тех пор города знали, что предоставлены сами себе. Некоторые извлекли из этого выгоду: Фижак, долго сохранявший верность Плантагенету, в 1373 г. договорился о сделке как минимум странной, по условиям которой король Франции покупал город у его жителей за счет податного населения Руэрга и Керси.
Эдуард III предпринял несколько тактических диверсий. Он послал войска в Бретань, где Иоанн IV де Монфор открыто выступил против своего сеньора Карла V. В Бретани сменилось поколение после войны двух Жанн, и бретонцы легко забыли, что обещали англичанам не терпеть плотной опеки со стороны короля Франции. Они уже чувствовали только английскую опеку, так как у них был герцог, который вырос в Англии и раз, потом другой женившийся на англичанках. Англичане контролировали герцогство, и Роберт Ноллис изображал в Дервале бретонского барона. Некоторые бретонцы долго не думали и последовали за Оливье де Клиссоном, который перешел в клиентелу Валуа, сочтя, что его друг детства герцог Иоанн IV дурно заплатил за его верность. Разве он не отдал землю, которой домогался Клиссон, Чандосу? Правда, Клиссон выказал свою досаду, велев разрушить в Гавре замок Чандоса и перевезти его камни к себе, в Блен, чтобы возвести свой донжон…
Эдуард III должен был реагировать, если не хотел потерять позиции в Бретани. Заключенный в Вестминстере 19 июля 1372 г. договор объединял Англию и Бретань «против всех», фактически — против Карла V. Через два месяца на мысе Сен-Матьё высадилась маленькая английская армия: триста латников и триста лучников.
Ослабив нажим на Пуату, Карл V направил в Бретань армию под командованием герцогов Беррийского, Бургундского и Бурбонского. При них был и Клиссон. Эта демонстрация силы была просто военной прогулкой: Карл V уже познакомился с текстом Вестминстерского договора и счел, что честным ходом в войне будет послать несколько его копий в Бретань, где многие бароны плохо восприняли это укрепление английского господства. Всего этого было достаточно, чтобы побудить герцога Иоанна IV быть более осторожным. Он пообещал добиться ухода англичан и поспешил забыть об обещании.
Весной 1373 г. в Сен-Мало высадился Солсбери с сильной армией — две тысячи латников и столько же лучников. Он сжег в порту кастильский торговый флот и вскоре оккупировал область, как оккупируют побежденную страну. Бретонцы запротестовали.
Получив военную поддержку, Иоанн IV оказался в политической изоляции. 28 апреля 1373 г. он отплыл из Конкарно в Англию. Это оттуда в августе он направил Карлу V вызов по всей форме.
Диверсия произвела эффект. Он выразился в топтании на месте в годы консолидации аквитанских завоеваний. Вместо того чтобы развивать успех в Пуату, Дюгеклен отправился в Бретань. 20 мая 1373 г. он уже был в Ренне. Фужер, Динан, Генгам, Ла-Рош-Дерьен, Ванн и Жослен были взяты без труда. Кемпер и Конкарно пришлось брать приступом. Нант выторговал выгодные условия сдачи. Солсбери укрылся в Бресте, откуда Дюгеклен не смог его вытеснить, несмотря на два месяца осады, которая не мешала англичанам снабжать осажденный город по морю. Коннетабль отыгрался, заставив откупиться острова Джерси и Гернси.
Тем не менее итог бретонской диверсии оказался негативным для Эдуарда III. Дюгеклен воспользовался ей, чтобы оккупировать герцогство, а гасконцы не воспользовались ослаблением военного нажима, чтобы сдержать продвижение французов. Весь бретонский поход мог состояться благодаря перемирию, заключенному на пуатуском фронте. Операция обернулась против того, кто ее начал.
Тогда Эдуард III предпринял более откровенную акцию. 12 июня 1373 г. он назначил своего сына Джона Ланкастера «специальным наместником и Генерал-капитаном» во Французском королевстве. 16 июня он предписал молиться за успех его предприятия. 23 июня отдал приказ к отплытию армии, набранной за несколько недель. Англичане собирались разрушить могущество Франции. Фактически речь шла о том, чтобы выполнить задачу, которую прежде брал на себя Ноллис, не с большей и не с меньшей методичностью. Через день Ланкастер высадился в Кале. С ним соединился герцог Бретонский Иоанн IV.
Начался фантастический набег, в ходе которого англичане примерно за полгода пройдут из Кале в Бордо через разоренную страну, десятки запуганных городов и сотни сожженных деревень. Великолепно организованное в отношении тыла и снабжения, это предприятие, как и набег Ноллиса, было импровизированным в смысле отсутствия стратегии. Никто и никогда не узнает, рассчитывал ли Ланкастер еще в разгар лета встретить Рождество в Гиени. Он предпочел очень простую тактику — двигаться прямо. Но, все больше продвигаясь в глубь территории противника, он через некоторое время уже не мог идти никуда, кроме как вперед. Набег, поначалу славный и устрашающий, грозил закончиться плачевно, армия таяла день ото дня и с трудом выносила ежедневные налеты людей Дюгеклена. Может быть, некоторые охотно поставили бы в бою на отчаянную карту героизма, но стратегия, выработанная в Совете Карлом V и его советниками, не давала им такой возможности.
В августе 1373 г, были опустошены Пикардия, Артуа, потом Вермандуа. Филипп Бургундский с сильным отрядом следил за движением англичан с их правого фланга, прикрывая Париж и мосты через Сену. Ланкастер был вынужден пройти восточней и потерять время в попытках направиться к Лану, потом к Реймсу и Труа.
Англичанин понял, что не сможет достичь Парижа и что дорога обратно перекрыта Дюгекленом, к которому вскоре присоединится Людовик Анжуйский и часть его лангедокской армии. Тем не менее он рассчитывал, как некогда Ноллис, что сможет добраться до Бретани. Но герцог Бургундский по-прежнему сдерживал армию набега на ее правом фланге и удерживал мосты и крепости. Ланкастер с тревогой замечал, что, обходя Парижский бассейн, все больше удаляется от него. Разбитый Клиссоном под Сансом, он оказался в Ниверне, потом в Бурбонне.
Наступала осень. Мысль вернуться в Кале была химеричной. Ланкастер и Монфор углублялись в Центральный массив, хотя не планировали этого. В конечном счете они вышли на Лимузенское плато. Кони были загнаны, люди голодны. Они смогли восстановить силы, только наткнувшись на несколько городов, готовых открыть ворота без боя: Тюлль, Мартель, Брив. Там они и перессорились. Монфор предоставил экспедиции продолжать свой бессмысленный путь без него.
К тому времени, когда Джон Ланкастер прибыл в Бордо, он потерял каждого второго, а многие выжившие побросали в реку самые тяжелые части доспехов, чтобы не тащить все.
Знаменитый Ланкастер, который четыре года назад ни во что не ставил своего кузена Валуа, в этом деле приобрел репутацию жалкого полководца. Англичане не были разбиты в бою, они стали жертвами бездарности. Что до диверсии, она провалилась; в лучшем случае результатом набега можно было считать отказ Людовика Анжуйского от операций, которые он планировал провести в Бигорре.
Все устали от войны. Три набега за четыре года опустошили Францию. Как всегда в подобном случае, к нищете добавилась эпидемия, и новый приход чумы выглядел следствием того, что урожай сгорел. Уставшие без конца отстраивать, а также сеять без того, чтобы жать, монах и крестьянин выходили на дороги. Земля оставалась под залежью, а цены на зерно галопировали. Никогда они не были в Лангедоке такими высокими, как в 1374 г. Зимой в деревнях умирали с голоду. Ничего странного, что процветал бандитизм. Беженцы делали жизнь в городах еще опасней.
Летом 1374 г. Людовик Бурбон снова занял Тюлль и Брив, в то время как Дюгеклен восстановил некоторый порядок на дорогах Лангедока. Потом коннетабль и герцог Анжуйский 21 августа вступили в Ла-Реоль: заслон области Бордо «любезно» открыл ворота. В самом деле, что могли сделать жители Ла-Реоля, знавшие, что герцог-король больше не в состоянии им помочь? Гарнизон замка это усвоил после того, как две недели оттягивал срок капитуляции в тщетном ожидании подкреплений.
Французы дошли в Гиени до пределов возможного. 5 октября 1372 г. Черный принц сделал из этого свои выводы, отрекшись от своего княжеского титула, в то время как болезнь позволяла ему догадываться, что, может быть, он никогда не будет королем Англии. Но Дюгеклен хорошо знал, что англичане не отдадут Бордо без ожесточенного сопротивления и что бордосцы отнюдь не готовы перейти в другой лагерь. Разрыв с английским рынком означал бы упадок большой бордоской торговли — продажи вина. Идти дальше означало обречь себя на бесконечную войну, и Дюгеклен вполне это знал.
Впрочем, Карл V мог предоставить своей армии лучшее занятие, чем ломать зубы о бордоскую оборону. Весной 1375 г. на мысе Сен-Матьё высадились Иоанн де Монфор и граф Кембридж и заняли Сен-Поль-де-Леон, Морле, Генгам и Трегье. Они остановились только под Сен-Брие.
Тем временем Жан де Вьенн осадил Сен-Совёр-ле-Виконт, который со времен Жоффруа д'Аркура постоянно представлял угрозу для Котантена и даже для всей Западной Нормандии. Эта осада, конечно, была одним из самых значительных начинаний за всю войну и одним из самых дорогих. Жан де Вьенн в 1374 г. начал с того, что обеспечил блокаду, укрепив соседние дорожные узлы. В начале 1375 г. он разместил под стенами крепости настоящую армию и снабдил осаждающих мощной артиллерией, в состав которой входили как механические машины — баллисты и катапульты, — так и огнестрельные орудия всех калибров, от ручной кулеврины до бомбарды, способной метать стофунтовые ядра.
Английский гарнизон держался стойко, но для него это был ад. Долго рассказывали, какой ужас испытал капитан Томас Чаттертон, однажды увидев из собственной постели, что в его комнату влетела каменная глыба, раздробив переплет окна, а потом несколько раз отскочив от стен.
В оную башню угодил метательный снаряд сквозь железную решетку, каковую проломил. И самому Чаттертону показалось тогда, что внутри раздался гром, и он отнюдь не был уверен, что будет жив, ибо сей метательный снаряд, каковой был круглым, благодаря усилию, приданному ему (при выстреле), стал кружиться внутри башни. А упав, он пробил пол и провалился на нижний этаж.
Наконец договорились. Это был ход не очень славный, но весьма реалистичный для тех и для других. Англичане больше не могли выдерживать, а французы знали, что приступ невозможен. 3 июля 1375 г. Чаттертон сдал Сен-Совёр. Он получил компенсацию в 55 тыс. франков, которую выплатили нормандцы, взяв деньги отовсюду, в том числе из королевской казны. Для Карла V падение крепости, долго создававшей угрозу, стало успехом. Говорить о победе было бы преувеличением.
Перемирие в Брюгге
1 июля усилия Григория XI принесли, наконец, какие-то плоды: в Брюгге было заключено новое перемирие на год, подписанное герцогом Бургундским от имени короля Франции и герцогом Ланкастером от имени короля Англии. Франция удачно отделалась: Карл V сохранял свои завоевания, включая Ла-Реоль, тогда как Иоанн IV свои возвращал, удержав только Брест и Оре.
Карл V использовал все возможности, которые предоставил талант его легистов. Написанное к тому времени «Сновидение садовника» довольно хорошо отражает состояние духа французских переговорщиков, которые опирались на сложившуюся ситуацию — факт завоевания, — но отрицали, что право не на их стороне. Был ли еще в силе договор, подписанный в Бретиньи? Кто несет ответственность за невыполнение его пункта, касающегося отказов? Короче говоря, следует ли все вернуть в состояние 1369 г. — очевидно, такой была позиция англичан, — или восстановить ситуацию 1355 г. — как считали французы, — и чьи результаты завоеваний признавать: Эдуарда III или Карла V?
Обо всем этом дебатировали клирики, и легисты не добивались ничего иного, кроме как убедить юристов курии, причем каждый старался склонить папу на свою сторону. Правду сказать, соотношение сил было известно, и для французского короля было не очень важно, удастся убедить англичан или нет. Английские переговорщики знали, что Сен-Совёр-ле-Виконт вот-вот капитулирует, и еще успели узнать, что 1 июня армии Карла V открыл ворота Коньяк.
Конференция в Брюгге представляла собой торг: речь шла о разделе Аквитании на две и даже на три части. Однако в отношении суверенитета все оставались на своих позициях. Оба посольства посмеялись, когда папские легаты выдвинули идею, чтобы до смерти Эдуарда III Аквитания осталась суверенным государством, а потом стала простым фьефом, который от короля Франции будет держать новый король Англии. Однако идея такого типа через шестьдесят лет позволит герцогу Бургундскому Филиппу Доброму с честью выйти из войны с Карлом VII[83].
Правительство Карла V очень ценило юристов и философов-аристотеликов, но на вещи смотрело крайне трезво. Перемирие, как знали все, означало, что на дорогах окажутся десятки безхозных компаний в бешеном поиске источников существования. Ждать этого не стали — был горький опыт. Ангерран де Куси срочно начал набор отрядов для экспедиции, которую задумывал давно, — для завоевания вотчины в Эльзасе и Швейцарии, которая причиталась ему как наследство матери, дамы из рода Габсбургов[84]. Карл V частично финансировал предприятие — по тем же причинам, по каким финансировал кастильский поход.
Рутьеры, которых Куси повел через Рейн, разорили несколько шампанских и лотарингских деревень, но можно было надеяться, что больше это не будет французской проблемой. Но в конечном счете предприятие провалилось, и вся эта солдатня вернулась во Францию. Пришлось набирать войска для борьбы с ними. Вновь возникла ситуация, с какой Людовик Анжуйский столкнулся пятнадцать лет назад в Лангедоке.
Тем временем перемирие продлили до 1377 г. Папа предпочел бы окончательный мир. Уже было очевидно, что война кончилась, независимо от того, был кто-то согласен с этим или нет. Карл V старел: в 1377 г. ему исполнилось сорок лет (а Дюгеклену шестьдесят), но его здоровье по-прежнему было слабым. Нельзя считать случайным совпадением, что именно тогда он издал большие ордонансы, смещавшие возраст совершеннолетия до тринадцати лет (август 1374 г.) и учреждавшие потенциальное регентство (октябрь 1374 г.). Мудрый король считал, что не вправе позволять расчленить свое королевство, но не хотел взваливать бремя войны на наследника, которому только что исполнилось девять лет. Личного триумфа, каким стал для Карла V визит в январе 1378 г. в Париж его дяди, императора Карла IV Люксембурга, и будущего императора Вацлава, было недостаточно, чтобы скрыть непрочное положение французской короны: все ляжет на плечи ребенка.
Эдуарду III было шестьдесят пять лет. Теперь он выглядел глубоким старцем. Его упрекали, что он больше заботится о прелестной любовнице, чем о королевстве. В апреле 1376 г. парламент потребовал реформ, добился удаления от двора молодой женщины, которая якобы обходилась очень дорого, а также призыва к власти опытных знатоков управления финансами и ареста некоторых спекулянтов. Эдуард III отныне был неспособен на ответные жесты. 21 июня 1377 г. он скончался. Его старший сын, Черный принц Эдуард, принц Уэльсский и бывший принц Аквитанский, умер в прошлом году (8 июня 1376 г.). Ричард II был двенадцатилетним ребенком. «Сильным человеком» королевства мог стать его дядя Ланкастер, политик с узким кругозором и, как мы видели, воин ограниченных дарований. Даже не предвидя трагедии, можно было ждать, что, когда Совет будут тянуть в разные стороны окружение герцога Ланкастера и бывшие советники Черного принца, управлять страной станет трудно. Фактически Ланкастера скоро оттеснили на второй план. Англия оказалась обезглавленной.
Ликвидация проблем
Едва перемирие кончилось, вновь начались враждебные действия, но без масштабных акций. Герцог Анжуйский и коннетабль взяли Бержерак, не сумев продвинуться дальше по дороге на Бордо. Жан де Вьенн, со своей стороны, разорил несколько английских портов — Фолкстон, Портсмут — и опустошил остров Уайт. В 1378 г. новый наместник английского короля Джон Невилл организовал контрнаступление ограниченного масштаба, отбил несколько крепостей, снял осаду с Байонны, окруженной кастильцами. Линия фронта застыла.
Оставались другие фронты и другие трудности. Король Наваррский плел новый заговор (ему приписывали намерение подослать убийц к Карлу V) и подумывал возобновить военные действия под прикрытием разлада. Был арестован его камергер, потом его секретарь, которые признались во всем, чего от них хотели, лишь бы выпутаться самим. Они заявили, в частности: Карл Злой рассчитывает, что англичане передадут ему добрую часть королевства, в том числе Шампань и Бургундию. Карл V не стал ждать: весной 1378 г. он послал Дюгеклена оккупировать графство Эврё и другие наваррские крепости в Нормандии — Конш, Карантан, Мортен, Авранш. Тем временем Жану де Бюэю было поручено захватить Монпелье. Карл Злой вдруг почувствовал, что порт Шербур его тяготит, и продал его англичанам.
В Бретани ничто не было улажено, и юристы побуждали Карла V к решительным действиям. Несколько бретонских баронов, открытых мятежников против герцога Иоанна IV (Клиссон, Роган и некоторые другие) считали, что наступление ничем не грозит. Поэтому Иоанна IV вызвали в королевский суд, а потом осудили заочно. 18 декабря 1378 г., после недели дебатов в парламенте, где заседали пэры, герцог Бретонский был осужден как вероломный вассал. Парламент декретировал конфискацию герцогства.
С самого начала войны Бретань постоянно служила плацдармом для англичан — плацдармом, способным из тыла превращаться во фронт, чтобы облегчить положение английской Аквитании. Карл V урезал территорию этой Аквитании; теперь он собирался стать хозяином Бретани. В королевской политике была своя последовательность.
Иоанн де Монфор снова обратился за помощью к своему союзнику, королю Англии. В большинстве бретонские бароны не любили англичанина — на что и рассчитывали Клиссон и его друзья, — но очень скоро увидели, что власть французского короля более стеснительна для них, чем власть герцога — клиента английского короля. Бретань, до сих пор по большей части благосклонно воспринимавшая вмешательство Валуа в свои дела, воспротивилась приговору, предвещавшему конец ее политической автономии. Тогда-то на сцену и вернулась старая Жанна де Пантьевр, которую Карл V обманул в деле с Лиможем и которая прежде тщетно указывала парламенту, что в отсутствие вероломного Иоанна IV во французской партии есть его правопреемник — ее родной сын Анри. В самом деле, можно было удивиться, что, как только речь зашла о конфискации герцогства, Валуа уже знал лишь одного-единственного претендента на корону Бретани. Жанна де Пантьевр заявила, что становится на сторону Иоанна де Монфора, своего всегдашнего врага. Ее примеру последовало несколько таких знатных баронов, как сир де Лаваль или виконт де Роган.
Неудачный шаг Карла V вернул герцогству единодушие. Иоанн IV, вернувшийся из Англии во главе маленькой армии, мог только пожать плоды этого искусно организованного единства. Пели хвалу поступку несчастного сироты, некогда выросшего при английском дворе. Нотарий герцога, Гильом де Сен-Андре, сочинил «Книгу доброго герцога Иоанна», которую распространяли повсеместно. Это было выступление в защиту герцога и в то же время призыв к сопротивлению. Бретонцы будут защищать свои «вольности» до самой смерти.
Правительство короля Франции приняло это к сведению. Никто больше не говорил о завоевании Бретани. После смерти Карла V герцог Анжуйский вспомнил, что он зять Жанны де Пантьевр, и стал искать компромисс. Многие бретонские бароны ему в этом помогли, видя, что Бретань изнурена бесконечной войной. Второй Герандский договор (4 апреля 1381 г.) вернул Иоанну де Монфору его герцогство, а французскому королю — оммаж герцога Бретонского. Война за наследство, начавшаяся сорок лет назад, после смерти герцога Иоанна III, наконец закончилась.
Дюгеклен и герцог Беррийский отправились в Овернь и Жеводан, чтобы усмирить там нескольких рутьеров. Здесь коннетабль и умер, 13 июля 1380 г., близ Шатонёф-де-Рандон. Карл V успел устроить ему гробницу в Сен-Дени, прямо напротив той, которую он подготовил для себя.
В то же время заклятого противника дома Валуа, графа д'Эврё и короля Наваррского, ждал настоящий провал. Король Кастилии Энрике Трастамарский верно соблюдал долг признательности королю Франции, который принял его у себя в стране и поддерживал до окончательной победы: кастильцы в свое время побывали при Ла-Рошели, под Шербуром, на английском побережье. И Энрике хорошо помнил об англо-наваррском союзе, который некогда укрепил в ущерб ему престол Педро Жестокого. Так что у него были два основания откликнуться на призыв Карла V, когда тот после раскрытия новых заговоров Карла Злого пожелал, чтобы Кастилия напала прямо на Наварру. Кастильская армия осадила Памплону, в то время как флот атаковал с моря английский гарнизон Байонны. До предела эксплуатируя союз с Англией — единственный, который у него остался, — Карл Злой отправился в Бордо. Он получил несколько подкреплений, которые привел к Байонне. Это не спасло Наварру.
В 1379 г. позицию Карла Злого отстоять было нельзя. Он попросил о перемирии и был вынужден отдать за это в залог главные замки своего королевства. В то же время он влез в долги, чтобы оплатить бесполезное вмешательство англичан. Но, поскольку он уже не получал дохода от своих нормандских доменов, первые кредиторы забрали доход от Наварры, и его подданные дали ему понять, что устали оплачивать политику, которая их почти не касается. Он не мог расплатиться, и его ждал политический крах в самой Наварре. До самой смерти в 1387 г. тот, кто был одним из первых французских баронов и в чьих жилах, как и в жилах Эдуарда III, текла кровь Филиппа Красивого и Людовика Святого, отныне испытывал бессильную горечь от того, что ему не хватило совсем немногого, чтобы прожить великую жизнь.
Новые заботы
Европейское равновесие менялось быстро, особенно в том самом 1380 г., когда 16 сентября умер Карл V, который, почтив на смертном одре терновый венец и французскую корону, счел своим долгом в последнем приступе угрызений совести, усомнившись в своем праве, отменить подымную подать и тем самым лишить сына всяких средств для управления страной.
В Англии у ребенка Ричарда II были другие заботы, кроме Гиени и Бретани. В Лондоне вот-вот должно было вспыхнуть восстание.
В Кастилии Энрике Трастамарский — его также называли Энрике Великолепным — умер в мае 1379 г., а его сын больше тяготел к Португалии, где имел некоторые права, чем к Франции, где не мог ничего выгадать. Долги отца не были его долгами.
В империи в конце 1378 г. умер Карл IV. Вацлав проявлял мало интереса к королевству Валуа, с которым его отца и деда связывало столько личных связей и интимных воспоминаний. Король Чехии, прибывший в Креси умирать с оружием в руках, и брат французской королевы, готовый вступиться за нее в напряженной ситуации внутри французского политического общества, остались в далеком прошлом.
К тому же началась схизма. Начиная с лета 1378 г. у христианского мира было две главы, и Европу раскололи новые трещины в зависимости от того, чью сторону, по убеждению или из смирения, приняли монархи, — римского папы Урбана VI или Климента VII, который во многих отношениях выглядел креатурой Франции (сначала французских кардиналов, потом короля) и, естественно, обосновался в Авиньоне из соображений удобства и осторожности.
Раскол между монархами отразил внутри церкви антагонизмы, порожденные прежними конфликтами, ни в малейшей степени не имевшими церковного характера. В Европе видели, что Карл V пользуется благосклонностью папы, заключая выгодные браки. Что же удивительного, если в Великой схизме Запада король Франции признал одного папу, а король Англии — другого? Но этот раскол выразился, независимо от выбора папы, в том, что политические границы стали более отчетливыми. В диоцезах, где сенешали Валуа и сенешали Плантагенетов, несмотря на перемирия, вели войну на истощение, которую простой народ ощущал на себе столь же остро, как и редкие сражения, началась еще и церковная война. Порой бывало два епископа, часто — два сборщика папских налогов.
Породив соперничество из-за таинств, проповеди, обложения податями, этот конфликт — которого не знали страны, где решения за всех принимала королевская власть, избавляя от нравственного выбора, — делал кризис христианского мира намного более болезненным для верующих Гаскони или фламандских земель Франции и империи, чем для жителей мест, где Великая схизма представлялась делом политиков и духовенства. Для среднего парижанина схизма была раздором пап и королей, а также одной из забот магистров университета, но никто не сомневался, что рукоположения действительны и кюре законен. Было известно, что есть два папы или, скорей, что другие признают антипапу. Но в Париже папой считался Климент VII, а в Лондоне — Урбан VI. Для бордосцев же этот вопрос был еще не решен.
Людовик Анжуйский, последнее воплощение политического общества в месяцы, когда уходили главные персонажи трагедии, увидел блеск иных перспектив, чем пост королевского наместника в Лангедоке. В Неаполе королева Джованна возымела намерение передать новому Анжуйскому дому, то есть как раз брату Карла V, корону, некогда преподнесенную первому Анжуйскому дому, то есть брату Людовика Святого. У Джованны Анжуйской не было наследника, и она оказалась в затруднительном положении. Ей нужен был одновременно наследник и защитник. 29 июня 1380 г. она усыновила Людовика Анжуйского.
Но королевство Неаполитанское было в плохом состоянии, и герцог Людовик знал, что ему практически придется его завоевывать. Экспедицию решили облечь в привлекательные цвета крестового похода. Заняв деньги у авиньонского папы и обязавшись силой открыть ему ворота Вечного города, Людовик Анжуйский ловко смешивал оба вопроса, чтобы в конечном счете завоевание Южной Италии финансировал Климент VII. Это значило, что за анжуйские амбиции заплатит французское духовенство.
В самом Париже у принцев были другие заботы. Восхождение ребенка на престол выдвигало их на первый план. Сразу же столкнулись интересы одних и других. В Королевском совете герцог Анжуйский готовил свое итальянское предприятие, но в том же Совете Филипп Бургундский оберегал экономические интересы своего нового государства, а Иоанн Беррийский и Людовик Бурбон искали своих выгод. Идти сражаться в далекие земли значило уступить место другим. Нужно было захватить Совет. Эта потребность породит новую фазу Столетней войны.
Пока что ситуация стабилизировалась. В самом деле, что оставалось у английского короля от Аквитании, которая была наследием его предков?
Вокруг Бордо английская Гасконь простиралась от Блея на Жиронде до Кастийона на Дордони, до Риона на Гаронне и до Буша на океанском побережье. За Байонной англичане сохраняли Дакс и Сен-Север-сюр-л'Адур. Это было все.
Бордо, расположенный в сердце этой сократившейся сеньории, страдал. Экономика терпела урон из-за отрезанности от ближайших земель, из-за ненадежности морских сношений. В периоды больших неурожаев в 1373, 1374 и 1375 гг. приходилось завозить из Англии зерно и бобы, чтобы выжить. Но экспорт вина резко падал: до возобновления войны, в добрые времена Аквитанского княжества и открытого пути в Лондон и Брюгге, в год вывозили в среднем тридцать тысяч бочек вина, а после поражений — всего десять-одиннадцать тысяч.
Впрочем, мнения о княжестве расходились. Разве оно не поставило преграду между Англией и Аквитанией, между английской казной и финансированием аквитанской обороны? Разве король-герцог со всеми ресурсами его короны не обеспечил бы более эффективную оборону, чем безденежный принц при поддержке бесталанного брата? Еще помнили Эдуарда III рядом с неукротимым Черным принцем. Потом видели, как больного Черного принца сменил бездарный Ланкастер. Конечно, бордосцы с надеждой встретили восшествие на престол Ричарда II. Но Англия, погруженная в кризис, была не в состоянии поддерживать жизнь того, что еще называлось английской Аквитанией, у жителей которой Великая схизма усугубила чувство изоляции.
Глава XII Горькие плоды войны
Распри принцев
Две страны, ослабленные в результате войны, несовершеннолетия королей, соперничества принцев, — вот что представляли собой после 1380 г. оба главных участника уже полувекового конфликта. Три всадника Апокалипсиса — война, голод и чума — набросились на эти страны, которые уже два или три поколения страдали из-за кризиса экономических структур, из-за несостоятельности социальных рамок, унаследованных от феодальных времен, из-за безнадежных попыток сбалансировать внешнюю торговлю и валютный рынок.
В глазах французов, для которых Столетняя война состояла из полевых сражений и правильных осад, Англия имела преимущество в этом конфликте, ведь он развивался на материке. Англичане были мало склонны делать различие между нескончаемыми боями уэльсского восстания и шотландской войны, они знали, что горят их южные порты, что топят их торговые караваны и закрывают для них фламандский рынок, незаменимый для сбыта английской шерсти. Они платили десятину, пятнадцатину, двадцатину с имущества, подушную подать с каждого человека и пошлину с каждого мешка шерсти. И все это ради Аквитании, которую им было трудно считать английской и которую они в конечном счете потеряли. Несчастья одних не были похожи на несчастья других. А вот устали те и другие одинаково.
В правительстве Ричарда II шла открытая борьба за скудные коронные доходы. Люди Черного принца считали, что имеют право контролировать сына своего бывшего господина, умершего слишком рано и не успевшего взойти на трон, но мать — и законная опекунша — юного короля стала принцессой Уэльсской только во втором браке, и ее дети от первого брака тоже полагали, что вправе воспользоваться новой удачей матери.
Первым среди недовольных был Джон Ланкастер, которому наследовал его сын Генри Дерби, будущий Генрих IV. Ланкастер испытывал традиционную горечь родственника монарха, который старше последнего, но не царствует. Такими были Карл Валуа, Карл Злой — короче говоря, те, кому чуть-чуть не повезло. В Англии предпочли обойтись без регента, но комиссия, получившая функции правительства и избранная парламентом, не видела иной политики, кроме политики Эдуарда III. Она собирала подушную подать, организовала набег на Францию, запланировала поход на Португалию. Уважение к парламенту таяло. Добрый народ городов и села быстро понял, что новые господа стоят прежних. Короче говоря, в Англии в начале царствования недовольны были все.
Карл V, наоборот, тщательно продумал, как надлежит управлять страной после его смерти. Старший из его братьев, Людовик Анжуйский, должен был стать регентом королевства, герцогам Бургундскому и Беррийскому предстояло сделаться опекунами детей — Карла VI и его младшего брата Людовика, а старые опытные советники, образовав правящий совет, получали реальную политическую власть. Но после смерти мудрого короля все произошло совсем иначе. Никого не спросив, Людовик Анжуйский взял власть в свои руки. Прочие дядья юного короля, герцоги Бургундский, Беррийский и Бурбонский — последний был дядей по матери, — вошли в Совет только затем, чтобы верней нейтрализовать влияние советников Карла V, которых они быстро оттеснили. Потом братья сговорились отправить Иоанна Беррийского в Лангедок. Но погоня за наследием неаполитанской Анжуйской династии увлекла Людовика Анжуйского в Прованс и в Италию, а герцогу Людовику Бурбону было не по плечу соперничать с сыном короля. Поэтому хозяином королевства оказался Филипп Бургундский.
Когда Карл VI достиг в 1381 г. возраста совершеннолетия согласно ордонансу отца, принцы ловко договорились делать вид, будто и не думают, чтобы это могло как-то сказаться на управлении страной. Из этой позиции извлекли выгоду даже отсутствующие в Париже: так, Франция оплатила Людовику Анжуйскому поход в Италию.
Таким образом, высшую администрацию Карла V более или менее официально отстранили от дел. Жана Ле Мерсье изгнали. Бывшего парижского прево Юга Обрио заключили в Бастилию, построенную им же, по обвинению в нарушении привилегий университета… Никто не обманывался: принцы собирались вести собственную политику, преследуя свои частные интересы. Герцогу Анжуйскому королевская казна нужна была затем, чтобы завоевать Южную Италию, а герцог Бургундский хотел прибрать к рукам Фландрию. Однако компетентные люди были редкостью, и советников, со скандалом отправленных в отставку, порой без шума возвращали на прежние должности или назначали на другие.
В подспудной борьбе за влияние, происходившей между разбогатевшими финансистами и алчными принцами, очевидным было одно: в политике нет короля. Карла VI к политике не допускали. В возрасте, когда отец уже правил расшатавшимся государством, сын бездействовал.
Кое-кто рядом с ним грыз удила. Людовик, герцог Туренский и будущий герцог Орлеанский, уже хотел найти себе место в компании принцев и получить долю от прибылей монархии.
После свадьбы короля в июле 1385 г. на политической сцену появилась еще одна воля, до времени сдерживаемая, — Изабелла (Изабо) Баварская. Опека, какой бы она ни была, мало устраивала эту умную и упрямую королеву, баварское окружение которой ставило заслон для манипуляций советников герцога Филиппа Бургундского. А ведь баварский брак был организован герцогом Бургундским, который очень хотел договориться с Виттельсбахами, правившими в Эно и Голландии, а также в Баварии. Его первой целью было облегчить захват Брабанта Бургундией. Полагая, что Изабелла будет послушной игрушкой во фламандской политике, Филипп Храбрый жестоко ошибся.
Политические взрывы
Однако распри принцев мало что значили по сравнению с волной политических взрывов, поразивших Европу в 1380-е годы, когда дети, рожденные после Черной чумы, стали взрослыми и умерли последние старики, которые еще могли вспомнить мирные времена. Эти восстания были всеобщим феноменом, они поражали как промышленные Италию и Фландрию, так и крупные торговые порты — Любек, Брюгге или Руан, как маленькие города вроде Безье или Ле-Пюи, так и столицы вроде Лондона и Парижа.
И, однако, насколько различными были эти вспышки гнева, вызванного здесь фиском, там эгоизмом зажиточного населения, в одном случае разжигавшим ярость ремесленников, в другом вызывавшим тревогу у крестьян. Англичан воодушевляла эгалитаристская мистика некоего подобия социального евангелизма, тогда как парижане восстали, ни на миг не думая о Евангелии. Одни боролись за привилегии, другие против привилегий, если только нападение на привилегию — это не притязание на привилегию, а поиск нового баланса экономических сил или политических прав — не попытка нарушить прежний баланс.
Повсюду причины были местными, претензии — личными. Вождей невозможно было бы заподозрить в международном сговоре. Явная заразительность не исключала спонтанности. Идея революции витала в воздухе, и каждый принимал решение сообразно собственным резонам или нервному напряжению момента.
Первые городские восстания вспыхнули в 1378 и 1379 гг. в Лангедоке. Но еще в июле 1378 г. Флоренцию потрясло восстание чомпи; оно держало Тоскану в возбуждении более трех лет. Фландрия заволновалась в 1379 г.; на следующий год ее охватил глубокий кризис. В свою очередь началось беспокойство в городах Северной Франции. В 1381 г. Лондон оказался во власти крестьян, а Любек — в руках мясников. В 1382 г. Парижем овладели майотены, тогда как Руан стал добычей Гарелли.
Заговора, конечно, не было. Была революционная ситуация. Черная чума и ее рецидивы, видимо, отсрочили взрыв гнева поредевшего и ошеломленного населения, которое после таких потерь должно было пересмотреть подход ко всем данностям социальной жизни. Напряжения 1380-х гг. очень отличаются от тех, которые возникали в начале века, но это были напряжения того же порядка.
Распределение функций в городе удовлетворяло только «магнатов», державших в руках одновременно общественный и частный кредит, организацию сбора налогов, надзор за профессиональными нормами и правилами, регулировавшими как рабочее время и оплату труда, так и критерии найма и мобильность в пространстве и в профессии. Распределение доходов и расходов в конкретной области приводило к соперничеству между городом и селом, между портом и отдаленными территориями, между промышленным и торговым городом. Во Фландрии к этому добавлялись стремление к независимости или традиция верности французскому королю, добавлялись сложные связи, которые порождала потребность в английской шерсти и желание сохранить удобный французский рынок.
Восстание, вспыхнувшее во Фландрии в 1379 г., объясняется только ситуацией во Фландрии. Многочисленное рабочее население, тягостное экономическое господство патрициев — финансистов и организаторов, небезупречная позиция графской власти, которую целый век обстоятельства вынуждали удивительным образом балансировать в политическом смысле между Англией и Францией, а также между Брюгге и Гентом — этого всего довольно, и можно не ссылаться на примеры Брауншвейга и Гданьска, где уже произошли потрясения, или Флоренции, где верховодили чомпи.
С тех пор как 18 июня 1378 г. Бенедетто дельи Альберти бросил из окна синьории клич «Да здравствует народ!», Флоренция пребывала в смятении, и было бы сильным упрощением сводить вопрос к сражению «тощих» с «жирными», к борьбе рабочих за то, чтобы занять муниципальные должности и изгнать с них крупных купцов и банкиров. Альберти был богатым человеком, как и Сальвестро деи Медичи — находившийся в дальнем родстве с той ветвью рода, которая даст Козимо и Лоренцо Великолепного, — а новые конфликты в той или иной мере окрашивал или усиливал отголосок старых политических или профессиональных раздоров. Были магнаты и пролетарии, но были также гвельфы и гибеллины, ткачи и красильщики, флорентийцы и лукканцы.
Случайно ли при том, что папский фиск включал огромные финансовые потоки, флорентийский кризис в конечном счете принес выгоду только лукканцам? И случайно ли после того, как была совершена попытка разграбить казну синьории, восставшие флорентийцы повесили пятерых грабителей, которых сочли фламандскими рабочими? Воображать классовую солидарность значило бы не знать жестокой реальности того времени: эти фламандцы, страдавшие от кризиса, пришли есть хлеб флорентийцев, также страдавших от кризиса.
Фламандская революция
Если Фландрия в 1379 г. восстала, это стало следствием одного инцидента, целиком объяснявшегося фламандской географией. Известно, что Брюгге, перекресток всей международной торговли Северной Европы, представлял собой лишь посредственный порт, который не мог обойтись без внешней гавани — Слёйса — и был слабо связан по воде с окружающими землями. В отличие от ситуации в Руане или Бордо, из Брюгге перевозки по материку шли только сухопутными путями. Маленькой речке Рейе было не сравниться с большими торговыми артериями, какими уже были Маас, Шельда и их притоки.
Поэтому такой крупный фламандский порт, как Брюгге, посредственно служил интересам такого крупного промышленного города, как Гент. Богатство Брюгге зависело от Северного моря, от Балтики и Атлантики, а не от цехов сукнодельческих городов. Зато фламандским сукном торговали как на континентальных ярмарках и на перекрестках сухопутных дорог, так и на набережных Брюгге. С тех пор как Фландрия пожелала обеспечить себе независимость, ей нужно было реорганизовать свою инфраструктуру: не зависеть от Парижа или Лиона, от ярмарок в Ланди или в Шалоне — с начала века почти не было речи о шампанских ярмарках — и тем более не зависеть от такого крупного порта на Шельде, как Антверпен, который география поместила на пути сбыта фламандских промышленных товаров, а история расположила в Брабанте. Брабантская промышленность уже сумела этим воспользоваться. Фламандцы знали, что эта ее прибыль создается за их счет.
Граф Людовик Мальский потерпел поражение в попытке не допустить род Валуа к фламандскому наследству. Но, по крайней мере, он смог предоставить графству широкий выход к морю, выход, которого не хватало. Он разрешил брюггцам прорыть канал между реками Лис и Рейе. Это значило повернуть поток товаров из Западной Фландрии мимо Антверпена. Брюггцы, доселе непривычные к речным перевозкам, теперь на юге — например, как партнеры Куртре — могли соперничать с гентцами. Те быстро поняли, что эта ситуация сократит зону их торгового влияния. Гентские лодочники во главе со своим собратом Яном Юнсом отправились с заступами разрушать то, что сделали землекопы, нанятые городом Брюгге. Дело довершил муниципальный патриотизм. Лодочников поддержали ткачи. От налета на едва законченную работу гентцы перешли к восстанию против власти.
Историю с каналом скоро забыли. Ткачи поднялись против графа Людовика Мальского и делового патрициата, к которым испытывали равную ненависть. Наконец, местная солидарность отступила перед классовым духом: к движению примкнули ткачи Ипра и Брюгге.
Во Фландрии установилось нечто вроде народного правительства. Оно собрало войска, осадило Ауденарде, где укрылась значительная часть крупных бюргеров. Граф вступил в переговоры, обещая подтвердить муниципальные вольности. К концу 1379 г. зима остудила умы. Казалось, дело кончилось.
Перемирие дало каждому время на размышление. Брюггские мясники, рыбники, галантерейщики, скорняки вскоре решили, что ткачи необдуманно втянули их в противоестественный союз с городом-соперником: пусть гентцы выпутываются сами. Гентцы, конечно, устроили это восстание не ради интересов Брюгге. Когда брюггские ткачи в 1380 г. увидели, что их гегемонии угрожают другие ремесла, они заметили, что их гентские собратья не оказывают им никакой помощи.
Гентцы оказались во Фландрии в одиночестве. При плохом снабжении, часто под угрозой со стороны армии графа Людовика, страдая от безработицы, с 1380 г. они почти постоянно жили на осадном положении. Настоящие союзники у них были в Мехелене (в Брабанте) и в Льеже: интересы обоих этих городов, связанные с сетью водных потоков, были противоположны интересам Брюгге. И все французские города, которые восстанут, по той или иной причине, против сильных и богатых, будут это делать под лозунгом «Да здравствует Гент!».
Тогда гентское движение возглавил Филипп ван Артевельде, сын героя 1345 г., чтобы уточнить цели и придать всему делу некоторое единство. В частности, более четкой стала идеология: нечто вроде непосредственной демократии. Установили контакты с Англией — надо было не допустить новой шерстяной блокады. Но в первую очередь Артевельде старался ослабить соперничество городов, которых разделяли внешние интересы, но которых в качестве общего знаменателя могла объединить внутренняя политика: Брюгге, Гент, Ипр равно страдали от господства финансовых кругов, от отсутствия сбыта промышленных товаров.
Артевельде был кем угодно, только не экономистом. Он не задавался вопросом — как и никто в его окружении, — почему от отсутствия сбыта не страдают брюссельские суконщики. Люди феодального средневековья, переживавшие экономический кризис, который пока не был кризисом нового времени, Артевельде и ему подобные находили доводы только в рамках той самой системы, от которой они страдали: их требования выражались в терминах привилегий, и производственные отношения они анализировали только согласно самым жестким цеховым схемам. Тем временем свое развитие нашла инициатива сельских вольных ремесленников, к величайшей выгоде дальновидных финансистов. На первые позиции на рынке стала выдвигаться продукция суконной промышленности вторичных центров — деревень или маленьких городков. Артевельде рассчитывал разрешить все трудности, объединив для проведения общей политики соперничающие цеха, в равной мере затронутые кризисом. Этот союз очень ненамного расширил территорию, охваченную восстанием.
В январе 1382 г. гентцы назначили Артевельде «капитаном Коммуны». 3 мая он вторгся в Брюгге во время процессии Святой Крови — поклонения драгоценной реликвии, привезенной из Иерусалима в XII в. и хранящейся в высокой часовне на площади Бург рядом с ратушей. Брюггцы, охваченные благоговением, не выставили обычной стражи. Никто не сумел дать отпор, и граф Людовик Мальский нашел спасение только в довольно бесславном бегстве. Ему пришлось пересечь рвы вплавь, чтобы его не схватили у ворот города.
Брюггские ткачи по-прежнему испытывали симпатии к Генту. Другие цеха тоже охватил энтузиазм. Тех брюггских ремесленников или лавочников, которых заподозрили в прохладном отношении к революции, перебили. Гентцы и их тогдашние союзники стали хозяевами Брюгге. Другие города не замедлили с величайшим пылом примкнуть к движению. Весной 1382 г. Артевельде стал фактическим правителем Фландрии. Людовик Мальский, поначалу укрывшийся в Лилле, больше не мог держаться за независимость: как некогда его отец Людовик Неверский, он позвал на помощь короля Франции.
Английские «трудящиеся»
Ричард II и его советники в 1381 г. были далеко не в состоянии воспользоваться этой временной слабостью, чтобы снова вмешаться в дела на материке: они переживали мрачные времена, и закономерен вопрос, не могло ли корону Плантагенетов, положение которой уже ослабло из-за борьбы за влияние в окружении юного короля, за несколько дней смыть одной из самых грозных волн, какие когда-либо обрушивались на остров, — волной «трудящихся». Английскому королю было уже не до Бордо, Ажена или Пуатье, Кале или Понтьё: его напугали в Лондоне.
Как и во многих других случаях, революционный взрыв здесь вызвали налоги. Англия не испытала военных разорений, но она несла бремя их финансирования. Все годы, пока герцогство Гиень находилось в обороне, английские податные непрестанно выплачивали средства, поступавшие в Бордо в кассу «коннетабля»: так называли главу финансового управления в герцогстве. Хорошо известно: чтобы удержать страну с помощью постоянных гарнизонов, надо гораздо больше денег, чем чтобы завоевать ее в ходе быстрого набега. Удобное время выбирает нападающий, а не защитник. Короче говоря, доходов герцогства для этой задачи не хватало, а англичане задавались вопросом, какую пользу приносит эта нескончаемая война. Они полагали, что никакой.
Налог был тяжелым, но поступал плохо. Защитой для средневекового податного были уклонение от налогов и задержка их выплаты. В 1377 г. подать составляла серебряный грош с души, в 1380 г. она повысилась до трех грошей. Одно время городские и сельские коммуны пытались уклоняться от налогов, искажая списки. Здесь «забывали» включить в них девушек, там — вдов. Правительство Ричарда II, заметив оскудение поступлений в казну, отреагировало: были направлены уполномоченные для проверки списков на местах. В списках восстановили тысячи имен — с каждого причиталось по три серебряных гроша, то есть три дня работы сельского рабочего.
Восстание не заставило себя ждать. В конце мая 1381 г. первыми им были затронуты Эссекс и Кент — земли к востоку от Лондона. Через несколько дней заволновался Центр, потом Север. От Сассекса до Норфолка запылали замки вместе с их архивами грамот — свидетельствами социальной системы, которая с первых дней восстания оказалась под угрозой. Проповедник Джон Болл, пролетарский евангелизм которого был многим обязан пылу «спиритуалов» из францисканского ордена, появившихся несколькими поколениями раньше, быстро приобрел популярность, развивая несколько простых мыслей.
Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был дворянином?
В долгосрочной перспективе у кризиса были другие причины, кроме неумелости финансовых советников Ричарда П. Была манориальная система, все хуже подходившая к новым экономическим условиям, были личные статуты, отсталые по сравнению с материком, — разве крепостная зависимость не оставалась тяжелой и широко распространенной? — к тому же положение усугубляли зачатки сеньориальной реакции, которую отчасти вызывало сокращение населения. Не будем забывать о светском могуществе английской церкви: было совершенно естественно, что люди Кембриджа ополчились на колледжи! В тот самый момент, когда «трудящиеся» поднимались против установленного порядка, оксфордский магистр Джон Уиклиф проповедовал и призывал своих учеников проповедовать антицерковный реформизм, который церковь в 1382 г. осудит.
В той социальной войне, какой стало восстание «трудящихся», погибло немного людей: несколько королевских сборщиков налогов, несколько строптивых сеньоров, несколько слишком быстро разбогатевших купцов. Но многие дворяне отделались тем, что приняли в ней участие заодно с восставшими, и многие бюргеры искренне поддержали протест последних.
Огромная разница между английскими «трудящимися» и лангедокскими тюшенами и даже былыми «Жаками» с Французской равнины заключалась в том, что «трудящиеся» почти знали, чего хотят. Программа? Может быть, ее и не было. Но они сформулируют четкие требования, и они с самого начала знали, куда идут: в Лондон, где есть король и где изобилие съестных припасов.
К восстанию бедноты не добавились, как произошло в то же время в Лангедоке, бесконтрольные действия праздных вояк без кола и двора. В Англии не было компаний, бродящих в ожидании войны. На дороги Эссекса и Кента вышли только крестьяне, угнетенные налоговой системой — неумелой и равнодушной к экономическим трудностям, составному элементу катастрофической экономической конъюнктуры XIV в., когда недоставало рабочей силы и цены на сельскохозяйственную продукцию переживали застой.
И главное, что в Англии был Уот Тайлер. Это был английский Карль, но Гильом Карль был посредственным стратегом, а у Мериго Марше[85] не было и зачатков политического мышления. Тайлер же не оставался просто деревенским трибуном (рядом с которым вскоре встал пламенный Джон Болл) и полемистом, способным выступать перед простыми людьми. Это был вождь, который координировал действия «трудящихся», направлял их гнев в нужное русло и вел переговоры от их имени. Уот Тайлер сумел не допустить ненужных убийств. Многие бюргеры, которых не сдерживал страх перед резней, с удовольствием выражали симпатию к крестьянскому движению. Ведь разве налоговая система не была для них общим врагом?
Через две недели «трудящиеся» были в Лондоне. Сити продержался всего одну ночь: городские советники, сочувствовавшие восставшим, приказали открыть ворота.
Размах движения обеспокоил правительство Ричарда II. Двадцать, если не пятьдесят тысяч человек расположились в городе, сожгли несколько дворцов аристократов и кое-где захватили добычу, но энергичные дисциплинарные меры быстро восстановили порядок в их рядах. Грабители были повешены. Бюргеры вздохнули с облегчением. Лондон должен был только поставлять провиант; некоторые крестьяне еще старались платить за то, что съели.
Жертвы были выбраны не случайно. Это были непопулярные советники юного короля, те, кого считали ответственными за политическую катастрофу — потерю материка и разорение острова. Как некогда в окружении Иоанна Доброго, шли толки об измене. Не то же ли самое слово, чрезвычайно зловещее в то время, когда вассальная верность еще была одной из основ общества, через десять лет бросит тот несчастный, чьи проклятия вызовут первый приступ безумия у Карла VI? Изменники есть — полагали в Англии 1380 г. Казалось естественным их покарать.
Тайлер и его люди не искали добычи и не хотели кровавой бани. Это стало хорошо видно, когда они вступили в переговоры с королем (пусть сначала велев или позволив наказать ответственных за финансовую политику) и когда они оформили то, что начинало походить на программу. Это было просто-напросто потрясением основ общества: отмена крепостной зависимости, отмена постановлений, регулировавших право на труд, передача церковных земель крестьянам. Ричард II выигрывал время, делая вид, что идет на уступки. Он не мог отказать открыто, но он знал, что Роберт Ноллис снова собирает достаточно сильную армию.
15 июня ситуация переменилась — внезапно и резко. Король знал, что Ноллис готов выступить. В ходе переговоров королевское окружение побудило Тайлера повысить тон. Народный трибун был цельной натурой, он ни на миг не думал, что эти переговоры могут обернуться провокацией. Он угодил в ловушку и позволил себе дерзости. Не заботясь о протоколе — кто бы мог его научить протокольным правилам? — он выпил кружку пива на глазах у короля. В ответ на выпад одного советника он произнес неосторожное слово. В ход пошло оружие. Тайлер пал мертвым.
И королевская армия бросилась на крестьян, ошеломленных быстрой переменой ситуации. Профессиональные солдаты почти без труда обманули этих простаков, не ждавших подвоха: крестьяне попали в окружение. Авантюра закончилась. Радуясь уже тому, что им позволили уйти живыми, «трудящиеся» вернулись в свои деревни, а армия Ноллиса шла за ними по пятам. Отдельные запоздалые вспышки бунта были подавлены солдатами.
Тогда же проявилась реакция во многих графствах, охваченных восстанием. Надев бацинет, епископ Нориджский провел операцию по прочесыванию местности, подавив волнения в пяти-шести графствах.
Итак, Ричард II победил. Вся история не продлилась и месяца. Для острастки хватило нескольких казней. Амнистия в декабре подоспела как раз вовремя, чтобы успокоить народ, но не показаться проявлением слабости. Об уступках, с неохотой сделанных Уоту Тайлеру, конечно, не было и речи. Но понятно, что в 1381 и 1382 гг. у английского короля хватало забот, кроме как пользоваться на континенте временной слабостью короля Франции.
Французы против фиска
Сказать, что правительство Карла VI было в очень затруднительном положении, — это самое меньшее, что можно сказать. Оно совсем не имело возможности подавить бунт, подтачивавший во Фландрии будущее наследие герцога Бургундского, и при этом ему предстояло столкнуться по всему королевству с колоссальной волной восстаний, вызванных одновременно существованием фиска как такового и промахами в фискальной политике, измеримой нищетой разоренных земель и упадком духа, к которому всегда приводит военный психоз.
Противодействие сбору налогов открыто началось сразу после смерти Карла V. Он, терзаемый укорами совести, на смертном одре декретировал отмену подымной подати. Но он ограничился этим прямым налогом, а добрый народ слишком быстро посчитал, что отменили все налоги в совокупности, иначе говоря, отменили и косвенный эд, которым облагалось повседневное потребление. Из убеждения, а также для того, чтобы сдержать проявления недовольства в городах, народу вторили нотабли. Когда в ноябре 1380 г., вернувшись с коронации, король созвал Генеральные штаты Лангедойля, он услышал, что должен окончательно лишить себя — на время мира — любых ресурсов, кроме обычного дохода с королевского домена и от коронных прав. Начались волнения народа в поддержку требования Штатов. Отдельные проявления недовольства наблюдались в Париже перед дворцом.
Купеческий прево нашел русло, в котором горожане могли проявить свой пыл: королю направили прошение. Выступить с речью перед правительством поручили адвокату Мартену Дублю. Дубль был королевским адвокатом: парижские бюргеры еще мыслили в терминах прошений и не видели никакого парадокса в том, чтобы для выражения своей точки зрения послать верного слугу монархии. Ведь это было не восстание и даже не требование реформ.
Однако ярость населения обратилась против евреев. Убили одного раввина, разгромили несколько домов. Толпа требовала изгнания евреев, виновных прежде всего — в те времена экономических сложностей — в том, что они занимались делом, которым христианам каноническое право теоретически запрещало заниматься: ссужали деньги под залог. Отчасти из духа прозелитизма, отчасти ради глумления парижане похитили несколько еврейских детей у родителей с явным замыслом крестить и очевидным намерением выжить из города еврейские общины. Юг Обрио, доверенный человек Карла V, заставил вернуть детей родителям. В некоторых кругах ему не простят этого поступка. Правду сказать, беря под защиту детей, так же как он уже укрыл в Шатле их родителей, сумевших вовремя найти убежище в этой маленькой крепости на выходе с Большого моста. Юг Обрио только выполнял свои обязанности прево — пытался пресечь беспорядки.
В Сен-Кантене, Компьене, Лане сборщики эда в предыдущие недели несколько раз натыкались на грубый отказ, и их приезд вызвал волнения местного масштаба. Это было вполне заурядным явлением — со времен Филиппа Красивого сборщики и откупщики налогов насмотрелись всякого.
Королевское правительство, стараясь положить конец истории с евреями и при этом не вызвать массового возбуждения, могло занять лишь двусмысленную позицию. Оно велело вернуть евреям имущество, захваченное во время ноябрьских погромов: драгоценности, серебряную посуду, тряпье. В некоторых домах тогда сожгли долговые записи, но никто словом не обмолвился о признании этих долгов: исчезновение записей облегчило жизнь в числе прочих должников и многим дворянам, в отношении которых каждый знал, что они в той или иной мере подстрекали к погромам. Но, успокаивая евреев, правительство Карла VI в то же время подготовило ордонанс, обнародованный 20 марта 1381 г., который лишал евреев права собственности и ограничивал проценты со ссуды, которую можно было брать под денежный залог.
Антисемитизм не сложил оружия. Для гонений на евреев годился любой повод. В 1394 г. король положит конец волнениям такого рода, оставив их без объекта: все иудейские общины будут высланы из королевства.
Однако мятежи против налогов продолжались. Карл V отменил подымную подать, а правительство герцогов, дядьев Карла VI, в свою очередь отменило эд. Но жить-то было надо. В ноябре 1380 г. Штаты вотировали прямой налог, сбор которого не мог дать преимуществ, какие благодаря регулярности предоставлял любой налог на потребление. Поэтому в начале 1382 г. возобновились переговоры о косвенном эде.
С поистине дьявольской ловкостью люди короля ухитрялись обсуждать это дело только с маленькими группами нотаблей, не сообщая одной того, что слышала и на что согласилась другая. Цеха Парижа, которых, бесспорно, боялись, принимали по одному и притом в Венсенне, где никакой сочувствующий народ не мог волноваться у стен крепости во время приема делегатов. Наконец 17 января 1382 г. объявили о введении эда в полном объеме, но сделали это втихомолку, в час обеда. Почти никто этого не заметил. Те, кто это услышал, подумали, что это чистая формальность: о сборе нового налога речи не было.
К середине февраля парижане все-таки поняли: что-то затевается. Служащие короля готовились к сбору налогов, откупщики покупали откупа. Сохранить тайну было уже невозможно. На перекрестках и в тавернах начались стихийные совещания. Некоторые открыто заявляли, что ни в коем случае не будут платить. Четверо бюргеров были арестованы. Жан де Марес, очень популярный адвокат, с удовольствием пустивший в ход свои связи и свое пламенное красноречие, сделал несколько попыток добиться, чтобы сбор налога хотя бы отсрочили. Умы были возбуждены. Можно было опасаться худшего.
Как раз тогда взбунтовались руанцы. Штаты Нормандии вотировали налог; горожане узнали, что королевские чиновники готовятся потребовать больше, чем разрешили Штаты. 24 февраля восстало двести-триста рабочих-суконщиков. Ударили в набат. Народ собрался на Старом рынке и стал ломиться в ворота мэра и бывших мэров. Открыли тюрьмы. Разгромили дома нотаблей, которых подозревали в том, что те нажились, когда-то взяв в откуп сбор налогов. Надо сказать, что за такое дело, как сбор налогов, ни один откупщик не взялся бы, если бы это не приносило ему выгоды.
Несколько человек было убито. Большинство богатых бюргеров спасло себе жизнь, укрывшись в монастырях. Но капитул собора был разграблен, и аббатство Сент-Уэн сильно пострадало от ярости повстанцев. Правду сказать, о королевских налогах уже не думали. Теперь врагами стали богачи.
В доме бывшего мэра Гepy де Маромма повстанцы поломали мебель, выбросили на мостовую то, что могло пройти через окна, выпили часть содержимого винного погреба и вышибли днища у бочек, которые не смогли допить. Это был погром, а не попытка уйти от налогов.
На следующий день многие почувствовали себя изрядно утомленными этой «гареллью»[86]. Судьи вернулись к исполнению своих функций, но они не знали, как себя вести с королевскими чиновниками, которым так досталось накануне. Народ боялся репрессий и чувствовал, что за сделанное придется поплатиться. Направили делегацию к королю с просьбой о прощении. Очень надеялись, что она вернется из Парижа с подтверждением старинной «хартии нормандцам», которая обосновывала право короля собирать налоги и строго их ограничивала. Ответ королевского правительства был лаконичен:
В Руан приедет король. Он разберется, кто съел сало!
Майотены
По сравнению с событиями, которые теперь сотрясали Париж, руанская история была мелкой. После январских переговоров в столицу вернулось спокойствие. Крупные бюргеры не слишком гордились своим прежним поведением и не очень спешили поведать во всеуслышанье, что во время переговоров в Венсенне они пошли на большие или меньшие уступки королевским требованиям. Но спокойствие объяснялось всеобщим заблуждением. Хотя было твердо решено ввести налог, никто его не ждал.
Поэтому, когда в последние дни февраля откупщики восстановили налоговую систему, все удивились. С новой силой начались пересуды. Опять заговорили о заговоре. В качестве посредника вновь хотел выступить Жан де Марес, рассчитывая по меньшей мере оттянуть начало сбора. Может быть, ему бы это и удалось, если бы тогда не стали известны подробности событий «гарелли». Было очевидно, что нотабли Руана во многом утратили контроль над событиями. Правительство могло сделать вывод, что в подобных обстоятельствах Жан де Марес и ему подобные не представляют для него никакого интереса.
Правительство герцогов выиграло сутки за счет одной уловки. 28 февраля глашатаи объявили на всех парижских перекрестках, что украдена посуда короля или по меньшей мере ее часть. Это событие было новым. Его наперебой принялись обсуждать. Среди всеобщего гама глашатаи добавили, что с завтрашнего утра начинается сбор налога с розничных продаж. Этого никто не услышал.
К полудню откупа окончательно распродали. Чиновники и откупщики дружно решили избегать огласки. Распродажа не принесла никаких сюрпризов: новые откупщики были теми же людьми, которых современники Карла V видели на этой должности два-три года назад.
И утром 1 марта парижане, проснувшись, узнали: нечто затевается, но что — неизвестно. Слухи ходили самые противоречивые, а официальные органы молчали.
Бунт разразился, когда один откупщик вознамерился взять налог с торговки кресс-салатом. Начавшись на рынке, восстание охватило весь правый берег, а потом перекинулось по мостам. В нем дружно приняли участие мастера цехов, сбитые с толку экономическими переменами, безработные работники и ремесленники, опасавшиеся потерять клиентуру. Хозяева мастерских боялись фиска, клиенты страшились дорожания жизни. Некоторые были в восторге от возможности подраться с людьми прево. Другие сражались против фиска, чтобы не обанкротиться.
Ведь все уже было поверили, что налог умер и что этого будет достаточно, чтобы вернуться к процветанию. Ярость повстанцев отчасти была вызвана крахом мечты — они дорожили старым мифом о золотом веке.
Бесспорно одно: повстанцы первого часа, которые набросятся на дом откупщика, ростовщика или слишком богатого бюргера, были простолюдинами. Простолюдинами, среди которых с самого начала было некоторое количество таких маргиналов, как крестьяне, укрывшиеся в городе, или безработные слуги. Но очень скоро в их рядах появились и другие маргиналы — профессиональные воры и грабители с большой дороги.
Как обычно, принялись за евреев. Некоторых зарезали, других на месте окрестили. Нападали также на менял — по крайней мере, на тех, кто не был достаточно хитер, чтобы сразу же подхватить проклятия по адресу фиска. В общем, жертвами стали собственники, купцы, адвокаты, королевские чиновники. Запылали прекрасные дворцы правого берега. В первую очередь жгли архивы. Позже рассказывали, что многие дворяне подстрекали к погромам или не мешали им, очень довольные, что и на сей раз обращаются в дым расписки о долгах, недавно сделанных ими у кредиторов всех мастей.
Можно было ожидать реакции со стороны короля. Значит, нужно было оружие. Толпа выломала двери ратуши на Гревской площади и захватила там две-три тысячи свинцовых молотов, недавно запасенных в этом импровизированном арсенале на случай, если бы какой-нибудь Ноллис вломился в столицу.
Тех, кого назовут «молотами» (Maillets), реже в то время — «майотенами» (Maillotins), пошли искать подкреплений в тюрьмах. Были захвачены Шатле, Фор-Левек, Тирон. В свою очередь не выдержали и ворота Дворца правосудия.
Зажиточные бюргеры, сначала захваченные врасплох, а потом поддавшиеся соблазну выть по-волчьи вместе с волками и мало склонные петь хвалу фиску, теперь встревожились из-за оборота, какой стали принимать события. Они, конечно, хотели конца налога, но не разгрома столицы. Уже насчитывалось десятка три убитых. Никто не сомневался, что король потребует расплатиться по счетам.
Состав делегации был импровизированным: законники, магистры университета, несколько купцов встретились у Сент-Антуанских ворот с герцогом Бургундским и несколькими королевскими советниками, прибывшими для этого из Венсенна. Парижане выдвинули условия: отмена налога, всеобщая амнистия. Люди короля их отклонили.
Восставшие тщетно искали вождя. В Фор-Левеке майотены освободили среди прочих бывшего прево Юга Обрио, который попал в тюрьму в прошлом году потому, что нарушил некоторые привилегии университета, а правительство герцогов меньше всего было расположено защищать одного из бывших служащих Карла V. Обрио был ненавистен нотаблям, клирикам, студентам. На данный момент повстанцы забыли, что он прежде был начальником полиции, и постарались видеть в нем только заклятого врага привилегированных и жертву власть имущих. Ему предложили возглавить восстание.
Обрио был слишком благоразумен, чтобы попасть в ловушку. Сын дижонского менялы, он побывал прокурором герцога Бургундского, потом его бальи в Дижоне, прежде чем перейти на королевскую службу. Это был юрист, администратор, строитель. Не бунтовщик. Выступить против ратуши и университета его в свое время побудили интересы короля, а не демагогические соображения. Он прекрасно понимал, что, если примет предложение майотенов, ему рано или поздно отрубят голову. Государственной измены бывшему парижскому прево никто бы не простил.
Он было подумал снова стать узником епископа, потом предпочел заночевать дома. Но на следующее утро он, не привлекая внимания, покинул столицу. Снова обнаружился он в Авиньоне, у папы Климента VII.
Правительство герцогов спешило покончить с этим делом. Если бы парижане нашли своего Артевельде, события могли бы иметь продолжение. Восстание против налогов могло распространиться на все королевство. Уже многие города волновались, чаще всего поднимая лозунг: «Да здравствует Гент, наша мать!»[87]. В Нормандии, Шампани, Пикардии налоговые чиновники обращались в бегство. Амьен, Орлеан, Лион отказывались платить какой бы то ни было новый налог. С другой стороны, срочно надо было покарать мятежников Гента и Руана.
В качестве посредника выступило духовенство. 13 марта 1382 г. король даровал всеобщую амнистию. Из списка помилованных исключили четыре десятка вожаков — это были простые люди и нотабли, когда-то ведшие переговоры в надежде предотвратить репрессии. Воплощением королевского правосудия стал десяток повешенных. Остальные мятежники отделались испугом: 25 марта прево помиловал тех, на кого не распространилась амнистия.
Крупные парижские бюргеры были удовлетворены. Репрессии сделали свое дело, надолго смирив народное недовольство. 1 марта бюргеры испугались, 13 марта взяли восстание под свой контроль. Таким образом, борьба с налогом вылилась в укрепление позиций хозяев и собственников и в их гарантированное спокойствие. Дело майотенов завершилось победой демагогов и краснобаев, которые в феврале были защитниками податных, в марте — сторонниками порядка и в конечном счете — поборниками парижских вольностей.
Репрессии
Без труда можно было понять, что король ни в чем не уступил. Штаты, собравшиеся в Компьене, вотировали сбор эда. Депутаты от Парижа оспаривали размер этого налога, но не решились воспротивиться ему, опасаясь нового массового подъема. На самом деле парижское бюргерство рассчитывало на гентцев. Во всех кабачках, за играми в шары или кегли, на рынках и в лавках все на словах вели себя как заговорщики, но рисковать не хотели. В этом смысле показательна безропотность суконщика Обера из Дампьерра. Когда его изобличили как участника заговора против фиска, он дал себя арестовать, даже не позвав на помощь: он сказал себе, что в случае восстания погибнут слишком многие. Добрые парижские горожане были врагами фиска, но притом и врагами беспорядка. Если победа фламандцев нейтрализует королевскую власть, тогда будет видно.
Пока Париж занимал выжидательную позицию, а Фландрия организовывала свою жизнь без графа, Карл VI занялся Руаном. К тому времени, когда он вступил в город (29 марта) уже отрубили головы главным зачинщикам «гарелли», сбросили колокола с колокольни, снесли укрепление у ворот Мартенвиль, сняли цепи с улиц и конфисковали оружие у горожан. В назидание королевское правительство распустило коммуну и отменило привилегии руанцев на перевозку товаров. Заодно город обложили особо тяжелым налогом.
Ошеломленные руанцы четыре месяца вели себя спокойно. Но когда штатам Нормандии навязали новый эд с потребления, сдержать ярости горожане уже не сумели. 1 августа 1382 г., когда сборщики налога установили свой прилавок, на суконном рынке вспыхнула вторая «гарелль». Бальи удержал город под контролем: инцидент не получил развития. Тем не менее люди короля сошлются на этот рецидив, чтобы окончательно подавить Руан.
Пока что каждый восставший город вел бой по отдельности, никакой координации между ними не было. Конечно, горожане много писали. Они обменивались сведениями и подбадривали друг друга. Но перед лицом королевских репрессий города остались в одиночестве, каждый сам за себя. Герцоги — повсюду руководившие молодым королем — могли карать города один за другим, посвящая этому все свое время.
В августе 1382 г. Филипп Бургундский добился в Совете, чтобы приоритет был отдан фламандским делам. Его они в достаточной мере интересовали. Поэтому 18 августа Карл VI принял в Сен-Дени орифламму, присутствие которой в армии делало фландрский поход не просто набегом, а акцией по защите монархического порядка. Гентцы в то время тщетно добивались, чтобы король выступил арбитром в споре между ними и их графом: они забыли, что герцог Бургундский уже сам чувствовал себя графом Фландрским. И кроме того, Филипп Храбрый сумел придать предприятию облик крестового похода: было объявлено, что Фландрия должна признать папу Климента VII. В то время, когда у церкви было два главы, любая политическая акция могла найти новый резонанс, если ее вписали в эту драму всего христианского мира.
У Артевельде не было выбора. Он обратился к Англии. Ричарда II не слишком радовало, что французы хотят подчинить Фландрию, к тому же он признавал папой Урбана VI. Если Авиньон признает новые земли, это могло его только встревожить. Поэтому Артевельде без труда добился очень расплывчатых обещаний. Он этим довольствовался.
18 ноября королевская армия под дождем покинула Лилль. На следующий день умелый маневр позволил ей занять Коминский мост и таким образом перейти через реку Лис. 21 ноября сдался Ипр. Артевельде застали врасплох: в планах обороны он рассчитывал на Лис. Чтобы не допустить осады Гента, ему теперь нужно было искать сражения на открытой местности.
Армия гентцев продвинулась к Розебеке, выстроилась там треугольником, обращенным острием к королевской армии, поставила артиллерию на вершине холма и стала ждать дня, чтобы перейти в атаку. Дело было 27 ноября. На рассвете, в тумане, который медленно таял, гентцы атаковали, издавая устрашающие крики. Французские рыцари отошли на несколько шагов. Опасаясь ее братания с мятежными коммунами, пехоту поставили сзади.
Гентцы не видели, что их обходят. Рыцари, отойдя назад в центре, окружили их с флангов. И началась бойня, где активней применяли булавы и боевые секиры, чем мечи. Под их ударами слетали бацинеты и раскалывались черепа. Теперь победа была достаточно обеспечена, чтобы не опасаться за верность сержантов французского короля: их ввели в бой, чтобы добить раненых ножами.
Потерпев поражение, фламандцы стали уже просто мятежниками против Бога и короля. Ту же судьбу испытали их прадеды после Монс-ан-Певеля. Их трупы бросили собакам и птицам. По особо выраженному желанию графа Людовика тело Филиппа ван Артевельде повесили в назидание народу.
После этого Брюгге решил опередить события. Город признал верховенство короля, отрекся одновременно от союза с англичанами и от папы Урбана VI и даже согласился заплатить большой штраф. Куртре захватили врасплох: оскорбленные французы еще не забыли о золотых шпорах, которые по-прежнему украшали свод церкви Богоматери и которые когда-то принадлежали их предкам. У Филиппа Бургундского была и более приземленная цель: захватить в архивах Куртре письма, которые, по слухам, посылали туда парижане в течение двух последних лет. Разве не рассказывали, что те же парижане только что задержали на Фландрской дороге обоз с припасами, которого ждала королевская армия? Не найдя в архивах доказательств заговора, французы сожгли город.
Благополучно все кончилось в конечном счете только для гентцев, оставшихся дома. Несколько тысяч их сограждан нашли гибель при Розебеке, но герцог Филипп хорошо понимал, что город не согласится на разорение, на какое его обрекал штраф, затребованный первоначально, — триста тысяч франков. Осаждать Гент в начале зимы значило идти на бесполезный риск. Победа была блестящей; герцог Бургундский счел за благо тем и удовлетвориться. Его тесть граф Фландрский получил всю выгоду от интервенции, которая вернула ему власть, но не хотел, чтобы французы теперь остались в его землях навсегда. Филипп, несомненно, догадывался, что в его интересах не затягивать оккупацию. Не говоря этого открыто, все согласились на том остановиться.
Конечно, у королевской армии были и другие задачи. Она двинулась на Париж. 2 января 1383 г. король был в Компьене. Столица сделала вид, что готовится к торжественной встрече победителя. Купеческий прево и эшевены поехали в Компень, чтобы оговорить детали церемонии. На самом деле с тех пор, как в Париже 1 декабря узнали о победе при Розебеке и разорении Куртре, в городе все трепетали. Несколько арестов, сделанных с 5 по 10 января, дали понять и самым упрямым оптимистам, что король отнюдь не простил «молотов».
И января Карл VI вернул орифламму в Сен-Дени и направился в Париж. Несколько сот парижан вышло навстречу армии к Монмартру, надеясь смягчить короля приветствием ему. Их притворный энтузиазм был принят холодно.
Возвращайтесь в Париж. Когда я сяду на судейское место, приходите и просите, и будете услышаны.
Реплика юного короля задавала тон. Встав от Санлисской до Мелёнской дорог, Париж окружили три армейских корпуса. Король был в доспехах. Как когда-то в Руане Иоанн Добрый. Суверен ехал вершить суд.
От армии было выслано вперед несколько латников. Выйдя одновременно с горожанами, которые вернулись озадаченными, они пошли занимать позиции в Лувре.
Парижане сочли ловким ходом показать силу, а может быть, просто-напросто продемонстрировать лояльность. Во всяком случае, они выставили вдоль маршрута короля контингент муниципального ополчения с луками, арбалетами и боевыми молотами. Королю это очень не понравилось.
Подошли к воротам Сен-Дени, широко открытым для входа короля. Тем не менее сержанты приподняли створки, вытащили из них штыри и с большим грохотом сбросили их. Символику этого жеста поняли все. То же самое люди короля сделали год назад в Руане. С привилегиями Парижа было покончено.
В то время как король отправился в собор Парижской Богоматери слушать «Те Deum», Оливье де Клиссон и маршал Сансерр заняли вооруженными силами Большой и Малый мосты. Один гарнизон разместился во дворце Сен-Поль, другой — в Бастилии. Один отряд расквартировали у Невинноубиенных, в двух шагах от Крытого рынка и Шатле, и он был готов к немедленным действиям в городе. Чтобы обеспечить мобильность при проведении операций, королевские сержанты сняли цепи на улицах и отнесли их в Лувр.
На следующий день повесили троих главных вожаков восстания майотенов — двух суконщиков и одного золотых и серебряных дел мастера.
На Париж обрушился страх. Несколько дней продолжались аресты: брали сначала нотаблей, «главных творцов и зачинщиков мятежей и неповиновений», потом взялись за мелкую сошку, которая часто становилась жертвой мести и зависти соседей, не имеющей особого отношения к событиям 1382 г. Всякий, кто что-то брякнул в течение трех последних лет, попадал в лапы королевских комиссаров, которые официально должны были вести следствие, а фактически — надолго отбить у парижан охоту плести заговоры. Армия тем временем грабила, избивала, насиловала.
Не забыли и тех, кто успел бежать из города, зная, что их ждет. Сначала от них потребовали вернуться, а потом их приговорили к изгнанию и конфискации имущества.
19 января шесть человек вывели к виселице. Среди них был старый Никола Ле Фламан, очень уважаемый суконщик, который входил в состав парижской делегации на переговорах как в марте, так и в мае 1382 г. и слыл сторонником либеральных реформ. Некоторые очень кстати вспомнили, что некогда видели его в окружении Этьена Марселя во время убийства маршалов.
20 января парижане узнали, что боролись напрасно: с 1 февраля 1383 г. вводился косвенный эд на все товары, в частности, на вино и соль. Король даже не посоветовался со Штатами.
Казни продолжались до конца февраля, причем о суде и речи не было. Тем самым несколько десятков парижан, повешенных или обезглавленных, расплатились за страх, который некогда внушили королевскому правительству. Одной из последних жертв этих репрессий оказался 28 февраля адвокат Жан де Марес. Демагог и соглашатель, этот новый Робер Ле Кок три года играл двусмысленную роль человека, успокаивающего волнения, которые отчасти сам и вызвал. Его смерть успокоила прежде всего тех, кого не прекращали тревожить его очевидные политические амбиции. Де Марес с первых часов царствования был красноречивым защитником прав герцога Анжуйского на регентство. Филипп Бургундский и Иоанн Беррийский вспомнили об этом.
Наконец король обратил свою милость в монету. Тяжелый штраф, наложенный на весь город, и несколько сот конфискаций поддержали на плаву королевские финансы и состояния многих придворных.
Прежде всего надо было уничтожить душу парижского сопротивления, лишив город единственного органа, придававшего ему политическую и экономическую сплоченность, муниципалитета, который не был таковым, потому что Париж не имел хартии: купеческое превотство — прево и его четыре эшевена — отныне представляло город только в той мере, в какой это было удобно королевской власти, иначе говоря, когда король нуждался в собеседнике. 27 января 1383 г. должность купеческого прево была объединена с должностью прево Парижа: отныне у города не было другого главы, кроме королевского чиновника. Все суды, которым были подсудны только представители отдельных профессий, были распущены. Цеха больше не имели даже права собираться вместе, кроме как на мессу. Парижский прево, легист Одуэн Шоверон, даже поселится на Гревской площади в знаменитом «Доме с колоннами»: ратуши больше не было.
Тем временем королевские комиссары получили задание «реформировать» Руан. Мятеж 1 августа против налоговых агентов аннулировал королевское прощение. За вторую «гарелль» следовало заплатить еще дороже, чем за первую. Но она длилась всего несколько часов, и руанцы думали, что о ней забыли. Они были ошеломлены, когда королевские «реформаторы» — которых они радостно приветствовали, полагая, что те прибыли организовать королевское прощение, — с места в карьер арестовали триста человек. На Руан обрушились коллективные и персональные штрафы. Некоторые горожане были изгнаны, кто-то бежал, чтобы избежать штрафа. Город оказался обескровленным.
Больше, чем нотаблей, которые постарались спасти часть богатств и быстро восстановить экономическую базу своего могущества, это испытание разорило средних бюргеров, которые получали хорошие прибыли при общем процветании, но почти не имели резервов. Лишившись муниципальной автономии, лишившись привилегий, которые защищали руанскую торговлю на Нижней Сене, руанское общество пришло в растерянность.
Внедрения в 1391 г. нового муниципального устройства, предоставлявшего королевскому бальи всю реальную власть на местах, было недостаточно, чтобы обеспечить восстановление экономики. Преступление Парижа было не меньшим, чем преступление Руана, и Парижа король боялся больше, но он не желал разорения своей столицы после того, как усмирил ее. Поэтому гнет в Париже ослаб раньше, и вот парадокс: муниципальная автономия быстрей восстановилась в городе, никогда не имевшем настоящего муниципалитета, и торговые привилегии раньше вернули себе бюргеры, прежде столь часто подрывавшие королевскую власть. К этому возрождению приложил руку такой исключительный человек, как Жан Жувенель, назначенный в 1389 г. «хранителем должности купеческого прево». Взявшись защищать экономические интересы Парижа, Жувенель инициировал ряд процессов в парламенте, которые выиграл. С 1400 г. парижане могли торговать на Нижней Сене без посредничества руанцев, а вот руанцам торговать выше Парижа по реке было запрещено. Это неравенство условий и возможностей будет угнетать нормандцев еще при Людовике XI.
Тюшены
В Генте, Руане, Париже, Лане ситуация была одной и той же. Мотивы были схожими. Возбуждение в одном городе заражало другой. Ним, Каркассон, Алес, Безье — это был другой мир, где мало интересовались городскими пролетариями Севера и другими глазами смотрели на трудные времена, последствия войны, кризисы экономики.
Лангедок был довольно слабо затронут англо-французской войной. Вспомним набег Черного принца за год до Пуатье. С тех пор внимание воюющих сторон приковали Гиень и Нормандия. Ажене, Перигор, Лимузен заплатили войне более тяжелую дань, чем равнины королевского Лангедока. И тем не менее население от Тулузы до Безье жило в постоянном страхе и испытывало бедствия военных времен.
В 1348 г. равнина сильно пострадала от Черной чумы. В 1363 г. «горная чума» выкосила многих людей в горных местностях как Беарна, так и Руэрга. «Компании» 1360-х годов рыскали по этому краю, грабя и взимая выкуп ради выгоды, сжигая и разоряя ради развлечения или из мести. Здесь бесчинствовала «Большая компания», и отряды Дюгеклена по дороге на Испанию занимались тем же самым. Поэтому Лангедокский мир, каким его устроил в качестве королевского наместника герцог Людовик Анжуйский, в течение всего царствования Карла V был всего лишь бесконечной чередой осад, рейдов и налетов. Рутьеры в лучшем случае соглашались на переговоры, и контакт с ними заканчивался выплатой «выгона». В худшем случае они творили разбой.
По мере сокращения населения благосостояние села падало. В тех местах, где еще с 1220 по 1340 гг. построили четыреста-пятьсот бастид, новых центров распашки нови, использования пахотных земель, их освоения, теперь ширилась залежь. Границы освоенных земель вновь спускались ниже по склонам гор и отступали на побережье. Они подходили все ближе к деревням.
Тем временем процветание городов губила небезопасность жизни. Сделки на ярмарках происходили все реже, и на радиусе сфер влияния торговых центров сказывалось беспокойство купцов, боявшихся отправляться в путь, опасный для их достояния и для жизни их близких. Городское население, тяжело пострадавшее от эпидемий, обездоленное войной, оправиться от последствий которой ему было не под силу, хирело. На Севере экономическая активность многих городов еще побуждала жителей села перебираться в них. В Лангедоке за пределами Тулузы и Монпелье упадок не прекращался. Средние города, например Альби или Ним, как и крупные бурги Севеннских и Косских гор, потеряли половину населения за несколько месяцев и с тех пор не восстановили его численность. Более того, ситуация продолжала ухудшаться. В 1450 г. пустых домов будет еще больше, чем в 1350-м.
Все шло к этой стагнации. Три всадника Апокалипсиса, война, голод и чума, лишь вызывали все новые кризисы, долгое время усугублявшиеся застоем цен на зерно, робостью инвесторов, выжидательной позицией населения, которой способствовали политическое отчуждение от власти и привлекательность для энергичных людей жизни в Париже, поскольку там королевская служба давала больше всего возможностей добиться успеха.
Все шло и к восстанию, ведь череда бед не позволяла местным жителям надеяться на близкое возвращение золотого века, который они даже не могли, как жители Лангедойля, отождествлять с эпохой святого короля Людовика IX.
Первой причиной для бунта здесь, как и везде, был налоговый гнет. Штаты Лангедока не устраивали из-за него столько шума, как их коллеги в Лангедойле, но все равно существовало чувство, что тяжесть налогового бремени не компенсируется пользой, какую налоги приносят населению в качестве платы за оборону. Жалкую экономику здесь налог подрывал так же, так и компании, рыскавшие по сельской местности и угрожавшие городу. Не случайно на смертном одре, как раз когда податные вступили в открытую борьбу с фиском, Карл V задался вопросом об обоснованности этого налога, благодаря которому он ранее мог править.
Раскладка налогового бремени только обостряла социальную напряженность. Это болезненней ощущалось в городе, чем в деревне, потому что в городе каждый лучше видел, как живет сосед, и богатство соседствовало там с крайней бедностью. Сельский поденщик не знал, что делает у себя поместье «благородный муж», наделенный фискальными привилегиями, тогда как подмастерье очень быстро узнавал, что решили к своей выгоде нотабли, заседающие во дворце консулов. Не меньше века в том же Лангедоке власть — сначала власть Альфонса Пуатевннского, потом королевская — в каждом городе должна была выступать в качестве арбитра в конфликтах, постоянно возникавших в связи с одними и теми же вопросами: прямой или косвенный налог, пропорциональный или прогрессивный? Ничего странного, что богатые купцы или ремесленники — и даже мелкое городское дворянство, присутствие которого было столь же обычным в муниципалитетах Южной Франции, сколь обычным было его отсутствие в муниципалитетах Северной Франции, — во всяком случае предпочитали налог с потребления налогу на имущество и выбирали лучше подушный налог, чем налог с ливра дохода.
Чем тяжелей становилось бремя, тем легче могла случиться вспышка социальной ненависти. В такой атмосфере не требовалось непосредственного повода, чтобы простой народ ополчился на богачей, на их дворцы и сундуки, на их положение в городе и на их место в ратуше.
Так, в 1378 и 1379 гг. мятеж породило тяжелое сочетание бедности и несправедливости. Жители Ле-Пюи восстали против эда. Это движение поддержали Ним, Монпелье, Алее. Сеньоры и нотабли дали ему отпор, повесили нескольких вожаков — например, в Клермон-л'Эро — и ненадолго успокоили массы, демократизировав деятельность муниципальных институтов. Но Карл V и его советники прекрасно видели опасность: они не забыли Этьена Марселя и его людей в красно-синих шаперонах.
Поводом по большей части становилась коллективная эмоция, часто обманчивые доводы и нелогичные выводы. «Как нам кормить детей?» — задались вопросом богомольцы в Ле-Пюи, собравшиеся вокруг статуи Богоматери для общей молитвы, прежде чем ограбить несколько патрицианских дворцов. «Поступим как другие!» — кричали многие потенциальные мятежники, узнав, что соседний город восстал. Били в набат. Многого не требовалось, чтобы одни или другие пришли в возбуждение.
Не менее эмоциональной была реакция тех, кому грозил гнев «простолюдинов». Разве в Безье в 1381 г. не ходили слухи, что мужики хотят убить богачей, чтобы силой жениться на самых состоятельных и самых красивых вдовах?
Поводом для взрыва стало назначение нового королевского наместника. Людовик Анжуйский успел разобраться в особых проблемах края. Но отныне его место было в Париже. Может быть, Карл V, чувствуя, что умирает, хотел, чтобы рядом был брат, уже назначенный на пост регента? Готовился ли уже — в частности, путем финансовых переговоров — итальянский поход, который должен был сделать герцога Анжуйского королем Неаполя и в то же время авиньонского папу Климента VII — римским папой? Как бы то ни было, Карл V призвал к себе брата.
Тогда на устах у многих по всему Лангедоку было одно имя: в качестве преемника герцога Анжуйского назначат графа де Фуа — Гастона Феба. На самом деле Карл V имел в виду этого человека, который всегда был оплотом королевской власти на Юге. Аристократия в этом высокородном принце узнавала себе подобного, горожане знали его как достойного человека, «простолюдины» его любили. Увы, Карл V умер, не успев его назначить. Выгоды от власти поделили дядья Карла VI. Назначения королевским наместником в Лангедок добился Иоанн Беррийский.
Иоанн Беррийский оставил по себе память как щедрый и просвещенный меценат, любитель изящной словесности и изысканных миниатюр. Но современники прежде всего отмечали жестокость, с какой он умел давить на податных. Вкусы этого принца — любителя искусств стоили дорого, как и его любовь к политической интриге. Весть, что наместником станет он, породила на Юге худшие опасения.
Гастон Феб какое-то время подумывал восстать. Лангедокские города колебались. Некоторые обещали поддержать настоящую акцию сопротивления. Граф де Фуа должен был стать их вождем. После вымирания рода Сен-Жилей и перехода графства Тулузского в королевский домен граф де Фуа мог претендовать на первое место среди крупных феодалов Лангедока. Но Гастон Феб был мудр. Как вассал короля Франции он был скорей союзником, чем приверженцем. Зачем ставить под угрозу столь выгодное положение? В 1381 г., когда Лангедок колебался, поддержать ли решение королевского правительства, никто бы не предположил, что престол Валуа пошатнется. Карл VI был ребенком, но его Совет состоял из принцев с большим политическим опытом и мог распределить власть, не разделяя ее. Было бы неразумно изображать себя королевским наместником вопреки королевской воле.
После того как Гастон Феб покорился, Иоанн Беррийский мог вступать в свои добрые города, особо не рискуя. И вот 8 сентября 1381 г. консулы Безье обсуждали организацию уже скорого въезда в город королевского наместника.
Простой народ с этим не смирился. Он не знал, до какой степени Советы французского короля в Париже со времен Гильома де Ногаре изобиловали баронами и юристами с Юга. Но он плохо понимал, почему это Лангедоком должен править человек с Севера. Масла в огонь подливали многочисленные толки об алчности герцога. Ремесленники и лавочники Безье встревожились, узнав, что их консулы готовятся открыть городские ворота этому пришельцу.
Консулы, сытые, союзники Беррийца — все едино, а Безье был одним из городов, где власть богачей допускала самый наглый произвол и самую откровенную несправедливость.
Перед ратушей выросла толпа. Здесь были ткачи, подмастерья, а также земледельцы. Выломали дверь. Башня загорелась. Нотаблям остался выбор: либо поджариться заживо, либо прыгнуть в окно и разбиться о землю.
Как во многих других случаях, гнев порождал гнев. Повстанцы пошли по улицам, громя дома самых видных бюргеров. Богатейшие дворцы Безье были разграблены. Девять человек убили. В ратуше погибло десять.
Это стихийное восстание, похоже, имело ограниченные пределы. Никто его не готовил и никто им не руководил. Суровая расправа, произошедшая, видимо, только в городе Безье, как будто исчерпала инцидент. Уцелевшие бюргеры повесили сорок одного мятежника, которых опознали. Чтобы произвести впечатление, четверых самых рьяных убийц зарубили топором на главной площади, причем плахой послужил винт масличного пресса. Через четыре месяца Иоанн Беррийский отметил свой въезд в Безье наложением на город огромного штрафа, на который нотабли — проявив определенный здравый смысл — согласились, чтобы избежать иного бремени. Но многие жители, не участвовавшие в восстании, сочли цену слишком высокой.
Во всем Лангедоке приезд Иоанна Беррийского способствовал тому, чтобы недовольство оформилось. Движение, руководимое тут муниципальными властями, там направленное против них и их союзников из числа бюргеров, было столь же разнородным, как и его причины. Некоторые города договорились между собой: так, Тулуза послала подкрепления Сент-Антонену, городу в Руэрге. Этих соглашений было недостаточно, чтобы произвести впечатление: инициативы остались стихийными, разрозненными и даже не скоординированными. Но за несколько месяцев весь Лангедок охватило восстание «простолюдинов» против людей короля и нотаблей из консульств.
Не было никакой программы, никаких требований, кроме одного: да погибнет фиск и те, кому он выгоден. Это была безнадежная борьба с нищетой, с тревогой, но она обернулась социальной войной внутри городских коммун, среди причин которой были и несправедливое распределение налога к выгоде богатых, и расхищение наследств, и задержка зарплат, и полные либо пустые погреба, и, достаточно редко, политические убеждения.
Реакция муниципальных властей, не менее хаотичная, чем сами восстания, выгнала на дороги самых заведомых бунтовщиков — тех, кто, узнав об истории в Безье, раздутой народной молвой, увидел тень виселицы. Формировались банды, не укреплявшие безопасности сельской местности и угрожавшие городам. Некоторые консульства, например в Ниме, приняли сторону повстанцев и вполне официально устроили гонения на знать и патрициев. К движению примыкали рыцари и оруженосцы — из прагматических соображений, иногда из враждебности к королевской администрации во всех ее формах. Так, богатый юрист из Каркассона Пьер Буайе предоставил снаряжение нескольким бандам.
Этим бродячим бандам быстро дали название — «тюшены», те, кто находится в «touche», иначе говоря, в ландах. Мы бы сказали — «маки»[88].
Тюшены нашли на больших дорогах других хорошо известных бродяг — последних рутьеров из компаний, «расформированных» Карлом V. Те еще встречались в горах Оверни и Веле, на известняковых плато Руэрга и Керси. Люди, не ведавшие ни ненависти, ни привязанностей — в отличие от беглых горожан, — но готовые к любым грабежам и насилиям, потому что им надо было жить, а другого ремесла они не знали, рутьеры лучше умели вести бои и осады укрепленных городов, чем ткачи или тележники, больше привычные к дракам на перекрестках. Их таланты дополняли друг друга. Бывший солдат обучал военному делу бывшего подмастерье.
Охота на тюшенов открылась в 1382 г., как раз когда Карл VI даровал всеобщее прощение всем, кто вернулся к мирной жизни. В следующем году лангедокские власти Иоанна Беррийского прибегли к беспощадным вооруженным репрессиям и в то же время к штрафам. В Лионе в июле 1383 г. ассамблея уполномоченных от нескольких городов Лангедока не могла не вотировать возобновления сбора эда. В 1384 г. герцог Беррийский и его финансисты сами назначили огромный штраф в 800 тыс. франков, который должен был выплатить за четыре года Лангедок, чтобы искупить свои «преступления». Разложили его так: 468 тысяч на всех, 332 тысячи на самые виновные города. Каждый выкручивался как мог, вводя подымную подать или облагая дополнительным налогом потребление. В частности, тяжелый налог брали при покупке мяса в мясной лавке.
Тогда Иоанн Беррийский организовал масштабную полицейскую операцию для очистки Лангедока от последних тюшенов. Большинство было разгромлено. Те, кто избежал побоища, вернулись к своим прилавкам и постарались, чтобы власти о них забыли. Осенью 1384 г. от Нима до Тулузы вновь воцарился порядок.
На самом деле никакие проблемы не разрешились, разве что консульские власти стали внимательней к беднякам. Отдельные города, прежде не думавшие об этом, произвели оценку имущества собственников. Дело дошло до пропорционального налога на имущество. Еще изобретали хитроумные коэффициенты, спасая от фиска крупнейшие вотчины. В целом тюшены не добились ничего, но они ничего и не требовали. Они терроризировали всех, чьи руки не были мозолистыми. Их бесцеремонно вернули к работе.
Что касается безработных солдат, они сплотили ряды и заново объединились в небольшие отряды, чтобы заниматься грабежом, заменявшим им ремесло в отсутствие настоящей войны. Некоторые даже осмелились найти себе логова, устроились в заброшенных замках или просто создали постоянные базы, удобные как для зимовки, так и для складирования добычи. Вантадур в Лимузене, Ла-Рош-Ванде в Оверни — там устроился Мериго Марше, которого позже публично обезглавят в Париже на Крытом рынке, — стали, таким образом, к 1390 г. незаконными крепостями.
Население окрестностей не преминуло заявить протест. Штаты Оверни отправили депутатов к Карлу VI. Рутьеров выбили из их донжонов. Но этого было мало, чтобы обескуражить Мериго Марше. В следующем году он открыто набрал новые отряды на обычных условиях: никакого жалованья, но гарантированная добыча. В Оверни 1391 г. можно было найти людей, готовых «грабить и обирать».
Английский крестовый поход во Фландрию
Правительство Ричарда II косо смотрело на то, что король Франции овладевает ситуацией. Победа при Розебеке не соответствовала английским интересам во Фландрии, как и подавление восстаний против фиска, который давал королю возможность финансировать политику, а при необходимости и войну. Поэтому английский король благосклонно прислушался к речам Урбана VI и его приверженца, епископа Нориджского Генри Диспенсера, который в то время проповедовал крестовый поход против приспешников дьявола — сторонников Климента VII. Если точней, этот поход был направлен против графа Фландрского Людовика Мальского. Так же в свое время рассуждал Филипп Бургундский, зять этого графа, когда добился, чтобы перед армией французского короля, идущей на войну с фламандскими повстанцами, несли орифламму.
23 февраля 1383 г. в Вестминстере парламент одобрил идею крестового похода. Одни думали о сбыте английской шерсти и о безопасности Кале. Другие искренне верили, что сторонники Климента подрьшают христианское единство. Римская курия хотела вновь получить возможность пользоваться таким финансовым центром, как Брюгге, через который обычно шли папские налоги, собранные в Северной Европе, в Великобритании и в Скандинавии. Уже было понятно, что Францию или Кастилию невозможно заставить силой признать другого папу, и это относилось также к Германии или Англии. Но в пограничных областях силой можно было кое-чего добиться. Фландрия как раз и была такой пограничной областью, где вели бои приверженцы обоих пап и где некоторые города — не самые незначительные — можно было привлечь на сторону того или другого папы.
Поход задержался, потому что встал вопрос, кто будет командовать. Король не был к этому готов. Епископ изъявил готовность, но бароны сомневались в его военном опыте. И многие англичане удивлялись, зачем нападать на Фландрию, где города, враждебные своему графу, охотно признают Урбана, а не на какую-нибудь местность, преданную делу Авиньона.
Экспедиция была готова к весне. Диспенсер принял крест 17 апреля в церкви Святого Павла в Лондоне. Из прихода в приход ходили проповедники. Против похода выступили отдельные противники чрезмерного обмирщения церкви, такие как богослов Джон Уиклиф.
17 мая английская армия высадилась во Фландрии. При епископе Нориджском было несколько капитанов: Хью Калверли, Уильям Элмхем, Томас Тревет. Но Диспенсер был слишком уверен в себе, чтобы прислушиваться к советам военных. Едва собрав четверть ожидаемой армии, под ногами которой путалось множество возбужденных клириков и болтливых нищенствующих монахов, ничем не занятых, он вознамерился сразу же пойти на Гент. 20 мая крестоносцы вступили в город. Они разграбили его.
Фландрия возмутилась. Граф Людовик, находившийся в Лилле, отправил посольство, чтобы потребовать ответа, на каком основании Англия ведет с ним войну. Общее удивление вызвал тот факт, что именем креста разгромили город, отнюдь не отличавшийся особыми симпатиями к Клименту. Епископ ответил: всех, кто встанет на сторону Урбана, пощадят. Потом он повел свою армию на другие города. Англичане заняли Дюнкерк, Берг, Бурбур, Кассель, Поперинге. 8 июня они осадили Ипр.
Людовику Мальскому снова ничего не оставалось, кроме как обратиться к королю Франции, фактически к Филиппу Бургундскому. Сбор королевской армии был назначен в Аррасе на 15 августа. Епископ Нориджский не нуждался в том, чтобы ему повторяли дважды: 10 августа, узнав, что Карл VI уже покинул Париж, он снял осаду с Ипра и отошел к Бергу и Бурбуру.
8 сентября французы отбили Берг. Через неделю, после попытки дать отпор и нескольких часов переговоров, которые вел герцог Иоанн IV Бретонский, несколько смущенный тем, что должен сражаться с бывшими английскими союзниками, гарнизон Бурбура капитулировал и ушел в Кале. Гравелинцы в свою очередь договорились об условиях капитуляции: Карл VI предложил им пятнадцать тысяч франков. Это было дешевле, чем осада. Потом он велел снести городские укрепления.
На том дело закончилось. Заключили перемирие. Когда Диспенсер вернулся в Англию, его приняли плохо. Крестовый поход во Фландрию обошелся очень дорого как клирикам, так и мирянам. Самым рьяным казалось, что поражение признали слишком быстро. Капитанов, взявших деньги за капитуляцию, обвинили в измене. В парламенте в октябре 1383 г. новый канцлер Майкл де ла Поль отметил, что нельзя вести войну со всем миром. Палата общин заявила, что епископ Нориджский получил деньги на поход, которого, по сути, не было. От него потребовали отчета.
Филипп Храбрый — граф Фландрский
Филипп Бургундский действовал — и заставлял действовать короля — только в собственных интересах. 30 января 1384 г. смерть его тестя Людовика Мальского сделала его графом Фландрским. Он принял во владение свое графство, где сопротивление ему оказал только Гент. В следующем году гентцы попытались взять Брюгге и с помощью англичан заняли его внешнюю гавань Дамме. Совет французского короля принял решение о новом походе, В Слёйсе уже были сосредоточены войска, готовые к высадке в Англии. Их направили на Дамме, который 28 августа 1385 г. пал. Но дальше не пошли. Французы разорили Приморскую Фландрию, но не осмелились напасть на Гент.
Фламандцы устали от войны. Шесть лет страна терпела одно разорение за другим. Союз с Англией надежно гарантировал враждебность французского короля, а эффект от этого союза был скудным. В течение века фламандцы слишком часто убеждались, что англичане в конечном счете приходят слишком поздно, и потому теперь выразили скептицизм, когда последние посулили новый союз.
Бюргеры прежде всего поняли, что нужно считаться со своим новым сеньором, герцогом Филиппом. Со времен Филиппа Красивого и Ги де Дампьерра граф Фландрский всегда разрывался между поползновениями на независимость и потребностью в помощи со стороны короля, когда города слишком активно проявляли стремление к автономии. Теперь граф Фландрский Филипп Храбрый сам был герцогом Бургундским и хозяином Королевского совета. Его независимость предполагала сильную и процветающую Фландрию, но не означала, что он отделит себя от французской политики. Впервые Французское королевство становилось на службу фламандским интересам.
Гент первым сделал шаг навстречу новому графу. Три эмиссара — рыцарь, мясник и лодочник — встретились с людьми Филиппа Храброго. Мирная конференция состоялась в Турне в декабре 1385 г. Бестактность гентцев едва не сорвала все: они прибыли с такой помпой, что французы ощутили зависть. Желание герцога Бургундского увидеть гентцев на коленях в свою очередь могло помешать заключению мира. Вовремя вмешались герцогиня Брабантская и графиня Неверская. 18 декабря мир был подписан. Свобода торговли, свобода признания любого папы — гентцы получили все, но герцог получил Гент. Торжественный въезд, который он устроил в свою новую столицу 4 января 1386 г. рядом с наследницей Маргаритой Фландрской, своей женой, ознаменовал начало новой истории — истории Бургундского государства.
Герцог Филипп вынашивал несколько масштабных замыслов: покончить с великой схизмой Запада, отбить у англичан охоту снова вмешиваться во фламандские дела, проникнуть в разные княжества на землях между Рейном и Шельдой. Он также хотел вновь укрепить в империи влияние французской политики, несколько ослабшее, несмотря на усилия Карла V, с тех пор как Филипп Красивый и его люди проявили там свои амбиции.
Правящая династия Баварии — Виттельсбахи — взяла под свою руку Эно и Голландию после брака графини Маргариты с императором Людовиком Баварским. Филипп Бургундский с большой помпой выдал дочь за графа Вильгельма, наследника обоих графств, а сына — будущего Иоанна Бесстрашного — за одну из сестер Вильгельма. Потом заодно уж он женил Карла VI на красавице-брюнетке Изабелле, дочери одного из трех братьев, разделивших между собой герцогство Баварию. Эту свадьбу сыграли в Амьене 17 июля 1385 г. Молодой король сразу влюбился.
Союза с баварцами было мало, хоть он и давал надежды унаследовать Эно и Голландию. Филипп Храбрый выступил сам (и побудил к этому своего племянника-короля) на стороне своей тетки Жанны Брабантской против герцога Гельдернского, а потом, в 1388 г., согласился на переговоры, чтобы не толкать герцогство Гельдерн к союзу с англичанами.
Ведь до мира было еще далеко. Время от времени продлевали перемирия, но постоянно говорили о войне. Мы видели, что приготовления к высадке в Англии, зашедшие достаточно далеко, позволили немедленно ответить на нападение гентцев на Брюгге. В 1386 г. возобновили подготовку «десанта». Пока герцог Ланкастер расточал силы Англии, тщетно пытаясь завоевать то, что он называл своим Кастильским королевством (он был женат на дочери Педро Жестокого) и продолжал старую распрю с Энрике Трастамарским, пока шотландцы тревожили англичан на границе при почти неприкрытом потворстве Франции, Филипп Храбрый сосредотачивал войска во Фландрии, снаряжал флот в порту Слёйс, и по его заказу из превосходного дуба делали детали «сборных» осадных машин, которые можно было собрать за три часа.
Все было готово. Когда король прибыл в Слёйс, отплытия не произошло. Герцог Беррийский добился решения Совета, что в Англию отправятся все вместе, чтобы во главе армии гарцевали король и его дядья. А ведь герцог Беррийский еще был в Лангедоке и не торопился приезжать. Правда, Иоанна Беррийского не расстроило бы, если бы его слишком прославленный брат герцог Бургундский упустил возможность показать себя в выгодном свете. Когда Иоанн наконец, 14 октября, прибыл, было уже поздно. Началась непогода, дни были короткими. Флот Клиссона, который тем временем сеял ужас на английском побережье, из-за ветров попал в ловушку в устье Темзы, и англичане разбили в щепы несколько кораблей. Герцог Беррийский провел решение, что к вопросу «десанта» вернутся весной.
Прошла зима, и действительно об этом снова заговорили. Один флот снарядили во Фландрии, другой в Бретани. Но герцога Иоанна IV Бретонского встревожила концентрация войск в Трегье во главе с таким человеком, как Клиссон, которого он знал как своего врага. Он пригласил Клиссона в Ванн, встретил с большим почетом и в конце обеда велел арестовать. Некоторое время шла речь о том, что коннетабля Франции повесят или сожгут. Наконец Иоанн IV счел выгодным потребовать выкуп. Это обошлось Клиссону в сто тысяч франков, и он потерял в этом деле все крепости в Бретани. Но 1387 год прошел. О вторжении в Англию больше никто не говорил.
Зато нужно было успокоить Оливье де Клиссона, который хотел вернуть меч коннетабля, если король не восстановит справедливость. Герцоги Бургундский и Беррийский не имели никакой охоты сражаться с Иоанном IV. Они его убедили попросить прощения. Герцог Бретонский уже предотвратил угрозу, которую создавала для него армия Клиссона. Он приехал в Париж, встал на колени перед королем и вернул выкуп.
Еще год прошел. Англичане прежде всего поглядывали на Кастилию, где Ланкастер продолжал тратить свое время и их деньги. Французам надоело оплачивать флоты, которые не переходят Ла-Манш. В августе 1388 г. все согласились на новое перемирие.
Мармузеты
Что касается Карла VI, ему на двадцатом году жизни надоела опека, которую навязывали ему дядья, откровенно заинтересованные во власти над королевством. Его младший брат, энергичный Людовик Туренский, побуждал короля сбросить ярмо, которое уже начало удивлять многих. В конце октября 1388 г., во время короткого пребывания в Реймсе, Карл VI созвал Совет.
Все было хорошо продумано, и герцоги ничего не ожидали. Первым взял слово кардинал Ланский Пьер Эйселен де Монтегю: разве король не достиг возраста, когда может править сам, и недостаточно мудр? Карл VI не допустил, чтобы началась дискуссия: он поблагодарил дядьев за то, что тратили силы ради королевства. Тщетно герцоги Беррийский и Бургундский пытались добиться отсрочки на размышление. В конечном счете они стали домогаться компенсации, которая бы расчленила королевство: одному — Гиень, другому — Нормандия. Молодой король решительно отказал. Герцогам оставалось только уступить.
Карл VI призвал к власти старых советников отца — Жана Ле Мерсье, Бюро де ла Ривьера, Жана де Монтагю и многих других, которых герцоги восемь лет старательно оттесняли от дел. Эти люди, получили они дворянство или нет, были бюргерами, и это были старики. Партия герцогов их высмеивала и дала им прозвище: власть находится в руках «мармузетов»[89].
«Стариканы» были опытными политиками и пользовались поддержкой многих приверженцев Карла V. Среди них были маршал Сансерр и коннетабль Клиссон, мало склонный забывать о сговоре королевских дядьев со своим врагом, герцогом Бретонским. Но на самом деле все сразу же нашли вождя — вождя политического восстания против дядьев и вождя не менее политической реакции на фламандские и бургундские интересы. Настоящим главой Совета, который будет ориентировать французскую политику на собственные интересы, связанные с интересами его жены Валентины Висконти, дочери правителя Милана, был герцог Людовик Туренский, единственный брат короля. Скоро его будут называть Людовиком Орлеанским.
Глава XIII Арманьяки и бургундцы
Амбиции принца Людовика
Выход Людовика Туренского на первый план политической сцены означал, что внешняя политика будет новой. Людовику было плевать на фламандскую промышленность. У него интересы были в Италии: брак с Валентиной, дочерью Джан Галеаццо Висконти, в августе 1389 г. сделал его правителем графства Асти и открыл для него перспективы перекройки всей политической карты Италии.
После двух лет безнадежной войны Людовик Анжуйский в 1384 г. умер, практически лишившись неаполитанского наследства, за которое он боролся, защищая в Италии дело авиньонского папы Климента VII, выбранного вторым на двойных папских выборах в 1378 г. Молодой Людовик II Анжуйский отныне носил королевский титул — «короля Иерусалима и Сицилии», — но этот титул был лишен всякого содержания. Те, кого разочаровала итальянская политика папы Урбана VI, естественно, обратились к новому французскому принцу. Флоренция предложила Карлу VI провести переговоры о разделе владений Милана. Потом заговорили о старом плане создания «королевства Адрии» из церковных владений к величайшей выгоде рода Висконти. Все это могло дать возможность восторжествовать делу авиньонского папы за счет римского, и здесь интересы Климента VII тесно совпадали с интересами герцога Людовика Туренского.
Тот факт, что герцог Бургундский во Фландрии согласился на компромисс, не очень приятный для авиньонского папы — позволив каждому выбирать, какого папу признать, — добавил к этому сговору чисто церковный мотив: Людовик Туренский представал поборником законного папы в борьбе с римским антипапой, с которым герцог Бургундский не посмел по-настоящему сразиться.
Новое предложение поступило из Генуи. В 1392 г. генуэзская аристократия предложила Карлу VI стать сувереном города, лишь бы он избавил Геную от народного правительства, которое находилось там у власти после избрания Симоне Бокканегра в 1339 г. Для Людовика Туренского это стало поводом наконец по-настоящему вмешаться в итальянские дела, а значит, подготовить себе королевство Адрию. Высланный вперед в качестве наместника герцога в его графстве Дети, Ангерран де Куси в 1394 г. занял город Савону.
Многие генуэзцы опасались, что Людовик Туренский окажется всего лишь декоративной фигурой, простым проводником миланской политики Висконти. Тайно подстрекаемые флорентийцами и эмиссарами герцога Бургундского, они отозвали свое предложение и передали власть лично королю Франции. 27 ноября 1396 г. дож Антонио Адорно уступил место французскому губернатору — сначала графу де Сен-Полю, потом маршалу Бусико. Французское владычество продлится до 1409 г. Оно достаточно хорошо вписывалось в традицию этих итальянских городов, которые без колебаний выбирали себе подеста на стороне, чтобы ими правили люди, не связанные с местными кликами.
В то же время Карл VI поддерживал авиньонского папу — Климента VII, а потом, после 1394 г., арагонца Педро де Луну, ставшего Бенедиктом XIII, — как против его римского соперника, так и против противников, которых создавало для Франции само продолжение Великой схизмы. «Насильственный путь» избавления от римского папы потерпел неудачу. Оставался «путь уступок»: пусть удалятся оба папы. Поэтому многие сторонники Бенедикта XIII выступили против своего папы, не примкнув при этом к другому.
Людовик Туренский был целиком заинтересован в том, чтобы окончательную победу одержал авиньонский папа. Филипп Бургундский, естественно, оказался среди тех, кто добивался обратного, — «уступки». Деньги, которые зря потратили на экспедицию Людовика Анжуйского, несомненно, лучше было бы использовать в другом месте. Это говорил Филипп Бургундский, открыто возражая тем, кто хотел одновременно поддержать дело Бенедикта XIII и герцога Туренского.
Однако последний считал, что он вполне на своем месте. В конце концов, его брат Карл VI обязан ему тем, что решил стать хозяином в своем доме. Когда король зимой 1389/90 г. совершил длинную поездку по Лангедоку, Людовик Туренский не отказал себе в том, чтобы отчасти сделать из нее свой личный триумф. В Авиньоне нанесли визит его протеже Клименту VII. Герцог Беррийский потерял должность наместника в Лангедоке, а его доверенный человек Бетизак был отстранен от управления финансами, а потом отправлен на костер как еретик: такое обвинение было во всех отношениях предпочтительней обвинения в растрате, которое бы слишком открыто задевало и самого королевского дядю. В Тулузе Карл VI радостно встретил старого Гастона Феба, недавно ставшего жертвой эгоизма герцогов Бургундского и Беррийского. Даже заключили соглашение, по которому графство Фуа и виконтство Безье должны были отойти короне. Провал политики дядьев был явным.
Соперничество в окружении безумного короля
Показавшись в Лангедоке, Карл VI счел нужным, чтобы его увидели и в Бретани. Герцог Иоанн IV более или менее открыто плел заговоры с англичанами, и коннетабль Франции Оливье де Клиссон активно убеждал короля устроить демонстрацию военной силы для своего старого врага. Приверженец Иоанна IV Пьер де Краон в ответ организовал покушение: на Клиссона напали однажды вечером в июне 1292 г., когда он выходил из дворца Сен-Поль после ужина у короля. Коннетабль был только ранен и успел укрыться в ближайшей пекарне. Но он попал в смешное положение. Король принял эту историю близко к сердцу. Так как Краон отправился искать защиты у Иоанна IV, Карл VI решил поехать к герцогу Бретонскому, чтобы приструнить его.
Герцоги Беррийский и Бургундский пытались успокоить племянника. Тщетно: мармузеты, напротив, убеждали устроить поход, который после стольких сговоров принимал облик наступления верных слуг — коннетабля — на принцев с их бесконечными интригами.
Карл VI уже страдал «горячками». После особо сильного припадка, в котором, однако, никто не заметил начала безумия, несколько месяцев назад уже пришлось некоторое время держать его в постели под пристальным наблюдением. Катастрофа стала очевидной, когда во время похода в Бретань в августе 1392 г. один инцидент в пути помутил рассудок короля. Сначала была встреча с одержимым, который закричал королю, что его предали. Потом — удар копьем о бацинет: один латник, разморенный долгой дорогой под палящим солнцем, на миг задремал. На сей раз речь зашла о безумии: король произносил бессвязные слова.
Карла VI привезли в Ле-Ман, потом в Париж. Естественно, двор и город заговорили об измене, о яде, о колдовстве. Несколько дней отдыха, и можно было полагать, что Карл VI выздоровел. Но он устал. Герцоги договорились избавить его от забот управления. В первые же часы мармузетов выбросили из Совета без особых церемоний. Было известно, что они быстро разбогатели. Об уходе «старикашек» никто не заплачет.
Клиссон удалился в свой замок Жослен. Бюро де ла Ривьер и Жан Ле Мерсье на некоторое время попали под арест. Монтагю укрылся в Авиньоне.
В безумии Карла VI будет немало ремиссий. Но герцог Беррийский и Бургундский уже были у власти и слишком хорошо помнили, как их изгнали в 1388 г.: они дружно выступили против нового противника, который не шел в счет в 1380 г., но которому четыре года реальной власти позволили возмужать, — Людовика Туренского, ставшего в 1392 г. Людовиком Орлеанским.
Молодой принц был столь же непопулярен, как и его верные мармузеты, политическая мудрость которых для многих была синонимом фискальной системы и бюрократии. Людовик слыл ненасытным: герцог Туренский и Орлеанский, граф Ангулема, Перигора, Дрё, Суассона, Порсиана и даже Блуа, он все равно должен был широко использовать королевскую казну, чтобы обеспечивать существование своего двора и оплачивать свою личную политику. Во Франции, Италии, Германии он содержал клиентелу из князей и городов, верность которых была столь же ненадежной, сколь и дорогостоящей. Неспособный соразмерять амбиции и средства, он делал все, чтобы навлекать на себя ненависть. Было известно, что он склонен к роскоши, к легкомыслию. Сам Жувенель дез Юрсен упрекнет его через несколько лет:
Он ничуть не сдерживал себя в удовольствиях.
Его всегда окружал праздник, праздник молодости, в котором принимали участие король — когда болезнь отступала — и королева Изабелла, жизнь которой без некоторых отвлекающих средств, к которым она часто прибегала опрометчиво, стала бы до времени жизнью вдовы. Тон был задан еще до болезни короля. Посвящение в рыцари юных принцев из Анжуйского дома и коронация королевы Изабеллы в 1389 г. были праздниками монаршего престижа. Для их участников это был просто-напросто повод повеселиться. Людовик Орлеанский не догадывался, что время игр кончилось.
Эта молодежь была у власти впервые после очень долгого периода, ведь молодой Карл V чувствовал себя как до восшествия на престол, так и после очень одиноким в суровом мире, где он был один, а его сверстников держали в Лондоне в качестве заложников. Не отдавая себе в этом отчет, молодое поколение сверстников Карла VI играло в возрождение былых времен и развлекалось экзотическими воображаемыми перемещениями как через века, так и в пространстве. Это были праздники давно ушедшего рыцарства — поединки и турниры показывали, что времена подвигов не умерли. Верность романам о короле Артуре в литературных дебатах тоже способствовала сохранению радостей воображаемого рыцарства.
Эти молодые люди могли развлекаться, потому что в их распоряжении была казна и потому что Франция в конечном счете одержала верх в войне, считавшейся оконченной, но они совсем не сознавали недовольства окружающих. Ярость податных, думающих, на чем сэкономить, горькое чувство клириков и магистров, сознающих необходимость реформ и видящих, что всем на это наплевать, враждебность знати, которая не вся имела доступ к празднику, — Людовика Орлеанского и его друзей окружал всеобщий ропот.
Брат короля в глазах многих был дилетантом в политике. Когда пристрастие к экзотике побудило двор в январе 1393 г. устроить «бал дикарей», который кончился плохо, потому что от факелов охраны герцога Орлеанского загорелась шерсть нескольких «дикарей», приклеенная смолой (пять человек погибло) молодого герцога не преминули заподозрить, что он хотел убить короля.
Ситуацию усугубляли слухи, порождаемые сердечными отношениями герцога Орлеанского со своей молодой невесткой. Изабелла Баварская была прелестной брюнеткой, умной и жизнерадостной. То, что она очень хорошо нашла общий язык с королевским братом, быстро дало повод для пересудов.
В жизни этого двора, на который расходовали большие средства Изабеллы и Людовик Орлеанский, не все сводилось к легкомысленным забавам. Мы видели, что подходы к политике здесь порой выходили на европейский уровень. Окружение принца не состояло из одних гуляк, и наряду с профессионалами, которых огульно окрестили «мармузетами», в нем присутствовало несколько мастеров пера, сделавших, в частности, из канцелярии герцога Орлеанского очаг интеллектуального возрождения. Герцогские секретари Гонтье Коль, Амброджо деи Мильи, Жан де Монтрёй, Жак де Нувьон или Томаш Краковский — надо отметить их разноплеменный состав — вели со своими коллегами из авиньонской папской канцелярии вроде Жана де Мюре или Никола де Кламанжа переписку, в которой все большую утонченность приобретало это первое издание французского гуманизма, обреченное на гибель в гражданской войне.
В те же времена благодаря таланту Кристины Пизанской весь Париж включился в активный спор о тех тезисах клерикального антифеминизма и циничного отношения к чувствам, которые были сформулированы в XIII в. в старинном «Романе о Розе»[90]. Одни, как Коль и Монтрёй, поддерживали «Роман…» от имени морального гуманизма, стольким обязанного как Петрарке, так и Овидию, другие выступали против этой едкой сатиры на женское естество, доставившей радость многим поколениям мужчин и особенно клириков. В «Послании к богу любви» Кристина Пизанская в 1399 г. развила теорию равновесия между сердечными порывами и чувственными удовольствиями. Ее поддержал Жерсон из неприятия духа наслаждений, целиком пропитывающего «Роман о Розе». В дело вмешалась Изабелла Баварская.
24 февраля 1401 г. во дворце Артуа — парижской резиденции герцога Бургундского — собрался Суд Любви, составленный Карлом VI, а на самом деле его дядьями герцогами Бурбонским и Бургундским, чтобы оценивать поединки поэтов, сочинявших стихи в честь дам. Ни одно из тридцати шести мест в этом Суде Любви не предоставили женщине. Зато новое ристалище приобрели арманьяки и бургундцы, где они, как и в других местах, выясняли отношения.
Филипп Бургундский мог сколько угодно делать вид, что возмущен легкомысленным поведением племянника. На самом деле он этим умело пользовался. Людовик Орлеанский, регент королевства в качестве первого принца крови, был фактически отстранен от рычагов управления. Болезнь короля оставила во Франции только одного настоящего повелителя: им был Филипп Храбрый, герцог Бургундский. Герцог Беррийский охотно отступал в тень брата, лишь бы ему предоставляли долю в доходах.
Первым плодом бургундской политики стал мир с Англией. Ричард II и Филипп Храбрый без труда нашли общий язык: тому и другому надо было спасать экономику, переживавшую трудный период. В Лелингене в 1393 г., в Булони в 1394 г. и, наконец, в Париже в 1395 г. их полномочные представители уточнили условия соглашения. Основной статьей было решение о браке Ричарда II и совсем юной Изабеллы, дочери Карла VI. Принцессе предоставлялось достойное приданое — восемьсот тысяч франков. Перемирие в 1398 г. продлили… до 1426 г.
Один итальянский купец, поселившийся в Париже, писал в Тоскану, чтобы его больше не посылали за оружием. Оружия больше нет в продаже. Зато ему можно срочно заказывать драгоценные ткани и украшения. Начинается праздник. Мир, свадьба, процветание — одно к одному.
На рынке присутствовали не только итальянцы. Аррасские ткачи гобеленов или парижские ювелиры вскоре нашли больше клиентов, чем могли обслужить. В эти годы во всей Франции на ярмарках, где ворочали делами, был наплыв народа.
И праздник на самом деле настал. 27 октября 1396 г. перед шатрами, поставленными близ Ардра, оба короля публично обнялись. Устроили пир. Ричард увез Изабеллу, с которой сочетался браком 4 ноября в Кале. Другая дочь Карла VI была через недолгое время выдана за будущего герцога Бретонского. Война заканчивалась, как всегда, свадьбами. Стороны состязались в любезности. Англичане продали Брест в 1397 г. герцогу Бретонскому, а Шербур в 1399 г. — королю Наваррскому Карлу Благородному, сыну Карла Злого, который через пять лет обменял королю Франции все свои нормандские владения на то, из чего образуется герцогство Немур.
Эта страница истории была бы окончательно перевернута, если бы Ричард II не допустил в Англии многочисленных промахов. Он теперь настроил против себя церковь, в частности, епископа Кентерберийского, а также большинство баронов. Всех этих людей не прекращало беспокоить укрепление абсолютной власти короля. Его главный противник герцог Дерби, старший сын Ланкастера, нашел убежище во Франции, где в согласии с герцогом Орлеанским подрывал бургундскую политику, дружественную по отношению к Ричарду II. Вернувшись в Англию летом 1399 г., он скоро стал властителем королевства. Ричард II оказался в тюрьме; 30 сентября парламент объявил о его низложении. Обстоятельства его смерти до сих пор неизвестны. Многих его советников казнили, другие не давали о себе знать. Новый король, бывший герцог Дерби, взял имя Генриха IV. Он не скрывал, что одной из ошибок его предшественника было заключение договора с Францией.
Отказ от повиновения
Политика Людовика Орлеанского в отношении Авиньона точно так же потерпела крах. Непреклонность Бенедикта XIII — «арагонского мула» — раздражала тех, кто ожидал, что он уступит и покажет тем самым волю к единству. Тщетно французский двор после смерти Климента VII в 1394 г. пытался добиться отсрочки выборов нового папы — королевский гонец опоздал. Правду сказать, кардиналы поспешили, чтобы не допустить торжества пути «уступок», что обернулось бы против них, поскольку повиноваться им пришлось бы папе, избранному не ими.
Фискальная политика Бенедикта XIII оттолкнула от него многих клириков, которым надоело платить за все подряд и подвергаться отлучению за малейшую задержку бесчисленных платежей, которыми папские сборщики испещрили литургический год. Десятина следовала за десятиной для финансирования политических предприятий, в которых никто не мог усмотреть того, что теоретически оправдывало всякую десятину, — крестового похода. «Аннаты» лишали получателей нового бенефиция их чистого дохода за целый год. «Прокурации», которые кюре прежде должны были платить своим епископам или архидьяконам в качестве компенсации расходов на пастырские визиты, теперь поступали Святому престолу: прелаты были вольны наносить визиты, зная, что ничего за это не получат. Подобный порядок надоел епископам.
Резерв вакантных бенефициев создавал еще более тяжелую угрозу всему отправлению культа. Доход от бенефиция — епископства, архидьяконата, аббатства, приората, прихода, капелланства, пребенды — поступал Святому престолу в течение всего периода между смертью или сложением полномочий последнего владельца и назначением его преемника. Но курия без колебаний умышленно оставляла некоторые бенефиции вакантными с единственной целью умножать этот доход. Некоторые диоцезы не имели епископа месяцами, а то и годами. Приходы оставались без кюре. Христианское население начало волноваться, будут ли производиться таинства.
Авиньонские финансисты, как и римские, придумали «благотворительную» субсидию, иначе говоря, дружеский налог. Это было то, чего требуют, когда требовать нет никаких оснований. При всем том папская казна была пуста. Папа занимал у своих кардиналов, у своих чиновников, у своих банкиров. Он требовал от своих сборщиков денег авансом в счет грядущих доходов. Ему приходилось обращаться к ростовщикам. Тем не менее шла молва, что авиньонская курия купается в золоте — отнятом у церквей и у христиан.
К ярости клириков добавлялось недоверие герцога Бургундского. Парижский университет принял на себя долю ответственности Карла V в начале схизмы, но он хорошо видел, что положение безвыходное, и начал склоняться к варианту «уступки». Нужно было убедить папу отречься — ради общих интересов, ради Единства. Жан Жерсон — кстати, один из самых умеренных среди парижских богословов, — уже в 1391 г. выступал против насильственного пути, которому по-прежнему был привержен Людовик Орлеанский, поскольку этот путь служил его итальянским амбициям. Уход королевского брата с 1392 г. из политики привел к тому, что авиньонский папа потерял свои позиции в Париже.
Участники голосования в университете в 1394 г. высказались за созыв собора, за компромисс и, прежде всего, за путь уступок. Король выслушал магистров, но ответ отложил. В феврале 1395 г., напротив, Карл VI и его Совет поддержали решение собрания духовенства, которое большинством в три четверти в принципе проголосовало за ходатайство об уступке. Отправили посольство в Авиньон. Бенедикт XIII не уступил. Оставалось сделать уступку без согласия папы: это и был «отказ от повиновения».
Между Парижским университетом и Святым престолом началась война. Добиваясь от французов согласия на отказ от повиновения, магистры шли на все, даже на настоящие поездки с проповедями по провинции. Они использовали эти поездки, чтобы устраивать суд над папством, обличать его злоупотребления, перечислять его пороки. Путь к выходу из схизмы проходил через реформу церкви.
Идея такой реформы с давних пор была дорога для интеллектуалов, как схоластов Сорбонны, как и гуманистов из канцелярии герцога Орлеанского. Поскольку герцог Бургундский питал выраженную враждебность к папе, как будто намеренно ставящему препоны для объединения христиан, понятия «Бургундец» и «реформа» для многих стали равнозначными. И старые магистры вроде Куртекюисса, и молодые вроде Кошона считали, что пути к идеалу идут через политический успех Филиппа Храброго.
Общественное мнение было хорошо подготовлено, и в августе 1396 г. состоялся новый собор французской церкви. Патриарха Александрийского Симона де Крамо — одного из крупнейших знатоков канонического права, вышедших из Орлеанской школы, — здесь не оказалось, чтобы стать председателем, как в прошлом году на заседании, в котором проявилась особая враждебность по отношению к папе. Друзья герцога Орлеанского воспользовались этим, чтобы попытаться добиться примирения. Аббат монастыря Мон-Сен-Мишель Пьер Леруа предложил снять с повестки дня вопрос об отказе. Он в этом не преуспел. Но в воздухе витала идея: если папа не «уступит», обойдутся без папы. Здесь не собирались судить о легитимности второго избрания 1378 г., с которого началась схизма. Намерение было чисто практическим: нужно вернуть христианам единство, и средством для этого казалась уступка.
Пока правительство Карла VI знакомило со своей позицией иностранных монархов — в 1396 г. ее изложили Ричарду II, в 1398 г. императору Вацлаву, — а сторонники реформы повсюду волновались, епископ Камбрейский Пьер д'Айи, образец умеренности среди парижских докторов и один из людей, имевших некоторое влияние на короля, поскольку был его исповедником, совершил поездку в Авиньон и в Рим, чтобы использовать последний шанс. Оба папы состязались друг с другом в упертости.
22 мая 1398 г. в ходе следующего французского собора, где на сей раз председательствовал Крамо, духовенство наконец приняло решение. Состоялся схоластический диспут, участники которого по всем правилам защищали точки зрения противоборствущих сторон. Крамо свел дело к простой формуле:
Укоренившаяся схизма становится ересью.
Мало кто на самом деле защищал папу. Самое большее можно было услышать несколько смелых речей в поддержку папской власти. По окончании турнира ораторов перешли к голосованию; из опасения, что папа вывернется, за этим процессом следили герцоги Бургундский и Беррийский. Для отказа от повиновения требовалось 123 голоса из 213. 28 июля объявили результаты: 16 голосов за собор, 20 за последнее ходатайство и 247 за отказ. Герцоги добились уточнения результатов, одержав тем самым двойную победу.
Немедленно был обнародован ордонанс, выводивший церковь Франции из повиновения папе. Это был один из самых показательных успехов галликанства: французская церковь получала самоуправление, а законы ей должен был диктовать король своими ордонансами. Пока что клирики не догадывались, что, вернув себе «свободы», они просто-напросто поменяли господина.
Отказ от повиновения не стал победой. Он разозлил Бенедикта XIII, не положив конца схизме. Кастилия последовала за Францией. Арагон, Наварра, Беарн, Савойя, Шотландия отказались это сделать. Бенедикту XIII, осажденному в Авиньоне коалицией его местных врагов, в марте 1403 г. удалось бежать и найти у графа Прованского, которым был Людовик II Анжуйский, убежище, что стало политическим вызовом.
Все выгоды от этого отказа, по видимости, достались архиепископам. Теперь они утверждали результаты епископских выборов, в их суд подавали апелляцию на церковные суды. Они возглавляли провинциальную иерархию, а над ними уже никого не оставалось. Претенденты на церковные бенефиции фактически столкнулись между собой, и короля попросили выступить в качестве арбитра. Правительство этим воспользовалось, чтобы несколько раз обложить налогом церковные доходы. Многие клирики начали сожалеть о папской власти. Во всяком случае, когда полномочиями злоупотреблял папа, можно было обратиться к королю Франции. Против злоупотреблений короля у клириков не было никакого средства, с тех пор как они сами лишили себя такого противовеса, как папская власть.
Людовику Орлеанскому пришлось сдаться, но победа парижских магистров ничуть не убедила их традиционных соперников. Римские магистры написали, что из схизмы можно выйти только одним путем — признав единственного легитимного папу, римского. Тулузские магистры не согласились с парижскими и составили длинную памятную записку о необходимости возврата к прежнему повиновению. Орлеанские магистры в сентябре 1401 г. первыми сказали вслух то, что многие думали про себя: так проблему не решить.
Вскоре упорными противниками Бенедикта XIII остались только парижане. Людовик II Анжуйский вернулся в повиновение папе по настоянию тестя, короля Мартина Арагонского, и молодой жены, королевы Иоланды. Штаты Бретани утверждали: с ними не посоветовались, что было чистой правдой. 29 апреля 1403 г. в повиновение папе вернулась Кастилия. Франция могла только последовать ее примеру, что она и сделала 28 мая. Самое время — иначе политика Филиппа Бургундского грозила расколоть французскую церковь.
Это был триумф умеренных, в частности, Жана Жерсона. 4 июня перед университетом в полном составе он произнес проповедь во славу папской власти, обновившейся благодаря испытанию. И в самом деле, даже самые пылкие приверженцы папы наделись, что Бенедикт XIII извлечет урок из этой истории. Столь вожделенную реформу проведет сам папа. Это был и реванш Людовика Орлеанского: политика его дяди ничего не дала, доказательство налицо.
Увы, Бенедикт XIII ничего не понял. Он велел немедленно кассировать выборы епископов и аббатов, сделанные в последние пять лет. По наущению Филиппа Храброго, который не сложил оружия, Карл VI сохранил результаты выборов в силе. Парижским магистрам показалось, что в Авиньоне, жалуя вакантные бенефиции, к ним были недостаточно щедры, и они пожаловались королю.
Папская фискальная система вновь обрушилась всей тяжестью на французскую церковь. Бенедикт XIII счел ловким ходом даровать Людовику Орлеанскому сумму в пятьдесят тысяч франков как вознаграждение за верность и для помощи в итальянских делах. Правду сказать, эти дела были и папскими. Эта щедрость за счет налогов с клириков возмутила духовенство. Благосклонные ко всему, что носило название реформы, круги как в Парижском университете, так и в среде парижской «мантии», среде выходцев из него, сурово осудили это возрождение злоупотреблений, столь часто обличавшихся. Они негодовали на папу, но еще больше на Людовика Орлеанского: потребность в деньгах, трудно поддающаяся обоснованию, в этих обстоятельствах была слишком явно связана с политическими предпочтениями герцога.
Горожане держались в стороне от богословских боев и канонических дебатов. Как и всем христианам в королевстве, в церковной сфере им было важно одно: чтобы их не прекращали крестить, сочетать браком и отпевать. Поскольку в среду епископов и докторов Схизма внесла раскол, это была драма, но такая, на которую смотрят со стороны. Горожане сожалели, что пап двое, но для них было бы неудобней, если бы у них было два кюре или ни одного.
Принцы, реформа и казна
Последствия репрессий 1382–1383 гг. были намного болезненней, и бюргерство, которое опыт приучил к осторожности, боялось совершить какую-либо ошибку, которая могла бы помешать постепенному восстановлению их экономического положения, а стало быть, их привилегий.
Парижане как раз и занимались терпеливым воссозданием муниципальной организации, которой была в принципе и прежде всего коммерческой инфраструктурой. В 1389 г. они добились, чтобы должность купеческого прево снова отделили от должности королевского прево Парижа. Адвокат Жан Жувенель был назначен — королем — на должность «хранителя должности купеческого прево для короля». Конечно, от этого было еще очень далеко до купеческого прево, избираемого горожанами, но правительство мармузетов мудро выбрало для этого нотабля, который был парижанином с недавних пор, но имел родственные связи со всеми хорошими семьями столицы. Его функция была скромной: следить за содержанием улиц и за градостроительством. Такой человек был способен придать этой должности значительность. Вскоре его станут воспринимать как настоящего купеческого прево. Признание ему принесла повседневная практическая деятельность. Когда Жувенель от имени города выиграл процесс в парламенте против руанцев, он прослыл защитником дела Парижа. Его преемники скоро забыли, что их назначил король.
Людовик Орлеанский умел создавать себе врагов. Уже считалось, что он обходится дорого. Парижане еще больше озлобились, когда герцог в 1404 г. подтолкнул своего человека, парижского прево Гильома де Тиньонвиля, выселить преемника Жувенеля с Гревской площади и обосноваться там самому. Герцог Орлеанский был князем злоупотреблений и поборов. Филипп Храбрый извлекал выгоду из этой его репутации. Он выступал как сторонник реформы.
Позиция герцога Бургундского в деле Великой схизмы хорошо сочеталась с его внутриполитическими декларациями. Когда Людовик Орлеанский весной 1402 г. добился назначения тяжелого налога, герцог Бургундский легко приобрел популярность, неоднократно заявив, что отказался от своей доли в сто тысяч экю, которых, похоже, ему никто и не предлагал. Об этом деле, как и о некоторых других речах в том же духе, еще долго говорили.
Так что, скончавшись 26 апреля 1404 г., Филипп Храбрый оставил своему сыну Иоанну Бесстрашному пустые денежные ящики и весомый политический капитал: имя герцога Бургундского было популярным.
Иоанн Бесстрашный был не столь представителен, как отец, но имел собственный авторитет. Клирики называли его тонким, дворянам была известна его храбрость. В крестовом походе против турок он сделал больше, чем требовал его долг, возглавив в двадцать четыре года французский корпус, слишком рано и без поддержки ввязавшийся в бой с армией Баязида. Сражение при Никополе 25 сентября 1396 г. стало настоящей катастрофой для христиан. Для Иоанна Бесстрашного это был блистательный подвиг. Так что весной 1404 г. против жуира Людовика Орлеанского выступил принц в ореоле славы крестоносцев — пусть и побежденных, как при Людовике Святом. Честолюбивый герцог Бургундский очень быстро понял, что «реформа» — волшебное слово. Со стороны Иоанна Бесстрашного было весьма мудро не отходить сразу же от политики отца, став герцогом.
Однако управлять Бургундским государством было очень тяжело, и новому герцогу пришлось целиком посвятить себя этому. Плохо сознавая, что ключ к бургундским финансам находится в Париже, он попытался навести порядок в своих делах от обеих Бургундий до Северного моря. Но, поскольку он разделил наследство с братом Антуаном, эта задача была сложной, так как земли обоих, унаследованные во Фландрии и в Бургундии, чередовались весьма прихотливо. Короче говоря, Иоанна Бесстрашного при дворе не было.
Минусы такого отсутствия он заметил достаточно скоро. До тех пор королевская казна покрывала пассив бургундских финансов. После смерти Филиппа Бургундского щедроты короля — или, вернее, Совета, в котором заправлял герцог Орлеанский, — больше не распространялись на Бургундию. Общая сумма даров и пенсий герцогу Бургундскому за счет королевских финансов от ста-двухсот тысяч ливров в год — в 1403–1404 гг. было выплачено 185 300 ливров — в 1406 г. снизилась до 37 тыс. ливров. В финансах Филиппа Храброго королевские деньги составляли от 38 до 59 %, у его сына — не более 24 %. Иоанн Бесстрашный понял: если он уступит свое место в Париже, один из главных источников его дохода иссякнет.
К угрозе финансового кризиса добавлялась политическая опасность: уменьшение королевской щедрости неизбежно вынуждало герцога повышать налоги в собственных владениях. Это был прямой путь к новому взрыву во Фландрии. Во всяком случае, Иоанн Бесстрашный рисковал вызвать против себя заговор.
Тем временем Людовик Орлеанский получал от королевской казны девять десятых своего дохода. Контролировать Совет значило контролировать распределение денег и, более того, переуступки налоговых прав. Королевский налог взимался во всем королевстве, но принцы очень любили извлекать выгоду из того, что собиралось в их владениях. Поэтому Людовик Орлеанский не пропускал ни одного заседания Совета, он пользовался тем, что Иоанну Беррийскому откровенно наскучила политика, и без труда назначал в Совет своих людей. В результате он контролировал все ключевые посты в правительстве и финансовой администрации.
Поворот в судьбе Изабеллы Баварской произошел весьма кстати, чтобы королевский брат мог укрепить свои и без того прочные позиции. В периоды просветления Карл VI пытался вновь взять власть в свои руки и убедиться в обоснованности решений, принятых в его «отсутствие». Королева могла засвидетельствовать преемственность политики лучше, чем кто-либо. Некогда включенная в качестве важного звена в сеть брачных союзов, которую плел Филипп Храбрый, с 1405 г. Изабелла явно освободилась от этих уз. Долгое время чуждая политическим играм, она могла вместе с Людовиком Орлеанским участвовать в придворных развлечениях, а действовать на европейской арене в политических интересах Бургундии. Но время баварской политики прошло, герцогом Бургундским был уже другой человек, и Изабелла более отчетливо чувствовала, что нужно выбирать тот или иной лагерь.
Мог ли младший брат короля развлекать королеву в периоды «вдовства»? Во всяком случае, их совместные забавы вызывали общее осуждение. Подсчитывали, сколько стоят их одежды, украшения, музыканты. До разговоров о безнравственном поведении отсюда был только шаг, которого пока никто не сделал. И раньше Брантома не сделает[91]…
Первый конфликт между принцами-соперниками — первое столкновение в новом поколении — произошел в 1405 г. Герцог Орлеанский три года пытался вновь разжечь войну с Англией и отомстить за Ричарда II, хотя при жизни последнего не поддерживал его усилий по сохранению мира. Он несколько раз бросал вызов новому королю Генриху IV Ланкастеру. Он добился сбора эда для оплаты десанта на том берегу Ла-Манша. Иоанн Бесстрашный был не заинтересован в новом разорении Фландрии: он был против войны и против этого налога, как и любого другого. Он отказался взимать этот налог в своих владениях. Потом, чтобы показать характер, он устроил под Парижем демонстрацию военной силы.
В августе 1405 г. дело едва не дошло до гражданской войны. Армия герцога Бургундского вышла на равнину северней Парижа. Крайне спешно набранная армия герцога Орлеанского заняла позиции на юге. Людовик Орлеанский и Изабелла немедленно покинули Париж. Дофин Людовик, ребенок, которому было не суждено царствовать, последовал за ними на следующий день. Иоанн Бесстрашный, поняв, куда дует ветер, верхами отправился за эскортом принца и догнал его в Жювизи. Потом он привез дофина и его спутников обратно в Париж: за неимением лучшего, соседство с наследником престола придавало действиям герцога Бургундского некое подобие легитимности.
Иоанн Бесстрашный обосновался в Париже, привлек на свою сторону университет, изложил королю обширный план реформ, касавшихся как ведомства двора, так и юстиции или домениальной администрации, и сделал вид, что желает созыва Генеральных штатов, чтобы выступить перед ними. Чувствуя себя недостаточно сильным в этой столице, еще очень чуждой для него, он вызвал в качестве подкрепления своего брата Антуана, герцога Лимбургского, с восьмьюстами копьями. Потом он начал настраивать парижан против своего соперника. Королевские чиновники воздерживались от того, чтобы принимать чью-либо сторону. Горожане хранили спокойствие.
Все это закончилось объятиями. В октябре королева и герцог Орлеанский вернулись в Париж. Устроили большой праздник. Герцог Орлеанский воспользовался им, чтобы окончательно привлечь на свою сторону дядю, герцога Беррийского: последний из еще живущих братьев Карла V с самого начала не любил того, кто устроил эти беспорядки.
Импульсивный Иоанн Бесстрашный мало-помалу отошел от английской политики отца. Но если он и зарился на Кале, он ничего не делал, чтобы вернуть город. Людовик Орлеанский, в свою очередь, устроил бесполезную демонстрацию силы близ Бордо. Бесспорно было одно, что дело идет к внешней войне, как и к гражданской.
Герцоги Бургундский и Орлеанский проводили широкие пропагандистские кампании. Они писали письма монархам и городам. Тех и других они знакомили со своей версией событий 1405 г., со взаимными претензиями, со своей программой управления. Речь шла и о том, что герцог Людовик расточает королевские деньги, и о том, что герцог Иоанн похитил дофина. В конечном счете письма, поступая одним и тем же адресатам, приняли характер обмена поношениями.
Иоанн Бесстрашный заметил, что ему недостает убедительности. Чиновники Счетной палаты ответили ему, что будут действовать по совести. Принцы, как король Наваррский Карл Благородный, герцоги Беррийский и Бурбонский, заявили, что их беспокоит его политическая программа — управление через посредство Штатов, которое, как им казалось, может привести королевство к анархии. Что касается Совета, он в большинстве состоял из креатур Людовика Орлеанского; слова, произносимые герцогом Бургундским за его пределами, здесь находили мало поддержки.
Открыто встали на сторону герцога Иоанна в 1404–1406 гг. только магистры университета, начавшие объединять замыслы реформирования церкви и королевства в единый теоретический план. Может быть, некоторые считали, что здесь можно применить «насильственный путь», какой недавно проповедовали в отношении церкви.
Речь, произнесенная Жаном Жерсоном перед всем двором 7 ноября 1405 г., вписывалась в эти размышления о реформе, но это была речь человека, глубоко приверженного идеям королевской власти и к общественного согласия. «Vivat Rex!» [ «Да здравствует король!» (лат.)] Так начиналась речь. Издавна склонный к реформам, Жерсон тем не менее оставался умеренным деятелем. Иоанн Бесстрашный использовал его нравственный авторитет, чтобы отвоевать позиции в общественном мнении, утраченные после летних собыгий.
Жерсон, цитировавший Аристотеля и Блаженного Августина и даже Плутарха и Боэция, точно следовал направлению, какое указал полтора века назад Фома Аквинский. Его теория верховной власти была теорией согласия разных частей тела общества ради общего блага. Договор между королем и подданными является, согласно Жерсону, следствием только божественной воли: государь должен быть всего один, как существует всего один Бог. Но власть короля проистекает из согласия, из договора, который санкционируется Богом, как и передача власти по наследству. На основании того же договора исполняет свою роль и Совет: в теле общества это орган чувств, благодаря которому суверен может осознавать, в чем состоит общее благо. Таким образом, король — не судья Совету, он должен следовать мнениям последнего.
Государь должен не только о том спрашивать, но тому верить и выполнять, и держать это в тайне. Ибо в противном случае, ежели спрашивать совета и оному не следовать, получилась бы насмешка либо притворство.
Под Советом по преимуществу понимались Генеральные штаты. Король должен советоваться с университетами, с парламентом, с дворянством, с духовенством. Можно отметить, что горожанам Жерсон особой роли не отводит.
Король здесь входит как составная часть в политическую систему. Для нее он не все и не господин. Он ее глава. Но тут имеется в виду старинная притча о голове и частях тела. Жить друг без друга никто из них не может.
Иоанн Бесстрашный решил, что он выиграл. Ордонанс за январь 1406 г. предписывал, что на время отсутствия (болезни) короля власть переходит совместно к принцам и Совету. Но еще надо было взять верх в Совете, сокращенном до пятидесяти одного члена, назначение которых вызывало все новые конфликты. Осталось тринадцать прелатов и тридцать восемь мирян. Это было компромиссным решением, но большинство составляли люди Людовика Орлеанского: он мог твердо рассчитывать на двадцать четыре — двадцать пять советников, в то время как сторонниками герцога Бургундского было всего десять-двенадцать. Остальные были очень нерешительными и готовыми промолчать. Тем не менее от этого «болота» все и зависело.
Выбор 1406 г. олицетворял меньшее зло. Реорганизация совета в апреле 1407 г. усугубила дисбаланс. Число советников сократили наполовину, поскольку герцог Орлеанский и его сторонники считали, что, когда в работе Совета участвует слишком много людей, это снижает его эффективность. Так, Совет покинуло несколько епископов, не имеющих выраженной политической позиции. Но среди удаленных оказались все миряне, поддерживавшие Бургундца. Из двадцати шести советников в новом списке Иоанн Бургундский мог рассчитывать только на епископа Турнейского, который остался в Совете, и на Ренье По, который в него вошел. Кроме того, настоящий штаб, состоящий из принцев — Людовика II Анжуйского, Иоанна Беррийского и Людовика Бурбона, — исключал возможность любого авторитарного вмешательства в дела в отсутствие больного короля.
Иоанну Бесстрашному больше не на что было надеяться. Либо он изберет «путь насилия», либо ресурсы Французского королевства окончательно ускользнут из его рук. В разгар словесной перебранки, которая в качестве пропаганды сопровождала чисто политические операции, каждый из противников избрал себе эмблему и девиз. Опередив кузена, Людовик Орлеанский выбрал узловатую палку, то есть дубину. Преимущество Иоанна Бесстрашного было в том, что он делал ответный ход: его эмблемой стал струг. После орлеанского переворота в Совете струг должен был либо пойти в ход, либо выказать свою непригодность ни к чему. Один подручный герцога Бургундского, готовый на все мелкий нормандский дворянчик по имени Рауле д'Анкетонвиль, начал рыскать вблизи парижских резиденций королевской семьи.
Убийство Людовика Орлеанского
23 ноября 1407 г. Людовик Орлеанский, покинув дворец Барбетт на улице Вьей-дю-Тампль, где он посетил королеву, которая готовилась родить, оказался лицом к лицу с вооруженными людьми. Как позже напишет секретарь парламента в период между двумя заседаниями, при герцоге было «слишком мало сопровождающих». С помощью гизармы — алебарды с крюком — нападающие сбросили его с коня, разрубив ударом топора ему запястье. Потом они раскроили ему череп на мостовой. Соседи отнесли тело в церковь Блан-Манто.
Прево Гильом де Тиньонвиль велел запереть городские ворота, собрал ночью всех ответственных за общественный порядок, а на рассвете к работе приступили следователи.
Очень скоро весь Париж узнал, что случилось. Через тридцать шесть часов после покушения Тиньонвиль смог сделать первый рапорт Совету: он сообщил, что следствие идет успешно и он без труда найдет улики, если соблаговолят разрешить ему провести обыски во дворцах принцев. Засада у дворца Барбет была подготовлена тщательно, но убийцы привлекли внимание: установлено, что уже несколько дней они находились в особняке Имаж-Нотр-Дам, откуда легко можно был наблюдать за всеми, кто входит во дворец королевы и выходит из него. Было очевидно, что преступление совершили не случайные грабители. С другой стороны, соседи видели, как убийцы бежали: их след вел во дворец Артуа, парижскую резиденцию герцога Бургундского.
Герцоги Анжуйский, Беррийский и Бурбонский равнодушно заявили: пусть обыскивают их жилища. Герцог Бургундский отвел в сторону двух дядьев и тихо признался, что преступление совершено по его приказу. Бес его попутал. Убийцы укрылись во дворце Артуа, При расставании ничего громко сказано не было. Принцы разъехались по домам, так ничего и не решив. Они были в растерянности.
На следующий день, 26 ноября. Совет собрался у герцога Беррийского, в Нельском дворце. Когда явился Иоанн Бесстрашный, его дядя герцог Беррийский его не пустил. Бургундец решил, что ситуация опасная: так его могут и арестовать. В сопровождении Рауле д'Анкетонвиля, исполнившего его преступный приказ у дворца Барбетт, он немедля покинул Париж и остановился только в Бапоме, рано утром 27 ноября.
Народ был скорее рад. Герцог Орлеанский обходился дорого, и его не слишком любили. Добрые люди, как и рассчитывал Иоанн Бесстрашный, посмеивались: «узловатая палка обстругана», струг срезал сучки. Кстати, теперь возник соблазн поставить в вину королевскому брату все несчастья страны, включая безумие Карла VI. Разве не мечтал герцог Людовик унаследовать престол? Во всяком случае, его смерть разрешала много проблем. Она означала победу Бургундца, а значит, отмену эда, правление при посредстве штатов, усмирение строптивого папы, мир с Англией и многие другие блага. То есть все, что можно было считать благом по сравнению с ситуацией в настоящий момент, все беды которого казались связанными с орлеанским засильем, пусть даже пятнадцать лет назад они могли быть следствием бургундской политики.
После короткого, но реального процветания экономическая ситуация начала ухудшаться. Заработная плата не росла, застыв с тех пор, как закончился скачок зарплат 1350—1360-х годов, но из-за стабильности монеты долги не сокращались. После очень ограниченных девальваций 1385 и 1389 гг. выпускали монету по 27-й стопе, и так будет продолжаться до 1411 г.; «генар» (gue: nar) чеканили в количестве 74 монет из марки с пробой в 5 денье 12 гранов сплава — 458-й пробой чистого серебра — и номиналом 10 турских денье. До монет в два-четыре денье конца 1360 г. было еще далеко. Все хорошо знали, что твердая монета выгодна богачам, собственникам, тем самым, кто поднимал голову по мере того, как забывалась волна восстаний 1380–1382 гг. Разве новый хранитель должности купеческого прево Парижа Шарль Кюльдо не был сыном и внуком купеческих прево?
Это значило, что никто по-настоящему не оплакивал смерть Людовика Орлеанского, и его вдова осталась в одиночестве. Валентина Висконти находилась в Шато-Тьерри, когда ее муж выходил из дома королевы. Теперь она демонстративно надела траур — даже ее дорожные повозки были затянуты черным — и приехала в Париж, где король не мог отказать ей в приеме. Но добилась от Карла VI она лишь одного принципиального решения: герцог Бургундский будет лишен потенциальных прав на регентство. Король пообещал рассудить дело по справедливости, но малочисленные приверженцы герцогини Валентины напрасно ждали, что Иоанна Бесстрашного вызовут на суд пэров. В конечном счете вдова удалилась в Блуа. Во многих отношениях эта страница была перевернута.
Иоанн Бесстрашный уже приходил в себя. Обосновавшись в Амьене, он принимал посланцев от принцев, советовался с юристами, готовил свой ответ на обвинения, выдвинутые герцогиней Орлеанской. Чтобы подготовить его аргументы, в Амьен прибыл богослов Жан Пти, выступавший в мае 1406 г. перед принцами и парламентом как пламенный противник авиньонского папы и его сторонников, тулузских магистров. И 28 февраля 1408 г., готовый выступить в качестве обвинителя, а не обвиняемого, герцог Бургундский совершил в ликующий Париж торжественный въезд, который Людовик Анжуйский и Иоанн Беррийский его тщетно просили отложить. Никто из парижан не задумывался, что тот, чье возвращение они празднуют, — убийца.
8 марта перед всем двором — по такому случаю приехали герцоги Бретонский и Лотарингский — и при председательстве дофина Людовика Жан Пти произнес в оправдание герцога Бургундского речь, которая станет известной под названием «Апология тираноубийства». Битых четыре часа богослов толковал Писание — «корень всех зол есть сребролюбие» — и со страстью развивал силлогизм: если дозволительно избавить христианский народ от тирана, который своими бесчинствами и алчностью разоряет тех, кого ему следовало бы защищать, а герцог Людовик Орлеанский был тираном, следовательно, его казнь была богоугодным деянием. Под первую часть этой речи были подведены солидные основания из Священной истории и сочинений авторитетов классической древности. Вторая часть была не столько перечислением преступлений герцога Людовика — которое можно было бы сделать, но которое стало бы намеком еще многим принцам, что они достойны казни, — сколько набором натянутых обвинений и недоказуемых россказней. Жан Пти умолчал только об одном — о том, что есть королевское правосудие, и Иоанн Бесстрашный не вправе подменять собой суд пэров.
Как раз об этом 11 сентября говорил перед тем же двором оратор, выбранный герцогиней Валентиной, — аббат Серизи. Присутствовал Карл Орлеанский, сидевший рядом с матерью. Аббат потребовал наказать убийц. Иоанн Бесстрашный к тому времени выпросил у больного короля грамоту о помиловании. Принцы сделали вид, что не придают этому значения. В июле герцога Бургундского призвал на помощь шурин, епископ Льежский Иоанн Баварский, которого льежцы осадили в Маастрихте; его отъезд тогда придал принцам некое подобие смелости. Они аннулировали грамоту о помиловании и декретировали, что должен свершиться суд. Если герцог в кратчайший срок не покается, ему объявят войну. Стали набирать войска.
В ноябре ситуация резко изменилась. Одновременно пришли вести о смерти Валентины Висконти и о возвращении в Париж герцога Бургундского, окрыленного победой над льежцами, за которую он получил прозвище Бесстрашный. Армия герцога Иоанна находилась в полной готовности; герцоги Анжуйский и Беррийский сразу забыли, что грозили ему войной. Карл Орлеанский, заложивший свои драгоценности, чтобы добыть деньги на эту войну, был ими покинут и вынужден переживать свою горечь один.
Герцог Бургундский был уверен в своих силах, но не в своих тылах. Сначала в Шартре 9 марта 1409 г., потом в Бисетре 2 ноября 1410 г. противники заключили мир, не желая по-настоящему ввязываться в войну, последствия которой могли быть непредсказуемыми для всех.
Со стороны своей партии — двоюродного деда герцога Беррийского, тетки Изабеллы, кузенов герцогов Анжуйского и Бурбонского — Карл Орлеанский больше слышал слов ободрения, чем получал реальную помощь. В конечном счете лучших сторонников он нашел на Юге Франции, у жителей которой не было тех причин для поддержки дела Бургундца, какие были у парижан. Одним из его приверженцев стал коннетабль Шарль д'Альбре, другим — граф Бернар д'Арманьяк. Этот союз скрепили браком. Карл Орлеанский в свои восемнадцать был уже вдовцом после смерти дочери Карла VI, той самой Изабеллы, которую бургундская политика на время сделала королевой Англии; он повторно женился на Бонне, дочери графа д'Арманьяка. Общественное мнение не замедлило воспринять Арманьяка как настоящего вождя партии.
Иоанн Бесстрашный не остался в долгу. Он привлек на свою сторону наследственного врага короны Валуа — короля Наваррского Карла Благородного, родного сына Карла Злого. Герцог Людвиг Баварский, верный союзу, который был столь основательно сплетен двадцать лет назад — но котором у Изабеллы был соблазн забыть, — тоже поддержал его силой своей армии и собственным союзом с герцогом Карлом Лотарингским. И герцог Савойский вступил в партию Бургундца, особо, надо сказать, изобиловавшую недовольными, которых породила среди французских бюргеров и аристократов финансовая политика Людовика Орлеанского и в какой-то мере, точно оценить которую трудно, — благосклонность последнего к папе Бенедикту XIII.
Парижане
В Париже выделилась особая группа недовольных — мясники. Собственники своих лавок, где на них работали наемные приказчики, парижские мясники были в самом деле крупными бюргерами, капиталистами, достаточно богатыми, чтобы господствовать в маленьком мирке ремесленников, достаточно могущественными, чтобы навязать свою организацию некой важной экономической деятельности, но недостаточно уважаемыми, чтобы их приняли в состав высшего бюргерства. Чувствуя себя удобно внутри цеховой системы, где [экономическое] мальтузианство было правилом, а свободное предпринимательство — исключением, мясники тем не менее были более закрытым цехом, чем другие, и эту замкнутость создали не только они сами. Получая выгоды от активности, которую они финансировали и которой управляли, но не более того, они хорошо знали, что нотабли из среды купечества (marchandise) — менялы, суконщики (еще) и галантерейщики (уже) — не признавали мясника настоящим нотаблем.
Обладая сильной маневренной массой, которую составляли их приказчики и живодеры, мясники — и династии мясников, такие, как роды Ле Гуа или Сент-Ион, — были готовы играть роль в парижской политической жизни. Но более высокого места в обществе они могли добиться только силой.
Филипп Храбрый приобрел популярность, призывая к реформам, частично касавшимся общественного хозяйства. Его сын Иоанн Бесстрашный находил сторонников, систематически поддерживая интересы парижской коммерции и расточая свои корыстные щедроты самым активным элементам населения столицы, где все могло перемениться в любой момент. Одним из плодов этой политики было постепенное восстановление парижских привилегий с 1409 г. Этот процесс завершился 20 января 1412 г. воссозданием купеческого превотства, которое как по форме избрания, так и по значению, которые ему придавали, походило на настоящий муниципалитет. В то же время Иоанн Бесстрашный нашел бонскому вину самое политическое применение, какое было возможно: многие парижские нотабли получали его целыми бочками, чтобы пить с друзьями за здоровье герцога Бургундского. Часть этих щедрот распространилась в 1411 г. не менее чем на шесть мясников и на двух простых живодеров, Дени из Шомона и Симона Ле Кутелье по прозвищу Кабош, а также на одного председателя счетной палаты, одного королевского секретаря, одного хирурга и — общественное мнение не должно было остаться к этому равнодушным — на таких мастеров проповеди, как Пьер Кошон или настоятель монастыря матюренов.
С тех пор герцог Бургундский стал хозяином столицы и прежде всего хозяином улицы. Когда его дядя герцог Беррийский хотел вступить в Париж, мясники взяли на себя задачу не пустить его, а потом демонстративно разломали двери и окна Нельского дворца, чтобы незваный гость знал: в Париже ему делать больше нечего. Те же мясники добились от королевского правительства конфискации доходов епископа Парижского и архиепископа Сансского: Жерар и Жан де Монтегю считались заведомыми арманьяками. Что касается парижского прево Брюно де Сен-Клера, он не имел счастья понравиться мясникам: его заменили доверенным лицом герцога Иоанна, Пьером дез Эссаром.
Когда герцог 23 октября 1411 г. вступил в Париж, мясники возглавили делегацию, приветствовавшую его от имени города. Сент-Ионы, Ле Гуа и некоторые другие взяли реванш над парижским бюргерством, никогда не желавшим давать им дорогу.
С ополчением в пятьсот человек мясники контролировали столицу и отправляли по ней все новые патрули, днем и ночью. Для контроля над областью они сформировали настоящую армию, краткое определение которой через несколько лет даст Жувенель дез Юрсен, родной сын Жана Жувенеля:
От тысячи шестисот до двух тысяч ратников, облаченных в кольчуги, жаки[92] и салады[93].
При таком доспехе они в правильном сражении не представляли собой серьезной силы. Они были грозными, когда речь шла о том, чтобы грабить деревни и драться с враждебными бандами, редко состоявшими из лучших воинов. Они ходили в Бисетр, чтобы сжечь загородный дом герцога Беррийского. В Сен-Дени, потом в Сен-Клу и, наконец, на равнине Боса они сталкивались с армией арманьяков. Когда мясник Тома Ле Гуа нашел смерть, командуя своими людьми, в аббатстве Святой Женевьевы ему устроили княжеские похороны, которыми руководил лично герцог Бургундский. Никто не счел, что это слишком большая честь для мясника.
Это было сделано хорошо. Как говорили, герцог Бургундский вполне показал, что ему должно служить, ибо он выказал любовь к тем, кто стоит на его стороне.
В Париже уже возник раскол между бургундской партией, активное меньшинство которой было вполне склонным к насилию (мясниками и живодерами) и партией общественного спокойствия, старой университетской и судейской партией сторонников как политической, так и церковной реформы. В этой партии мира герцог Бургундский нуждался гораздо больше, чем горожане нуждались в нем. Но насилия арманьяков почти не оставляли выбора любителям мира и порядка: они были вынуждены выбирать, к какому из противоборствующих лагерей примкнуть.
Открытых арманьяков, во всяком случае, в Париже не было. Назвать проезжего арманьяком значило обречь его на линчевание. Обвинить горожанина в сговоре с арманьяками, контролировавшими часть окружающей местности, значило отправить его на виселицу. Впрочем, уже почти не говорили о «людях Орлеана» и еще очень редко говорили об «арманьяках». Говорили в основном о «разбойниках» (brigands). Солдатня Бернара д'Арманьяка очень постаралась заслужить это название, не лучше вели себя и воины графа Алансонского, разоряя Южную Нормандию.
В октябре 1411 г. парижские кюре сообщили с амвона об отлучении рутьеров, которое некогда объявил Урбан V. Жувенель дез Юрсен расскажет, что в то время опасались крестить детей, родители которых не были бургундцами или не называли себя таковыми. Чтобы прояснить ситуацию и чтобы все хорошо знали, на чьей стороне Бог и его святые, на статуи святых крест-накрест повязали шарфы: косой крест святого Андрея был эмблемой бургундцев.
Некоторые проявляли официальное рвение. Муниципалитет Кана велел сжечь дома сторонников герцога Орлеанского.
Эта волна насилия неоднократно вызывала реакцию, никак не связанную с конфликтом принцев: в ней проявлялись ненависть и ярость всех сословий, постольку-поскольку отражавшаяся в столкновении сильных мира сего. Происходили настоящие крестьянские восстания: так, несколько сот крестьян Ланской области — с помощью бальи Вермандуа и его сержантов — осадили графа де Русси в его крепости Понт-Арси-сюр-Эн и в конце концов вынудили его сдаться.
Возвращение англичан
Как раз тогда снова заговорили об англичанах. Последние десять лет они появлялись не раз, но ни одна из их операций не выходила за рамки простой демонстрации присутствия на нормандском побережье. От их высадок, преследовавших неясные цели, в 1405 г. пострадали деревни Котантена, в 1410 г. — Фекан. Ежедневные трения происходили на гиенской границе. Но для остальной части королевства война с Англией осталась в прошлом.
Тем не менее Генрих IV Ланкастер не упускал случая вторгнуться во Францию, и обе партии, конфликтующие при больном короле, не могли игнорировать фактор столь решающей важности, каким могло стать английское вмешательство в их дела. В сентябре 1411 г. наметился англо-бургундский союз, хотя свои авансы делал и Карл Орлеанский; в оправдание этого союза ссылались на задуманный брак между будущим Генрихом V и дочерью герцога Бургундского. Ланкастер обещал вооруженный контингент. Дело было серьезным.
18 июля 1411 г. Карл Орлеанский направил Иоанну Бесстрашному вызов по всем правилам. Это была война. Бургундец ответил в том же тоне:
Мы весьма ликуем в сердце, получив твой вызов. Что же до содержания оного, то ты и твои братья лицемерно, злобно и бесчестно лгали и лжете как изменники, каковы вы и есть.
Осенью в Пикардии начались военные действия. Иоанн Бесстрашный взял Ам. Поскольку фламандские контингенты сочли, что они служат уже достаточно долго, он не мог развить успех. Карл Орлеанский воспользовался этим чтобы попытаться взять Париж. Он занял Сен-Дени к северу от столицы и Сен-Клу на юго-западе. Появление английских латников позволило герцогу Бургундскому вовремя подоспеть, чтобы снять со столицы осаду. Сторонники Карла Орлеанского разбежались.
Во всем этом не учли мнения парижан. А те очень плохо восприняли появление английских спасителей. Последним пришлось как можно быстрей удалиться. Зима очень кстати предоставила всем передышку. Герцоги Беррийский и Орлеанский использовали ее, чтобы попытаться переманить англичан на свою сторону. Они предложили Генриху IV герцогство Аквитанию в ее прежних размерах. Англичанин согласился взамен послать союзным принцам тысячу латников и три тысячи лучников. Договор подписали в Элтеме 8 мая 1412 г.
Роли поменялись. Иоанн Бесстрашный выступил в качестве защитника короны. Он взял с собой короля и дофина Людовика, развернул орифламму и перешел в широкое наступление на «врагов королевства». Под последними имелись в виду как принцы, так и англичане.
В начале июля каждый начал догадываться, что теряет время и деньги. Бургундцы не могли овладеть Буржем, арманьяки никак не могли дождаться англичан, бюргерство повсюду роптало на дорогостоящие игры принцев. Все собрались в Оксере в присутствии короля, чтобы заключить мир. Здесь были даже представители органов управления — парламента, Счетной палаты — и двенадцать докторов Парижского университета. Своих депутатов прислали и города, как будто на Генеральные штаты.
Все без труда договорились отказаться от союзов с иностранцами. Но едва Оксерский договор (22 августа 1412 г.) подтвердили клятвой, как на Котантене, в Сен-Вааст-ла-Уг, высадились англичане. Они прошли Нижнюю Нормандию и достигли Анжу. Это был первый большой набег после бекингемовского, совершенного тридцать два года назад. Новый скандал в этой войне, когда уже казалось, что насмотрелись всего: люди графа Кларенса без колебаний рубили яблони… Стремление уничтожать брало верх над желанием победить. Нормандский крестьянин это запомнит.
Карл Орлеанский чуть позже понял, что приглашать англичан значило играть с огнем. И Оксерский договор не позволял ему больше пользоваться союзом с ними. Он обязался отослать их обратно. Но аппетиты у Кларенса были немалыми. Согласно договору в Бюзансе герцог Орлеанский должен был выплатить несколько сот тысяч ливров, из которых он не имел и денье. В качестве заложника, гарантирующего оплату, он отдал младшего брата, графа Ангулемского, чей внук станет Франциском I.
Англичане дошли до области Бордо, где не преминули активизировать войну. Бурбон и Арманьяк были вынуждены противостоять им. Они взяли Субиз в Сентонже, но отметили, что теперь англо-гасконская мощь усилилась. Можно было предвидеть, что ближайшее время на гиенской границе будет нелегким.
Народ воспринял весть об Оксерском мире с радостью. На улицах всех городов кричали: «Рождество!» Но двойной кульбит Карла Орлеанского сделал его гротескной фигурой.
В том, что англичане еще вернутся, не было никаких сомнений. Несмотря на все расколы, королевство Валуа должно было готовиться к возобновлению внешней войны. Иоанн Бесстрашный убедил короля созвать Генеральные штаты Лангедойля. Чтобы финансировать армию, требовалось их согласие. При этом могла появиться возможность реализации некоторых из административных и финансовых реформ, какие один за другим обещали два герцога Бургундских. А также удобная обстановка для одного из тех демагогических посулов, на которые герцог Иоанн считался мастером и которые могли только погубить аристократическую партию принцев. Короче говоря. Штаты созывались, когда ситуация оказывалась критической. Она была критической.
Штаты 1413 г.
Штаты собрались во дворце Сен-Поль в последние дни января 1413 г. Принцы орлеанской партии опасались ловушки; они направили своих представителей, Поэтому в присутствии короля, которого сопровождал дофин Людовик, хозяином положения остался герцог Бургундский. Он постарался раздробить ассамблею, добившись, чтобы депутаты заседали по провинциям, а внутри каждой провинции — посословно: дворянство, духовенство, города. В результате такого распыления некоторые собрания даже нельзя было провести из-за отсутствия участников: Буржская и Лионская провинция, например, представлены не были. Опасной могла оказаться одна провинция — Сансская, в которую входил Париж; поэтому выделили отдельную группу, включавшую парижские университет и муниципалитет.
Только от Реймсской провинции оказалось достаточно представителей, чтобы их мнения имели какой-то вес. Центральная Франция отсутствовала, Нормандия была представлена очень слабо. Депутаты могли соглашаться на какие угодно налоги, но не было гарантий, что податные будут их платить.
Иоанн Бесстрашный постарался соответствовать своей репутации сторонника реформ. 31 января под видом отчета о работах, которые провела провинция, один из его советников Симон де Со, аббат монастыря Мутье-Сен-Жан, произнес речь, сделав акценты в расчете на легкое приобретение популярности: надо обложить налогом принцев, заставить разбогатевших чиновников вернуть награбленное, сместить некомпетентных служащих — имелся в виду парламент — и реорганизовать всю финансовую систему. Пусть покончат с назначениями по знакомству, с совмещением и разделением должностей, с арендой земель домениальной администрацией!
Со потребовал даже мер против роскоши. Если ограничить роскошь, допустимую для чиновников, они будут меньше стремиться к обогащению.
Стоит какому-нибудь прощелыге стать писцом сборщика налогов, секретаря, казначея или генерала (по вопросам эда), и он уже щеголяет в мехах куницы и прочих богатых одеждах, так что его и не узнать. И того им мало, они хотят носить на заднице бреэнский пояс и не соблаговолят пригласить на обед, ежели у них нет гипокраса[94] и все расходы не идут за счет короля. Всякий хочет выглядеть столь важным, чтобы хозяина от слуги не отличили.
7 февраля состоялось последнее большое заседание. Несмотря на сильную стужу, оно происходило на большом дворе дворца Сен-Поль: всех не вместил бы никакой зал. Богослов Бенуа Жансьен, монах из Сен-Дени, принадлежавший к одному из самых старинных семейств парижского бюргерства, вторил аббату Мутье-Сен-Жан: для спасения королевства нужно не вводить дополнительный налог — который затронул бы уже разоренное население, — а лучше распоряжаться королевскими доходами. Жансьен был глупцом, его аргументы стоили немного, и он не посмел ясно сказать то, чего ожидали Штаты: следует прекратить разбазаривание королевских денег. Его упрекнули в малодушии. Но идея финансировать оборону без новых поборов имела все шансы понравиться слушателям.
Эту мысль 13 февраля подхватил кармелит Эсташ де Павильи. Университет и парижский муниципалитет потребовали дополнительного заседания, чтобы изгладить дурное впечатление, произведенное робкой речью Бенуа Жансьена. Павильи страстно призвал к реформе.
В самом деле, депутаты еще не разъехались, и Париж без труда присвоил себе право продлить сессию Генеральных штатов. Теперь во главе Штатов встали те, кому Иоанн Бесстрашный, искусно отделяя друг от друга провинции и сословия, хотел не давать ходу.
Взяв только на себя роль, которая некогда возлагалась на Штаты в целом, университет зачитал длинный список своих претензий к королевской администрации. Главная мысль этого текста, публичное чтение которого заняло два часа, состояла в том, что деньги короля украли служащие финансовых ведомств.
Покупка домов, роскошь одежды и стола — все показывало, что королевская служба обогащает. Легко было бы доказать, что больше всех потратили принцы, но это значило бы обличить не только герцога Орлеанского, но и Бургундца. Поскольку парламент, Счетная палата, Палата эд и казна были в руках арманьяков и «болота» — умеренных, слабо ангажированных и в принципе любителей мира, — возложить вину на них было удачным ходом.
Финансовые чиновники демонстративно потребовали проверить их счета. Университет не позволил ввести себя в заблуждение. Кто бы сомневался, что документы в порядке.
Что предлагали теоретики реформы, в данном случае парижские магистры? Прежде всего, несколько мер в расчете на непосредственный эффект: увольнения, конфискации, штрафы. Все это должно было заменить налог. Далее, некоторые фундаментальные реформы: сокращение штатов администрации, реорганизацию суда, усиление контроля над финансовыми ведомствами. Чтобы подготовить все это, как реформы, так и списки обвиняемых, дофин назначил комиссию. Тем временем 24 февраля от короля добились, чтобы он временно отстранил всех чиновников: мол, тех, кого не осудят, после восстановят в должности. Санация была брутальной. Административный механизм был парализован.
В то время как комиссия приступила к работе, атмосфера в Париже накалялась. Между нотаблями-реформаторами в Штатах — а значит, и в комиссии — и простым народом, от имени которого все громче говорили мясники, связь была слабой. У магистров вроде Жансьена или Павильи не было привычки сообщать о своих политических решениях лавочникам. Молчание нотаблей беспокоило улицу.
Все давало повод для слухов и волнения. Бестактность королевского правительства — в данном случае правительства королевы Изабеллы и дофина — только усугубляла напряжение. Беспечный дофин Людовик устраивал слишком много праздников в период, когда страна переживает финансовые трудности. Королева была слишком щедра по отношению к герцогу Людвигу Баварскому, своему брату, который жил в Париже на широкую ногу за счет французских податных и только что добился, чтобы ему подарили графство Мортен в Нормандии.
Глупость дофина и такие неудачные ходы, как отставка, а потом восстановление в должности непопулярного прево Пьера дез Эссара, который переходил с одной стороны на другую, укрепляли подозрение, что затевается что-то дурное. Говорили о заговоре, о похищении короля, о вооруженной интервенции в Париж. Чем дольше ходили такие слухи, тем более устрашающими они становились.
Кабошьены
Первое возмущение потрясло Париж 27 апреля после полудня. Заводилами выступили живодер Кабош и его друзья-мясники вместе с экстремистами из бургундской партии. По большей части лавочники, ремесленники и подмастерья вооружились только потому, что они сочли себя в опасности. На следующее утро на Гревскую площадь, к Дому с колоннами, пришло несколько тысяч вооруженных людей. Купеческий прево, меняла Андре д'Эпернон, попытался их вразумить и отправить по домам. Тщетно: парижане окружили Бастилию, где укрылся по возвращении Пьер дез Эссар, знавший, что его ненавидят. Он попытался вступить в переговоры, чтобы его выпустили, понял, что рискует жизнью, и в конце концов решил остаться в укреплении. Успокоить мятежников в свою очередь попытался Иоанн Бесстрашный. Он не смог убедить их разойтись.
Толпа оказалась перед дворцом дофина, который был оттуда в двух шагах, на улице Сент-Антуан, совсем близко к дворцу Сен-Поль. Дофину пришлось появиться в окне и выслушать эшевена Жана де Труа, потребовавшего, чтобы толпе выдали «изменников». Дофин ответил, что в его доме нет изменников. Но его канцлер, очень напрасно, решил, что ситуация достаточно неясная и можно выйти из положения, потребовав имена. Вам нужны изменники; кто эти изменники? У Жана де Труа был наготове список из пятидесяти имен, который он немедля вручил. Канцлер в смятении был вынужден прочесть его дважды. Было кое-какое затруднение: список начинался с его имени.
Парижане схватили человек пятнадцать, в том числе канцлера и герцога Барского, кузена короля. Иоанн Бесстрашный попытался сыграть в миротворца: он велел передать ему пленных и взял их в свой дом. Дофин не дал себя одурачить; он изобличил двойную игру герцога Бургундского.
Тесть, этот мятеж против меня подняли по вашему наущению. Вы не можете оправдаться, ведь верховодят им люди из вашего дворца. Будьте уверены, что вам придется в этом раскаяться, и вашего изволения на это не потребуется!
На следующий день, чтобы избежать пальбы на улицах, Иоанн Бесстрашный заставил Пьера дез Эссара выйти из Бастилии и сдаться. Он дал ручательство, что тому сохранят жизнь. Через несколько дней, забыв о данном слове, он выдал парижанам всех пленников, которым гарантировал жизнь и которые стали ему в тягость.
Прибытие депутатов от Гента подчеркнуло революционный характер событий. На самом деле цель их приезда не имела никакой связи с недавними событиями. Гентцы хотели высказать пожелание, чтобы у них поселился старший сын герцога Бургундского, будущий Филипп Добрый. Обстоятельства придали появлению этой делегации неожиданный резонанс. Купеческое превотство устроило пир в честь гентцев. Обменялись шаперонами. Фламандцы обещали парижанам как военную, так и финансовую помощь.
Тем временем комиссия Штатов самым серьезным образом работала над составлением реформаторского ордонанса. Это, по сути, был очень разумный текст, обширная компиляция архивных данных, воспроизводившая дословно, объединяя в одно целое, многие ордонансы Карла V и основные подзаконные тексты, обнародованные с 1380 по 1408 г. Мысль, что они совершают революцию, конечно, не приходила в голову ни одному из этих нотаблей, дворян, прелатов, крупных бюргеров и докторов, пытавшихся восстановить порядок в управлении Французским королевством, в учете государственных финансов, в монетной системе.
Зато Штаты приняли некоторое участие в назначении временной комиссия, созданной 10 мая для суда над чиновниками, которых обвиняли в растратах. Эсташ де Павильи, который распалялся все сильней, но которого больше слушали на улице, чем в Штатах, зачитал перед этим во время новой манифестации второй список из шестидесяти «изменников». В большинстве это были просто-напросто горожане, не пожелавшие в феврале взяться за оружие вопреки ордонансам. Банда мясников и живодеров 11 мая взялась арестовать этих новых изменников.
После двух месяцев полного отсутствия Карлу VI стало лучше. Мясники только что навязали дофину несколько выгодных им назначений: Кабош стал смотрителем моста Шарантон, его собрат Дени из Шомона — моста Сен-Клу. Королю хватило благоразумия никого не отстранять. Он принял белый шаперон бургундцев, который ему почтительно преподнесли нотабли ратуши. Потом он дождался завершения работы Штатов, или, скорее, комиссии. Никто не знает, что ему на самом деле рассказали о случившемся во время его последней болезни.
Возмущения не прекращались. То огромная толпа на Гревской площади, то шумная демонстрация перед дворцом Сен-Поль, то тайные сборища до ночи — каждый новый день был похож на предшествующий.
22 мая события вышли на новый политический уровень. Толпа захватила три двора королевской резиденции. Под предлогом, что надо прояснить события двух последних месяцев, все тот же Павильи потребовал короля. Жан де Труа зачитал третий список подозрительных — всех, кого толпа хотела захватить немедленно. Было перечислено все окружение королевы, начиная с ее брата герцога Баварского и почти всех придворных дам и фрейлин. Несмотря на мольбы Изабеллы, слезы дофина и двойную игру Иоанна Бесстрашного, который был встревожен дерзостью парижан и пытался утихомирить толпу, не ослабляя тем не менее нажим на короля, все перечисленные поголовно были арестованы. Людвиг Баварский сдался сам, чтобы не допустить потасовки в покоях королевы.
Ордонанс наконец был готов. С ним ознакомили короля. В течение трех нескончаемых заседаний Карл VI заслушал двести пятьдесят девять статей в присутствии двора и собравшихся депутатов парламента. Вечером 27 мая король заявил, что утверждает все эти положения. Присутствующие поклялись выполнять ордонанс. Никто бы не догадался, что он войдет в историю как «кабошьенский». Даже не факт, что неграмотный Кабош вообще присутствовал в зале.
В действительности ордонанс был работой десятка человек, в том числе нескольких выдающихся парижских докторов, чья позиция в деле Схизмы, а также политические идеалы побудили их, вопреки воле Людовика Орлеанского, к стремлению целиком реформировать политические реалии, будь то церковь или королевство. «Кабошьенский» ордонанс, систематический труд, обязанный обстоятельствам лишь тем, что увидел свет именно в тот момент и мог отразить демонстративное недоверие к столь разнообразному миру королевских слуг, потребовал для своего появления двадцати лет размышлений и опыта.
Советники короля или герцога Бургундского, иногда того и другого, — епископ Жан де Туази, аббат Симон де Со, магистры Жан Куртекюисс и Пьер Кошон — были не импровизаторами, даже если были очень пристрастны. В активе богослова Куртекюисса числились участие в собраниях духовенства, посольства в Авиньон, деликатные миссии в Англии и Германии. Кошон был хорошо образованным юристом, честолюбивым, но дотошным. Несколько рыцарей, отличавшихся испытанной прямотой, и два советника парламента, чья карьера была уже долгой, а также единственный бюргер, парижский эшевен Жан де л'Олив, бакалейщик, иными словами, крупный торговец изысканными продуктами, также входили в состав комиссии, в которой трудно усмотреть группу заговорщиков. Плодом их труда в конечном счете была реформа в том смысле, какой это слово всегда имело в средневековом лексиконе: юридически обоснованный возврат к добрым обычаям.
Обнародование ордонанса не очень успокоило возбужденный народ, которому текст был обязан столь немногим. Нескольким пленным отрубили головы. Среди них был Пьер дез Эссар. Умеренные были вынуждены прятаться. Жувенеля на несколько дней арестовали. Канцлер университета Жан Жерсон спасся, укрывшись в лабиринте чердаков собора Парижской Богоматери.
Стало очевидным, что Иоанн Бесстрашный уже не восстановит порядок. Он потерял всю популярность. В Нормандии сосредоточилась армия принцев, но ее командиры не решались атаковать Париж: наступление могло закончиться кровавой баней. Приступили к переговорам. 28 июля в Понтуазе герцоги Беррийский и Бургундский договорились о компромиссе, который предвещал конец кабошьенам, едва только в Париже вновь осмелеют умеренные. В переговорах участвовали ректор университета и купеческий прево.
Арманьякская реакция
Мало кому в столице не надоели насилия и бесполезная потеря времени. От мясников устали. Их гегемония в конечном счете ничего не принесла. Магистры хотели, чтобы реформа была проведена в жизнь, — это подразумевало возвращение к порядку. Чиновники, не погибшие в ходе кризиса, просто-напросто хотели спокойно работать, и в этом их интересы тесно совпадали с общественными. Ничего странного, что силы реакции, которая была не арманьякской, а только антикабошьенской, возглавил адвокат Жан Жувенель. В свое время он терпеливо и эффективно возрождал парижские свободы. Теперь в качестве королевского адвоката в парламенте он защищал интересы короны.
Жувенель был из тех, кто прежде всего остерегался беспорядка, импровизации, анархии. «Не допускай, чтобы тебя несло в сторону, куда дует ветер», — говорил он. Ветер дул сильно, и Жувенель был не одинок в своем мнении. Как провинциал — он приехал в Париж в 1380 г. из Труа — он явственно ощущал, что Франция не подражает ужимкам столицы. В провинции очень хорошо помнили, что думали полвека назад о парижских эксцессах Генеральных штатов.
2 августа 1413 г. в ратуше один «сундучник» (huchier) — краснодеревщик — Гильом Сирасс подал сигнал к восстанию против диктатуры мясников.
3 августа у себя в квартале Сите дело в свои руки взял Жувенель. Он привел во дворец Сен-Поль делегацию, составленную из добрых бюргеров Сите, готовых наконец немного рискнуть, чтобы вихрь событий их не унес совсем. Повсюду слышался только один возглас: «Мир!» 4 августа на Гревской площади кабошьены попытались подсчитать свою численность. Среди собравшейся толпы они уже были в меньшинстве. Кто-то крикнул: пусть сторонники мира встанут справа, а остальные — слева. Парижане истолковали это выражение очень ясно: сторонник мира — значит, враг кабошьенов. Толпа двинулась направо. По приходе Жувенеля кабошьены обратились в бегство.
В свою очередь прибыл дофин. Он обнаружил, что Дом с колоннами уже населяют новые люди. Было назначено три новых эшевена, в том числе сундучник Сирасс. Жан де л'Олив остался при должности, что хорошо показывает: в тот момент еще никто не питал зла к авторам реформаторского ордонанса.
Это была победа порядка, мира, бюргерства, уставшего от кризисов и крови. Но это было и возвращение арманьяков, а им умеренность была не свойственна. Все быстро зашли дальше, чем хотели Жан Жувенель и ему подобные. Никто не хотел признаваться, что был кабошьеном; значит, никто уже не был бургундцем. Зашла речь об аресте герцога Бургундского, который 22 августа принял решение спасаться. Под предлогом охоты в Венсенне он попытался увезти короля. Жувенель и Людвиг Баварский настигли его и вернули обратно злосчастного Карла VI, не способного ничего ни решить, ни понять. Через неделю в Париж въехал герцог Орлеанский.
5 сентября перед двором, собравшимся в парламенте, и в присутствии короля реформаторский ордонанс аннулировали как «обнародованный внезапно и поспешно». Главное, что принят он был под угрозой. Он был «кабошьенским», и этим все сказано. Его текст публично разорвали.
Зачинщиков весенних мятежей отныне нещадно преследовали. Наиболее активных казнили — Кабошу удалось бежать вслед за Иоанном Бесстрашным, — а других просто изгнали. Начался арманьякский террор, вполне стоивший террора кабошьенов. Дофин, оказавшись в Лувре практически в плену, писал Иоанну Бесстрашному, прося о помощи. В феврале 1414 г. герцог подошел к Сен-Дени, но в конечном счете не решился войти в Париж. По наущению Людвига Баварского, Бернара д'Арманьяка и его зятя Карла Орлеанского король объявил герцога Бургундского мятежником и созвал армию для войны с ним. Из Сен-Дени снова вынесли орифламму. Чувство, когда-то побуждавшее к этому жесту, символическому в культе монархии, начало ослабевать. Впрочем, в Аррасе поход прекратился.
Принцы устали. В феврале 1415 г. они заключили мир. Бернар д'Арманьяк по-прежнему контролировал Париж, где усилилось налоговое бремя, о котором и через двадцать лет будут помнить парижане. Король все чаще впадал в безумие. Дофин Людовик 18 декабря 1415 г. умер, и эту новость восприняли равнодушно. В качестве наследника престола ему наследовал его брат Иоанн, герцог Туренский.
Тем временем у магистров университета появились другие заботы, и если доныне церковные дела тесно переплетались с делами правительства Франции, то теперь внимание тех, кого интересовали первые, устремилось за пределы королевства, в направлении Констанца, где в ноябре 1414 г. наконец открылся собор вновь обретенного единства. Там не раз сыграли ведущие роли такие люди, как Жерсон, Кошон, Жансьен. Они не считали нужным держаться за свое место на политической арене Парижа. Жерсон довольствовался тем, что вынес на обсуждение комиссии собора вопрос, дебаты по которому начались в Париже с самого начала арманьякского правления: осуждение доктрины, изложенной в 1408 г. Жаном Пти, его знаменитой «Апологии тираноубийства». Отцы собора отвергли этот вопрос, не пожелав выяснять, какая из сторон права. Потом в Констанце перестали говорить о французских делах.
Парижские мясники расплатились за свое недолгое владычество. Самые преданные сторонники бургундской партии бежали. Другие тщетно пытались добиться, чтобы о них забыли. Весной 1416 г. привилегированное учреждение, которое называлось Большими мясными рядами (Grande Boucherie) — и занимало обширное строение к северу от Шатле, — было просто-напросто упразднено. Свобода торговли мясом покарала этих рантье, ставших демагогами. Понадобится восемь лет, чтобы мясники, по-прежнему очень солидарные, смогли, воспользовавшись изгнанием арманьяков, вернуть себе часть привилегий и восстановить инфраструктуру своей монополии.
Надо полагать, мясники стали невыносимы и для других городов. Шартрские мясники утратили привилегии по тому же поводу: их наказали за «надменность».
Иоанн Бесстрашный остался в одиночестве. Он снова испытал искушение заключить союз с Англией, хоть и знал, чем рискует. Как и в 1411 г., такой союз мог вывести его из опасной изоляции. Переговоры, начавшиеся в январе 1414 г., еще до того, как герцог Бургундский передумал возвращаться в Париж, завершились 23 мая подписанием Лестерских конвенций. Если англичане придут завоевывать «свое французское наследие», Иоанн Бесстрашный поможет им в борьбе с герцогами Орлеанским, Беррийским и другими принцами партии арманьяков, но сохранит нейтралитет в случае борьбы обоих королей. Он получит свою долю завоеванного, и снова можно будет говорить о принесении Ланкастеру тесного оммажа.
Хоть все это было настоящим вероломством, герцог Иоанн на переговорах с Карлом VI и принцами-арманьяками в феврале 1415 г. без стеснения уверял, что не принимал никаких обязательств по отношению к англичанам.
Правду сказать, герцог Бургундский, как и Карл Орлеанский в 1412 г., увяз в противоречиях своей политики. Ланкастер был бы недальновиден, если бы не использовал постоянные колебания французских принцев в отношении союза с Англией, который давал им сильные козыри, но при этом компрометировал.
Глава XIV Завещанное королевство
Английское завоевание
В Англии уже два года царствовал Генрих V — с самого дня смерти, 20 марта 1413 г., своего отца Генриха IV Ланкастера, победителя Ричарда II. Первый из Ланкастеров в отношении расколотой Франции проводил политику «качелей», исходя из самого очевидного прагматизма. Генрих IV вступал в союз с тем — будь то герцог Бургундский или Орлеанский, — кто давал ему возможность для интервенции. Второй Ланкастер был не из тех, кто дожидается удобного случая.
Этот король, готовый царствовать, был склонен к холодному расчету. Его отец стал королем без подготовки. Генрих V искусству править и командовать учился десять лет. В качестве принца Уэльского он сражался на границе. Он контролировал крепость Кале. Он заседал в Совете, где решались вопросы континентальных союзов. И он примечательным образом сумел обеспечить себе поддержку со стороны своего брата Джона, герцога Бедфорда.
Со времени восшествия на престол он начал выстраивать систематический план акции против Франции. Эта акция включала дипломатическую стадию с целью возложить вину на Валуа и неизбежную военную стадию. Цели ставились обширные: отвоевать земли, занятые в начале XIII в. Филиппом Августом, и наложить руку на земли, уступленные Эдуарду III в 1360 г. по договору в Бретиньи-Кале и в конечном счете отвоеванные Карлом V после десятилетней борьбы, которую англичане по-прежнему считали нарушением договора. Генрих V Ланкастер зарился не менее чем на половину королевства Валуа от Нормандии до Пиренеев.
Главным в построении Ланкастера было масштабное притязание, которое долго колебался выдвинуть Эдуард III, даром что сам был внуком французского короля: Генрих V перенимал права Изабеллы Французской на наследие Капетингов. Как в свое время Наваррец, он делал вид, что он не столько враг Франции, сколько соперник Валуа в борьбе за корону Капетингов.
Эта позиция делала из него поборника права, справедливости, мира. Если придется прибегнуть к оружию, если начнется война, вина за это будет возложена на узурпатора Валуа. Призывая в свидетели Бога и его святых, англичанин сообщил это Иоанну Бесстрашному, а потом правительству Карла VI. Чтобы укрепить свои права на французскую корону, он попросил у Валуа руки его дочери Екатерины. Поведение Генриха V, внешне парадоксальное, было чрезвычайно последовательным. Но у него не могло быть во Франции ни одного юриста, чтобы подтвердить эти выводы.
1414 год был потрачен на бесполезный диалог через Ла-Манш. Правительство Карла VI делало вид, что участвует в игре. Ему нужно было выиграть время. Обещали независимое герцогство Аквитанию. Говорили об окончательной выплате выкупа за Иоанна Доброго. Готовились к свадьбе Екатерины. Приданое ожидалось значительное: два миллиона франков.
В начале 1415 г. Генрих V был уверен, что французы не уступят в одном: ни в коем случае не отдадут ему Нормандию. Советники Карла VI очень хорошо знали, чего стоило Капетингам в XI и XII вв. отсутствие выхода к морю. В феврале англичане подготовили армейские палатки, набрали войска, пересмотрели устав походной службы. В апреле для переправы был готов флот. Зафрахтовали даже голландские суда, чтобы собрать нужное количество.
Англичанин искал войны. Никто не мог обманываться в этом отношении, и меньше всех послы, направленные в июне в Винчестер арманьякским правительством. Они наконец предложили ему руку Екатерины вместе с приданым в 850 тыс. экю и большей частью Аквитании. Генрих V хотел не этого. Он намеренно сорвал соглашение, потребовав чрезмерных гарантий и слишком коротких сроков выплаты, чтобы французское казначейство могло их выдержать. Посланцы Карла VI ожидали этого хода, и у них были жесткие инструкции. Они почти оскорбили англичанина: в их речах промелькнула тень Ричарда II. Король, который на самом деле король Франции, не будет иметь дело с принцем, который на самом деле не король Англии.
Генрих V попросил их удалиться и уточнил, что вскоре последует за ними во Францию. 28 июля он направил Карлу VI ультиматум. 11 августа он отплыл из Портсмута.
Английский флот причалил к самой оконечности правого берега устья Сены, в местности под названием Шеф-де-Ко. Две тысячи латников, шесть тысяч лучников, итого, возможно, двенадцать тысяч человек высадились беспрепятственно. Это было завоевание, а не налет.
Основные силы этой армии под командованием короля и герцога Кларенса осадили Арфлёр. Несколько отрядов рыскали по земле Ко, утверждая свое присутствие. Генрих IV велел зачитывать прокламацию для нормандцев: он пришел вернуть им вольности. Ссылка на свободы времен Людовика Святого была ловким ходом. Англичанин сознательно забывал, что Людовик Святой придал в Нормандии прочную организацию тому, что завоевал его дед Филипп Август.
Арфлёр был ключом к навигации по Сене, а значит, к поступлению в Париж и Руан продуктов, перевозимых морем. Соляной амбар Арфлёра, снабжавший большую часть Парижского бассейна, был одним из первых во Франции. Более века деловому процветанию здесь способствовали испанская и португальская колонии. Рейд был надежным, а порт — хорошо оборудованным. Арфлёр мог стать вторым Кале. Генрих V не скрывал этих планов.
Правительство Карла VI не ожидало столь внезапного нападения на внешнюю гавань Сены. Уже привыкли, что англичане приходят через Котантен — по давнему маршруту, который некогда сделал для них удобным Жоффруа д'Аркур, — или через свой плацдарм Кале. Поэтому Арфлёр был защищен не лучшим образом — численность его гарнизона составляла сто копий, а прибытие 18 августа сира де Гокура и его отряда увеличило ее до четырехсот. В середине сентября Гокур послал к королю и дофину надежных гонцов; ему ответили, чтобы в ближайшем будущем он ничего не ждал, потому что королевская армия не готова.
Это значило, что нет смысла долго выдерживать блокаду и канонаду, особенно убийственную для маленького городка, где ни один дом не был достаточно удален от городской стены, чтобы при стрельбе в него не могли попасть. Каждую ночь жители на скорую руку чинили стены, которые днем разрушал град ядер, но такой героизм был чреват резней, какой можно было ожидать в тот день, когда англичане ворвутся в город. Мысль, что осада Арфлёра по меньшей мере задерживает англичан в самом начале набега и ослабляет их — тем более что осаждающих косила дизентерия, — ни на миг не приходила в голову Гокуру и его людям. Этот смельчак, которого мы снова встретим в Орлеане во времена Жанны д'Арк, превосходно владел мечом, но стратегом был посредственным. Он сделал попытку прорваться силой, но неудачно. 22 сентября он запросил у англичан условия сдачи.
Генрих V условий не ставил. Он холодно потребовал ключи от города, изгнал все население, конфисковал все, что можно было найти в домах, и благочестиво помолился в церкви Сен-Мартен. Латники должны были клясться своим именем и честью, что до 11 ноября придут в Кале, чтобы стать пленниками. Генрих V пока что не отягощал себя пленными, которых надо было бы кормить и конвоировать.
Осада продлилась больше месяца, а на то, чтобы занять новую английскую крепость, потребовалось три недели. Англичанин понял, что уже не успеет завоевать Францию до зимы. Он хорошо знал, что за несколько дней Париж не возьмет. Поэтому он перенес на следующую весну широкое наступление, которое, может быть, никогда и не мечтал закончить за одну кампанию, но нельзя полагать, что рассчитывал запросто его подготовить, коль скоро в августе были задействованы столь значительные средства. 8 октября Генрих V отдал приказ идти в Кале. Поход 1415 г. по крайней мере окупился приобретением превосходного плацдарма в Нормандии.
Преимущества набега в направлении Кале состояли и в том, что англичане попутно сеяли панику и выражали пренебрежение к Валуа. Они вновь прибегли к основному принципу кампании Эдуарда III в 1346 г.: отходить по дороге, как можно более близкой к побережью, делая вид, что контролируешь местность.
Тем временем заканчивался сбор армии Карла VI. Когда Генрих V покидал Арфлёр, французы уже были при оружии в Руане. Но они были разобщены. Герцоги Бургундский и Орлеанский старались вести себя похитрей с тех пор, как узнали о высадке англичан, и Карл VI никак не мог сблизить их позиции. Герцог Орлеанский и его тесть Бернар д'Арманьяк пытались не допустить, чтобы в армии присутствовал Иоанн Бесстрашный, вполне обоснованно опасаясь, что он воспользуется ситуацией и за пределами Парижа вновь возьмет власть, которую потерял, надоев парижским горожанам. Арманьяк по-настоящему стремился к одному — держать Бургундца как можно дальше от короля и дофина. Но против бургундских войск никто не возражал: пусть герцог Бургундский пришлет свой контингент. И арманьякское правительство в равной мере обязало герцогов Бургундского и Орлеанского выделить по пятьсот латников и триста арбалетчиков.
Иоанн Бесстрашный наотрез отказался. Он выполнит свой долг крупного вассала. Честь не позволяет ему оставаться дома, когда кто-то нападает на короля. Отметим, что он напрочь забыл об условиях одного договора, заключенного недавно…
Арманьяк поддержал мнение короля. Герцог Бургундский сделал логичный вывод: если он в армии короля лишний, то и его войска там лишние. Он запретил своему сыну, будущему Филиппу Доброму, присоединяться к королю. Хуже того, в то время как англичане шли вдоль Соммы, Иоанн Бесстрашный передал пикардийской знати, чтобы она не бралась за оружие. Здесь Генрих V уже выиграл партию.
Он собирался перейти Сомму тем же бродом Белое пятно (Блан Так), который когда-то спас Эдуарда III. Но отказался от этой мысли, когда ему сказали — похоже, эта информация была ложной, — что брод усиленно охраняется. Поэтому, перейдя реку 19 октября выше Вуайенна, 24 октября он достиг Мезонселля. Там-то весть о неизбежном подходе французов и вынудила его прервать марш на Кале — марш, который под проливным дождем превращался в отступление. Французы имели численное преимущество. Если англичане не хотели, чтобы их перебили на марше, им надо было готовиться к сражению. Впрочем, армия Карла VI перекрыла дорогу на Кале: сосредоточившись на небольшом плато, отделявшем Азенкур от Трамкура, французы составляли огромную массу.
Англичане приближались только с одной стороны и увязали в земле, тяжелой от природы и размокшей в тот день от дождя. Тем не менее конница короля Франции выстроилась в каре, исключив для себя на выбранном поле боя всякую возможность маневрировать. Более того, дождь вынудил латников, чьи движения были скованы доспехами, всю ночь оставаться в седлах. К утру люди и животные уже изнемогали. Англичане, находясь на расстоянии двух полетов стрелы, провели ночь в палатках, уверенные, что французы не станут атаковать по грязи.
Среди французов был один старый принц, переживший в детстве первые часы поражения при Пуатье. Речь идет об Иоанне Беррийском. Он посоветовал не принимать сражения. Самое большее, чего добился сын Иоанна Доброго, — исключения той опасности для короны, какой она подверглась шестьдесят лет назад: короля и дофина не допустили к битве.
Утром 25 октября 1415 г. обе армии поначалу выжидали. Прошло три-четыре часа. Генрих V выстроил свою конницу в боевой порядок. Обозы отправили в тыл, в деревни. Капелланы прочли молитвы. Тем временем французы укорачивали свои копья, учитывая особенности территории. Уже знали, что грязь не даст возможности для кавалерийской атаки с длинными копьями. Сделав это, французская конница встала в ожидании.
В одиннадцать англичанин дал приказ к атаке. Он расположил армию очень широким фронтом. Пользуясь своей подвижностью, лучники шныряли повсюду, прячась за деревьями и даже за кольями, которые они носили с собой и втыкали в землю, чтобы стрелять из-за них. Гекатомба французского рыцарства, начавшись под стрелами, была завершена мечами и топорами английских латников, которым их диспозиция дала возможность всем вместе атаковать французскую «баталию», неповоротливую из-за слишком тесного построения. В большинстве французы не могли даже развернуться, чтобы использовать свое оружие. Это было не сражение, это были давка и резня.
К вечеру земля была усеяна трупами. Среди убитых было и несколько англичан, в том числе герцог Йорк, двоюродный дед короля Генриха V. Но в битве полегли тысячи французов: оба брата Иоанна Бесстрашного — герцог Антуан Брабантский и граф Филипп Неверский, герцог Иоанн Алансонский — потомок Карла Валуа, Эдуард, герцог Барский — некогда жертва кабошьенов. Погиб и коннетабль Шарль д'Альбре, граф де Дрё. Он отчасти нес ответственность за стратегическую ошибку, какой было это боевое построение.
Генрих V не хотел обременять себя пленными и отдал приказ казнить французов, которые, раненые или нет, сдались и теперь полагали, что выпутались из беды ценой выкупа. На некоторое уважение право получили только принцы, выкуп за которых мог пополнить казну в Винчестере. Это были герцоги Орлеанский и Бурбонский.
Англичане были недовольны своим королем, который тем самым лишил их выгод от победы. Самые утонченные сочли, что такая расправа с пленными противоречит рыцарской этике. Самые приземленные отметили, что пленники короля обузой почему-то не оказались.
Тем не менее были и такие французы, для которых этот день оказался удачным. За армией, как всегда, шли мародеры, подбирая, что плохо лежит и что оставили солдаты. Во время сражения они заметили, что английский обоз слабо охраняется после того, как линия атаки удалилась в направлении французской армии. Пока у латников хватало дел впереди, мародеры бесцеремонно расхищали багаж победителей. К вечеру оказалось, что пропала корона Генриха V.
Бойня при Азенкуре не принесла принципиальных изменений в англо-французские отношения. Генрих V 16 ноября отплыл из Кале. Но это поражение перевернуло соотношение политических сил внутри Французского королевства. Герцоги Орлеанский, Бурбонский и несколько других вышли из игры, а старый герцог Беррийский впал в уныние. Бернар д'Арманьяк, назначенный 31 декабря коннетаблем, по-прежнему контролировал Париж, но при безвластной королеве, больном короле, новом неопытном дофине единственным умелым политиком остался Иоанн Бесстрашный.
В начале декабря он собрал армию, которой не дал присоединиться к армии короля и тем самым создал угрозу для столицы. Его солдаты разоряли сельскую местность. Герцог остановился в Ланьи, не решаясь напасть на столицу, где арманьяки были готовы дорого продать свою жизнь.
Арманьяки и бургундцы начали мериться силами во всех деревнях Иль-де-Франса и Шампани. В самом Париже близость бургундской армии только обострила реакцию арманьяков. В городе уже не смели произносить даже имя герцога Бургундского.
На повседневной жизни парижан тяжело сказывалась политическая ситуация. Вешали за хранение оружия или за оставленный на подоконнике горшок с цветами, который можно было использовать как метательный снаряд против сержантов короля. На свадебные трапезы следовало приглашать человека, которому платило правительство — и которого кормил жених, — для контроля, чтобы «ни о чем не шептались». Иначе говоря, чтобы самое безобидное собрание родни не обернулось заговором, надо было приглашать шпика.
В деревнях поведение крестьян диктовал всего один страх — перед военными, чьи бы они ни были. Вернулось время больших набегов, а во что они обходятся среднему виллану, было известно. Все, кто видел для себя непосредственную опасность, бросали риги и скот, чтобы искать убежища в городе. Париж, Руан, Амьен со дня на день могли оказаться перенаселенными. Безопасности от этого не прибавлялось, а ситуация со снабжением становилась критической.
Арманьякское правительство пыталось принимать ответные меры. Однако они терпели провал. Наступление на Арфлёр в 1416 г. не удалось. Дипломатические контакты с римским королем Сигизмундом Люксембургским привели в марте 1416 г. только к поездке будущего императора в Париж, где он вел себя как властитель, после чего он поехал в Лондон и вступил в соглашение с Генрихом V. Парижский горожанин был шокирован, что на мессе в соборе Парижской Богоматери Сигизмунд не сделал никаких приношений и посчитал себя щедрым, оставив экю детям-хористам. Римский король принял у себя жен нотаблей и предоставил им в изобилии напитков, а потом подарил каждой по дешевому кольцу. Парижанин счел, что к нему проявили пренебрежение. Узнав о Кентерберийском договоре, он посчитал себя обманутым: Сигизмунд и Генрих V подписали соглашение о завоевании Франции.
В тот же день, когда оба суверена вели переговоры в Кентербери, 15 августа 1416 г., французский флот — состоящий в основном из генуэзских кораблей — был обращен в бегство в бухте Сены. Арфлёр остался в руках англичан.
Бургундское владычество
Иоанн Бесстрашный извлек уроки из этой ситуации. Забыв о братьях, погибших при Азенкуре, он предложит свою дружбу Генриху V. В октябре оба принца провели неделю вместе. Герцог Бургундский сделал решающий шаг в своей политике отказа от прав Валуа — он признал право Ланкастера и его преемников.
Того, кто по праву король Франции, и тех, кто по праву будут королями Франции.
Вскоре было подписано соглашение ограниченных масштабов: Иоанн обязывался вмешаться только в момент, когда дело явно будет идти к победе. По крайней мере, английский король мог продолжать действовать, не опасаясь, что против него поднимется вся мощь Бургундского государства.
Иоанн Бесстрашный, признавая «права» англичанина, проигнорировал по меньшей мере один факт: он сам принадлежал к роду Валуа и не был бы герцогом Бургундским, если бы век назад Филиппу Валуа предпочли Изабеллу.
29 июня 1417 г, под Ла-Уг был разбит французский флот. На тридцать лет англичане стали хозяевами Ла-Манша. Путь в Нормандию был свободен. 1 августа Генрих V высадился снова, на сей раз в Трувиле, с армией, численность которой составляла около десяти тысяч человек. Как ранее в Арфлёре, он изгнал жителей Кана, оказавших сопротивление. Прибыв на сей раз из-за Ла-Манша, англичане устроили в Кане центр управления территориями, которые они начали завоевывать. Генрих V больше не искал быстрой славы в недолгом набеге. Пришло время завоевания или, скорей, отвоевания.
События развивались очень быстро. В октябре пали Аржантан и Алансон. Стараясь избежать вторжения, которое ему, кстати, не угрожало, герцог Бретонский заключил в ноябре мир с победителем. Иоланда Арагонская, королева Сицилии и герцогиня Анжуйская, также заключила соглашение с англичанином, чтобы защитить наследие самого младшего сына, будущего Карла Менского. Падение Фалеза и Эврё в начале 1418 г, ознаменовало полнее завоевание Западной Нормандии. Только крепость Шербур еще держалась. Поэтому Генрих V мог снова обратить взоры к Сене. 23 июня он занял Лувье.
С осени 1411 г. Иоанн Бесстрашный снова зарился на Париж. Он знал о растущей непопулярности Бернара д'Арманьяка и его сторонников, тирания которых принесла Парижу только долгую череду бедствий и страхов. Жизнь города была парализована — как настоящим осадным положением, так и падением стоимости монеты. Золотая марка — парижская марка весила 244,75 современных грамма — от шестидесяти — шестидесяти пяти турских ливров при Карле V и Карле VI дошла более чем до ста ливров после мая 1417 г. Серебряная марка от шести ливров поднялась до одиннадцати. Новая золотая монета, мутон, была скверной, ее уже делали не из чистого золота, и она весила на треть меньше при почти той же стоимости. Что касается серебряной флоретты, ее действительная стоимость не достигала и половины стоимости последних грошей, выпущенных бургундским правительством до реакции 1413 г.
Во всех кругах общества наперебой распускали самые ошеломительные слухи. Разве не рассказывали, что арманьяки сделали себе боевые секиры и доспехи черного цвета, чтобы верней совершать ночные злодейства? Фактически правительство Бернара д'Арманьяка и его заложника, нового дофина Карла, совсем выпустило из рук бразды правления. Оно жило в кредит — принудительный, близкий к вымогательству. Иоанн Бесстрашный счел за благо разыграть карту, уже разыгранную его отцом против Людовика Орлеанского: он объявил, что отменит налоги.
Потом он поехал в Тур к королеве Изабелле Баварской, которую дофин Карл и его сообщник Бернар д'Арманьяк сочли уместным удалить из Парижа. Последнее время Изабелла чувствовала себя подзабытой. Она не отказалась вступить в игру на стороне герцога Бургундского. Оба обосновались в Труа. Поскольку Карл VI пока что полностью «отсутствовал», Изабелла официально объявила, что наделяет властью себя:
Милостью Божьей королева Франции, по причине захвата моего государя короля осуществляющая управление и руководство оным королевством.
Герцог Бургундский знал, что ситуация нестабильна. Он решил, что пора вступить в переговоры с противниками. Близ Монтеро состоялась конференция под председательством легатов, которых послал новый папа Мартин V, избранный в ноябре 1417 г. вновь объединенной церковью. На миг можно было поверить, что наступил мир. В момент заключения договора Бернар д'Арманьяк уклонился от его подписания.
В Париже настроение вновь переменилось в пользу Иоанна Бесстрашного. Один из недовольных, купец Перрине Леклерк, сговорился с Вилье де л'Иль-Адамом, одним из капитанов, рыскавшим по окрестности на службе герцога Бургундского. Отец Перрине охранял ворота Сен-Жермен-де-Пре; в ночь с 28 на 29 мая он открыл эти ворота. Ранним утром, когда ошарашенные парижане проснулись от громкого шума, бургундцы уже стали хозяевами города, прежде чем арманьяки успели организовать сопротивление. Коннетабль Бернар д'Арманьяк укрылся у соседей, но его все-таки арестовали.
Парижский прево Танги дю Шатель как раз успел похитить дофина Карла, донести его на руках — а молодому человеку все-таки было шестнадцать лет — до Бастилии, а потом организовать его побег в Мелён. Карлу предстояло вновь увидеть свою столицу только через девятнадцать лет. До этого он станет буржским королем.
Несмотря на присутствие в Париже короля, которого победители-бургундцы провели по улицам с громкими приветственными криками, словно действительно освободили его от деспотической опеки арманьяков, столицу охватила анархия. Л'Иль-Адам оказался неспособен утихомирить своих людей и не имел никакой власти над парижанами. Иоанн Бесстрашный прислал своего доверенного юриста, адвоката Филиппа де Морвилье, который недавно в Амьене возглавлял парламент, учрежденный Изабеллой на время господства арманьяков в Париже. Морвилье смог только констатировать наличие беспорядка. Во всяком случае, он извлек из этого личную выгоду: 22 июля 1418 г. его назначили первым президентом Парижского парламента. Умелый юрист, автор трактата о муниципальных институтах Амьена, Морвилье никогда прежде не заседал в парламенте в качестве советника. Однако он почти двадцать лет будет направлять судьбы этого суда, где, надо сказать, при своих должностях осталась немалая часть советников, входивших в парламент Карла VI — парламент, часто пытавшийся сторониться политических баталий.
Герцог Иоанн воздержался от личного приезда. Как он был в Труа, так там и остался. Несомненно, его не удручала резня его врагов, против которой он бы не смог не выразить протеста, если бы присутствовал в Париже; его сторонники отнюдь не сказали бы ему за это спасибо. Иоанн Бесстрашный уже пережил неловкую ситуацию при кабошьенах. Через пять лет он предпочел остаться в стороне.
12 июня с ложного слуха о контрнаступлении арманьяков начался первый революционный день. Парижское простонародье пошло отворять тюрьмы. Как и в 1413 г., мясники были не последними из тех, кто возглавлял штурм и резал арманьяков, которых две недели защищала тюрьма. Среди жертв оказались коннетабль Бернар д'Арманьяк, канцлер Анри де Марль, первый президент Робер Може. Погиб и брат канцлера, епископ Кутаисский Жан де Марль.
В Шатле узники оказали слабое сопротивление. Их стали выкуривать. Они прыгали из окон, и их принимали на копья.
В целом погибших будет насчитано несколько сотен, и многие из них были всего лишь сторонниками «мира», резкое раздражение которых привело пять лет назад к антибургундской реакции. Убитые магистры, вероятно, были из числа тех, без которых не упразднили бы «кабошьенский» ордонанс.
Самые сомнительные элементы парижского населения, неизбежные любители ловить рыбку в мутной воде, очень быстро смешались с теми, для кого сведение счетов уже переходило в кровавое празднество. Вспарывали животы беременным женщинам, совершали надругательства над трупами и по-всякому веселились в том же роде.
Иоанн Бесстрашный прибыл 14 июля. Он привез королеву. Радость взяла верх над злобой. Кричали: «Рождество!» Если бы Руану тогда же не угрожали англичане, в Париже можно было подумать, что вернулся мир. Впрочем, правительство бургундцев немедля начало организовывать жизнь во Франции, словно ничего не случилось. На все вакантные места в суде, финансах и королевской администрации назначили новых людей. Советники, казначеи, бальи — среди них появлялись как новые лица, так и знакомые раньше. Но, казалось, арманьяки уже принадлежат прошлому. Коннетабль был убит, дофин Карл практически неизвестен. Танги дю Шатель и несколько его соратников вдали от столицы представляли собой все, что осталось от бывшей партии герцога Орлеанского.
Новая тревога вечером 20 августа 1418 г. привела к тому, что 21-го начался новый революционный день. На сей раз у мятежников была организация, как в 1413 г. Роль, некогда сыгранную Кабошем, теперь взял на себя палач, некий Капелюш. Он специализировался на убийствах женщин. Удовольствие, которое он от этого получал, побуждало его без малейших оснований убивать невиновных, которых никто не смел защищать.
Кабош, однако, теперь был на привилегированном положении. Он занимал весьма важную должность при дворе герцога Бургундского. Он больше не желал впутываться в народные волнения.
У Иоанна Бесстрашного все-таки хватило смелости отреагировать. Он приказал немедля арестовать Капелюша, который вызвал у него раздражение своей фамильярностью и особенно тем, что некстати предложил ему кубок вина. Герцог Бургундский отнюдь не брезговал демагогией, но терпеть не мог, когда с ним обращаются как с простым человеком. Был назначен новый палач, начавший профессиональную деятельность с того, что отрубил голову Капелюшу. Тот сам наточил топор и щедро одарил преемника советами.
Едва прекратилась резня, как вспыхнула эпидемия оспы. Только в больнице Отель-Дье умерли 5311 больных. Хронисты говорили о пятидесяти, восьмидесяти и даже ста тысячах умерших. Даже с учетом преувеличений можно допустить, что оспа унесла десятки тысяч парижан. Герцог Бургундский контролировал столицу, но она была обескровлена.
Враждебность к фиску — той и другой сторон — ранее вызвала волну ксенофобии, оправдываемую прибылями, которые получали некоторые крупные тосканские и генуэзские купцы, в качестве откупщиков вошедшие в фискальный механизм как его составная часть. Многие «ломбардцы» были убиты или оказались в опасности в 1413 г., другие — в 1418-м. Видя, что эпидемия усиливает экономическую катастрофу, какой стали гибель, изгнания и поспешные отъезды людей, которые были их крупными клиентами и торговыми партнерами, выжившие приняли решение уехать. В начале XIV в. Париж принял эстафету от шампанских ярмарок в качестве одного из деловых центров Западной Европы; отъезд ломбардцев в 1418–1420 гг. способствовал упадку этой репутации.
Тем временем Руан держался против англичан. Но с начала 1418 г. он был занят бургундцами, и его оборона велась от имени герцога Бургундского — оборона, в которой блистательно участвовал и парижский контингент. Город был хорошо оснащен артиллерией, и гарнизон достаточно силен, чтобы отражать штурмы англичан. Но время работало против Руана. Англичане перекрыли Сену, возвели вдоль всей городской стены циркумвалационную стену, состоящую из насыпи, рва и палисада. Руанцы могли взять верх, только если бы Иоанн Бесстрашный ударил осаждающим в тыл.
У Иоанна Бесстрашного было слишком много дел в Париже. Он позволил Руану как можно дольше сдерживать силы английского короля. Даже когда в ноябре он подошел к Понтуазу с небольшой армией, он явно не намеревался ввязываться в активную борьбу с англичанами. На Совете, в декабре, все согласились: для Руана уже ничего нельзя сделать.
Союз с Англией
Кардинал Орсини потерпел неудачу прошлой весной при попытке примирить герцога Бургундского и дофина. Все-таки желая одержать какую-то дипломатическую победу, он попытался выступить посредником в деле руанцев. Он повидался с Генрихом V, отчитал его, показал портрет привлекательной Екатерины Французской, которая в 1415 г. едва не стала королевой Англии и оставалась девушкой на выданье. Генрих V отклонил предложения легата.
Англичанин мог чваниться. Только что, 29 сентября, капитулировал Шербур. Генрих V знал, что Руану надеяться не на что, и допускал, что у других городов королевства есть представление, что их ждет, если они не пожелают открыть ворота перед тем, кто представляет себя в качестве короля Франции. Это мнение относилось как к парижанам, так и к остальным.
Жизнь в Руане была воплощенным кошмаром. Голод был таким, что продавали мышей. Защитники хотели сократить число ртов и изгнали женщин, детей и стариков. Генрих V отказался их пропустить. Дело было в декабре. Несчастные в большинстве насмерть замерзли во рвах.
В начало января нотабли запросили у короля Англии условия сдачи. У него условий не было. Некоторые говорили, что надо прорваться массой, а перед этим поджечь город. Но это было бы коллективным самоубийством. Руанцы отказались от этой идеи, не зная, что в конечном счете она им поможет. Ведь о ней прознал Генрих V и встревожился: ему был нужен город, а не зола. Архиепископ Кентерберийский Генри Чичли воспользовался настроением своего короля, чтобы подтолкнуть его к соглашению. Англичане и руанцы спорили четыре дня и четыре ночи. 19 января Руан наконец капитулировал. Жителям это обошлось в триста тысяч экю, которые следовало выплатить в течение десяти лет. Навстречу победителю вышла процессия духовенства. Бургундского капитана, командовавшего обороной, повесили.
Победа Генриха V была блестящей. Он сумел добиться того, что не удалось шестьдесят лет назад великому Эдуарду III. И он накапливал капитал ненависти к себе, по процентам с которого придется расплачиваться его брату Бедфорду.
В то время как англичане заняли остальную часть Нормандии, не вызвав другой реакции, оба правительства Карла VI по-прежнему противостояли друг другу. Каждое имело видимость легитимности, и как дофин, так и королева присвоили себе титул наместника отсутствующего короля. За одного был Центр и Запад Франции, а прежде всего Юг. За другую — в основном Восток и Север. Поэтому вариант, что победу может дать соотношение сил, исключался. Но представлялось бесспорным, что англичане, занимая город за городом, так и будут пользоваться параличом власти из-за ее раскола. Весной 1419 г. Иоанн Бесстрашный попытался пойти на переговоры.
Он обратился сначала к Генриху V, предложив ему все территории, некогда уступленные по договору Бретиньи — Кале. Он добавил к ним Нормандию, которой Ланкастер уже владел три года после завоевания. Изабелла Баварская одобрила это предложение. 30 мая 1419 г. все прибыли в лагерь, разбитый близ Понтуаза. Присутствовали Генрих V, королева Изабелла, герцог Бургундский и даже принцесса Екатерина, по-прежнему готовая выйти замуж за англичанина, если будет принято такое решение. Карл VI, как раз переживавший приступ болезни, остался в Понтуазе.
Соглашение не состоялось из-за частностей и из-за последнего хода дофина Карла. Он, увидев, что остается в изоляции, попытался срочно заключить свой мир с Иоанном Бесстрашным. Его посланцы достигли Понтуаза как раз тогда, когда Изабелла в последний раз ощутила сомнение, стоит ли заключать союз с Англией или, вернее, платить за него такую цену.
В Совете большинство выступало за договоренность с англичанами, а не с дофином. Угрозу представлял Генрих V, и только он. Лучше оставить ему то, чем он уже владеет, и отдать то, чем владели его предки, чем он заберет все остальное. Ценой половины Франции покупали право сохранить вторую половину. Главное требование Ланкастера — французская корона — не обсуждалось. Изабелла и герцог Иоанн хорошо знали: уступая Нормандию и Аквитанию, они спасают основное.
Это была реалистичная политика. Правительство дофина поддерживала добрая часть Франции, но его администрация пока была в зачаточном состоянии, и он не получал от этой Франции ни налогов, ни армии. Дофину Карлу — будущему Карлу VII — было нечего противопоставить Ланкастеру. Зато последний мог помочь подавить дофина, а значит, восстановить единство. Как сказал при всем Совете канцлер Бургундии Никола Ролен: союз с Англией принесет мир, а примирение с дофином — нет.
Напрасно некоторые советники приводили старые аргументы Карла V против договора в Бретиньи. Юрист Жан Рапиу, только что назначенный президентом парламента, напомнил, что королевский домен неотчуждаем, и проанализировал генеалогию Ланкастера: даже если бы корона передавалась по женской линии, Генрих V — не старший из потомков Изабеллы Французской, дочери Филиппа Красивого. В самом деле, обстоятельства восхождения Генриха V на английский престол мало помогали легистам обосновать его права на корону Франции.
Политики поддержали Ролена: нужно покончить с войной. Может быть, они приняли бы решение, если бы Генрих V, раздраженный проволочками собеседников, сам не прервал переговоры, подняв требования. Совет Изабеллы решил снова связаться с дофином. Иоанн Бесстрашный в тот момент уже не возражал. Плохой мир лучше доброй ссоры.
Невозможность примирения
Поэтому герцог Бургундский уехал от англичанина и прибыл в Мелён. 8 июля он встретился с дофином Карлом. Разговор был тягостным. Герцог еще колебался, стоит ли ему по-настоящему ввязываться в это дело.
С ним говорить — все равно что с глухим ослом.
11 июля 1419 г. спор ожесточился. Противников успокоила одна придворная дама королевы Изабеллы, близкая как к герцогу, так и к дофину. Они поклялись, что хотят мира. Они договорились вместе изгнать англичан. Текст соглашения был крайне спешно доставлен Карлу VI, который в Понтуазе 19 июля ратифицировал его. Благодарственные процессии по всему королевству ознаменовали зарождение надежды.
Женщине было не под силу изменить характер Иоанна Бесстрашного. Клянясь дофину в приверженности миру, он в то же время сохранял надежду заключить договор против дофина с Ланкастером. 31 июля Генрих V занял Понтуаз. Герцог Бургундский и Карл VI перебрались в Труа, и Иоанн Бесстрашный начал готовить новое свидание с дофином, предусмотренное на 26 августа в Монтеро.
Герцог желал не просто встретиться с соперником. Он хотел завлечь молодого Карла в Труа и тем самым вернуть на место. Что сможет сделать дофин в присутствии короля и королевы? Герцог Бургундский в те дни был очень уверен в своей власти над Карлом VI.
После ряда отсрочек встреча в Монтеро состоялась 10 сентября 1419 г. Часть моста посредине обнесли ограждением. Туда вошли герцог и дофин, при каждом было несколько спутников. Основные силы отрядов каждого ждали на том и другом берегах. Принцы обменялись не одной резкостью. Напряжение нарастало. Каждый держал руку на эфесе меча. Окружение было взвинчено. В какой-то миг терпение лопнуло. Танги дю Шатель отодвинул дофина. Началась схватка. Иоанна Бесстрашного зарубили.
У каждого очевидца была своя версия трагедии. По общему мнению, смертельный удар нанес Танги дю Шатель.
После этого события развивались очень быстро. Партия Бургундца сплотилась вокруг нового герцога Филиппа и его матери, герцогини Маргариты. Идею соглашения с дофином очень скоро отвергли, хотя Карл думал о нем всерьез. Бургундцы готовились к мести. Новый герцог пожал плечами, когда инквизитор Реймса во время торжественной службы, проводимой в Сен-Вааст-д'Аррас в память Иоанна Бесстрашного, публично посоветовал ему положиться на королевское правосудие.
Партия мести отныне была единодушна: их цель достижима только в союзе с англичанами. Генрих V, видя, что перед ним открываются новые перспективы, о которых он не мог даже мечтать, воздерживался от того, чтобы форсировать какие бы то ни было события. Альтернатива, вставшая перед бургундцами после захвата особы короля и столицы, разрешилась сама собой. 12 сентября парижские горожане поклялись мстить за герцога Иоанна всеми средствами и для этого найти общий язык с англичанами. Поскольку Иоанна убили во время переговоров, это в достаточной мере доказывало, что договариваться с арманьяками бесполезно.
Лишь немногие вспоминали, что Иоанн Бесстрашный двенадцать лет назад сам был заказчиком другого убийства. У Карла Орлеанского, находящегося в английском плену после Азенкура, друзей осталось мало, и даже друзья его отца, как сама королева Изабелла, давно переметнулись на другую сторону.
Договор в Труа
Франко-бургундские послы и послы Генриха V встретились в ноябре в Аррасе. 2 декабря завершились предварительные переговоры, результаты которых оба короля ратифицировали 25 декабря. В Труа в январе 1420 г. произошла новая встреча. Договоренность считалась уже делом решенным.
20 мая в Труа прибыл Генрих V. Был подписан — наконец — брачный контракт с Екатериной Французской. После столь долгого ожидания она пробыла королевой два года. Когда она повторно выходила за Оуэна Тюдора, никто бы не догадался, что ее внук станет первым королем из династии Тюдоров — Генрихом VII.
Договор был скреплен печатями 21 мая. Он делал Генриха V сыном Карла VI и Изабеллы. Формулировка была двусмысленной: он был сыном, потому что был зятем, но его права в традиции Капетингов и Валуа были правами сына, а не зятя.
В силу брачного союза, заключенного во благо мира между нашим сыном, королем Генрихом, и нашей дражайшей и горячо любимой дочерью Екатериной, он стал нашим сыном и сыном нашей дражайшей и горячо любимой супруги, королевы…
После нашей кончины и со времени оной французская корона и Французское королевство со всеми его правами и всем, что ему причитается, навсегда останутся за нашим сыном королем Генрихом и его прямыми наследниками…
При нашей жизни наш сын король Генрих не станет устно или письменно именовать себя королем Франции и не потребует от других так устно или письменно именовать себя, но воздержится от присвоения оного титула, покуда мы живы…
При нашей жизни мы станем называть и именовать нашего сына короля Генриха устно и письменно на французском языке следующим образом: наш дражайший сын Генрих, король Англии, наследник Франции.
Каким бы скандальным договор в Труа с самого начала ни казался многим юристам и большинству обычных людей, склонным удивляться, что король Франции мог так распорядиться короной, — в отношении которой юристы Карла VII покажут, что она не принадлежит суверену как собственность, — этот договор, назначая зятя наследником, не вводил чего-то абсолютно чуждого менталитету людей, привычных к феодальным реалиям. Граф Анжуйский стал королем Иерусалимским, женившись на наследнице престола. Один португальский принц, Ферран, таким же образом оказался графом Фландрским. Капетинг Карл Валуа сделался императором Восточной Римской империи, потому что женился на даме из рода Куртене. И герцог Бургундский стал графом Фландрским только благодаря браку Филиппа Храброго и Маргариты, дочери Людовика Мальского…
Все эти случаи, когда зять наследовал тестю, имели общее династическое основание — отсутствие сына. Таким образом, договор в Труа игнорировал права дофина Карла.
Принимая во внимание ужасные и огромные преступления и проступки, совершенные во Французском королевстве Карлом, так называемым дофином Вьеннским…
Не было сказано, что Карл — не сын Карла VI и Изабеллы, и она отнюдь не утверждала, как слишком часто говорили, что дофин был бастардом. Но он был только «так называемым» дофином, и это значило, что на самом деле он таковым не был. Заключая, что договор в Труа делает из будущего Карла VII бастарда, общественное мнение не ошибалось.
Уния обоих королевств была чисто личной. Королем в ней предстояло быть одному Ланкастеру, но тем не менее Французское королевство оставалось отдельным от Английского. Каждое королевство сохраняло свои институты, свое право, свои ресурсы, свою монету. Земли, которые король Англии продолжит завоевывать у дофина, отойдут к Французскому королевству, а не к Английскому. За исключением только Нормандии, которая оставалась за Генрихом V как вотчина.
Никто не питал иллюзий насчет состояния короля Карла VI. Договор в Труа давал Генриху V возможность уже теперь управлять своим будущим Французским королевством, взимать налоги, назначать чиновников. Короче говоря, Генрих V был регентом Франции. Казалось, разногласие, возникшее в 1328 г. из-за общего пренебрежения наследственными правами Изабеллы, сестры последних Капетингов, наконец удалось уладить.
Итак, король Франции и его новый наследник совместно заняли Санс, потом Монтеро и наконец Мелён, который все-таки держался четыре месяца. 1 декабря оба короля и обе королевы — мать и дочь — торжественно вступили в Париж. Горожане рукоплескали. Перед Дворцом разыграли «Страсти Господни». В соборе Парижской Богоматери прозвучал «Те Deum». Карл VI вернулся во дворец Сен-Поль. Генрих V разместился в Лувре: крепость была надежней.
Разумеется, не все были готовы принять ситуацию, когда король Франции распоряжается своей короной как обычным наследством. Многих это смутило. Такого еще не видели. Но это поколение повидало немало того, что удивило бы современников Карла V. Король, лишающий сына наследства, — неслыханный случай. Но разве все не наслышались о безумном короле, раз пятнадцать «отсутствовавшем» в собственном правительстве, короле, ставшем в зрелом возрасте игрушкой разных клик, готовых на убийство, чтобы проникнуть в Совет? Горожане, кричавшие «Рождество!» во время проезда обоих королей, просто-напросто приветствовали приход мира. Многим большего было и не надо.
Через четыре дня созвали собрание, определив его как Генеральные штаты. Карл VI заверил, что согласился на договор в Труа по свободной воле. Депутаты совещались до 10 декабря, а потом заявили, что одобряют мир. Генрих V велел составить текст клятвы баронов; каждый должен был скрепить ее своей печатью, прежде чем покинуть Париж. Ее нарушение делало бы их вероломными вассалами.
Магистры университета сочли, что пора заговорить о своих привилегиях. Их приняли неласково. Они в любом случае опоздали. Перейти теперь в другой лагерь означало изменить.
Тем не менее война продолжалась: ситуация не могла удовлетворить ни тех, ни других. Опираясь на Бургундию, Генрих V хотел править всем будущим королевством. Дофин Карл, одно время укрепив свои позиции союзом с Бретанью и твердо рассчитывая на Лангедок, по которому только что с большой пользой проехал, тоже намеревался царствовать над всем королевством своих предков. Весной 1421 г. арманьякская армия разбила англичан при Боже; в схватке был убит Кларенс. Но, пока армия дофина осаждала Шартр, армия Ланкастера заняла Дрё и Эпернон. Весной 1422 г. в руки англичан попали Мо, Компьень и Санлис. Казалось, военное счастье благоволит Карлу VI и его зятю Генриху V. Эту тенденцию прервет смерть.
31 августа 1422 г. король Англии умер в Венсенне от внутреннего кровоизлияния. На смертном одре он посоветовал брату Джону Бедфорду и всем его приближенным, которые разделят его ответственность, всегда сохранять союз с Бургундией. Более того, Генрих V пожелал, чтобы Бедфорд позволил Филиппу Доброму править от имени ребенка, который станет королем в десять месяцев, — сына от столь долгожданного брака Генриха V и Екатерины. Бедфорд внял только второй воле умирающего: пусть он возьмет на себя управление Францией, только если этого не захочет Бургундец. Бедфорд решил, что Бургундец этого не хочет.
Умирая, второй Ланкастер помудрел: прежде чем поклясться, что его последним желанием было пойти в крестовый поход, после того как он даст Франции мир, он попросил тех, кто возьмется за дела, не заключать мир с так называемым дофином, не сохранив хотя бы завоеванную им Нормандию. Эти слова изобличали его собственное отречение от французской короны. Оставаясь в последние мгновения реалистом, Генрих V косвенно признал легитимность будущего Карла VII.
Тело покойного сварили. Первая похоронная служба состоялась в Сен-Дени 16 сентября. Через два месяца тело Генриха V было в Вестминстере.
Тем временем слабел и Карл VI. Он умер 21 октября почти в бедности. Бедфорд стал регентом от имени юного Генриха VI. Регент находился в Лондоне, занимаясь похоронами брата. Несчастному Карлу VI пришлось ждать возвращения герцога Бедфорда, чтобы и его в свою очередь похоронили.
Филипп Бургундский уже принял решение: его судьба не связана ни с Лондоном, ни с Парижем. Он не тронулся с места.
Глава XV Три Франции
Территориальное деление и политические расколы
Две Франции. Три Франции. При всей своей простоте это выражение обозначает один из самых мрачных моментов национальной истории. Раскол Франции, печальный результат договора в Труа, достаточно наглядно отражал на карте крушение капетингской структуры, которую уже во многих отношениях можно было считать национальной. Появились королевство Карла VII, королевство Генриха VI и Бургундское государство, фактически независимое.
Если внимательней присмотреться к политическим реалиям, этот раскол, который возник в результате одной гражданской войны и превратит в столетний конфликт другую гражданскую войну, прежде всего выявляет абсолютный провал политики, избранной в Труа. Три Франции — это был крах амбиций Филиппа Доброго, надеявшегося править всей Францией от имени нового ланкастерского короля. Это был конец английских надежд объединить путем личной унии Французское королевство с Английским. Двойная монархия, намеченная в Труа, могла бы существовать, только если бы Ланкастер в самом деле получил обе короны.
А ведь возможности ехать в Реймс — куда Эдуард III когда-то по крайней мере пытался пробиться — не было, и правительство английского регента вынуждено было признать, что половина королевства Франции ему пока не подчиняется. Политика Изабеллы, Филиппа Доброго и Генриха V основывалась на одном постулате: дофин Карл больше не соперник.
А получилось, что для половины Франции Карл остался королем. Королем, чья власть была спорной и оспаривалась. Но в конечном счете оспаривалась не настолько, как власть англичанина. Выживая в статусе принца, лишенного наследства, Карл VII спасал французскую монархию в тот самый момент, когда она пала так низко, как никогда. Участники переговоров в Труа не предвидели появления буржского короля.
На карте в большом масштабе ситуация выглядела просто. Генрих VI владел землями из старинного наследия Плантагенетов — в Нормандии, скорей на севере Мена, и, разумеется, территориями, оставшимися у него от Гиени. В силу договора ему принадлежали «завоеванные края» — Парижский регион и Шартрская область, Шампань и Бри и, конечно. Кале, ставший английским городом с 1347 г. Он располагал также оммажем герцога Бретонского, но герцог Иоанн V умел балансировать между враждебными сторонами, сохраняя тем самым квазинезависимость. Добавим французские земли молодого Бургундского государства — герцогство Бургундию, графства Фландрию и Артуа, Ретель и Невер, Макон и Шароле; но англичанин был слишком многим обязан герцогу Бургундскому, чтобы говорить с бургундцами как повелитель. Уравновешенное за счет имперских княжеств — графств Бургундии, Намюра, Эно, Толландии и Зеландии, а также части Фландрии, — государство Филиппа Доброго легко выскальзывало из-под политического влияния короля Франции, тем более если этот король был англичанином, обязанным герцогу Бургундскому еще нетвердо сидящей короной. Кроме того, Филипп Добрый временно наложил руку на две провинции — Шампань и Пикардию, не имея на них иного права, кроме права требовать очень дорогой платы за союз. Он управлял ими от имени несовершеннолетнего короля. В конечном счете он владел ими.
Карлу VII оставался Юг — земли южней той самой Луары, форсирование которой станет главной целью англичан. Путь к осуществлению замыслов, намеченных в Труа, проходил через Орлеанский мост. Большая часть Аквитании, весь Лангедок, Анжу, Турень, все княжества Центральной Франции — Берри, Марш, Бурбонне, Овернь, Веле, Форе — сохраняли верность королю Валуа и оказывали ему военную и финансовую поддержку. Франция Карла VII, простирающаяся от Дофине до пуатевинских болот и от Каркассона до Божанси, могла бы произвести обманчивое впечатление благодаря размерам; но это в основном были прежние охотничьи угодья «компаний», бывшая сфера действий тюшенов. Она очень сильно пострадала. Она была бедна.
Карту разделенной Франции представить легко. Хитросплетение отношений верности и клиентел сложней, так что эта карта дает слабое представление о реальном разделе. С одной стороны — французы, с другой — англо-бургундцы. Недопустимый образ, даже если вводить в картину, обогащая ее оттенками, политическую эволюцию удельных князей, которые, как герцог Бретонский или граф де Фуа, периодически опрокидывали политическое равновесие, переходя из лагеря в лагерь. Разве Иоанн V Бретонский всего за пять лет, с 1422 по 1427 г., не поклялся соблюдать договор в Труа, а потом не примкнул к Карлу VII, чтобы после поддержать Генриха VI? А граф де Фуа, Жан де Грайи, кузен капталя де Буша, столь часто выступавший против Иоанна Доброго, — разве он не покинул лагерь бургундцев и не стал в 1425 г. губернатором Лангедока от имени Карла VII?
Самой единой, несомненно, была партия Бургундца. Ни легитимность, ни рыцарственность ее главы никем не оспаривались. Мудрый политик, герцог Филипп очень быстро показал себя прозорливым организатором и реалистичным дипломатом. Он не забыл отца, предательски убитого в Монтеро, и не отказался от мысли о мести. Но он прежде всего стремился к величию своего княжества. Месть была одним из мотивов его деятельности, но не идеей-фикс. Союз с Англией входил составной частью в политику Филиппа Доброго, но не был ее основой.
Герцог хорошо понимал: чтобы завершить завоевание, без которого договор в Труа останется мертвой буквой, англичане так же нуждаются в нем, как он нуждается в них, чтобы противостоять арманьякской угрозе. Генрих V на смертном одре советовал соратникам сохранять союз с Бургундией. Филипп Добрый знал об этом и мог потребовать дорогую плату за свою дружбу и даже просто за нейтралитет. Оказавшись в английском лагере из-за действий экстремистов из арманьякской партии, он помнил, что в Монтеро его отец хотел договориться с дофином о том, чтобы обеспечить оборону от английских захватчиков. Если Иоанна Бесстрашного убили, англичане от этого не перестали быть захватчиками.
Тем более не был забыт Азенкур. Еще многие бургундские рыцари помнили об этой бойне, которая их шокировала так же, как и террор арманьяков. В конечном счете при Азенкуре бароны Бургундии понесли больше потерь, чем на парижских улицах, а те, кто стал жертвой ярости арманьяков в Париже, были бургундцами только по политическим убеждениям и симпатиям. Жителям Фландрии и Бургундии, Артуа и Франш-Конте ничего плохого не сделали ни Бернар д'Арманьяк, ни Танги дю Шатель.
Герцог Филипп тем хуже чувствовал себя в роли союзника англичан, что, как ему казалось, он ничего от этого не выгадал. В проекте двойной монархии, намеченном в Труа, он явно резервировал для себя роль прямого продолжателя политики отца и деда. Оставляя Ланкастеров в Англии и Валуа во Франции, политическая система, задуманная Иоанном Бесстрашным, делала первого из принцев крови реальным главой правительства, учреждаемого в Париже. Теперь, когда герцог Беррийский умер и герцог Орлеанский был в плену, а герцог Анжуйский поглощен итальянскими делами, герцог Бургундский как раз и остался во Франции первым принцем королевской крови. Может быть, развитие независимого Бургундского государства пошло бы иным путем, если бы Филипп Добрый реализовал мечту Филиппа Храброго и Иоанна Бесстрашного: править из Парижа Французским королевством.
Но ведь был Бедфорд. Бедфорд, который делал многочисленные авансы своему бургундскому шурину, но без колебаний взял власть на материке в свои руки, оставив ради этого английские дела на дядю, епископа Винчестерского Генри Бофора — с 1426 г. кардинала, — и на своего брата Хамфри, герцога Глостера.
Бедфорд ни с кем не делил власть, потому что не делил Францию. Сам ли Филипп Бургундский отказался от притязаний на регентство — так говорили бургундцы, может быть, чтобы не привлекать внимания к политическому провалу, — или Бедфорд в самом деле не позволил ему временно исполнять обязанности суверена, это в принципе ничего не меняет: завоевание Французского королевства его законным наследником Генрихом V не должно было привести к сокращению этого королевства. При Генрихе VI ничего не изменилось. Джон Бедфорд намеревался править всей Францией независимо от того, какие принцы ему помогли или помогут ее завоевать. Для Ланкастера не было английской Франции и бургундской Франции. Герцогство Бургундия входило в состав королевства, и владение им не даровало никаких прав на французскую корону.
И потом, Филипп Храбрый был «сыном французского короля». В трудные времена несовершеннолетия Карла VI Филипп Храбрый был братом и дядей короля. Филипп Добрый был всего лишь внучатым племянником короля. А Джон Бедфорд — сыном и братом короля. И дядей короля.
Поэтому речь не шла ни о разделе власти, ни о разделе королевской казны, той самой казны, которой двадцать лет так вожделели герцоги Бургундский и Орлеанский, без которой Филипп Храбрый не мог поддерживать жизнь своего Бургундского княжества…
Филипп Добрый извлек из договора в Труа только одно преимущество, ограниченное как по значимости, так и во времени: должность временного правителя Шампани и Пикардии, приобретение сомнительное, потому что Шампань уже лишилась своего прежнего богатства — ярмарок, а Пикардия ослабла от войны. Если завоевание Буржского королевства продолжится, земли, отнятые у Карла VII, достанутся англичанам и только им: это были земли короля Франции, а королем Франции был Генрих VI. Теперь Филипп Добрый Хорошо это знал: во всяком случае, он заставит платить за свои услуги.
Герцог не без горечи обнаружил, что его территориальные притязания сталкиваются с притязаниями Ланкастера даже в Нидерландах, куда новая Бургундская династия мало-помалу перенесла свой политический центр. Наложить руку на Маас и Шельду, дать внешнему миру через Антверпен доступ в свои владения — вот на что открыто надеялся герцог Филипп. Его цели назывались так: Эно, Голландия, Брабант.
Случилось так, что единственная дочь и наследница последнего графа Эно, Голландии и Зеландии Якоба Баварская была тогда женой герцога Брабантского, человека жалкого, на бесплодие которого давно делала ставку дипломатия разных дворов. Выдавая свою племянницу Якобу за убогого, Иоанн Бесстрашный знал, что делает: он готовил захват ее наследства Бургундией.
Но знать Эно была начеку. Будущее объединение наследий по сути означало аннексию земель соседней Фландрией, извечной соперницей. Поэтому не удивительно, если в 1421 г. бароны поощряли Якобу, когда она стала искать поддержки в Англии, а Глостер, регент в отсутствие Бедфорда, и не подумал отказать в поддержке. Более того, он стал ухаживать за графиней, хотя та еще не овдовела. Поскольку она согласилась еще раз выйти замуж, Глостер даже добился расторжения ее брака с Брабантцем. В марте 1423 г. Якоба Баварская вышла за Хамфри Глостера, который заявил о намерении направиться на материк, чтобы контролировать независимость владений жены.
Можно представить себе ярость Филиппа Доброго, когда в октябре 1424 г. он узнал о высадке в Кале английской армии — Глостер решил завоевать Эно. Намеренно давая брату возможность совершить оплошность и напомнить герцогу Бургундскому, что тот еще зависит от англичан, Бедфорд не предпринимал ничего.
Несколько недель вся система союзов находилась на грани полной перемены. Герцог Бургундский набрал армию, и многие сторонники Карла VII задались вопросом, не станет ли он, как некогда его отец Иоанн при Азенкуре, настоящим оплотом Франции против английского вторжения. Потон де Сентрай, приверженец арманьяков, будущий соратник Жанны д'Арк и будущий маршал Франции, вдруг, как и многие другие, оказался в рядах бургундской армии, двинувшейся на Эно.
Настало время вмешаться Бедфорду. Он заставил брата прекратить наступление. Возникли нелады и между супругами: Глостер подзабыл жену и увлекся служанкой[95] с которой просто-напросто вернулся в Англию. Папа расторг его баварский брак, и Глостер женился на любовнице. Что касается Филиппа Доброго, тот перевел дух.
Прошло три года. В 1428 г. герцог Бургундский наложил руку на наследие своей кузины Якобы. Но он понял, что англичане отнюдь не намерены облегчать ему экспансию в устье Рейна.
С другой стороны, он знал, что, слишком активно втягиваясь в военные операции на Луаре, серьезно рискует: герцог Бурбонский вполне мог воспользоваться этим, чтобы напасть на Ниверне и даже на Шароле. Целью Филиппа Доброго в отдаленной перспективе были Нидерланды, но он не собирался между тем терять прочные позиции во Франции.
Отношение к нему парижан было также двойственным. Конечно, арманьяков из представителей «мантии» и деловой аристократии в Париже не осталось. Те из них, кто занимал высокое положение между 1414 и 1418 гг. и не был убит при вступлении бургундцев в столицу, находился теперь на берегах Шера или Эндра. В Париже остались приверженцы Бургундца из этой среды, а также простой народ, который тоже был расколот, но те, кто испытывал симпатии к арманьякам, воздерживались от того, чтобы их высказывать открыто. Тот Париж, который действовал и говорил, был, безусловно, на стороне герцога Бургундского. Тиранию арманьяков не забыли, тем более эксцессы фиска коннетабля Бернара д'Арманьяка.
Но этот Париж тем не менее был не за англичан. Они были там лишними, и самые заклятые враги арманьяков из числа парижан были не слишком уверены в полезности присутствия англичан, с тех пор как люди Карла VII оказались южней Луары. Опасность была далеко.
А ведь Парижем правил Бедфорд из своего дворца Де-Турнель, в то время как Изабелла старела в одиночестве во дворце Сен-Поль, где она умрет в 1435 г. Оттесненный от власти, Филипп Добрый окончательно покинул Париж. После февраля 1424 г. его здесь больше не видели, только однажды в 1429 г. он заехал на неделю. Те парижане, которые симпатизировали бургундцам, но не англичанам, очень скоро упрекнут герцога Филиппа, что он их оставил. Когда в 1461 г. дети современников Жанны д'Арк снова увидят в Париже герцога Бургундского, участвующего в торжественном въезде Людовика XI, один мясник строго его окликнет: «Вас долго ждали!»
Впрочем, герцогом, дорогим для парижского простонародья, был Иоанн Бесстрашный, крестоносец, герой Никополя. А также демагог, отличавшийся показной щедростью. Деловые круги были ему обязаны восстановлением в 1412 г. муниципалитета, некогда упраздненного в наказание Парижу за то, что во времена майотенов он заставил монархию трепетать. Интеллектуалы из университета нашли в его лице принца, без которого «реформы» остались бы просто речами без последствий и без завтрашнего дня. Филипп Добрый был мало известен среднему парижанину. Его почти не видели. Он был сыном своего отца. И немногим более.
Можно ли сказать, что Париж находился в полном подчинении у англичан? В ратуше и в Шатле дела города вершили парижане. Парижский прево с 1422 по 1436 г. Симон Морье был сыном советника парламента и сам прежде служил дворецким у Изабеллы. Судьи по гражданским делам Жан Соваж и Жан де Лонгей, судья по уголовным делам Жан л'Арше были парижскими юристами. Купеческий прево Юг Ле Кок был советником парламента, его преемник Гильом Санген — менялой, давно обосновавшимся на Большом мосту. Филипп де Морвилье, убежденный бургундец, первый президент парламента, был адвокатом из Пикардии, приехавшим в Париж в качестве советника Шатле в 1411 г. Во всех судах, во всех органах управления, в церкви и даже в университете у власти были прежние приверженцы Иоанна Бесстрашного.
Разумеется, в Париже находились английские солдаты. Горожане их ненавидели как шумных и драчливых вояк, а не как англичан. Их часто видели в тавернах, они были выгодными клиентами проституток с улицы Глатиньи или Тиронского публичного дома, но в парижском населении они составляли ничтожную долю. В самый разгар этой оккупации, которая оккупацией не была, капитан Бастилии Джон Фастолф имел под началом всего восемь латников и семнадцать лучников. Включая раненых, англичан в Париже не было и трех сотен. Как ни обезлюдела столица, она все-таки насчитывала от пятидесяти до ста тысяч жителей.
Если англичан парижанин видел редко, то он хорошо ощущал экономические преимущества, которые принесла ему ситуация, возникшая в результате англо-бургундской победы. Основная часть сухопутной торговли Парижа приходилась на северные области — Пикардию, Артуа, Фландрию, Эно. Дорога на Аррас или Лилль больше значила для процветания столицы, чем дорога на Лион или Бордо. Этой дорогой везли сукно, вино, а также вайду — синий краситель, который на Юге называли пастелью и который был тогда в большой моде.
Зона экономических сношений Парижа достаточно известна. Счета за аренду торговых мест на ярмарке в Ланди позволяют выяснить, откуда приезжали участники этой ярмарки в конце XIV в., — из сотни городов, больших и малых, две трети которых находились к северу от Сены, Уазы и Эны. Ланди не имел торговых связей ни с Орлеаном, ни с Ле-Маном, ни с Оксером. Там были представлены все города Мааса и Шельды, но не Луары.
Другим источником парижского процветания, кроме расположения на перекрестке дорог, была река. За счет нее жили крупные купцы, фрахтователи судов для речных перевозок по всей Северной Франции, одновременно торговцы вином, зерном, солью и организаторы финансовых потоков, благодаря которым существовала вся крупная торговля. За счет реки жил также простой народ в портах и лодочники, грузчики и мерщики; она приносила состояние посредникам и присяжным купцам.
Так вот, эти речные перевозки проходили через земли Сены, Ионны, Марны и Уазы. Претерпев несколько перегрузок, вина из Орлеана и земли Бон достигали парижских портов. Сельдь из Дьеппа и Руана попадала в Центральный массив. Но крупнейшими оптовыми покупателями вина были купцы Арраса и Амьена, Абвиля и Лилля. Несмотря на две перегрузки, речной путь все еще оставался лучшим для доставки бонского вина на бюргерские столы фламандских городов. Эта дорога была длинной, но избавляла груз от толчков, из-за которых доски бочек могли разойтись.
В целом товары из земель, образовавших Буржское королевство, составляли менее пяти процентов грузооборота парижских портов, и то во времена единства и мира. Парижский горожанин не слишком оплакивал разрыв связей с Туренью, Пуату или Берри. Но он хорошо знал, что из Бургундии поступает половина бочек вина, разгружаемых в порту, что из Нормандии идут тысячи бочонков сельди и что лучшие клиенты — это в конечном счете большие города Севера. Политический выбор отныне было делать легко.
Иначе говоря, все были заинтересованы в сохранении статус-кво, даже если никто по-настоящему не желал так формулировать вопрос. Руан в руках англичан, Париж в составе Франции Генриха VI — это означало судоходство по Сене. Это было вино из Оксера и Бона, зерно из Пикардии, лес с берегов Эны, сено с берегов Нижней Сены. Свободное судоходство по Сене — это были сельдь и скумбрия из Северного моря, соль из Бретани, нормандское железо и английское олово. Английский Париж? Отнюдь: Париж, способный выжить, потому что его король — тот же самый, что царствует в Руане. Король, что царствует в Берри, — не у дел.
Итак, королевство Генриха VI не следует путать ни с партией Ланкастера, которой практически не было, ни с политическим присоединением к бургундской гегемонии. Французы приспособились к власти англичанина, но не потому что он был англичанином; они были бургундцами, но часто из соображений выгоды.
Оккупация
Почему же французы согласились на то, что отвергли век назад, когда Эдуарда III не допустили на французский престол, потому что он не был «уроженцем королевства»? Прежде всего потому, что это положение вещей было навязано силой: победа англичан изменила ситуацию. Далее, потому что договор в Труа не имел никакого отношения к «правам» наследников Изабеллы Французской. Генрих VI царствовал во Франции не потому, что принадлежал к роду Филиппа Красивого, даже если якобы в таком качестве носил — как и его отец до 1420 г. — двойной королевский титул, который символизировали соединенные гербы Франции и Англии — леопарды и лилии. Генрих VI обладал здесь властью по воле, выраженной Карлом VI или теми, кто говорил от имени последнего. Он был наследником Валуа, а не его соперником.
Так что объектом пересмотра стал не принцип передачи короны по женской линии, а право суверена располагать короной.
Исключительную роль здесь сыграли личностные факторы. Но это было не ново: разве Филипп VI Валуа не восторжествовал когда-то без труда, потому что был зрелым человеком и безупречным рыцарем? Конечно, Генрих VI был малолетним ребенком. Но рядом был Бедфорд — мужчина тридцати трех лет, в котором ценили гибкий ум, сдержанную энергию, мудрую осторожность. Оккупированная Франция сильно пострадала от суровости победителя Генриха V. Бедфорд был достаточно прозорлив, чтобы не доводить побежденных до отчаяния. Франция уже не была объектом завоевания Генриха V, она была коронной землей Генриха VI.
Противником такого политика, как Джон Бедфорд, французы видели всего-навсего безвольную игрушку истории, принца, который едва смел носить свое имя, — Карла VII. Короче говоря, бесцветного короля, сына безумца и женщины с порочной репутацией. Карл VII считался человеком — главой, как называли его одни, заложником, как думали другие, — партии, уважение к которой подорвали эксцессы, совершенные после 1413 г. Ненависть к арманьякам во многом способствовала политической слабости Карла VII.
При этом большинство новых подданных Генриха VI приспособились к ситуации, но она не вызывала у них никакого восторга. Чиновники нового режима кое-как принесли присягу на верность. Повсюду, несмотря на официальное поощрение доносов — и оплату их, — зарождалось настоящее движение сопротивления.
В землях, где население ощущало власть герцога Бургундского, это понятие не имело никакого смысла. Оно имело смысл в областях, напрямую подчиненных англичанам, в Иль-де-Франсе и прежде всего в Нормандии. Нужно еще различать ненависть к англичанину и враждебность по отношению к солдату. Разве со времен Карла V не причисляли без разбора к «англичанам» многие праздные компании и многих праздношатающихся вояк? Разве такой истый бургундец, как «Парижский горожанин», всегда готовый называть арманьяков изменниками, разбойниками и сарацинами, не клеймил в 1423 г. разорение сельской местности англичанами так, словно дело происходило во времена, когда «англичанин» и «рутьер» были синонимами?
Вино было очень дорогим, более чем когда-либо. И было очень мало ягод в виноградниках, да еще англичане и бургундцы изводили это немногое, словно свиньи, и никто не решался им это сказать.
Зато официальный лексикон, лексикон английских капитанов и французских судей, более или менее намеренно смешивал сопротивление и бандитизм. «Чужаки», которых запрещалось пускать в дом, могли быть как покупателями, так и сообщниками, и, вешая карманников, их ставили на одну доску со сторонниками Карла VII.
Правда, переходу на сторону Валуа способствовала бедность. Крестьянин, делавшийся мародером, или виноградарь, делавшийся грабителем в Нормандии, в Валуа или в Иль-де-Франсе, объективно был союзником буржского короля, даже если разорение, залежь или пожар повлияли на его решение в большей мере, чем неприемлемый договор в Труа. В городе несчастные могли нищенствовать и не отказывали себе в этом. Это хорошо видно из того, что парижский капитул был вынужден предписать нищим держаться возле дверей: в соборе Парижской Богоматери из-за шума, который попрошайки устраивали вокруг хора, уже не было слышно пения, и каноникам надоело ходить по экскрементам, оставляемым в нефах нищими и их детьми. Подаяния, увы, не хватало, чтобы накормить всех. Беды каждого соответствовали его положению. Бедность в городе, как и в деревне, бросала на сельские дороги массу отверженных — бывших собственников и бывших чернорабочих, — которые больше обременяли Бедфорда, чем помогали Карлу VII.
Всякому было столь тягостно содержать дом, что иные в то время отказывались от своего наследия ради ренты, и из нужды продавали свое добро, и в отчаянии уходили из Парижа. Одни шли в Руан, другие в Санлис; третьи становились лесными разбойниками, или арманьяками.
Приверженец короля Валуа был не менее непопулярен, чем «головорез» с большой дороги. Всякий, кто уходил в лес, должен был жить за счет населения. Ведь если в Париже или Руане можно готовить заговор, не закрывая мастерскую или лавку, то быть «маки» в нормандском лесу и в то же время возделывать свой сад едва ли было возможно. Многие селяне, крепко запиравшие ворота на ночь, не отличали участника сопротивления от вора с большой дороги. Последних называли одним словом — курокрад (voleurde poulets).
Среди участников этого сопротивления в оккупированных землях дворян было немного. Те, кому прежние политические обязательства не позволили принять новый режим, просто-напросто вступили в армию Карла VII. Многие из них были слишком известны, так что оставаться на месте было бы для них рискованно. Другие, естественно, отправились туда, где сражаются. Представители «мантии» — клирики и миряне — тоже совсем не участвовали в движении сопротивления англичанам. Сторонники Карла VII оказались в Пуатье, где заседал парламент, в Бурже, где разместилась Счетная палата. Они вместе с королем были в Шиноне и Лоше. А в Париже или Руане «мэтрами» юстиции и администрации, равно как и магистрами университета, как раз были прежние столпы бургундской партии либо те, кого на эти должности бургундская партия назначила после ухода арманьяков.
Тем не менее в 1420 г. парижские каноники нарочно избрали епископом богослова Жана Куртекюисса, человека с характером, хотя англо-бургундское правительство дало понять, что предпочло бы декоративную фигуру. Тем не менее те же каноники годами демонстрировали фронду «мантии» против английского фиска. И тем не менее через десять лет церковные судьи Руана делали вид, что «сын англичанина» — столь же тяжкое оскорбление, как «сын шлюхи».
Городское бюргерство, мир купцов и лавочников, напротив, очень ощутимо эволюционировало. Стремление к реформам, прежде всего к реформе управления общественными финансами, воспринимаемыми как поступления от сбора налогов, от которых бюргерские дела и капитал страдали прежде всего, привело часть «купечества» в бургундскую партию и в конечном счете в английский лагерь. Однако в подавляющем большинстве бюргерство было — и осталось — партией мира. Англичане вышли победителями — это не вызывало сомнений, — и было понятно, что экономическое процветание несовместимо с гипотетическим реваншем Карла VII. Уже во имя сохранения семейных вотчин надо было признать свершившийся факт. Некоторые семьи даже раскололись, про крайней мере по видимости, когда их вотчины оказались в разных королевствах Франции. Большинство могло занять лишь простую позицию: уж лучше англичане, чем новая война.
Многие из тех, кто симпатизировал арманьякам и между 1418 и 1420 гг. покинул Северную Францию, в частности, Париж, с 1424 г. начали возвращаться. Они утверждали, что уезжали за Луару по семейным обстоятельствам или в связи с нездоровьем. Они в этом клялись. Если было нужно, они находили свидетелей в подтверждение этого. Все все понимали. Вдовы и дети без труда получали прощение, восстанавливающее их в правах. Крепким мужчинам, особенно тем, кто более или менее активно поучаствовал в политической жизни, было трудновато добиться, чтобы им поверили.
По мере продолжения войны точка зрения бюргера менялась. Один парижский мясник очутился в тюрьме потому, что получил из Тура письмо от своего старого отца, а в Шатле посадили почти слепого старика, который прибыл из Вандома в Париж, чтобы закончить дни у очага сына. Жаннетте Бонфис, по прозвищу Ла-Бонфий[96], всерьез грозила кара за переписку со смотрителем монетного двора в Ле-Пюи, который был просто ее любовником. Она выкрутилась лишь потому, что предоставила аргумент в свою пользу: она беременна…
Парижанин очень болезненно воспринимал и необходимость рисковать жизнью, собирая свой виноград в Шайо или Сюрене. Опасности мешали двигаться по дорогам, так же как вынуждали запирать ворота. Возникла безработица: в 1430 г. муниципалитет будет вынужден сократить число присяжных торговцев вином с шестидесяти до тридцати четырех, потому что для всех работы не хватало; фактически их останется лишь четырнадцать. Дело дошло до того, что глашатаям запретили сообщать в день больше чем об одной смерти каждому… И это, естественно, не во время эпидемии.
И потом, имело место разочарование. От бургундского правительства ждали слишком многого. Разочарование было слишком сильным, чтобы не отразиться на чувстве верности. Никто больше не говорил о тех реформах, которые составляли всю программу бургундской партии. Никто даже не мечтал заново обнародовать великий реформаторский ордонанс 1413 г., рассчитанный на упорядочение королевского управления, введенный Штатами и аннулированный из-за связи с кабошьенским движением. Единственной эффективной реформой была монетная. Укрепление монеты оценили только кредиторы.
В то же время приверженность некоторых лиц английскому лагерю упрочилась. Ведь были круги, которым оккупация дала преимущества, как были люди, прошедшие в проявлениях верности Ланкастеру порог необратимости. Наряду с экстремистами из партии арманьяков, знающими, что примирение может произойти только за их счет, выделились экстремисты из партии бургундцев, зашедшие слишком далеко, чтобы их верность англичанам не выглядела в глазах Карла VII настоящей изменой. С одной стороны был Танги дю Шатель и ему подобные. С другой — Пьер Кошон и его люди.
Английский режим очевидным образом оказался на руку тем, кому раздел королевства позволил играть роли, доселе причитавшиеся другим. Это относится к руанским адвокатам, которые теперь могли соперничать с парижанами, не превращаясь в парижан: создание Большого совета Нормандии и расширение прерогатив старой нормандской Палаты шахматной доски давало возможность передавать в Руан рассмотрение многих дел, к которым местные юристы испытывали больше интереса, чем если бы все завершалось в Париже. Это относится и к магистрам Кана, благодаря английской победе создавшим университет, после того как Париж уже век отказывал им в этом праве. Как могли бы все эти люди желать реванша Карла VII?
То, что дают одним, отбирают у других. Парижская «мантия» болезненно воспринимала утрату клиентов, которую означала юридическую независимость Нормандии. Магистры с территории между горой Святой Женевьевы и улицей Фуарр считали, что в истории с Каном их предали, и иногда говорили об этом вслух. Возникал вопрос: может быгь, Бедфорд как раз организует завоеванные земли без участия Парижа. Разве такое устройство ланкастерской Франции не было крахом самой идеи ланкастерской Франции? Реакция на это, особенно после 1430 г., многих настроит в пользу Карла VII.
Буржский король
Буржский король с трудом держался на позиции, которую можно назвать как минимум двусмысленной. Как и подобало старшему сыну покойного короля, он принял королевский титул, но для многих был еще дофином. Он еще не был миропомазан, но ведь уже давно король считался королем по праву рода, а не по праву миропомазания. Если кто-то говорил «дофин», значит ли это, что он был убежден в незаконности рождения Карла? Конечно, нет: в таком случае прибегли бы к оборотам, традиционно используемым для узурпаторов: «тот, который именует себя…», или «тот, кто ведет себя как…», или «тот, кто выдает себя за…» О нем говорили «дофин» потому, что считали его настоящим сыном Карла VI. Но по сути не знали, кто он теперь…
Создавалось впечатление, что он слабей всех. Он это знал. Но он уже отыграл важное очко, не усомнившись в верности своего шага: он показал, что не вся Франция подчинилась договору в Труа.
У Карла VII были сторонники. Он мог рассчитывать на нескольких принцев, таких как герцог Анжуйский, граф Прованский, или как герцог Бурбонский. Он мог также рассчитывать на Орлеанский дом и его клиентов. Ему были преданы чиновники Южной и Центральной Франции, покинувшие англо-бургундскую Францию. Представление о дворе, прозябающем на берегах Шера или Эндра, плохо сочетается с активностью, которую отражают реестры дел, рассмотренных высшими институтами, которые заседали на землях южнее Луары.
Взаимно обратные кривые политической живучести можно достаточно ясно увидеть, изучив судьбу институтов, которые раскололо деление 1418 г. Стало две счетных палаты — в Бурже и в Париже — вместо одной, два парламента — в Пуатье и в Париже — вместо одного. Как к северу, так и к югу от Луары профессионалы, заседающие в этих судах, испытывали одни и те же материальные трудности, сталкивались с одним и тем же желанием короля забыть об их праве на кооптацию своих членов, страдали от одних и тех же задержек жалованья.
Но в Париже это привело к фронде, а потом к бунту. Там советники парламента в 1420 г. приняли решение, что будут платить себе сами, выделяя деньги себе на жалованье из налоговых поступлений, которые они декретируют. В 1421 г. они заговорили о «приостановке», иначе говоря, о забастовке. После 1430 г. не пройдет ни года без «приостановок» на недели, а то и на месяцы. До Пуатье эта идея не дошла.
Первоначально дисбаланс, возникший в результате раздела 1418 г., был в пользу бургундского парламента. Но, если в 1418 г. при первом президенте Филиппе де Морвилье в Париже насчитывалось восемьдесят Магистратов, то к 1430 г. их численность снизилась до пятидесяти. А в 1435 г. их будет уже двадцать один. В Пуатье, напротив, поначалу при Жане де Вайи, а потом при Жане Жувенеле в парламенте был всего двадцать один магистрат, но в 1430 г. уже тридцать три, а в 1435 г. — сорок. С одной стороны — непрерывный упадок, с другой — непрерывный рост, и это до появления Жанны д'Арк. Ее приход вписался в эту тенденцию и усилил ее, но не создал.
Будем реалистами: численное разрастание в большей мере отражает могущество социальной группы, чем непосредственная активизация деятельности. Один протолкнет сына, другой брата. Не менее показательно, что желающих сделать карьеру в Пуатье становилось все больше в то время, когда в Париже покидали парламент, не видя за ним, надо полагать, дальних перспектив. В преданности слуг Карла VII, несомненно, было немало расчета. За расчетом стояла политическая оценка. Король, которого с удовольствием изображали бедным и покинутым всеми, не был ни настолько бедным, ни настолько покинутым, как внушала примитивная пропаганда. Разумеется, бургундцы рассказывали, что мнимому дофину нечем заплатить своему сапожнику. Как будто дворы всегда платили поставщикам сполна… Но, если верить только документам, доход Карла VII был в два-три раза выше континентального дохода Генриха VI. Фиск Валуа работал эффективно, его суды действовали, его войскам платили.
Не менее богат был Карл VII и союзами. Дружба герцога Савойского, эпизодический нейтралитет герцога Бретонского, перемирия с Бургундией часто давали буржскому королю возможность сосредоточить силы на борьбе с англичанами.
Зато нельзя сказать, что Карл VII по-настоящему владел собой. В течение двадцати лет жизни тот, кто стал дофином лишь поздно, в 1417 г., после смерти обоих старших братьев, не всегда умел превозмочь собственную слабость. Безумный отец, сомнительная мать, непризнание со стороны общества — этого было достаточно, чтобы он стал задаваться некоторыми вопросами. Он был подвержен влияниям, даже переменчив, и его не научили ни царствовать, ни сражаться. Этот робкий человек находил прибежище в скрытности. Неспособный по-настоящему править, молодой король делал вид, что проводит время в празднествах, потому что на самом деле не знал, что делать.
И он дал свободу действий своим приближенным. Что и стало катастрофой. Двор в Лоше или Шиноне был питательным бульоном, где процветали интриги, клевета и подковерная борьба.
Душой этой политической активности была Иоланда Арагонская, вдова короля Неаполитанского Людовика II Анжуйского. С тех пор как Карл VII в 1422 г. женился на Марии Анжуйской, королева Иоланда стала тещей французского короля. После того как катастрофа при Вернёе в 1424 г. подорвала престиж военных, окружавших короля, Иоланда доминировала при дворе, где могла льстить себя надеждой, что вновь обрела положение и влияние, утраченные в Италии. Мало того, что она внушала своему зятю идеи, но она еще и предоставляла ему фаворитов, становившихся фактическими правителями.
Королева Иоланда в 1424 г. одержала первый успех. Крайние элементы из партии арманьяков — те, кто организовал ловушку в Монтеро и впутал в это дело дофина, — были оттеснены от дел. Обер-гофмейстер Танги дю Шатель, долгое время доверенный человек дофина, бывший прево Парижа при арманьяках, автор ловушки, в которую угодил Иоанн Бесстрашный, кончит свою карьеру в качестве шателена и вигье Бокера. Робер Луве, Пьер Фротье, Робер Ле Масон также были удалены. Теперь Иоланда Арагонская могла заменять их преданными ей людьми, заключать новые союзы, доверять дела умеренным, которые были способны видеть в королевской политике нечто большее, чем просто возможность свести счеты.
Новым сильным человеком в правительстве стал Артур де Ришмон. Брат герцога Бретонского, Ришмон был смелым военачальником, часто жестоким, но выдающимся тактиком. Он станет организатором победы. После того как коннетабль Джон Стюарт, граф Бьюкен, погиб в сражении под Вернёем, Ришмон недолго дожидался титула, который придаст ему могущество: 7 марта 1425 г. его назначили коннетаблем. И он тут же начал повсюду расставлять своих верных людей. На посту командира арбалетчиков беррийца Жана де Торсе сменил нормандец Жан де Гравиль. Жан де Бросс, сеньор де Буссак, стал маршалом.
Назначение Ришмона заметно сказалось на ведении операций. Еще сильней оно повлияло на ситуацию на дипломатической шахматной доске. Брат герцога Бретонского был женат на одной из сестер герцога Бургундского. Как и Бедфорд, Ришмон был зятем Филиппа Доброго. Поэтому Иоланда рассчитывала, что он станет посредником в возможном примирении. Тем временем он мешал Бедфорду развивать его успех, каким стал для последнего брачный союз с Бургундским домом.
Новый коннетабль был интриганом. Он быстро наполнил двор суетой, плутнями и даже заговорами. Карл VII не доверял человеку, который предал английского короля, после того как присягнул ему на верность. Его раздражал ментор, легко играющий людьми. Когда стало очевидно, что интриги Ришмона почти не приближают примирения с Бургундией, он стал выходить из фавора.
Незадолго до того коннетабль стал добиваться королевской милости еще для одного заговорщика — пуатевинца Жоржа де ла Тремуйя. Этот человек происходил из знатного рода. Его отец носил орифламму при Карле VI. Жорж побывал во всех партиях, и современники сначала знали его как камергера Иоанна Бесстрашного, потом — как приверженца Бернара д'Арманьяка, потом — как сторонника мира. Женившись в 1416 г. на графине Жанне Овернской, вдове герцога Беррийского, он поднялся на уровень знатных баронов; но этот брак оказался неудачным, и графиня закончила свои дни в одиночестве в своем замке Сен-Сюльпис на берегах Тарна. Ла Тремуй остался мастером по заключению двусмысленных союзов, почти всеобщим кузеном, затычкой для каждой бочки. Используя одних против других, по-настоящему он заботился только о собственных интересах. Ришмон догадался об этом слишком поздно — ла Тремуй занял его место во власти. Это стало очевидным в 1427 г., а официально было признано в июле 1428 г.
До тех пор соперничество придворных и смена фаворитов просто не позволяли всерьез относиться к правительству. Пьер де Жьяк, находившийся в фаворе вместе с Ришмоном в 1425 г., в одночасье рухнул с пьедестала, его арестовали, судили и несколько поспешно утопили. Ле Камю де Больё, оказавшийся после него в королевской милости, был безнаказанно убит перед самым замком Пуатье в 1427 г. Все это воспринималось как придворные дрязги, а не как политические кризисы.
С приходом Жоржа де ла Тремуйя ситуация изменилась. Новый глава королевского правительства постарался не стать очередной жертвой превратностей судьбы. Он ополчился на своего бывшего покровителя Ришмона и открыто объявил войну сторонникам коннетабля. Они все вызывали априорные подозрения как потенциальные заговорщики.
Один энергичный и беззастенчивый капитан, старый приспешник ла Тремуйя, был назначен сенешалем Пуату; его правление стало длинной цепью бесчинств и грабежей. Всю равнину охватил террор: деревни сжигали, шателенов обирали, девушек насиловали. Подручные фаворита даже сборщиков королевских налогов при случае избавляли от груза набранных средств. В то время как Ришмон укрылся в своих замках Фонтене-ле-Конт и Партене, где отводил душу, чеканя без королевского разрешения монету, его сторонников буквально травили с санкции короля. Луи д'Амбуаз, виконт де Туар, был брошен в тюрьму. На бенефиции епископа Люсонского наложили арест. Андре де Бомон, сеньор де Брессюир, и Антуан де Вивонн, сеньор де Лазе, были арестованы по обвинению в оскорблении величества, отданы под суд парламента и обезглавлены в Пуатье в мае 1431 г. Под оскорблением величества понималось создание помех всемогущему фавориту.
Двор превратился в ристалище. Буржский король бездействовал, не в силах помешать этой закулисной войне, где его сторонники все более ослабляли друг друга. Королева Иоланда Арагонская обнаружила, что не справляется с последствиями собственных манипуляций. Убежденные арманьяки начали опасаться, как бы забота о сохранении своих сеньорий не побудила ла Тремуйя подписать мир с англичанами на любых условиях. Многие уже предвидели, что в случае примирения с Бургундией попадут в немилость. Что касается умеренных, они опасались капризов фаворита.
В этом очаге интриг многие подумают, что прибытие девы, посланной Богом, чтобы вдохнуть новые силы в армию ради ведения войны, — всего-навсего арманьякская инсценировка, последняя попытка недавно отстраненных радикалов добиться своего. Во всяком случае, еще одно препятствие на пути к компромиссу.
Такой компромисс едва не был достигнут в 1424 г. После года переговоров, которые велись через Амедея VIII Савойского, по условиям перемирия в Шамбери военные действия между силами Карла VII и Филиппа Доброго были приостановлены. Последний в декабре 1424 г. встретился в Маконе с Ришмоном, и оба принца укрепили взаимопонимание, уже намеченное благодаря удачным бракам сестер из Бургундии. Филипп Добрый, уже шурин Бедфорда и Ришмона, предложил руку еще одной из своих шести сестер Карлу Бурбону, графу де Клермону. По сути он прежде всего хотел обезопасить свои южные провинции — Ниверне, Шароле и Маконне — от все еще возможного нападения через Бурбонне. Итак, это перемирие принесло выгоду всем, кроме англичан, которые одни только не завершили своих завоеваний.
Равновесие слабости
Это был первый шанс Карла VII. Англия не могла вынести бремени настоящего наступления. Ланкастерская Франция приносила мало дохода. Налоги поступали медленно, с огромными допустимыми потерями при доставке и неизбежными недоимками. Генрих V в 1421 г. восстановил косвенный эд, отмененный одновременно в демагогических целях Иоанном Бесстрашным и дофином Карлом. Но трудно было найти откупщиков, готовых взять на себя сбор непопулярного, как правило, налога, когда экономические трудности сводят на нет прирост дохода. Прямой налог поступал не лучше: парижское духовенство, обложенное в 1423 г. налогом в восемь тысяч парижских ливров, добилось его сокращения до двух тысяч ливров, а выплачивало только половину этой суммы. Когда в 1424 г. на столицу попытались наложить новый налог, горожане возроптали: они согласны оплачивать праздники регента, но не более.
Итак, Англия несла тяжесть победы с трудом. Одно дело — победить при Азенкуре или Вернёе, другое — удерживать завоеванное и закончить завоевание.
Сказать, что английская оккупация была убыточной, значило бы в простых бухгалтерских терминах выразить весьма громкий провал. Если французы платили достаточно, чтобы возненавидеть новое правительство, требования которого были не меньше, чем у покойного Людовика Орлеанского, англичане начали сожалеть одновременно о своей полупобеде и о сделанных попытках ее завершить. Английская Палата шахматной доски платила жалованье членам Королевского совета в Париже, она оплачивала расходы двора регента Бедфорда, она содержала гарнизоны в Иль-де-Франсе и Нормандии. Всем англичанам из окружения Бедфорда, возвращавшимся на материк после пребывания в Лондоне, поручалось привезти денежные средства. Ломбардские банкиры в Лондоне, Руане или Париже постоянно организовывали обмен валюты для Франции. Генуэзец Жан Сак сделал на этом состояние: он выплатил английским капитанам несколько тысяч серебряных марок, которые английское казначейство возместило его компаньону в Лондоне банкиру Спиноле.
Приверженцы Генриха VI проводили время, авансируя суммы, необходимые для выполнения их миссии. Вольно или невольно люди всякого звания тем самым создавали на материке дисконт будущих доходов островного казначейства. Во многих случаях сам кардинал Бофор тратил грядущий доход английского фиска: в 1434 г. один только он выплатит во Франции 18 тысяч марок, подлежащих возмещению в течение трех лет за счет прямых налоговых поступлений.
«Стерлинги» хлынули на материк. В декабре 1430 г. для переправки денежного содержания из Винчестера в Дьепп понадобилось не менее двух кораблей — под охраной ста лучников.
Тогда же гарнизон Бастилии под командованием Джона Фастолфа состоял из восьми латников и семнадцати лучников. Томас Мор, занявший ту же должность в следующем году, располагал девятью латниками и двадцатью восемью лучниками. Менее трехсот англичан в Париже — вот что называлось английской оккупацией. Несмотря на финансовое бремя, непомерное для Англии, английское присутствие с сочувствием воспринималось некоторыми французами. Арбалетчик, который в сентябре 1429 г. честил Жанну д'Арк распутницей и развратницей, прежде чем «поразить» ее метко выпущенным болтом, был честным парижанином, а не английским наемником. В то самое время «Парижский горожанин» — несомненно, каноник из собора Богоматери — писал в своем дневнике «предатели арманьяки», когда имел в виду людей Карла VII. Под «французами» он будет понимать подданных Генриха VI.
Тем временем в Англии дела шли скорей плохо. Пока Бедфорд был занят в Париже, в Лондоне сцепились Бофор и Глостер. Кардинал силой захватил лондонский Тауэр. Дело грозило обернуться гражданской войной. Бедфорд был вынужден вернуться в Англию, и ему пришлось оставаться там с декабря 1425 г. по март 1427 г. Это почти исключило возможность начать во Франции генеральное наступление, которое бы завершило строительство ланкастерской двойной монархии. Англичанам очень повезло, что Карл VII терял время в Турени.
К югу от Луары структуры были прочными, но политическое руководство — слабым. К северу уже формирование политических и финансовых структур не успевало за слишком быстрыми темпами завоевания. В эти годы, сразу после смерти Генриха V и Карла VI, никто не решался воевать по-настоящему.
Как с одной стороны, так и с другой обыватели приспособились к ситуации. До самого появления Жанны д'Арк времена Бедфорда и буржского короля были временами умеренного процветания. Конечно, дела шли не так, как в период между 1380 и 1405 гг., когда можно было полагать, что война закончена, и люди, монета и товары циркулировали почти свободно. Тем не менее бедфордовский Париж торговал с Аррасом и Лиллем, как Тур — с Лионом, а Руан — с Лондоном. Купцы из Руана, Дьеппа, Кана, Сен-Кантена в 1424 г. записывались в Парижскую ганзу, чтобы иметь возможность перевозить товары по Сене в среднем течении. Через несколько лет уже никто записываться не будет.
Тогда нормандцев встречали на женевских ярмарках; правда, им надо было пройти путь по Фландрии и Рейнской дороге. Ярмарка в Ланди, не устраивавшаяся после смут 1418 г., вновь открыла свои прилавки близ Сен-Дени в 1426 г.; она проводилась еще в 1428 г., а возможно, и в 1429 г. Доходы торгового порта Нейи в 1425 г. отдавали на откуп за 36 ливров, в 1426 г. — за 48 ливров, в 1427 г. — за 66 ливров, в 1428 г. — за 80 ливров. Конечно, это еще очень далеко от уровня 1410 г. — 320 ливров, — но оживление очевидно. В какой-то мере процветали также суконщики Сен-Ло или производители холста из Фужера; на наших кривых за много веков этот подъем выглядит небольшим всплеском, но те, кто переживал его, могли думать, что испытания кончились.
В сельской местности самые отчаянные храбрецы сделали первые попытки восстановить хозяйство, то есть отстроить дома, заново возделать поля, воссоздать поголовье скота. Это восстановление было очень робким, не выходило за рамки отдельных хороших земель и скоро окончилось неудачей. Но после него особо болезненно был воспринят развал 1430-х годов. После тех, кто повзрослел в 1380-х, еще одно поколение утратило свои иллюзии в 1430-х. Когда гроза минует, понадобится гораздо больше времени, чтобы каждый привык к мысли: к работе можно возвращаться на самом деле, а вкладывать деньги имеет смысл.
Вот что было в регионах, где каждый день ощущалась национальная драма, даже если не все переживали ее как национальную. Мрачный облик обескровленного Лангедойля депутаты Генеральных штатов Пуатье опишут в марте 1431 г.
Здесь люди Церкви и их бенефиции разорены и уничтожены, их дома разрушены и снесены… Купцы, привыкшие бывать на ярмарках и рынках, не смеют ездить по стране, чтобы торговать и вести дела своей торговли. Земледельцы не смеют и не могут ни держать скотину для пахоты, ни выводить ее на равнину, опасаясь за свою жизнь и боясь утратить последнее, что у них осталось.
Небезопасность
По мере удаления от долин Сены и Соммы, Луары и Вьенны обстановка несколько улучшалась. Но ненамного. Аквитания и Лангедок, так же как Овернь и Дофине, ощущали чувство небезопасности и бремя военных налогов, оставлявших мало средств желающим восстановить экономику. Ведь каждый год провинциальные или Генеральные штаты — бывало, что те и другие сразу — повышали косвенный эд и прямую талью, иначе говоря, налог, разорявший всех и пожиравший состояния, крупные и мелкие. В одном только 1425 г., в самый разгар краткого затишья, Карл VII потребовал 550 тысяч турских ливров от Лангедойля и 250 тысяч от Лангедока. Порт, находящийся в кризисе, — Ла-Рошель — должен был выплатить 14 тысяч ливров. От такой бедной аграрной местности, как Верхний Лимузен, требовали 13 тысяч. Для умеренного процветания это много.
Что касается чувства небезопасности, которое удерживало купца от того, чтобы колесить по дорогам, а крестьянина — от того, чтобы идти пахать, оно стало результатом слабости короля, политической неразберихи и нового появления солдат, оставшихся без дела. Столетняя война была не только войной между Францией и Англией.
В нее входили и чисто побочные конфликты, так же, однако, ослаблявшие страну и разорявшие казначейства. Даже когда эти конфликты не имели прямого отношения к противоборству суверенов, они были связаны с самой обширной сетью союзов или клиентел и втягивали в себя людей, участвующих также в других конфликтах. Все конфликты разрешались одинаково — при помощи сжигания деревень, обирания городов, грабежа купцов, роста налогов. Восстание племянника Григория XI относится к делам, которые не имели ничего общего с французской короной, но потрясали регион в течение жизни целого поколения.
Раймон Роже, граф де Бофор и виконт де Тюренн, просто-напросто добивался выплаты денег от должника своего дяди, когда в 1386 г. поднял оружие против папы Климента VII. На самом деле он хотел сорвать заключение союза между Святым престолом и прованской Анжуйской династией — союза, непосредственно угрожавшего некоторым из его крепостей, таким, как Сен-Реми или Ле-Бо. Он набрал рутьеров и создал угрозу для Авиньона. Несмотря на многочисленные договоры и солидные выкупы, Раймон де Тюренн и его люди почти пятнадцать лет разоряли Конта-Венессен и Западный Прованс. Правительство Карла VI попыталось навести порядок в сеньории папы, вмешался граф Жан III д'Арманьяк, и, наконец, появился Тюренн вместе со своим зятем Жаном Бусико, маршалом Карла VI, — они пришли осадить Авиньон во время борьбы за отказ от повиновения папе. Враждебность к герцогу Анжуйскому, поскольку тот был графом Прованским, в конечном счете сделала племянника Григория XI одним из проводников антипапской политики герцога Бургундского.
Точно так же в Лангедоке возродились стародавние конфликты между пиренейскими князьями. Известны мятежи Гастона Феба, графа де Фуа, претендовавшего одновременно на политическую автономию и на пост королевского наместника в Лангедоке при Карле V и его братьях. Граф де Пардиак и сир де Барбазан при Карле VI поссорились из-за нескольких земель в области Тулузы. Война вспыхнула и тогда, когда Аршамбо де Грайи — дядя капталя де Буша, побежденного при Кошереле, — в 1398 г. объявил о притязаниях на наследие графов де Фуа, на которое могла претендовать его жена. Еще в одной войне в 1403 г. граф Бернар VII д'Арманьяк, будущий хозяин Парижа, и его союзник граф де Пардиак столкнулись с графиней де Комменж.
Вследствие заката политической карьеры герцога Беррийского в 1411 г. столкнулись Жан де Грайи, граф де Фуа, королевский генерал-капитан милостью Иоанна Бесстрашного, и Бернар д'Арманьяк, мало склонный допустить, чтобы Лангедок попал в зависимость от Бургундии. Арманьяк в 1412 г. даже обратился к англичанам. Это был период, когда в Париже правили бургундцы, Иоанн Бесстрашный считался защитником короны Валуа, а значит, естественным врагом англичан. Ничего удивительного, что Фуа набирал рутьеров для борьбы с англичанами. Арманьяк, естественно, оказался на стороне противников этой политики.
Для лангедокского населения все это выражалось в нескольких словах: подати, небезопасность, грабежи.
Когда хозяевами королевства стали арманьяки, графа де Фуа в качестве генерал-капитана Лангедока сменил сын Бернара VII, виконт де Ломань. Арманьякская алчность проявлялась в Тулузе не меньше, чем в Париже, и поэтому население потянулось к бургундской партии, находило общий язык с Изабелла, торговалось о выгодных условиях присоединения. Лангедокские города оказались в руках Иоанна Бесстрашного на несколько дней раньше, чем Париж.
Граф де Фуа одержал победу — он оказался на стороне бургундцев как потомственный враг Арманьяка, точно так же как Сорбонна оказалась на стороне бургундцев из враждебности к Людовику Орлеанскому и папскому фиску. Сцепления в истории бывают непредсказуемы.
Тогда Жан I де Фуа обнаружил недюжинный политический талант. Далекий от того, чтобы мстить за старые обиды, он стал отстаивать общие интересы Лангедока. С 1418 г. он платил рутьерам за расформирование компаний Вместо того чтобы напасть с тыла на дофина, он добился от него титула наместника и генерал-капитана Лангедока и Гиени, потом вступил в соглашение с Альбре, Астараком и даже Арманьяком, чтобы оттеснить людей принца Оранского — крупного бургундского барона, — которые вели в Тулузе с лангедокскими Штатами переговоры, столь же непопулярные, как и требования его арманьякских предшественников. В 1419 г. восстание в Тулузе принесло победу партии графа де Фуа. Принц Оранский бежал. У правительства Карла VI, которое состояло из бургундцев, не было возможностей оспорить власть, фактически установившуюся в Тулузе: король подтвердил за Жаном де Фуа пост наместника, который последнему уже дал дофин. Для демонстрации щедрости к Лангедоку и Гиени даже добавили Овернь.
Для населения Юга понятия «англичанин» и «грабитель» были синонимами. Поэтому в результате союза Бургундии и Ланкастера общественное мнение повернулось в сторону Карла VII. Жан де Фуа умело руководил этой политической адаптацией, которая на деле была неизменным стремлением к миру. Далекие от парижских интриг и от махинаций Совета, горожане Лангедока — а тем более крестьяне — плохо понимали, какие могут быть сомнения по поводу короля, и не допускали мысли, что корону Франции можно уступить англичанам. Они желали, чтобы кончилась война и кончились налеты, а также чтобы прекратились подати. Английские набеги оставили слишком болезненные воспоминания от Бордо до Каркассона, чтобы желание мира могло кого-то привести на сторону Ланкастера.
Даже если время больших набегов прошло, английская угроза сохранялась, часто смешанная с арманьякской. Анализировать эти вопросы с парижской точки зрения значило изначально обречь себя на полное непонимание. В 1423 г. англичане осадили Базас. Андре де Риб, рутьер, в большей или меньшей степени служивший им, но называвший себя Арманьякским бастардом, разорил область Тулузы и в 1426 г. захватил Лотрек, в 1427 г. заставил пообещать себе семь тысяч экю за уход, а в следующем году возобновил грабежи, пытаясь добиться выплаты денег, положенных ему по договору 1426 г. Наконец, он создал угрозу для альбигойских земель Жака Бурбона, графа де Ла Марша. Тогда последний нанял соперника Арманьякского бастарда, кастильского рутьера, который окажется еще хуже, чем Риб, — Родриго де Вильяндрандо. Риб был схвачен и казнен. Вильяндрандо остался.
Сочтя, что ему заплатили мало, кастилец договорился с несколькими рутьерами, уже печально известными в Лангедоке, такими, как Андрелен и Ла Валетт, и сформировал настоящую армию, базировавшуюся между горой Лозер и хребтом Виваре. Люди Вильяндрандо рыскали по Нижнему Лангедоку, разграбили Ле-Веле, угрожали Лиону.
За то, чтобы не нападать на Лион, рутьер потребовал четыреста экю. Хотя сумма была незначительной, лионцы сочли, что уступка подобному шантажу чревата опасными последствиями. Они отказали. Когда они наконец согласились заплатить — чтобы разорению не подверглась вся равнина, — было поздно: теперь надо было выплатить восемьсот экю. И Вильяндрандо без малейшего стеснения разместил полученные таким образом суммы у нескольких лионских финансистов, чтобы они приносили доход…
В те же времена бывший каменщик, ставший главарем банды, Перрине Грессар, постоянно прочесывал долину Луары и Шера, между Буржем и Ла-Шарите. Он разорял окрестности Сансерра и одно время угрожал королю в Бурже. Карл VII встревожился настолько, что отправил будущего Людовика XI под защиту толстых стен замка Лош.
Что одним плохо, другим хорошо. Присутствия королевского двора и Счетной палаты было достаточно, чтобы создать в Бурже такой крупный потребительский рынок, какого там никогда не было. Пуатье извлекал большую выгоду из того, что в нем оказались парламент, Палата эд, а вскоре и университет. Это порадовало финансистов, а также галантерейщиков, ковроделов и ювелиров вместе с бакалейщиками, каменщиками и торговцами скобяным товаром. Не меньше, чем частные лица, дельцы и простые ремесленники, выгадали и городские коммуны: Пуатье завершил городскую стену, построил новую ратушу, начал облагораживать русло реки Клен.
Некоторые отважные дельцы отвернулись от стесненного регионального рынка и обратили взор на средиземноморские порты и альпийские перевалы. Устав от отцовской торговли мехами и не слишком желая повторять в Бурже монетные спекуляции, едва не обернувшиеся очень плохо, Жак Кёр вышел на большую экономическую дорогу. Он основал торговую контору в Монпелье. Он сотрудничал с итальянцами. В 1432 г. он оказался в Сирии. Шторма, из-за которого по возвращении он попал в руки корсиканских бандитов, было недостаточно, чтобы его обескуражить. Но время неопределенности прошло, и теперь Жак Кёр считал разумным спекулировать на победе Карла VII.
То здесь, то там экономическая жизнь оживлялась. Так, в феврале 1420 г. лионцы добились создания двух ежегодных ярмарок, пользовавшихся значительными налоговыми льготами. Но это оживление было непрочным, и многие признаки динамичного развития оказывались массовой иллюзией. Лионское бюргерство полностью восстановит свою деловую активность через двадцать лет.
В эти годы как политической, так и экономической неопределенности перед англичанами стояла самая тяжелая из военных задач: им надо было наступать, Это Карл VII мог оставаться в обороне. А для Ланкастера не довести завоевания до конца означало совершить роковую ошибку. Эта задача была тем тяжелее, что на уже завоеванных землях ему приходилось иметь дело с беспрестанными налетами партизанских отрядов и еще держащимися «арманьякскими» гарнизонами. Ведь люди Карла VII потеряли Компьень только в июне 1422 г., а в начале 1423 г. заняли Мёланский мост. Орсе и Маркусси на юге Парижа были логовами арманьяков, и «Горожанин» постоянно жаловался: Орлеанская дорога находилась в руках врагов, в то же время его бургундские друзья опустошали сельскую местность.
Накануне Богоявления (1422) прибыл в Париж герцог Бургундский и привел тьму латников, каковые причинили немало зла деревням вокруг Парижа, ибо после них не остается ничего, что они могли бы унести, если только не слишком жарко или им не слишком тяжело.
А арманьяки прибывали со стороны ворот Сен-Жак, ворот Сен-Жермен и ворот Бордель до самого Орлеана и творили столько же зла, как некогда сарацинские тираны.
В этой ненадежной ситуации много беспокойства англичанам причинял шпионаж. Английские капитаны и французские бальи, верные Генриху VI, в конечном счете начали видеть шпионов повсюду, но сам шпионаж был совсем не мнимым. «Их враги, у которых постоянно везде были друзья…» Эта фраза «Горожанина», симпатизировавшего бургундцам, была не просто оправданием поражения англичан. Она отражает реальность: арманьяки на равнине находили помощников, которых легко мог бы обрести какой-нибудь герцог Бургундский, но на которых не мог рассчитывать островной капитан.
Итак, прежде чем думать о завершении завоеваний к югу от Луары, англичане должны были закончить его к северу от нее. Таким образом, им пришла совершенно естественная мысль напасть на владения королевы Иоланды — Мен и Анжу. Эти регионы как для одной, так и для другой из воюющих сторон были стратегическим ключом к любому выгодному союзу с Бретанью.
Повести первое наступление на Анжу выпало Кларенсу. Брат Генриха V и Бедфорда, Томас Кларенс был не прочь, воспользовавшись, наконец, подвернувшейся возможностью, немного прославиться. 22 марта 1241 г. при Боже он попал в ловушку, расставленную французами — или, скорей, франко-шотландской армией — будущего коннетабля Стюарта. Кларенс недооценил численность «арманьяков». Стюарт без труда обманул его. Брата Генриха V после боя обнаружат в числе убитых.
Наконец, в 1423 г. произвели систематическую очистку парижского региона. Бедфорд хотел добиться спокойствия у ворот своего дома и лишь потом вернуться к завоеванию. Область Шартра, Перш, Бри, Валуа были почти очищены от арманьякских гарнизонов.
На 1423 г. пришлись два наступления в противоположных направлениях. Англичане вторглись в Мен и были отброшены. Армия Карла VII попыталась присоединить Шампань и была разбита. Ведь у буржского короля была армия.
Армия буржского короля
По организации эта армия мало походила на армию Карла V и Карла VI. В ней было покончено с различиями в зависимости от социального происхождения бойцов — такое-то содержание оруженосцу, такое-то рыцарю, — как и в зависимости от военной специальности и вооружения. Арбалетчики вступили в общий строй. Это значит, что метательное оружие применялось уже в операциях на уровне компании, а не «баталии», иначе говоря, армейского корпуса. Больше не было стрелковых рот, а также капитанов или коннетаблей арбалетчиков. Единство командования — через век после катастрофы при Креси — предполагало превращение арбалета в стандартное оружие.
Такое упрощение воинской иерархии требует осторожного подхода при его интерпретации. Ясно, что делалось все меньше различий — а после 1438 г. их вообще перестанут делать — между рыцарем-баннеретом, простым рыцарем, оруженосцем-баннеретом и простым оруженосцем. Все были либо «латниками» (hommes d'arme), которым платят двенадцать ливров в месяц, либо «стрелками» (hommes de trait) за шесть ливров. Произошло ли это просто-напросто потому, что Карл VII уже почти не мог найти рыцарей для службы в своей армии? Или потому, что люди короля из-за отсутствия архивов, оставшихся в Париже, или опытных герольдов не могли точно выяснить, кто заслуживает оплаты рыцаря-баннерета или оплаты рыцаря, первая из которых — еще во времена Жанны д'Арк — была в четыре раза, а вторая в два выше оплаты простого оруженосца? Может быть, это различие утратило смысл, потому что те и другие уже имели сходное вооружение и одинаковую эффективность? А баннерет давно уже не водил под своим знаменем феодальный отряд?
Карл VII набирал наемников и платил им за службу, которой ожидал, а не за происхождение. Для него было не очень важно, посвящены они в рыцари или нет. Что касается доплаты за командование, ее давали капитану, ответственному за свою роту, — капитану, выбранному королем. Уже капитаны Карла V получали «счет» (état), добавлявшийся к общей сумме, которая была положена им для содержания воинов. В то время как подчиненные получали, в зависимости от подготовки и вооружения, от шести до шестидесяти ливров в месяц, Ангерран де Куси — как капитан, отмеченный королем, а не как один из знатных баронов королевства, — имел в 1377 г. ежемесячный «счет» в пятьсот ливров, к которому добавлялась пенсия, выплачиваемая ему казной, как и многим высокородным сеньорам, за верность и политические услуги.
То есть Карл VII только довел до крайнего предела эту иерархию оплаты: он теперь вознаграждал лишь за настоящую ответственность — ответственность капитана.
На деле, хотя о недостатках такого комплектования было прекрасно известно, армия Карла VII в значительной части состояла из наемников, прибывших извне, — шотландцев, ломбардцев, пьемонтцев, арагонцев, кастильцев. Было известно, что они, по крайней мере, не изменят, если только им не забыли заплатить. Ко внутренним распрям во Франции они оставались безразличны. Еще до 1420 г. дофин заручился службой Джона Стюарта и Уильяма Дугласа. В худший момент для Буржского королевства коннетаблем стал Стюарт; в армии «благородного дофина» было уже более шести тысяч шотландцев, в том числе четыре тысячи испытанных лучников, и за сменой в Шотландию направилось два испанских корабля.
Не станем полагать, что Карл VII презирал французское рыцарство. Он не находил в нем готовности служить. После двадцати лет гражданской войны знать устала, возможно, настроилась скептически и, бесспорно, проявляла осторожность. Сеньоры оставались дома и выжидали, куда подует ветер. Половина воинов, участвовавших в осаде Орлеана, явилась из-за моря или из-за гор. Там было десять шотландских капитанов, пять испанских и итальянец Теод де Вальперга, который закончит карьеру в королевской администрации в качестве бальи Макона и сенешаля Лиона.
Как бы ни возмущался поэт Ален Шартье таким безразличием природных защитников общего дела, это ничего не меняло. Они предпочитали «домашний уют». Правда, Карл VII делал все, чтобы отбить у своей знати желание проявлять военные доблести. Карьеру быстрей делали в передних Лоша или Шинона, чем на полях сражений, и король был не настолько энергичен, чтобы из-за выжидательной позиции можно было опасаться неприятностей. Двор жил в ирреальном мире, а Дюнуа, который предпочитал сражаться, считался чудаком.
Итак, кто очень хотел воевать, имел на это полное право, а король в этом отношении не был слишком требователен. Время испытаний для рыцарства еще не настало. Впрочем, свою выгоду в этом находили все: король, которому служили, вельможи, которые посылали своих людей биться друг с другом, солдаты, которые зарабатывали себе на жизнь. Бывшего клирика и бывшего возчика, менялу и овернского суконщика Пьера Бегона возвели в благородное сословие после того, как он сделал двух сыновей капитанами на службе короля. Что удивительного, если в том же году доверия воинов удалось добиться лотарингской крестьянке? Старые рамки треснули, и люди были готовы ко всему. Гораздо позже первых побед и освобождения Парижа коннетабль де Ришмон без колебаний навербует для осады Мо добрых два десятка рот «живодеров», иначе говоря, три-четыре тысячи наемников, не имеющих иного социального положения, кроме умения сражаться, причем сражаться охотно.
Исход войны неясен
Итак, эта странная армия Карла VII в 1423 г. вышла на Реймсскую дорогу. Действительно, с горем пополам набранные части, верные Карлу VII, бродили по сельской местности восточней Парижа и, в частности, создавали угрозу городу коронаций. Этот факт не мог оставлять равнодушным короля, которому незачем было дожидаться Жанны д'Арк, чтобы понять — миропомазание прибавит ему политического веса. Его банды, действия которых были плохо скоординированы, попытались соединиться. Их надежды развеялись 30 июля 1423 г. при Краване, близ Оксера. Парижане зажгли иллюминацию. На улицах плясали.
Среди воинов, топтавших сельскую местность в войсках Карла VII, был и некий Этьен де Виньоль. Его прозвище, Ла Гир, войдет в легенду и даже в карточные термины.
Через два месяца после Кравана, 26 сентября, наступление Саффолка на Мен остановили на ландах Ла-Гравеля голодные дворянчики графа д'Омаля. Англичане недооценили этих «арманьяков», в которых видели скорее разбойников, чем солдат регулярной армии. На самом деле знать Мена и Анжу твердо хранила верность Анжуйской династии, а значит, и Иоланде Арагонской как вдове Людовика II Анжуйского. Многие воины, уже не обитавшие в своих полуразвалившихся замках, были готовы биться бесплатно только ради удовольствия наносить удары и ради единственной, но реальной выгоды — выкупов и грабежа. Сжечь ферму им мало что могло помешать. Насильно обесчестить девушку представлялось им развлечением. Но они не могли не ответить ударом на удар, и главная заповедь их катехизиса гласила: бей первым. Они бы ни за что на свете не присоединились ко двору Карла VII в Шиноне. Но сражаться за него в своих краях казалось им делом достойным.
Уж лучше наше ремесло, чем околачиваться при дворе да смотреть, у кого красивей острые носки башмаков, толще валики на одежде или более облезлая шапка по нынешней моде.
Так в своем романе «Юнец» один старый солдат[97] выражал этику этих бедных, но смелых оруженосцев, предпочитающих интригам удалые вылазки. Недооценив их способность к ответным действиям, Саффолк был разгромлен. К несчастью для Карла VII, эти «железные мечи» не составляли постоянной армии.
Бедфорд извлек урок из этого печального опыта. Он велел подготовить кампанию 1424 г. в форме прежних набегов. В то же время Карл VII рассчитывал на трения в англо-бургундском союзе и на первых своих бретонских союзников. Он сформировал армию, которая должна была стать освободительной. К воинам королевы Иоланды добавились те, кого завербовали в Лангедоке, в Дофине, в Оверни. Набирали генуэзцев, арагонцев, шотландцев.
Обе армии стоили друг друга, но не командование. С одной стороны был Бедфорд, с другой — десятки командиров, ревнующих друг к другу: Омаль, Алансон, Кулоне и еще несколько, готовых разрушить любое тактическое единство, лишь бы не создать впечатления, что они признают чью-то власть.
Столкновение произошло 17 августа под Вернёй-сюр-Авр. Французы имели численное преимущество. Они напали первыми: в атаку пошла конница, за ней с трудом поспевали пешие сержанты. Только шотландцы позволили себя перебить. Итальянцы, которым следовало обойти врага, предпочли грабить обоз. Как некогда при Креси, как некогда при Азенкуре, английские лучники совершили чудо. Омаль оказался в числе убитых.
Карл VII уже было видел себя и на пути к коронации, и на пути в Париж. Теперь он почувствовал, что умеренное присутствие духа покидает его. Среди придворных волнений он отныне занялся своими любовницами. Вернёй удлинил войну на двадцать лет. Именно тогда многие парижане, изгнанные после 1418 г., начали переговоры о своем возвращении.
Но английская победа отнюдь не была решающей. Вернёй оставил Карлу VII его Буржское королевство, само существование которого было постоянным отрицанием договора в Труа, а значит, английского присутствия в Руане, Кане или Париже. Настоящим результатом этой победы было затягивание войны. Ее могли закончить только два события: либо вступление Карла VII в Руан, либо Генриха VI — в Тулузу.
А ведь у Бедфорда были и другие заботы, кроме переправы через Луару. Амбиции Глостера в Нидерландах угрожали союзу с Бургундией, да и в самой Англии тот разжигал мятежи. Четыре года во Франции можно было вести только операции ограниченного масштаба. Главным их результатом стало установление власти Генриха VI в Мене: Солсбери вступил в Ле-Ман, обстреляв стену из пушек, 2 августа 1425 г. Знать, верная Карлу VII, перебралась в Буржское королевство.
В условиях такого застоя осада Мон-Сен-Мишель легко приобрела символический смысл. Англичане 28 сентября 1424 г. начали блокаду острова, зная, что защищен он слабо: гарнизон состоял из двухсот нормандских латников, нескольких решительных местных жителей и монахов. С самого начала весны в море вышло два десятка судов. Бальи Никола Бюрдетт блокировал побережье и удерживал остров Томбелен, который должен был стать исходной позицией для окончательного штурма.
Капитаном Мон-Сен-Мишель был нормандец, рыцарь Никола Пейнель. Он разыграл последнюю карту, какая у него оставалась, — время. Стенам Мон-Сен-Мишель эскалады были не страшны, а импровизированный флот из палубных лодок в безлунные ночи подвозил осажденным провиант. Тем самым моряки Мон-Сен-Мишель во главе с Ивоном Приу по прозвищу Морская Волна и моряки соседних бретонских портов давали защитникам возможность изматывать осаждающих.
Герцог Иоанн IV Бретонский сообразил, что падение Мон-Сен-Мишель будет предвестием возврата англичан в герцогство. Едва он решился вмешаться, как его опередили моряки Сен-Мало: 16 июня 1425 г. флот этого города взял на абордаж английские корабли. Защитники Мон-Сен-Мишель ликовали. Они, храня верность Карлу VII, под командованием нового капитана Луи д'Эстутвиля продержатся до прихода французской армии в 1444 г. Большего не понадобилось, чтобы святой архангел Михаил стал считаться покровителем королевских лилий.
Победа Дюнуа над Уориком при Монтаржи в 1427 г. тоже приобрела ореол великого подвига. Орлеанский бастард — титул графа Дюнуа он получит только в 1439 г. — тогда был молодым рыцарем двадцати четырех лет, желавшим защитить орлеанские земли, которые принадлежали его единокровному брату герцогу Карлу, попавшему в плен после Азенкура, а также создать себе имя, способствуя победе того, кто раньше принадлежал к партии его отца Людовика Орлеанского и был противником бургундцев.
Бедфорд по-настоящему снова принялся за завоевания только в 1428 г. Банды «разбойников», мешавшие ему осуществлять власть между Сеной и Луарой, не складывали оружия, и было ясно видно, что никакая демонстрация военной силы не покончит с ними. Англичане несколько раз прочесывали местность. Едва «арманьяков» изгоняли, как те появлялись снова. В городах и особенно в Париже заговоров становилось меньше по мере того, как слабели сторонники Карла VII, но эти заговоры оставались столь же опасными. Бедфорд хорошо знал: чтобы открыть городские ворота, хватит нескольких человек, а округа кишит арманьяками, готовыми ворваться в чуть приоткрытые ворота. Лишь покорение Буржского королевства заставит повиноваться подданных Генриха VI. Чтобы никто больше не ссылался на Карла VII, нужно было сделать, чтобы Карла VII не стало.
Решение занять Орлеан любой ценой и перейти Луару было принято на заседании Регентского совета, состоявшемся в Париже летом 1428 г. Через несколько недель Томас Монтегю, граф Солсбери, высадился в Кале с сильно вооруженной армией, которую он доукомплектовал во Франции.
Ожидалось, что осада Орлеана будет долгой и трудной. Бедфорд организовал снабжение армии зерном и мясом, а потом обосновался в Шартре, в самом центре группировки. 12 октября 1428 г. Солсбери подошел к Орлеану. Он не пожалел времени, чтобы очистить для прохода тыловые дороги и занять ближайшие крепости на Луаре: Жаржо, Мён, Божанси. Чтобы занять Орлеанский мост, нужно было только терпение.
Никто не задумывался, что Орлеан принадлежит герцогу Карлу, а рыцарская честь запрещает посягать на имущество пленника. В конце концов когда-то Филипп Август не обременял себя особой щепетильностью, пока Ричард Львиное Сердце был в плену. Главное, каждый понимал, что осада Орлеана — решительный момент конфликта, в котором Карл Орлеанский уже не участвует. Бедфорд напал на Карла VII, а не на пленного поэта.
Надежда у осажденных была очень слабой. Лучшим воином Карла VII был Ришмон, а коннетабль в это время вел открытую войну против собственного короля, или, точнее, против тех, кто вытеснил его из королевского фавора. Генеральные штаты, собравшиеся в Шиноне, попытались предложить посредничество, но временщики сделали все, чтобы его сорвать; ла Тремуй вовсю тратил налоговые поступления, вотированные в Шиноне, вместо того чтобы финансировать набор новых войск. Таким опытным капитанам, как Уильям де ла Поль, граф Саффолк, или как Джон Талбот, французы могли противопоставить лишь неумелую пока горячность молодого Дюнуа. Потон де Сентрай, Ла Гир и другие помощники Дюнуа были добрыми воинами, смелыми и выносливыми. Стратегами они не были. Что касается горожан, которые в некоторые моменты обороны сыграют решающую роль, то все-таки это были не более чем горожане. Дюнуа, правду сказать, располагал всего тысячей солдат. Его первая победа позволила ему лишь не впасть в отчаянье с первого дня.
У орлеанцев было достаточно времени, чтобы укрепить свои позиции. Со времен Джона Ланкастера и Черного принца они знали, чего стоит каменный мост через Луару. Знали они также, что англичане не удовольствуются использованием моста: захват моста — это разграбление Орлеана. Поэтому большая часть муниципального бюджета пятнадцать лет шла на устройство образцовых укреплений. Выходя к югу на Луару, город располагал крепкой стеной. Сам по себе мост в центре охраняла бастида под названием Сент-Антуан, а с южного конца — настоящий форт, Ле-Турель. Мост выходил на Косу, которая сама соединялась подъемным мостом с левым берегом. Наземное укрепление, вал (boulevard) укрепления Ле-Турель, прикрывало вход на Мост. Его ворота, Сент-Катрин, тоже были защищены.
Провианта должно было хватить: в Орлеане хорошо знали, что англичане не станут обстреливать из пушек мост, по которому проходят обозы с юга. Это значило бы разрушать тот самый объект, который им так нужен. Но Солсбери ловко переправил на лодке на левый берег маленький отряд, который 21 октября захватил форт Ле-Турель. Дюнуа сам велел перерезать мост. Город оказался в полной изоляции.
Солсбери пришла злополучная мысль посмотреть самому на завоеванное. Прямо в череп ему угодило ядро; через три дня он умер. Поскольку за несколько дней до того он разграбил церковь Богоматери в Клери, французы пожелали увидеть в этом небесную кару. Саффолк и Талбот разделили командование между собой и усилили блокаду.
Система английских укреплений была построена напротив французской, блокировав даже вход на мост с левого берега. Их расположение было впечатляющим. И неадекватным. Англичане разместились в собственных бастидах, плохо связанных между собой, тогда как их задачей было взять орлеанские бастиды. Как недавно под Мон-Сен-Мишель, они рассчитывали на время. Но и Дюнуа тоже рассчитывал на время. А дублирование французских укреплений лишь удлинило периметр английских: у англичан стало недоставать людей.
Ключевой вопрос всякой осады — снабжение, было у осаждающих столь же плохим, сколь и у осажденных. После прохождения армии Солсбери в английские тылы вернулись арманьякские банды. Для провианта, предназначенного для осаждающих, опасными были дороги, провиант, подвозимый орлеанцам, с трудом преодолевал блокаду. А содержимое подвод, за которые сражались, в основном погибало в грязи: то, чего недоставало одним, не составляло для других повседневный стол.
«Дело селедок» в феврале 1429 г. закончилось тем, что французы опозорились, а осаждающие ничего не выиграли. Карл Бурбон, граф де Клермон, стоял с армией в Блуа, Он решил перекрыть путь селедочному обозу — как говорили, из трехсот подвод, — который Фастолф вел к Орлеану для пропитания осаждающих во время поста. Но Карл имел глупость бросить в бой своих шотландцев, не дождавшись вылазки орлеанцев, на которую мог рассчитывать и знал, что может. Англичане успели заметить его приближение и укрепились близ Рувре-Сен-Дени, укрывшись за подводами. Конница графа де Клермона стала посмешищем, дав себя перебить среди перевернутых бочонков с сельдями. Когда собирали раненых, те воняли селедкой. Дюнуа сам был ранен и едва не погиб. Что касается орлеанцев, вышедших навстречу Клермону, их спасло бездействие осаждающих, которые решили, что селедочный обоз прикрывать не надо, и остались у себя в бастидах, наблюдая за выходом и возвращением гарнизона.
Сам Клермон даже не вступил в бой. Он позволил действовать шотландцам. Однако он присоединился к выжившим бойцам армии Дюнуа, чтобы войти в Орлеан. Он не снискал себе в городе популярности и оставался там недолго. Но, уезжая, Клермон увел с собой остатки королевской армии.
Горожане остались одни, едва смея надеяться, что придет новая армия, чтобы снять с города осаду. Моральный дух упал ниже некуда. Осада не могла длиться вечно. Теперь защитникам не хватало провизии и боеприпасов. Но они знали, что сдача — это резня, пожар, грабеж. Они попытались найти нового защитника, вступив в переговоры с герцогом Бургундским. Карл VII был не в состоянии противиться — это было наименьшим злом.
Сентрай и несколько горожан приехали к Филиппу Доброму, чтобы предложить ему странную сделку: он договорится с англичанами сменить их под Орлеаном, и город ему сдастся. За исключением Дюнуа, все напрочь забыли, что есть еще и герцог Орлеанский.
Филипп Добрый согласился на сделку. Он приехал в Париж и пытался убедить Бедфорда. Регент к этой идее отнесся плохо.
Я был бы сильно разгневан, если бы облаву устроил я, а птички достались другому!
Хоть Бедфорд и отказывался делиться, Орлеан пока не был у него в руках, и положение осадной армии едва ли было лучше, чем у осажденных. Французы погибли среди селедок, но англичане этих селедок недосчитались. Спешно послали второй обоз. Ему подобным же образом перегородили дорогу крестьяне из Гатине. Под Орлеаном от войны устали так же, как и за стенами города.
Однако Дюнуа подумывал о капитуляции. Еще несколько дней, и англичане смогут починить мост. Они займут Аквитанию и Лангедок. Английская Гиень уже не будет изолированной. Буржское королевство погибнет.
Орлеанский бастард предавался этим размышлениям, когда узнал, что в Жьене видели странную девушку. Она послана Богом и идет повидаться с королем. Карл VII находился в Шиноне. Дюнуа спешно послал туда двух доверенных людей.
В Шиноне Карл VII тоже чувствовал усталость. Некоторые убеждали его покинуть родину: кто советовал двигаться в Дофине, кто — укрыться в Кастилии, кто — добраться до Шотландии. Как некогда Карл V, готовый покинуть Мо и уехать в Дофине за несколько часов до гибели Этьена Марселя, Карл VII готовился оставить королевство, которое считал потерянным.
Глава XVI Жанна д'Арк
Жанна родилась предположительно в 1412 г. Должно быть, теперь ей было восемнадцать лет или около того. Жан д'Арк, ее отец, был земледельцем, зажиточным крестьянином. Изабель Роме, ее мать, была женщиной набожной. Оба сохранили верность королю Франции Карлу VII. В Домреми, в королевском Барруа, это считалось нормальным. Несмотря на отдельные набеги англичан и бургундцев, которые нанесли изрядный ущерб и, в частности, сожгли Домреми в 1428 г., капитан Вокулёра Робер де Бодрикур считал свою шателению зависимой от Валуа. Островок верности в числе стольких прочих — вот что такое был Домреми.
В день, когда Жанна услышала небесные голоса, советовавшие ей повиноваться Богу, она взволновалась, но не удивилась. Она умолчала об этой вести. Ей тогда было двенадцать или тринадцать лет — возраст, когда не признают ничего. Когда эти голоса — святой архангел Михаил и две святые жены, Екатерина и Маргарита — открыли ей, что она должна изгнать англичан и короновать короля, Жанна все-таки осознала пределы своих сил. Она сделала вид, что ничего не слышала.
В конце концов она все же заговорила об этом со своим дядей. Тот привел ее к Бодрикуру. Бравый солдат посмеялся, а потом отослал прочь девушку, отнимающую у него время. В Вокулёре начались толки об осаде Орлеана. Это событие было достаточно важным, чтобы забыть о девице, несомненно, возбужденной, но не опасной.
Жанна вновь пришла к Бодрикуру почти тогда же, когда граф де Клермон вбил себе в голову идею перехватить селедок Фастолфа. Но на сей раз Божью посланницу сопровождали добрые люди из Домреми. Через год девушка говорила только о своей миссии; окружающие поддерживали ее. Почему бы в том положении, до которого дошло королевство лилий, не позволить ей действовать?
Дорогу в Шинон Жанне открыло удачное стечение обстоятельств. Герцог Карл Лотарингский был болен. До него дошли слухи о некой мистичке. Он вызвал ее, чтобы она его исцелила.
Карл Лотарингский был из тех принцев, которых родственные связи со всей Европой побуждали не принимать на себя никаких решающих обязательств. Старый враг Людовика Орлеанского и все еще противник арманьяков, в свое время поссорившийся с парижской партией «мира» и ее глашатаем Жаном Жувенелем, этот сторонник бургундцев тем не менее водил дружбу с неаполитанскими Анжуйцами. Его дочь и наследница Изабелла вышла за Рене Анжуйского, сына той самой королевы Иоланды, которая держала в руках нити политики Буржского королевства.
Герцог Карл ожидал выздоровления. Он получил урок. Жанна ему посоветовала больше не обманывать жену. Тогда ему станет лучше. Ошеломленный герцог сделал незначительные подарки девушке и отослал ее. Она имела дерзость потребовать — безуспешно — от будущего короля Рене сопровождать ее в Шинон. Когда она вернулась в Вокулёр, к девице, принятой герцогом Лотарингским, начали относиться всерьез.
Бодрикур прибег к сильнодействующим средствам, чтобы узнать, с кем имеет дело: он велел кюре изгнать из нее беса. Оказалось, она не одержима дьяволом. В конце концов, разве не рассказывали, что Францию погубила женщина — очевидно, Изабелла Баварская, — а спасет дева? Разве не говорили, что Божье возмездие будет сопровождаться многими чудесами? Во Франции Карла VII, как и во Франции Генриха VI, пророчества распространялись быстро. К Жанне могло относиться либо то, либо другое из этих предсказаний.
За пятьдесят лет на пророчиц насмотрелись. Великая схизма Запада дала повод для многих прорицаний, многих высказываний о спасении мира и конце времен. Советам святых жен — ни святой Екатерины Сиенской, ни других, — которых побудила подать голос драма церкви, почти не следовали. Но мысль, что путь к выходу из общих бед христианского мира может найти женщина, не была странной для современников Карла VII. Жанна стоила многих предшественниц, и ее близкие, несомненно, гордились, что на сей раз событие произошло у них на глазах. О других только говорили. Эту они знали лично. Проводить Жанну д'Арк к королю вызвалось двое оруженосцев.
Бодрикур предоставил меч и дорожные одежды — мужские, за что никто в тот момент не подумал бы упрекнуть девушку. Жители деревни сбросились и купили коня. Жанна отправилась в Шинон. 6 марта она добралась до места.
Карл VII поначалу отнесся к ней недоверчиво. Через два дня выяснилось, что Жанна не опасна. Ее приняли. Эта милость не была чем-то из ряда вон выходящим: сама Изабелла Баварская в 1398 г. приняла провидицу Мари Робин, добрую крестьянку из Гаскони, желавшую положить конец расколу церкви.
Однако король по-прежнему был настороже. Конечно, Жанна с первого момента узнала того, кто попытался сбить ее с толку, смешавшись с толпой придворных. Но ведь немало было и ведьм. Сверхъестественное всегда впечатляло людей средневековья, но у сверхъестественного мог быть и недобрый источник. Поэтому нескольким богословам поручили допросить девушку, в то время как в Домреми для срочного расследования была направлена миссия францисканцев. Заключение гласило: Жанна вела благую жизнь и имеет чистые нравы, столь же набожна, сколь и невежественна, отличается живым умом, «благомысляща» в отношении несчастий Франции. Англичане должны уйти, бургундцы должны присоединиться к королю. Политический анализ Жанны не предполагал полумер. «Так хочет Бог» было ее девизом, объяснявшим все.
Поощряемый своим исповедником Жераром Маше, Карл VII начал воспринимать дело всерьез. Не доверила ли Жанна ему с самого начала какую-то тайну? Во время процесса реабилитации в 1456 г. августинец Жан Пакерель, бывший капеллан Девы, сообщил, что она именем Бога уверила Карла VII в его легитимности:
Именем Господа я говорю тебе, что ты истинный наследник Франции и сын короля. И Он послал меня, чтобы привести тебя в Реймс.
Невелико откровение — скажут некоторые. Если вспомнить, что в 1420 г. договор в Труа отказывал Карлу в официальном титуле «сына короля Франции», а в 1429 г. мало кто делал ставку на победу Валуа, и если заметить, что — коль скоро Жанна не пожелала открыть тайну короля никому другому — Карлу VII не было никакой выгоды задним числом придумывать беседу, где бы напоказ выставлялись его сомнения, надо думать, что подобное заявление действительно потрясло буржского короля.
Жанну послали в Пуатье. Там было множество докторов. Их поразило исключительное здравомыслие девушки. Один лимузенец, говоривший с сильным акцентом (тем самым, который высмеет Рабле) спросил, на каком языке изъясняются ее святые, Жанна откровенно ответила: «На лучшем, чем ваш!»
Богословы были также поражены одной вещью: девушка намеревалась не только молиться, она твердо решила сражаться. Это выходило за рамки знакомого типа пророчицы.
Для большей уверенности Жанну велели осмотреть повивальной бабке. Так узнали, что она не мужчина и что она девственница. Будь она ведьмой, общение с дьяволом не позволило бы ей остаться нетронутой. Итак, дело стало понятным. Жанну вернули в Шинон. Мнение докторов оказалось благоприятным.
Орлеан
Тогда казалось, что Орлеан потерян. Почему было не позволить Жанне д'Арк попытать счастья? Ее, так сказать, подвергли испытанию. Она получила доспехи, велела написать на знамени образ Христа меж двух ангелов; вышитый на шелке девиз «Иисус, Мария!» придавал ее походу облик крестового. Жанна увидела во сне меч; его нашли для нее, и полировщик восстановил его. Чудеса по-прежнему придавали всему делу ореол святости.
Казалось, врагам Жанны вынесен приговор Бога. Один воин, видевший ее в Шиноне в королевской передней, распространил сплетню: мол, она подарила ему ночь, и пусть посмотрят, девственница ли она. Жанна это услышала. Когда этот человек стал клясться на пари, чтобы подтвердить свою правоту, она осадила его: «Ты богохульствуешь, и твоя смерть близка…» Вскоре богохульника нашли утонувшим.
В то время как страсти накалялись, на сцену выступали воины. Свои услуги предложил герцог Алансонский. Прямой потомок Карла Валуа, а значит, короля Филиппа III, Иоанн Алансонский был принцем королевской крови. Недавно побежденный и взятый в плен при Вернёе, а потом освобожденный за выкуп в двадцать тысяч салюдоров, он должен был отомстить за себя англичанам. Союз с ним во всех отношениях укреплял положение Жанны д'Арк. Другие, менее высокородные, предлагали просто-напросто — но не задаром — свой меч и свою компанию: среди них были Потон де Сентрай, Жиль де Ре, Этьен де Виньоль по прозвищу Ла Гир, Амбруаз де Лоре, Жан де Бюэй. Все они участвовали в войне Карла VII и Анжуйцев в Мене и Анжу, в Шампани и Гатине.
Добровольцев хватало. Прибыли даже братья Жанны, Пьер и Жан. Редко когда тактика была менее скрытной, чем при последней попытке Карла VII помочь Орлеану. Вся Франция пришла в движение. В большинстве люди были настроены скептически. Многие следовали за Жанной, исходя из соображений: «Будь что будет, а попытаться надо». В том месте, где кто-то пытается…
Жанне для большей безопасности придали оруженосца, которому предстояло стать чем-то вроде учителя в военном деле: это был добрый гасконец Жан д'Олон.
Армия стояла в Блуа — во всяком случае, то, что от нее осталось после «дела селедок». Пришедшие с Жанной части влились в эту армию. Руководство операцией принял маршал де Буссак, рядом с ним должна была находиться Жанна. Войско перешло Луару и по левому берегу подошло к Орлеану. Вопреки мнению Девы, капитаны Карла VII решили обогнуть город с юга и востока и атаковать осаждающих с севера, по Парижской дороге. Там было самое слабое место в обороне англичан: они, естественно, ожидали нападения с юга, но не с севера.
Дюнуа выступил из осажденного города и присоединился к армии, отправленной ему на помощь, в Солони.
Жанна была права, возражая против стратегии, придуманной Буссаком: на Луаре начался паводок. Армия вернулась в Блуа. Тем временем в сопровождении всего нескольких спутников Жанна добралась до Орлеана на лодке; она была на месте 29 апреля.
Это была очень странная осада, при которой осажденный город голодал, но защитники входили и выходили почти беспрепятственно, в то время как осаждающие, засев в маленьких фортах, не полностью обеспечивавших блокаду, изнывали от скуки взаперти и зря тратили деньги английских податных. Толпа радостно приветствовала Жанну — возникла надежда, что ситуация изменится.
Дева совершила последний дипломатический ход. Она известила Генриха VI, Бедфорда и Талбота, что им следует вернуться на свой остров.
Верните Деве, посланной сюда Богом, ключи от всех добрых городов, которые вы взяли и осквернили во Франции…
Я пришла сюда от имени Бога, Царя Небесного, плоть за плоть, чтобы изгнать вас из всей Франции!
В тот момент такая заносчивость вызвала смех. Осаждающие передали Жанне д'Арк несколько изрядно грубых выражений. Чтобы смутить девушку, говорящую от имени Бога, этого было недостаточно: она лично отправилась потребовать от Уильяма Гласдейла эвакуировать форт Ле-Турель на левом берегу. Естественно, англичане не захотели подчиниться.
После этого, однако, события начали развиваться очень быстро. Основные силы королевской армии вернулись из Блуа с провиантским обозом. Они 4 мая подошли к Орлеану, обогнули город с севера и атаковали бастиду Сен-Лу к востоку от английского кольца укреплений. Сражение уже вовсю кипело, когда весть дошла до Жанны и ее людей; в момент, когда англичане опомнились, вылазка бойцов из города во главе с Жанной принесла французам победу. Вечером 4 мая одна из главных позиций английской осадной системы пала. Но Жанна была очень недовольна, что дело начали без ее ведома. Она сурово отчитала за это виновных.
Фактически капитаны по-прежнему не доверяли ей. 5 мая они посовещались, опять-таки без нее, и решили назавтра атаковать бастиду Лез-Огюстен на левом берегу. Дюнуа уверял ее, что будут атаковать городскую стену с северо-запада. Но Жанна была не проста и на обман не поддалась: утром 6 мая она сама бросилась на приступ Лез-Огюстен. В результате новая победа стала в глазах всех выглядеть ее победой. Недоверчивость капитанов обернулась против них.
Англичане уже впадали в панику. Первые предупреждения Жанны вызвали громкий смех. Теперь пошел слух, что накануне женщиной были разбиты превосходные солдаты. На новое письмо Девы они ответили без малейшей иронии: пусть она отправляется пасти своих коров, не то ее сожгут. Пока что они повели себя глупо, запершись в своих бастидах. Они забыли, что при осаде атаковать должен именно осаждающий.
День 7 мая стал решающим. Французы хотели немного отдохнуть, и капитан города Рауль де Гокур отказался отдавать приказ о новой вылазке. Жанна заставила их атаковать бастиду Ле-Турель, запиравшую мост с юга. Выйдя в первый ряд, она сыграла в деле решающую роль — пристыдила солдат. Увидев, что ее тяжело ранило арбалетным болтом, пробившим ей плечо, — она уже считала себя погибшей и заплакала, — и что она тем не менее сумела водрузить на земляном валу свое знамя, французы ринулись на кольцо английских укреплений. Жанна кричала: «Здесь все ваше, входите!» Так они и сделали.
Мост был отбит. Орлеан деблокирован. Продолжать сопротивление на правом берегу было бы самоубийством. 8 мая Талбот снял осаду.
Время побед
Результат превзошел ожидания. Англичане недосчитались одной победы, но фронт остался в том же положении, как и полгода тому назад. Не сумев скоординировать свои действия на слишком растянутой линии осады, осаждающие потеряли свои бастиды одну за другой. Но они отступили дальше, чем продвинулись французы. В мае 1429 г. Карл VII ничуть не расширил своих владений, а Бедфорд по-прежнему управлял из Парижа доброй третью Франции. Тем не менее спасение Орлеана выглядело первым за долгое время отпором продвижению англичан. Боже, как и Ла-Гравелю, Бедфорд придал лишь второстепенное значение. Мон-Сен-Мишель нельзя было считать стратегической позицией. На Орлеан, зная, что Английское королевство устало финансировать войну, регент сделал всю ставку.
Пропаганда сторонников Карла VII организовалась сама собой. Разве Жанна не сказала богословам в Пуатье, что освободит Орлеан, чтобы дать им знак, которого они требовали, — знак божественной миссии, которая завершится чудом, едва ли не божественным? Орлеан теперь был освобожден. Знак получен.
Англичане отступили перед женщиной. Жанна ободряла солдат; она действовала, как капитан. Главное, что англичане стали выглядеть смешно. Двор и народ прежде слишком часто их боялись. Теперь до самого Дофине распевали:
Прочь, трусливые англичане, прочь! Порази вас подагра и камни в пузыре, И чтоб вам срезало шею под корень!С грехом пополам зарифмовав в своей старости радостное ожидание возрождения, подала голос Кристина Пизанская.
В год тысяча четыреста двадцать девятый Вновь засияло солнце. Оно снова возвращает доброе время. Которого не видели в лицо С давних уже пор…В Авиньоне клирики задавались вопросом, не была ли эта девушка орудием крестового похода. Укрывшись в Лионе после поражения партии «мира», канцлер парижской церкви, богослов Жан Жерсон внимательно изучал все, что было известно о Жанне. Она была набожной, скромной, великодушной. Судя по тому, что он знал о ней, можно было поддержать дело Девы,
ибо ее конечная цель была из самых справедливых: вернуть королю его королевство, отразить и достойно победить самых ненавистных его врагов.
Храбрый оруженосец Жан д'Олон меньше будет обременять себя казуистикой, когда заявит в 1456 г.:
Все дела означенной Девы представлялись ему скорей божественными и чудесными, нежели чем-то иным. Столь юной деве было невозможно совершать подобные деяния без воли и руководства нашего Господа.
В своем энтузиазме Жан д'Олон припишет воле Провидения и тот факт, что при тесноте лагерной жизни никто не испытал по отношению к Жанне ни малейшего любовного влечения.
Несмотря на то что была она девушкой красивой и хорошо сложенной и что не раз, помогая ей вооружаться или в других случаях, он видел ее груди, а порой совсем обнаженные ноги, обрабатывая ее раны, и что не раз она оказывалась близко, притом что он был сильным, молодым и в полном цвете лет, тем не менее никогда ни при одном взгляде или прикосновении к означенной деве ее тело у него не вызвало никакого плотского влечения. Подобным же образом таких чувств не испытал и никто другой из ее людей и оруженосцев, равно как и тот, кто много раз слышал их речи и рассказы.
Англичане и французы сразу же дружно признали: в войну вмешалось сверхъестественное начало. Вопрос только. Бог или дьявол. Англичане не могли забыть, как они думали, что Жанна убита их арбалетным болтом, и были поражены, услышав, что она отдает команду на приступ. Главное, не будь она ведьмой, они бы не были побеждены. Сверхъестественное вмешательство вполне объясняло их поражение. Бедфорд позже напишет в свое оправдание племяннику Генриху VI:
Это несчастье в большой мере объясняется, на мой взгляд, безумными мыслями и безрассудным страхом, каковые Вашему народу внушил ученик и сеид дьявола, именуемый Девой.
Французы, со своей стороны, помнили, что Дюнуа отдал приказ об отступлении за несколько минут до того, как они победили. И разве Жанна не провидица? Разве она не предсказала Карлу VII, что будет ранена под Орлеаном, прежде чем освободить город? Они слышали, как она предвестила странную смерть — «без пролития крови» — капитану Ле-Турель Гласдейлу, оскорбившему ее. И Гласдейл утонул…
В то время как под знамя с королевскими лилиями спешила новая кровь — множество молодых рыцарей и оруженосцев, — немало капитанов, которые после событий 7 мая 1429 г. ощутили себя выбитыми из колеи, испытывали к Жанне некоторую злобу. Чего стоит их военный опыт, если урок им преподает девица? К тому же, что бы Жанна ни делала, это им напоминало о их ответственности и при этом диктовало стратегию. Гильому Эмери, который в Пуатье спросил у нее, зачем Богу воины, если Он хочет освободить королевство, она метко ответила:
Воины будут сражаться во имя Бога, и Бог даст им победу.
Помоги себе сам, и Небо тебе поможет. Это вполне выражает ее политику и ее катехизис. Такие речи звучали суровым осуждением для побежденных при Краване и Вернёе. Когда в Совете обсуждали возможное продолжение кампании, профессиональные военные проявили раздражение. Командиры армии считали, что можно распустить войска. Руководители королевской политики начали бояться за свои позиции. Ла Тремуй считал, что его вытеснили из фавора у суверена. Архиепископа Реймсского Реньо Шартрского тревожило, как это некто, не будучи ни епископом, ни доктором, говорит «от имени Бога». Блокаду Орлеана сняли — этого хватит на год. Не вмешайся Дюнуа, отныне преданный Жанне, на том поход бы и кончился. Орлеанский бастард добился другого решения.
На сей раз цель, а также состав командования уточнил Карл VII. Надо было очистить Орлеанскую область. Командование поручалось герцогу Алансонскому, который во всем и по любому поводу должен был советоваться с Девой.
Алансон напал сначала на Жаржо, где укрепился Саффолк; 12 июня городок пал. 15 июня заняли Мёнский мост, 17 июня — Божанси. Талбот успел спастись и примкнул к армии, которую уже перегруппировывал Фастолф. Французы атаковали их 18 июня при Пате, несмотря на колебания некоторых сотоварищей Жанны д'Арк, еще находившихся под впечатлением поражений, которые они потерпели в открытом поле как при Вернёе, так и при Азенкуре. Но теперь энергичность проявила другая сторона. Атака французской конницы не дала английским лучникам времени укрыться в засаде. Талбот попал в плен. Фастолф спас часть войск, велев трубить отступление.
Отныне все казалось возможным. Ги де Лавалю, пришедшему повидать Жанну, она, предложив кубок вина, пообещала напоить его лучшим в Париже. В тот же период Бедфорд перевел столицу на осадное положение. Несмотря на старания королевского окружения преуменьшить роль Девы в последних победах, уверенность Жанны теперь гораздо больше, чем все прочие политические соображения, способствовала воцарению победного духа в лагере Карла VII.
Однако король по-прежнему испытывал неуверенность. Избежать худшего ему уже казалось огромной удачей, и он опасался идти дальше. Жанна говорила о миропомазании. Многие носились с другими идеями. В частности, Алансон, желавший штурмовать Париж и освободить Нормандию, иначе говоря, вернуть свое герцогство Алансонское. Ла Тремуй знал, что Ришмон хотел присоединиться к французской армии при Пате и что Жанна убеждала короля забыть измену коннетабля. Таким образом, для фаворита Жанна теперь представляла угрозу: каждый знал, что означало бы для ла Тремуя возвращение Ришмона. Удачно вмешался Дюнуа и помог Жанне подчинить волю короля: было решено идти в Реймс.
В Париже царила паника. Уже два месяца как пламенная проповедь францисканца брата Ришара поддерживала народ в состоянии возбуждения, не имевшего никакой связи с орлеанскими событиями, но усугублявшего общую нервозность. Бедфорд мог опасаться чего угодно. Он счел ловким ходом написать Филиппу Доброму, прося его поскорее посетить его верный город. Герцог уже приезжал до падения Орлеана, и известно, что Бедфорд принял его плохо. Он вернулся, но неохотно, и пробыл всего пять дней.
Добрый народ испытывал растерянность. Заклятый враг арманьяков, «Парижский горожанин» записал отголосок — уверяя, что сам в это не верит, — легенды о Жанне д'Арк, отчасти перепутанной со святым Франциском Ассизским:
Они утверждают, что, когда она была маленькой и пасла овец, птицы лесов и полей, когда она звала их, прилетали клевать хлеб у нее на коленях.
Бедфорду действительно не везло: с интервалом в неделю на улице Шанврери, близ церкви Сент-Эсташ, сначала родился теленок с двумя головами, восемью ногами и двумя хвостами, а потом двухголовый поросенок.
Но ног у него было всего четыре.
Все это явно предвещало великие потрясения. Удвоили караулы, на стены выставили пушки. Был проведен большой крестный ход. Окрестные деревни опустели. Население Кламара, Мёдона, Бург-ла-Рен оказалось в Париже. Горожанам, собравшимся 14 июля перед дворцом на острове Сите, в сотый раз рассказали об измене в Монтеро. Потом Филипп Добрый уехал, забрав свою сестру, герцогиню Бедфорд. Регент остался в Париже один. 4 августа он предусмотрительно поселился в Понтуазе. Парижане чувствовали себя покинутыми.
Единственное, что придумали, чтобы успокоить умы, — изгнали брата Ришара. Народ вернулся в свои таверны, к своим играм в шары и в кости. Медали, которые велел раздавать францисканец, выбрасывали. Брат Ришар нашел убежище в Труа.
Карл VII вступил в область 29 июня. Он обошел Оксер и 10 июля подошел к Труа, когда туда только что добрался брат Ришар. Тот отомстил изгнавшим его бургундцам, провозгласив в Шампенуа, что с этой Девой — Бог. В доказательство он сослался на то, что она летала над укреплениями.
Тем временем Жанна в Совете взяла верх над сторонниками выжидательной политики, среди которых, как ни странно, находился архиепископ Реймсский. Было решено штурмовать Труа. Жители вовремя предпочли меньшее зло: за амнистию и чувствительное увеличение торговых привилегий они открыли свои ворота. С этого момента Карлу VII не предстояло встретить ни малейшего сопротивления. 16 июля он был в Реймсе.
Жанна встретила там своего отца, который, конечно, забыл свое давнее обещание — самолично утопить дочь, если она когда-нибудь уйдет с солдатами. Она встретила также Рене Анжуйского, герцога Барского и будущего короля Неаполитанского; вспомним, что когда-то она тщетно просила покровительства этого принца, чтобы добраться до Шинона. После ее первых неуверенных визитов к Бодрикуру прошло всего шесть месяцев.
Карл VII предложил Жанне во время миропомазания занять место рядом с ним. Там она и стояла со знаменем, сыгравшим столь важную роль под Ле-Турель.
17 июля 1429 г. Карл VII действительно получил миропомазание. Оно совершенно ему не требовалось, чтобы быть королем Франции. Более двух веков короля создавало наследование, а не миропомазание. Сын Карла VI и Изабеллы Баварской, легитимность которого оспаривали, нуждался в этой процедуре, чтобы его признали. В королевстве Ланкастеров искренно удивлялись: Бог допустил миропомазание «того, кто именует себя королем». Храбрые и отнюдь не наивные люди иронизировали: есть истинный король — Генрих VI — и подложный, но только подложный был миропомазан.
В течение пяти-шести лет — с тех пор, как изгнанные в 1418 г. парижане начали возвращаться — заговоры в Париже возникали все реже. После миропомазания в Реймсе они участились. Видимо, скрытые сторонники Карла VII внушали все больше доверия. В тавернах обсуждали амнистию, предоставленную жителям Труа. Вера в бургундцев начала таять. Герцог Филипп несколько скомпрометировал себя во время последнего визита, и население было этим неприятно поражено. Полиция бросила в тюрьму каменщика, слишком насмешливым тоном спросившего у сторонника партии бургундцев, зачем герцог приезжал в Париж.
Не затем ли, чтобы помешать миропомазанию Дофина?
Активизируя военные действия, Жанна нарушала сравнительное спокойствие, которое в некоторых отношениях можно было принять за мир. Для районов, близких к Парижу, это было катастрофой. Как сельскую экономику, так и торговлю теперь ждали самые мрачные времена. Безработные ремесленники, невозделанные поля, опустевшие порты, разоренные ярмарки — вот что такое были 1430-е гг.
Но, снова ввергая Францию в войну, Жанна опровергала логику малодушных, что мир — это благополучие, а статус-кво — это мир. С тех пор как война стала приносить новые результаты, уже не считалось, что мир гарантирует только победа Ланкастера. В бедствиях своего времени Карл VII приобретал многих сторонников, готовых забыть, пока еще это возможно, о безразличии, благоприятном для частных дел.
Ведь война продолжалась. Получив миропомазание, Карл VII должен был вернуться в свою столицу. В политическом смысле это было необходимо. В стратегическом имело решающее значение. Бедфорд понял, на что делается ставка. Он добился от своего дяди Бофора отправки в качестве подкрепления отрядов, с большим трудом набранных для крестового похода в Чехию, который призывали устроить против сторонников еретического богослова Яна Гуса, погибшего на костре пятнадцать лет назад.
В то время как Бедфорд формировал свою армию, Карл VII и Жанна приближались к Парижу. Суассон, Лан, Шато-Тьерри, Провен покорились без колебаний. Компьень поторговался о своей капитуляции. Верность пикардийских городов бургундцам пошатнулась. В конце июля в Аррасе открылись франко-бургундские переговоры. Они завершились перемирием. Главным был сам факт переговоров. Все прекрасно видели, что Филипп Добрый даже не пытался помешать Карлу VII дойти до Реймса.
Ла Тремуй и сторонники примирения повысили голоса на Совете: прежде чем продолжать борьбу, нельзя ли окончательно договориться с Бургундией? Потом англичане уйдут и сами. Жанна и ее друзья — в том числе герцог Алансонский — пришли в ярость, услышав решение об отступлении королевской армии. Теперь стало свершившимся фактом: через две недели после миропомазания Дева уже не вела за собой всю Францию Карла VII — она стала знаменосцем партии арманьяков.
Бедфорд решил выиграть очко, перерезав своим врагам дорогу к Луаре. Он выступил, чтобы удержать Монтеро, и велел занять Брей-сюр-Сен. Карл VII повернул обратно. Пошли к Парижу.
Чем атаковать столицу с ходу, армия предпочла обезопасить свои позиции. Были заняты Компьень, Санлис, Бове. 26 августа Жанна была в Сен-Дени. Вместе с герцогом Алансонским она подготовила удар по Парижу. Прежде всего она дожидалась короля: вступить в Париж должен был он.
Время поражений
Карл VII остался в Компьене. Там он принял посланцев Филиппа Доброго. Для Жанны и ее сторонников это был жестокий удар: герцог Бургундский делал вид, что ведет переговоры, ужесточая свою позицию по мере того, как успехи Жанны в Шампани и Валуа заставляли его все больше опасаться за Пикардию и за связь между Бургундией и Нидерландами. 28 августа перемирие продлили до Рождества.
Англичане, по крайней мере пока что, не участвовали в этом перемирии, но условия соглашения были крайне неоднозначны. На города, имевшие мосты через Сену, в том числе на Париж, перемирие не распространялось, и герцог Бургундский сохранял право оборонять Париж. Зато перемирие распространялось на города Пикардии и Валуа, иначе говоря, на те города, которые готовились сдаться королю Франции. Компьеньское соглашение замораживало ситуацию там, где она развивалась в благоприятном для Карла VII направлении, и не давало ему права сражаться там, где развитие было не столь благоприятным. По-прежнему можно было брать Париж или Руан, но эти города отнюдь не были расположены открывать свои ворота. В Париже, в частности, не изгладились воспоминания об арманьякском терроре, и там опасались мести побежденных в 1418 г. Лучшее, что мог сделать король, — вернуться в Берри.
Герцог Алансонский форсировал ход событий: он отправился за Карлом VII, привел его в Сен-Дени, заставил отдать приказ штурмовать столицу. 8 сентября, чуть позже полудня, королевская армия без труда взяла первые укрепления ворот Сент-Оноре.
На стене находились парижане, бургундцы, отдельные англичане. Военное руководство находилось в руках бургундского капитана, который в 1418 г. выглядел доверенным человеком Иоанна Бесстрашного, прежде чем стать в глазах у всех приверженцем Бедфорда, — Жана де Вилье, сеньора де л'Иль-Адама. Воина, достойного репутации худших рутьеров и приобретшего себе в Париже прекрасную репутацию тем, что перерезал тьму арманьяков. Он не пренебрег возможностью обеспечить себе состояние, добавив к результатам своих грабежей подарки Бедфорда. Он первым удивился бы, если б ему сказали, что через семь лет он вступит в Париж во главе солдат Карла VII. Те, кто считал его разбойником, были бы изумлены, узнав, что его внук станет великим магистром Родосского ордена.
Штурм захлебнулся. Солдаты короля взяли глинобитный вал («boulevard») и пересекли сухой ров, но еще надо было форсировать ров с водой и высокую стену. Рассказывали, что до последнего момента Жанна не знала о существовании второго рва, а кто-то намеренно ей не сказал об этом. Однако в Париже сторонники Карла VII почти не посмели обнаружить себя. Ворота Сент-Оноре не открылись. Жанну д'Арк, раненную в бедро, унесли. Арбалетчик, который оскорбил ее, а потом выстрелил, был добрым парижанином, не оккупантом. А «Горожанин» тем же вечером записал в дневник:
Тварь в образе женщины с ними, которую называли Девой. Кем она была, Бог знает.
Орлеанское чудо не повторилось. Знаменосец Жанны был ранен арбалетным болтом в ногу, поднял забрало, чтобы чуть лучше видеть и вытащить стрелу, и получил второй болт между глаз.
К четырем часам парижане открыли артиллерийскую стрельбу, обратившую осаждавших в бегство. Последние в отместку подожгли ригу матюренов близ ворот Монмартр. Славным делом это не было.
Популярность Жанны в королевской армии разом упала. Потери были тяжелыми. Удержать позиций в Париже не удалось. Король не согласился на новую попытку, и ему даже показалось разумным покинуть Сен-Дени. Начиналась осень — на год все затихало. Карл VII устал. Он согласился распространить перемирие на Париж. Это означало отказ от любых притязаний в тот момент.
Англичане вновь обрели уверенность в своих силах. 18 сентября в Париж вернулся Бедфорд, помолился в соборе Богоматери, демонстративно положил на алтарь золотую монету. В свою очередь 30 сентября приехал Филипп Добрый с многочисленным двором, который во время проезда по столице тянулся от ворот Сен-Мартен через Бобур до дворца Сен-Поль. Наконец, в начале октября прибыл кардинал Бофор. Все они 13 октября держали совет. Филипп Добрый был назначен наместником короля Генриха VI, Бедфорд — губернатором Нормандии. Нескольким горожанам, собравшимся в большом зале дворца, объявили о перемирии.
Власти изрядно перепугались, так что осталось лишь желание совершить Эффектный жест, не сопряженный с риском. Бедфорд велел разорить Сен-Дени. Ведь жители этого городка поторопились открыть ворота Жанне д'Арк.
Бургундская политика была столь же непоследовательной, как и политика Карла VII. Как и король — его противник, герцог был окружен советниками, тянущими его в разные стороны. В ответ на относительную победу сторонников соглашения с Карлом VII приверженцы сохранения английского альянса любой ценой дали англичанам понять, что герцог, возможно, не станет возражать против прохождения английской армии через Ниверне. Это значило предоставить в их распоряжение мост в Ла-Шарите-сюр-Луар — мост, уже шесть лет удерживаемый рутьером Перрине Грессаром, о котором было известно, что он действует самостоятельно, но всецело предан англичанам.
Бедфорд увидел возможность взять Карла VII в клещи: ударить через Ла-Шарите, а удар с тыла поручить Ришмону, который томился в Пуату и тяжело переживал свою опалу. Поскольку коннетабль по-прежнему был несколько озлоблен тем, что его сначала отстранили от власти, а потом, когда он хотел сражаться за Карла VII, не приняли, Бедфорд мог рассчитывать на его помощь.
Карл VII и его совет узнали о том, что замышляется. Лучшим средством помешать противнику было выбить Грессара из трех его крепостей — Кон, Ла-Шарите и Сен-Пьер-ле-Мутье. Эта операция обещала много выгод, кроме того, что лишила бы англичан возможности прохода через мост. Она снимала угрозу, все еще нависавшую над Буржем, обычного грабительского набега. Она давала возможность навигации по Луаре. Она предоставляла занятие Жанне д'Арк. Некоторые прежде всего видели это последнее преимущество. Их не смущало конечное поражение, главное, чтобы Жанна на несколько недель оставила их в покое. От поражений ореол Девы в принципе тускнел. Не всех при дворе Карла VII это огорчало.
В самом деле, кампания на Луаре закончилась провалом. Сен-Пьер-ле-Мутье был взят приступом, но Ла-Шарите устояла. Вылазка Перрине Грессара в декабре вызвала панику в лагере осаждающих. Королевская армия даже не успела забрать свою артиллерию. В случае успеха Шарль д'Альбре и маршал де Буссак приписали бы победу себе; вину за поражение они возложили на Жанну. Карл VII решил выйти из положения, возведя всю семью Арк во дворянство. Братья Жанны были довольны. Она не попросила ничего.
Зато Карл VII делал успехи севернее Луары. Ла Гир занял Лувье, потом Шато-Гайяр. В свою очередь в руки французов попал Лаваль. Но сезон уже кончался. На том остановились.
Зима была печальной для всех. Население более, чем когда-либо, ощущало, что идет война. Бургундцы чувствовали себя неловко как по отношению к своему английскому союзнику, так и по отношению к королю, миропомазанному в Реймсе. Карл VII был вполне готов ограничиться теми невозможными успехами, которых он добился. В Совете взяла верх партия королевы Иоланды, и там утвердилось мнение, что для разрешения всего конфликта сначала надо примириться с Бургундией. Жанне запрещали идти сражаться в Нормандию вместе с герцогом Алансонским. Многие, и в первую очередь Ла Тремуй, очень старались, чтобы Орлеанскую деву начали забывать. Дошло до того, что призвали другую провидицу, некую Катрин из Ла-Рошели, которая очень вовремя предсказала, что Бог устроит франко-бургундское примирение.
Партия войны, партия Жанны д'Арк, уже была не только партией мести, партией арманьяков, бывших сообщников Танги дю Шателя. Благодаря победам 1429 г. и несмотря на поражение под Парижем впервые перестал выглядеть разумным принцип: уступать во всем, лишь бы добиться мира. Такие люди, как герцог Иоанн Алансонский, считали, что время обороняться прошло, а Компьеньское перемирие воспринимали как обман. На пути к победе не останавливаются.
Одним зима 1429/30 г. запомнилась усталостью, другим — горечью. Доволен был только Перрине Грессар, которому Бедфорд дал кое-какие земли в Нормандии.
Тем не менее единственным, кто по-настоящему выгадал, был герцог Бургундский. Его политика «качелей», которую вдохновлял канцлер Никола Ролен, казалась непоследовательной только со стороны. Филипп Добрый делал вид, что играет важную роль в ансамбле европейских монархов, и ему не было никакой выгоды ради этого ждать победы того или иного короля Франции. Генрих VI и Карл VII в равной мере нуждались в герцоге Бургундском, и он это прекрасно понимал. Филипп изображал суверена и подчеркнуто отодвигал свою корону подальше от королевств, переживающих кризис. 10 января в Брюгге он с большой помпой женился на дочери португальского короля и английской принцессы[98]. По этому случаю он создал рыцарский орден — Золотого Руна, который должен был стать политическим символом связи, соединяющей разные части Бургундского государства, — связи, которая пока имела очень личный характер. Рыцари Золотого Руна — это была элита, всего тридцать один человек, но элита, набранная от склонов Юры до побережий Зёйдер-зее.
Тем временем Филипп Добрый умасливал Карла VII, чтобы продлить перемирие до марта. Он торговался с англичанами, требуя полновесной монеты за военную поддержку. Предлагая созвать в апреле трехстороннюю конференцию, он в то же время концентрировал на Уазе войска и готовился отбить Компьень.
Компьень
Отказавшись подчиниться условиям перемирия, жители Компьеня с лета твердо демонстрировали верность Карлу VII. А ведь такая позиция Компьеня угрожала связям между Бургундией и Пикардией, равно как между Парижем и Фландрией вместе с Артуа. В окружении Карла VII не понимали, что герцог Бургундский не станет долго терпеть подобной угрозы.
Поэтому чисто по собственной инициативе — и безо всякой армии, кроме небольшого отряда сторонников, — Жанна д'Арк в конце марта покинула Сюлли-сюр-Луар, где провела часть зимы, и отправилась в парижский регион, чтобы вдохновить на сопротивление жителей городов, завоеванных восемь месяцев назад. Она действительно должна была их защищать. По счастью, на ее стороне было общественное мнение: горожане, десять-двенадцать лет терпевшие бургундское владычество и поспешившие примкнуть к Карлу VII, очень хорошо знали, что их ждет, если вернутся войска герцога Филиппа. Жители Компьеня бургундцев изгнали сами — они не питали иллюзий, и все побуждало их принять сторону Жанны.
20 мая 1430 г. бургундская армия осадила Компьень. Гарнизоном командовал Гильом де Флави. 23 мая, несмотря на блокаду, к гарнизону присоединилась Жанна д'Арк. Флави был храбрым, хорошим капитаном, но ему не нравилось, что его могут счесть неспособным руководить обороной города самостоятельно, и он был связан с ла Тремуем. Очень похоже, что Жанна несколько стесняла его действия.
Времени терять было нельзя, а Дева привыкла атаковать, а не разглагольствовать. К Суассону несколько дней назад она подъехала как раз тогда, когда капитан только что открыл ворота бургундцам. В Компьене она решила немедленно провести контратаку. К шести вечера того же 23 мая гарнизон совершил вылазку.
Какое-то время бургундцы отступали. Они ждали подкрепления, о чем Жанна не знала. Она позволила своим силам удалиться от города: во время вылазки осаждающих оттеснили, и никто не подумал охранять пути отхода. Внезапно на Жанну и ее людей напали с тыла. Началось беспорядочное бегство. Жанна, пытаясь не допустить распространения паники, бросилась в арьергард своего бегущего отряда. Вскоре она вместе с четырьмя-пятью спутниками была окружена массой бургундцев. К ней проскользнул пикардийский лучник, дернул за седло, и всадница упала. Жанну схватили. Пьер д'Арк, ее брат, и верный Жан д'Олон попали в плен вместе с ней.
Флави не принял никакого участия в деле. Он не сделал ничего, чтобы освободить девушку, которая взялась за мужское ремесло.
Лучник принадлежал к отряду Вандоннского бастарда, а тот служил Жану де Люксембургу. Несмотря на громкое имя, последний был небогатым сеньором и не мог сам вести переговоры о такой добыче. Он поспешил продать свое достояние более сильному. Кстати, обычай признавал за сувереном право первым купить любого ценного пленника — стоящего десять тысяч франков или больше, — и в первые же часы после пленения прибыл епископ Пьер Кошон с предложениями от имени регента Бедфорда. Жан де Люксембург продержал у себя Жанну несколько дней, потом счел, что она ему в тягость: разве она не пыталась бежать из замка Боревуар-ан-Камбрези? Веревка лопнула, и Деву, раненую и без сознания, нашли во рву. Если бы она умерла, за нее бы не дали ничего. Люксембург решил, что со сделкой надо поторопиться.
Проданная за десять тысяч турских ливров, Жанна оказалась пленницей англичан. Карл VII даже не попытался начать переговоры. Правда, военное право предоставляло победителю возможность предложить выбор между пленом и выкупом. Англичане, равно как и Жан де Люксембург, ничуть не были обязаны предоставлять Жанне шанс быть выкупленной. Но очень похоже, что по-настоящему никто и не пытался выкупить Деву, пока было еще не поздно — пока она была военнопленной, солдатом, которого победили, но которого можно было в установленном порядке выкупить или обменять. Англичане постараются перевести ее в другую категорию — обвиняемых.
Кроме нескольких верных сторонников, после пленения Жанны д'Арк все вздохнули с облегчением. Тем же вечером Филипп Добрый отправил первых гонцов, чтобы донести весть до подвластных ему добрых городов. Для англичан и бургундцев это было не только победой и исчезновением угрозы, это было опровержением божественной миссии Жанны. Бог с ней не был. Если бы Он был с ней, оказалось бы, что они против Бога. Солдаты с радостью узнали, что в дни сражений больше не встретят ее на своем пути. Политики — прежде всего клирики и доктора университета — больше не должны были считаться с ней, когда их вдруг охватывали угрызения совести. Филипп Добрый хотел увидеть ее собственными глазами, в заточении.
Для Карла VII и его окружения облегчение было не меньшим. Падение Жанны было концом царствования крайних радикалов. Теперь можно было попробовать заключить прочный мир. Конечно, Орлеан, Пате и Реймс еще не забыли. Но после первых побед Жанна добилась не большего, чем другие. Умеренные, наблюдая за политикой Девы, отчетливо сознавали, что ее политика чревата не чем иным, как перманентной войной.
У архиепископа Реймсского Реньо Шартрского в прошлом году идея идти в коронационный город вызвала мало энтузиазма. Он счел нужным поставить окончательную точку в легенде о Жанне, предложив прихожанам свою версию событий:
Она не желала доверять Совету, а делала все своевольно.
В ее несчастье виновата только она сама. Доля истины в этой точке зрения была. Но прежде всего в ней точно отражались придворные толки. Кстати, уже нашли кое-кого получше — пастуха из Жеводана по имени Гильом, который делал предсказания и возглавил отряд. Англичане схватили его и утопили в Сене без суда, сочтя последнее излишней честью. Архиепископ-канцлер придал этому большое значение:
Он говорил не более и не менее того, что сделала Жанна Дева.
Очевидно, архиепископ совсем забыл об освобождении Орлеана и коронации французского короля. Был ли Реньо Шартрский изменником? Конечно, нет. Это был ограниченный клирик, считавший себя искушенным политиком.
Вспомнил ли как-либо Карл VII о той, которой он был обязан именем «настоящего короля»? Утверждения венецианца, через несколько месяцев рассказывавшего о гневе короля и его желании отомстить, не находят никаких подтверждений. Жанна осталась в прошлом. Жанна была забыта. Карл VII привык, что его фавориты сменяют один другого. Помнил ли он еще, чем обязан Ришмону? О Жанне больше не говорили — ни король, ни другие. Он не скажет о ней ни слова даже через четверть века, в период реабилитации.
Тем не менее исчезновение Жанны д'Арк не вызвало резкого изменения политической и военной ситуации. Могущество ланкастерской державы на местах продолжало рушиться под ударами сторонников Карла VII, часто неорганизованных, которым все больше помогало население. Мен отныне был свободен от англичан, отступивших в Нормандию и в Шампань. В Париже, в Руане, в Кане, в Шербуре множились заговоры.
Нормандия роптала. От Штатов, созванных в Руане в августе 1430 г., Бедфорд потребовал исключительного эда в размере 120 тысяч турских ливров. Эту сумму предполагалось использовать так:
Десять тысяч турских ливров на оплату покупки Жанны Девы, о которой говорят, что она ведьма, — военной особы, водившей войска дофина,
десять тысяч турских ливров на осаду Лувье либо на осаду Бонмулена, если Лувье удастся освободить без осады,
и оставшееся на выплату жалованья капитанам и наемникам означенного герцогства Нормандского и завоеванных стран.
Податные обычно расплачивались за поражения — платили выкуп за побежденного короля, за захваченный город или за город, для которого возникла угроза захвата. Им не понравилось, что от них требуют платить за побежденную неприятельницу. Люди, которых меньше всего можно было заподозрить в сочувствии к Карлу VII, нашли, что в совете Бедфорда над ними издеваются.
Филипп Добрый извлекал из союза с Англией меньше преимуществ, чем англичане из союза с бургундцами. Зато он очень хорошо видел, что принес ему переход на сторону англичан, — восстание в Касселе, мятеж князя-епископа Льежского Иоанна Гейнсберга и враждебность со стороны герцога Фридриха Австрийского, будущего императора Фридриха III. Франко-австрийский договор от 22 июля 1430 г. не имел иной цели, кроме как пресечь возможность нападения бургундцев на обе договаривающиеся стороны. И в льежском движении — уже — замечали руку французского короля. Попытка бургундцев принца Оранского захватить Дофине в июне 1430 г. закончилась полным крахом при Антоне, где губернатор Рауль де Гокур — бывший защитник Орлеана — и рутьер Родриго де Вильяндрандо зажали их на лесной дороге, как в садке для птиц, и нанесли такое поражение, что рутьеры Вильяндрандо четыре года могли позволить себе роскошь безнаказанно грабить Шароле и Маконне.
Бедфорд наконец пришел к мысли, до которой ему лучше было бы додуматься четырьмя годами раньше, — миропомазать Генриха VI в короли Франции. В прошлом году молодой король принял корону Эдуарда Исповедника; ему недоставало короны Людовика Святого. Нужно еще было организовать настоящую экспедицию и, главное, признать непоправимое: дорога в Реймс закрыта. Парижские эшевены сообщили в Лондон, что в Париже порядок гарантируется. Королевский совет переоценил политический эффект миропомазания, в отношении которого, впрочем, было очевидно, что его воспримут как неполноценное: вне города святого Ремигия, без скляницы со святым миром, — короче, как миропомазание, какого не пожелал Карл VII. Валуа в свое время предпочел выжидать, чем согласиться на плохое миропомазание. Ланкастер выждал, и миропомазание его было плохим.
На самом деле англичане стремились лишь к одному: добиться, чтобы церковь дезавуировала Жанну д'Арк, и умертвить последнюю. Это было единственным средством пресечь злые чары той, которая могла быть только ведьмой, поскольку было нежелательно, чтобы она оказалась посланницей Бога. Поражения продолжались. Это значило, что Жанна по-прежнему наводит порчу из заключения, как раньше на полях сражений. То есть речь шла не о мести, а о самозащите. Колдовство Жанны было единственным оправданием поражений, и мы впали бы в серьезный анахронизм, если бы сочли логику подобного типа у средневековых людей сомнительной. Так говорил сам Бедфорд: с тех пор как появилась Жанна, все разладилось. Закованные в железо люди регента боялись ведьмы, даже когда она уже была в их власти.
Недостаточно было ее убить. Еще было нужно, чтобы она оказалась неправа. Поэтому было желательно провести церковный процесс, и обвинение было уже готово: ересь, колдовство, безнравственность. Это было менее рискованно, чем осуществлять мирской суд, который мог бы не признать единственного преступления, которое привело бы Жанну на плаху, — измены. Сослаться на ересь было проще. Что касается нравов Жанны, то надо признать, что они плохо соответствовали, судя по всему ее поведению, канонам того времени.
Пьер Кошон
А ведь университет решил опередить события. Магистры были хранителями ортодоксальной веры. Они были в состоянии судить о позиции Жанны и передать обвиняемую суду инквизиции. 26 мая 1430 г., через три дня после пленения Девы, они заклеймили ее такими словами: «вызывает сильнейшие подозрения во многих преступлениях, попахивающих ересью», 21 ноября они в письме Бедфорду выразили удивление «столь затянувшимся ожиданием».
Многое стало результатом случайного стечения обстоятельств. Поскольку Жанну захватили в Компьене, в диоцезе Бове, по делам веры она была подсудна епископу Бовезийскому. А Пьер Кошон, уже десять лет занимавший должность епископа Бовезийского, вышел из рядов этих самых магистров Сорбонны — сторонников реформ по своим идеалам и бургундцев из-за своего оппортунизма. Иначе говоря, Кошон как раз подходил для данной ситуации. Добавим, что Бове отныне находилось в руках Карла VII и епископ жил в изгнании в Руане, где кафедральный капитул дал ему все необходимые полномочия для того, чтобы он вершил свой суд.
Бедфорд согласился доверить клирикам суд над Жанной, но о том, чтобы ее уступать, речи не было. Будь она виновна или невиновна, ее следовало вернуть англичанам. Если она виновна, ее казнят. Если невиновна — поищут что-нибудь другое…
Впрочем, регент принял свои меры предосторожности. Университету, который хотел проводить процесс в Париже, он категорически отказал. Город был плохо защищен от путча, вполне возможного, и Бедфорд не имел никаких гарантий, что университет не захочет продемонстрировать независимость. Если все произойдет в Руане, а судьей будет Кошон, правительство могло не волноваться.
Не будем слишком поспешно причислять епископа Бовезийского к черным злодеям нашей истории. Кошон не был ни идиотом, ни негодяем. Несомненно, он слишком дорого, на взгляд истории, заплатил за фамилию, которую легко воспринять как клеймо[99]. Но это был человек предубежденный, рассуждать которому чрезвычайно мешал один теологически безупречный силлогизм. Как образованный человек и магистр богословия он может быть неправ, только впав в грех. Если он обманулся и обманул других, то он мятежник против Бога.
В строгий ряд логических цепочек вписывалась и политическая ангажированность Кошона. Этот шестидесятилетний человек уже пережил немало сражений, не уходя далеко от своей первой функции — преподавателя университета, магистра искусств, лиценциата канонического права, доктора богословия; он прошел все ступени превосходной карьеры, став в конце 1403 г. ректором университета, в 1410 г. видамом Реймса, в 1414 г. участником Констанцского собора, в 1420 г. епископом Бовезийским.
Во времена, когда Парижский университет все новыми трактатами и поучениями форсировал церковную реформу в борьбе с правом папы раздавать церковные бенефиции и со злоупотреблениями сборщиков папских налогов, когда в отказе от повиновения Бенедикту XIII он пытался наконец найти средство покончить с Великой схизмой Запада, один человек выступил покровителем авиньонского папы, защитником его светской власти, критиком его противников. Этим человеком был герцог Людовик Орлеанский. Выход из повиновения папе в июле 1398 г. — когда французская церковь исключила папу из своей структуры — был победой парижских магистров, возврат в повиновение Бенедикту XIII в мае 1403 г. был победой Людовика Орлеанского и его сторонников — в том числе богослова Жерсона — в борьбе с большинством магистров, чьим ректором через пять месяцев станет Кошон.
В Париже тех лет быть противником герцога Орлеанского для всех означало быть сторонником герцога Бургундского. Оба герцога вели борьбу за Совет, за казну, за власть. Филипп Храбрый в Совете боролся против приверженцев Бенедикта XIII. Его сын Иоанн Бесстрашный, неудачливый герой крестового похода в Никополь, принял ту же сторону. После убийства Людовика Орлеанского он найдет себе лучших адвокатов в университете. «Апология тираноубийства», которую произнес перед двором магистр богословия Жан Пти. — образец университетской диалектики.
Провинциальные магистры были очень недовольны политической гегемонией парижан. В возврате к повиновению папе определяющую роль сыграли магистры Орлеана и прежде всего Тулузы. Кошон, как и многие другие, рассуждали и выбирали собственную позицию только исходя из отношения к великому кризису христианства, политическому кризису Французского королевства и извечному соперничеству университетов. В сложной реальности такой принцип выглядел одним из самых простых. При таком простом подходе Кошон опять-таки оказался на стороне бургундцев.
Если Иоанн Бесстрашный требовал глубокого реформирования административной системы, поскольку боролся с расточительством Изабеллы Баварской и Людовика Орлеанского, это было тем более на руку магистрам, планирующим будущую реформу церкви. Как было не встать на сторону политических реформаторов, когда в Париже мечтали реформировать институт церкви, а в Констанце сумели это сделать? Как простым клирикам было не поверить, что все дозволено, когда, порассуждав об объединении христиан, в Констанце его реализовали третейским решением отцов собора и несмотря на существование трех пап?
Конечно, реформизм скоро обернулся демагогией, надежды интеллектуалов рухнули в атмосфере бесчинств, которые творили «живодеры» из парижских мясных лавок, а союз с англичанами скомпрометировал чистоту политической линии. Но было поздно — окончательный выбор был сделан. В феврале 1409 г. Пьер Кошон вошел в состав Совета герцога Бургундского. В феврале 1413 г. его включили в комиссию, которой Штаты поручили подготовить реформаторский ордонанс. Мы встретим его и в Королевском совете Бедфорда.
Арманьякский террор — от которого Кошон едва спасся, прежде чем добраться до Констанца, — и убийство их покровителя Иоанна Бесстрашного в сентябре 1419 г. только укрепили магистров, юристов и богословов бургундской партии в глубокой ненависти ко всему, что выступало от имени дофина Карла. С точки зрения Сорбонны или епископского престола в Бове политические перемены в Буржском королевстве — власть Иоланды, Ришмона, ла Тремуя — были лишь рябью на воде. Всему этому буржскому или шпионскому миру было одно название: предатели арманьяки.
Поэтому для такого человека, как Кошон, Жанна не могла быть посланницей Бога. Разве Бог изгнал бы его, епископа, из собственного собора? Если миссия Жанны имела божественную природу, значит, Кошон тридцать лет своей жизни служил злу.
В его политическом выборе никогда не было ничего низкого, и в основе его верности бургундцам лежала не личная выгода. В процессе Жанны Кошон увидел возможность найти свое место в борьбе с теми силами, которые он считал исчадием ада. Он поведет дело со страстью, от которой его ум будет мутиться, с преданностью, походящей на сервильность, с ненавистью, ослепляющей его.
Попав под власть силлогизма своей жизни, он не желал видеть истину, потому что она означала бы для него приговор — в той мере, в какой Кошон не выходил за рамки ментальных категорий всей своей жизни. Будь война иной, он, несомненно, увидел бы в Жанне побежденную противницу. После стольких братоубийственных раздоров война уже не подчинялась военным законам. Для богослова Кошона Жанна была Злом. И потом, чем для епископа могла быть христианка, которая поучает клириков и для чьей веры больше подходит прямой диалог со святыми, чем обязательное посредничество церкви?
Чтобы искоренить Зло, хороши все средства, в том числе и самые худшие, или, во всяком случае, худшие на наш взгляд. Ведь обсуждать судебную процедуру бессмысленно. Это была процедура того времени, которую, лучше или хуже, вершили пристрастные судьи. Жанна умерла за то, что повторно впала в ересь, — как в свое время тамплиеры. Как и многие другие. И о жестокости казни рассуждать было бы бесполезно. В мирное время на глазах парижан вешали или обезглавливали, жгли или топили в воде, колесовали заживо или волочили за лошадью в среднем пятьдесят осужденных за год, многие из которых могли упрекнуть себя только в мелкой краже. За кражу бочки в монастырском погребе одну женщину живьем зарыли в землю. Другую возвели на костер за сводничество. Обезглавив человека топором, его без колебаний вешали за подмышки, а когда воры снимали повешенного, чтобы забрать его штаны, его вешали опять для пущего назидания.
Человек средневековья хорошо знал, что за одержимость ответствен только дьявол. Но он считал нормальным сожжение ведьмы. Виновный — не значит ответственный. Судья и моралист — это в XV в. были два разных ремесла.
Кошон сделался слугой англичан, потому что без них не восторжествовало бы дело герцога Бургундского. Для епископа союз с англичанами был гарантией от победы сторонников Бернара д'Арманьяка и Танги дю Шателя. Этот союз охранял также от недобросовестных чиновников, которых некогда разоблачили Генеральные штаты, и от христиан, слишком легко приспособившихся к расколу. Уж лучше попрать кое-какие правовые нормы, позволив английскому капитану Руана графу Уорику держать Жанну в кандалах в своей тюрьме, хотя она должна была бы находиться в тюрьме архиепископа Руанского. Лучше начать судебную процедуру, не дожидаясь инквизиции, иначе говоря, папского суда. Лучше сыграть на наивности Жанны и поймать ее в ловушку, которую, возможно, подстроили с мужской одеждой, и пересмотреть судебное постановление, потому что приговор не понравился английским властям… Все это лучше того, что олицетворяют Карл VII и его люди. Кошон выглядит недостойным слугой, так как считает, что служит людям, защищающим правое дело.
Жанна и этот суровый клирик совершенно не понимали друг друга. Прежде всего потому, что на той стороне, которую приняла Жанна, ее считали тем, кем она никогда не была, — арманьяком. Далее, потому что Кошон, человек неглупый, тем не менее совершенно не понимал психологии девушек — простой девушки, которой не хватало образованности, но хватало здравого смысла. Между схоластикой, основанной все-таки на логических рассуждениях, и грубым здравым смыслом, в основе которого лежат интеллектуальные параллелизмы и логические короткие замыкания, диалог невозможен.
Наконец, надо ясно сказать, что Жанна, уверенная в своем призвании, была столь же бескомпромиссна в своих убеждениях, как Кошон и его заседатели — в своих. В политической и религиозной вере Жанны не было места никаким нюансам, никаким уступкам. «Все, кто воюет со святым Французским королевством, — писала она герцогу Бургундскому после освобождения Орлеана, — воюет с царем Иисусом, царем Небес и всего мира». Как она оттолкнула от себя многих придворных Карла отказом от всякого соглашения с Бургундией — герцог Филипп должен был только покориться, — так она оскорбит в Руане самых благожелательных людей отказом признать даже добросовестность Ланкастера. Один из советников Кошона скажет ему в частной беседе:
Они ее поймают, если смогут, на ее словах, то есть на утверждениях, когда она говорит «Я точно знаю…» относительно видений. Но если бы она говорила «Мне кажется…», то, по моему мнению, никто бы не смог ее осудить.
Кошон укомплектовал свой суд, назначив полсотни заседателей — английских капелланов Генриха VI, нормандских каноников, адвокатов церковного суда, монахов-бенедиктинцев, францисканцев, кармелитов, доминиканцев. Там заседало также несколько епископов и несколько аббатов. Среди них можно отметить епископа Лизье — Дзанона де Кастильоне, миланца, недавно приехавшего во Францию вслед за своим дядей-кардиналом. Дзанон был хорошо известен в кругах парижских гуманистов. Естественно, Кошон не забыл товарищей по занятиям, бывших коллег из университета. Нескольких из них он нашел на месте. Других пригласил, и из Парижа приехала настоящая делегация от университета, чтобы участвовать в суде над Жанной, который магистры с удовольствием провели бы собственными силами. Так, здесь заседал ректор Тома де Курсель, один из великих богословов своего времени, который станет одним из главных действующих лиц будущего Базельского собора.
Процесс
Первое заседание суда открылось 9 января 1431 г. В качестве обвинителя Жанны выбрали прокурора церковного суда Бове, Жана д'Эстиве. Выбор был естественным. Позже, когда пришло время публичных слушаний, Кошон пригласил представителя папской инквизиции в Руане, доминиканца Жана Леметра. Тот был не очень доволен, что его имя свяжут с подобным делом. Он не ответил на приглашение. Суд Кошона заседал на «заимствованной территории». Инквизитор Руана Леметр не имел отношения к Бове. Понадобился официальный приказ инквизитора Франции Жана Граверана, чтобы Леметр согласился с 13 марта заседать рядом с Кошоном. Начал он с организации собственного обвинения. Он также поручил его Жану д'Эстиве. Дело, по видимости, казалось ясным.
Присутствуя в Руане во время процесса, кардинал Бофор внимательно следил за ходом дела, но подчеркнуто держался в стороне. Возможно, излишнее рвение Кошона раздражало двоюродного деда Генриха VI. Это он, в согласии с Уориком, приказал, чтобы заболевшую Жанну д'Арк лечили. Правда, ее хотели осудить, а не просто-напросто уморить. Опять-таки Бофор 24 мая, в момент отречения, попытался навязать самое гуманное в отношении Жанны решение. Другие англичане в течение процесса вели себя сдержанно. Для выполнения задачи хватало и Кошона. Один из заседателей, Никола де Упвиль, ясно скажет об этом через двадцать пять лет:
Епископ затеял процесс по делу веры не ради блага веры или из пылкого стремления совершить правосудие над Жанной, но из ненависти к ней, потому что она держала сторону короля Франции. Он действовал не из страха и не по принуждению, а добровольно.
Следствие заняло больше месяца. Некоторые тщетно указывали, что оно ничего не даст. Разве Жанну уже не допрашивали магистры университета Пуатье, которых руанские судьи могли считать представителями дурной партии, но в богословских и юридических познаниях которых никто не сомневался? Те и другие получили свои ученые степени на склонах горы Святой Женевьевы. Отмечали даже, что Жанну экзаменовал Реньо Шартрский, чье право занимать должность архиепископа Реймсского, а следовательно, архиепископа метрополии епископа Бовезийского, никто не оспаривал…
Следователи опросили свидетелей, знавших Жанну в детстве и во время военной карьеры. Послали в Лотарингию и Шампань, допросили семью и деревню. Задали вопросы бывшим солдатам. К несчастью для обвинения, все дружно свидетельствовали в пользу Девы. Кошон не смутился: он уничтожил рапорт следователей. Исключительный факт — большинство судей даже не знало, что следствие проводилось. Очевидность преступлений Жанны казалась епископу Бовезийскому достаточным основанием для процесса.
Уничтожение материалов следствия было не единственной подлостью: обвинитель Жан д'Эстиве воспользуется элементами этой информации, чтобы дополнить семьдесят статей своего обвинительного акта некоторыми подлинными деталями, отягчавшими положение Жанны, придавая клевете правдоподобный облик.
Наконец в среду 21 февраля обвиняемая предстала перед судом в капелле Руанского королевского замка. Кошон заранее отказал ей в праве выслушать мессу — слишком велики были преступления Жанны, а кроме того, она носила мужскую одежду. Девушку ввели, и допрос начался.
Сразу же наткнулись на главное препятствие: поклявшись, что она будет отвечать на вопросы, касающиеся ее семьи и публичной деятельности, Жанна предупредила, что скорей позволит отрубить себе голову, чем скажет, что открыла Карлу VII от имени Бога.
Последовали и другие инциденты. От Жанны потребовали прочесть «Отче наш», чтобы она доказала его знание; она отказалась, потому что Кошон не захотел выслушать на исповеди ее саму. Поклявшись в среду, что будет говорить правду, она не согласилась повторять свою клятву в четверг:
Я ее уже давала! Вы требуете от меня слишком многого!
Она не скрывала намерения отвечать на некоторые вопросы и уклоняться от других. Так, когда ее спросили, ходила ли она причащаться на другие праздники, кроме Пасхи, она сказала:
Продолжайте!
Гнев судей возрастал. Эта простая и невежественная девушка противилась им, уверенная в себе, как будто спор шел на равных. Они пытались ее запутать, расставляли ей ловушки. Она расстраивала их происки. Зато она охотно провоцировала их, например, когда ее спросили, находилась ли деревня Домреми на стороне бургундцев или арманьяков:
Она ответила, что знала лишь одного бургундца, что очень хотела бы, чтобы ему даже отрубили голову, если будет угодно Богу.
В допросах Жанны Кошона сменил богослов Жан Бопер. Бопер был однокашником Кошона по факультету. Он занимал пост ректора университета в период наиболее сильного бургундского господства, во время движения кабошьенов. После этого он не оставил службу герцогу Бургундскому. Потеряв руку после нападения разбойников, которые, возможно, были арманьяками, Жан Бопер испыгывал к Жанне такую же враждебность, как и его друг Кошон.
Публичное слушание было внезапно объявлено закрытым 3 марта, когда перешли к допросам Жанны о поездке в Реймс. Накануне епископ Бовезийский собрал судей у себя в доме, велел перечитать протоколы и, сославшись на свои обязательства, поручил продолжать допрос без посторонних глаз юристу Жану де Лафонтену. Допрос происходил в тюрьме. Никто не заговаривал о вызове какого бы то ни было свидетеля. Лафонтен трудился две недели, менее пристрастно, чем Кошон. Епископ заметил это и обвинил своего заместителя в помощи обвиняемой.
Зато она стала жертвой довольно подлой махинации: к ней подослали каноника Никола Луазелёра, который не постеснялся при этом выдать себя за лотарингского священника. Ему удалось несколько раз исповедовать пленницу, и с тайной исповеди он не посчитался. Этот отвратительный тип умолчал в общении с Жанной, что заседает среди судей.
Последний допрос состоялся 17 марта. Речь зашла о бегстве из Боревуара, которое судьи произвольно истолковали как попытку самоубийства. Им удалось только убедить Жанну, что в данном случае она ослушалась своих голосов. Для суда, отрицавшего существование голосов, это был неудачный ход. Выпутываясь из положения, судьи задали последний вопрос, чтобы обличить в гордыне обвиняемую, самоуверенность которой выводила их из себя: почему она принесла на миропомазание свое знамя, а не знамя других капитанов? Жанна парировала:
Оно хорошо потрудилось и справедливо, чтобы оно было в чести.
Кошон собрал заседателей и велел перечесть протоколы. И Жан д'Эстиве взялся за работу. 27 марта перед судом, собравшимся в полном составе в большом зале замка, и в присутствии Жанны обвинитель заявил, что готов вынести обвинение. Жанна должна была ответить «да» или «нет» на семьдесят утверждений, в которых кратко подытоживалась ее жизнь, ее действия и ее вера. Эстиве хотел, чтобы она обязалась это сделать заранее и клятвенно. Некоторые судьи выразили здравое мнение, что сначала следует зачитать статьи. Было даже замечено, что обвиняемая не обязана отвечать на вопросы, связь которых с процессом не является явной: важная оговорка, поскольку Жанна отказывалась обсуждать перед судом откровения, сделанные Карлу VII. Большинство выказало умеренность: было решено, что Эстиве прочтет обвинения, а трибунал оценит, в каких случаях Жанна откажется отвечать или попросит дать время подумать.
Жан д'Эстиве дал клятву: он будет говорить без лести, без злобы, без страха и без ненависти. Суд потребовал от него переводить каждую статью на французский после зачтения ее на латыни. Кошон обратился к Жанне и, поскольку она совсем не знала законов, предложил ей выбрать советчиков. В противном случае их предоставит суд. Жанна ответила: для советов ей достаточно Бога. Этот ответ задел даже наименее предубежденных.
Чтобы рассмотреть семьдесят статей, понадобилось два дня. Потом были каникулы — страстной четверг, далее страстная пятница. Суд собрался в субботу, чтобы выслушать ответы на вопросы, в отношении которых Жанна попросила отсрочки для обдумывания.
В чистый понедельник, 2 апреля, Кошон велел свести обвинение к двенадцати основным утверждениям. Оформить их было поручено богослову Никола Миди. Потом с них сделали копии, спешно разослав их разным экспертам, в большинстве юристам и богословам. Бопер, Миди и Жак Туренский — который редактировал утверждения — сами поехали в Париж, чтобы разъяснить дело своим коллегам и получить консультации у обоих факультетов, канонического права и богословия. В свою очередь на совещание собрался кафедральный капитул Руана.
Однако Кошон, не желая больше ждать, собрал в Руане группу из двадцати двух богословов, выбранных из числа заседателей. Они высказали первое мнение относительно статей, которое было передано консультантам. Экспертов попросили высказаться, но от них требовали экспертизы. Большинство из тех, к кому обратились, заволновалось и решило, что для такой предварительной консультации удобней собраться всем. Так поступил руанский капитул.
В чем же обвиняли Жанну? Оставим в стороне семьдесят статей д'Эстиве, бессвязный перечень искаженных слухов, беспочвенных россказней и поверхностных суждений, где проглядывали обрывки результатов предварительного расследования, основную часть которых Кошон скрыл, и даже урезанные выдержки из протоколов допросов. На добрую часть этого Жанна ответила во время слушаний 27 и 28 марта. Двенадцать утверждений Никола Миди, напротив, давали возможность прояснить существо дела.
В первую очередь судьи прицепились к «голосам» Жанны. Большинство судей видело в этом доказательство одержимости бесом: голоса были реальными, но исходили они из ада. Некоторые судьи высказали мнение, что Жанна просто-напросто не в себе. Ее пытались поймать на описании святого Михаила, святого Гавриила, святой Екатерины и святой Маргариты, мест и моментов их явления, на том, что они продолжают являться и во время процесса. В действительности судьи, привыкшие для объяснения мира ссылаться на сверхъестественные силы, очень мало сомневались в видениях Жанны; значит, их верность бургундскому делу могла согласоваться лишь с одним объяснением — кознями лукавого. Тем самым ведовство становилось делом доказанным. Сам Жерсон, решительный противник бургундского фанатизма, как-то написал в одном трактате: доказательство божественного характера видения — правота его объектов. Это в принципе применение евангельской заповеди: суди дерево по плодам его. Для Кошона и его единомышленников уже то, что Жанна находилась на стороне арманьяков, было достаточным доказательством характера дьявольского.
Второе принципиальное обвинение: влияние Жанны на короля Франции. Говорили об откровении, сделанном в Шиноне, о «знаке», поданном дофину. Жанна не намеревалась это отрицать, но больше ничего узнать не удавалось. Тайна Карла VII принадлежала не ей. Шли толки о короне, принесенной ангелом. Через двадцать лет станут думать, что Жанна знала о молитве, которую одним тревожным вечером сотворил дофин, не уверенный в своей легитимности. Может быть, «знаком» Жанны была просто-напросто победа под Орлеаном и дорога к миропомазанию, открытая за несколько дней. Как бы то ни было, судьи остались при своем любопытстве и почти не смогли использовать против Девы то, что она сказала.
Третий пункт, нелепый в наших глазах, скандальный в глазах клириков XV в.: ношение мужской одежды. Было хорошо известно, что Библия запрещает это женщинам в главе 22 Второзакония, и непрерывное чередование длинной и короткой одежды у мужчин в течение средних веков достаточно отражает более или менее строгое толкование Писания в отношении публичной демонстрации принадлежности к своему полу. У женщины XV в. мораль осуждала не мужскую одежду как таковую, а неподобающий вид. Клирики из окружения Карла VII уже ставили этот вопрос по прибытии Жанны: нельзя сказать, чтобы Жанна зря носила штаны при езде верхом. В тюрьме дело было иное: Жанна воспринимала ношение своей мужской одежды как проявление верности своим голосам.
Я не сниму ее без дозволения Бога.
Впрочем, судьи так и понимали вопрос: они не заставляли Жанну носить платье, они ждали, когда она придет к этому сама. Это должно было стать знаком покорности. Платье становилось символом. Отказ надеть женское платье сам по себе становился неподчинением церкви. В этом смысле и надо понимать тот факт, что, когда Жанна просила допустить ее к причастию, от нее в качестве условия для этого требовали вернуться к женской одежде. На этом уровне толкования повторный отказ был воспринят как упорствование в заблуждении.
Наконец, суровым обвинением было следующее: Жанна не подчиняется законам, установленным церковью. Иерархия не любит, когда христианин обеспечивает себе спасение самостоятельно. Спасение — в церкви, в сообществе святых, этой высшей форме солидарности по отношению к Искуплению. Спасение не может быть частным делом, хоть бы и отражением прямого диалога с Богом. Самым тяжелым из преступлений Жанны было не то, что она выигрывала сражения и обеспечила на время успех партии Карла VII. В этом никто не посмел ее открыто упрекнуть: это значило бы отнестись к ней как к побежденному солдату, а значит, отказаться от всех юридических оснований процесса. Непростительное преступление, в котором ее решились обвинить, — религиозное неповиновение. К этому все сходилось и из этого все вытекало. Пусть кредо Жанны вполне соответствовало кредо церкви, но поведение ей диктовали ее голоса согласно толкованию ее совести.
Девушка знала: если она подчинится церкви, последняя для нее будет иметь лицо Кошона, а Кошон выступает против миссии, указанной ей святыми голосами. В этом состояла дилемма: Жанна не могла покориться настоящему, не отрекаясь от прошлого. В своем ответе Жану д'Эстиве от 27 марта она пытается разделить — но тщетно — сферу веры и сферу политического действия.
Она ответила: она вполне верит, что наш святой отец, римский папа, и епископы, и прочие люди церкви существуют затем, чтобы хранить христианскую веру и карать тех, кто от нее отступает. Но что касается ее самой, по своим деяниям она подчинится лишь церкви небесной, то есть Богу, Деве Марии и святым мужам и женам Рая.
Ересиархов сжигали и за менее дерзкие речи. Правда, без юридического совета и без иных догматов, кроме «Отче наш» и «Верую», не имея ни малейшего представления о теологических основах церкви как института, Жанна была неспособна провести различие между церковью и теми несколькими клириками, которые были ее судьями. Впрочем, смешения непререкаемого авторитета церкви с данным судом добивался прежде всего Кошон. До предпоследнего момента Жанна неуклюже пыталась сохранить верность Богу во всем: в одной сфере — церковной иерархии, в другой — своим голосам.
Кто-нибудь может предположить, что, не желая подчиняться суду, она могла бы изъявить покорность собору, заседавшему в Базеле. Кошон постарался не услышать ее робкого согласия. Бывший сторонник выхода из повиновения папе, бывший ректор университета, боровшегося против папства и за «вольности», бывший поборник такой французской церкви, которая бы не имела иной власти, кроме власти епископов и докторов, теперь этот человек, с посохом в руке, не поступится своей властью епископа и доктора.
Более, чем на подчинение, судьи надеялись на признание. На общественное мнение — даже за пределами Франции — признание в самозванстве произвело бы большее впечатление, чем смертный приговор нераскаявшейся обвиняемой. Богослов Жан де Шатийон 2 мая попытался сделать Жанне выговор. Она дала ему привычные ответы, может быть, еще более сухие, чем обычно. Видно, что Жанна устала.
Я жду своего судью. Это Царь небес и земли.
Однако она сделала одну уступку — согласилась надеть женское платье и капюшон, чтобы пойти причаститься, при условии, что после мессы ей вернут ее мужские одежды. Она сказала, что окончательно откажется от них, когда завершит свою миссию. Ее отправили обратно в камеру.
Кошон и его советники решили сломить ее сопротивление угрозами. 9 мая ее привели в толстую башню замка. Ей показали цепи и колеса, готовые к делу. Ей сказали, что ее будут пытать. Девушка сделала гениальный ход: она заранее отреклась от всех признаний, которые может дать «в мучениях».
Даже если вы вывернете мне члены и изгоните душу из тела, я не скажу вам ничего иного. А если бы я сказала вам что-то иное, я потом сказала бы, что вы принудили к этому меня силой.
Это был хороший ответ. На следующее утро Кошон собрал своих заседателей у себя дома, чтобы задать вопрос: что делать? Богословы Тома де Курсель и Никола Луазелёр и адвокат Обер Марсель были за пытку: тогда можно будет узнать, лжет ли она. По их мнению, «мучения» всегда были одной из форм «суда Божьего», так же как раскаленное железо и судебный поединок. Девять других заседателей, присутствовавших у Кошона, высказали мнение, что в этом нет никакой необходимости. «Пока что», — уточнили некоторые. Гильом Эрар счел пытку ненужной: «И так материала вполне достаточно». Рауль Руссель выдвинул решающий довод: дело идет хорошо и без пытки, она скорей повредит.
Процесс, организованный столь хорошо, как этот, может стать жертвой клеветы.
Инквизитор Леметр говорил последним; он высказался за еще одно увещевание. Кошон согласился: Жанну не будут пытать.
Тогда-то и пришел ответ парижских магистров на запрос о двенадцати статьях от 2 апреля. Для факультета богословия Жанна была идолопоклонницей, ведьмой, раскольницей и отступницей. Для специалистов по каноническому праву — лгуньей, ворожеей и «весьма» подозрительной в ереси. «Весьма» — это была высшая степень. На общем собрании 14 мая университет утвердил выводы обоих факультетов.
Путь к костру
19 мая Кошон собрал своих заседателей вместе со всеми докторами и магистрами, присутствующими в городе, и сообщил им то, что выглядело приговором Парижского университета. Все его одобрили. Многие добавили, что доверяют «судьям», иначе говоря, епископу Кошону и инквизитору Леметру.
Жанну предупредили 23 мая. Процесс заканчивался, и у любого, кто знал цену ереси, приговор никаких сомнений не вызывал. Жанна ответила несколькими словами: даже когда она увидит палача, готового разжечь костер, она не скажет ничего другого, кроме того, что говорила.
На следующий день на кладбище Сент-Уэн собралась толпа, чтобы выслушать решение суда. Это место выбрали не из пристрастия к мрачному колориту, а потому, что там была обширная площадь. Тем не менее этот выбор определил всю мизансцену. Там присутствовали судьи, заседатели, но также руанские бюргеры и простонародье, давно не имевшие сведений о деле; эти честные люди стремились увидеть, хоть разок, ту самую Деву, о которой шли такие толки.
Ночью в тюрьму пришли Жан Бопер и еще несколько человек: если Жанна покорится, если она признает свои провинности, то спасет себе жизнь. С нее снимут кандалы. Она сможет прослушать мессу. Кто-то пошел и дальше, забыв о решении Бедфорда, который явно не отказался от мысли отобрать Жанну, если она избежит смертной казни: ее обещали перевести в церковную тюрьму. Жанна очень страдала от неизбежной близости стражников-англичан, по меньшей мере грубых солдат. Она не могла не прислушаться к таким обещаниям.
Председательствовал Генри Бофор. Присутствие кардинала Англии, как его называли, добавляло зрелищу торжественности. На помосте, воздвигнутом на кладбище Сент-Уэн, Кошона окружали три епископа, восемь аббатов, одиннадцать докторов. Гильом Эрар произнес проповедь, потом в последний раз обратился с увещеванием к Деве. Та ответила, что полагается на Бога и папу. Пусть материалы процесса отправят в Рим, и папа вынесет суждение.
Даже если бы не готовился собор — он откроется в Базеле 23 июля 1431 г., — Кошон и инквизитор не могли ей внять. Для чего же судьи в диоцезах, если все должно подниматься до престола преемника Петра? Впрочем, папа был далеко. Суд сделал вид, что требование Жанны обратиться к папе сделано не в правильной и должной форме. Позже отметили, что в момент этого заявления Жанна еще не была осуждена и, следовательно, не признана еретичкой; по закону обращение можно было принять. Но у инквизиции не было иного смысла существования, кроме как вершить суд на месте и в последней инстанции. Правда, Жанна напрасно отказалась от адвоката — для совета ей было достаточно Бога — и поэтому не знала юридических норм, принятых при обращении к папе.
Уже все думали о другом — о костре, неизбежном, если обвиняемая будет упорствовать и не покорится. Вопрос об этом был ей задан трижды. Впустую.
Кошон начал читать приговор. Возможно, Жанна надеялась на божественное вмешательство, которого не произошло. Возможно, она просто вспомнила, что она двадцатилетняя девушка и что ее сожгут заживо. Кошон заканчивал чтение, когда она перебила его. Она изъявляла покорность.
Епископ такого уже не ждал. Он озадаченно обернулся к кардиналу Бофору. Что делать? Бофор объявил, что следует принять отречение Жанны и назначить ей покаяние. Спешно составили краткую формулу отречения. Ее зачитали Жанне, которая громко повторяла ее слова. «Если так угодно нашему Господу», — уточнила она, подписывая импровизированный документ, — возможно, просто поставив крестик. С этого момента бедная девушка уже не понимала, где Добро и где Зло.
Суматоха на помосте дошла до своего предела. На Жанну напал нервный смех. Один английский священник заметил, что она насмехается надо всеми, и резко упрекнул Кошона, что тот позволил себя одурачить. Кардинал велел своему соотечественнику замолчать.
Епископ Бовезийский взял себя в руки. Все-таки накануне на всякий случай подготовили два приговора. Надо было перейти ко второму, избавлявшему Жанну от смертной казни. В качестве покаяния девушку приговаривали к пожизненному заключению на хлебе и воде. Смертный приговор был уже невозможен. Инквизитор Жан Леметр с этим вполне согласился: Бог желает спасения раскаявшегося грешника, а не смерти. Кстати, Леметр увидел первое проявление раскаяния Жанны: во второй половине дня она надела женское платье.
Англичане задохнулись от ярости. Ведьма их одурачила. На что же тогда были нужны эти судьи, добившиеся ее раскаяния, вместо того чтобы просто-напросто констатировать ее преступления? Если она останется жива, она по-прежнему будет наводить порчу. Когда Жан Бопер и Никола Миди явились в тюрьму, чтобы призвать Жанну к покаянию, на них свирепо накинулись солдаты. Обоих докторов угрожали бросить в Сену, и они сочли благоразумным обратиться в бегство.
Через три дня стало известно, что Жанна снова надела мужскую одежду. Ее голоса выбранили ее. В Сент-Уэне она проявила слабость. Теперь слабость была преодолена.
Был ли мужской костюм оставлен в камере в качестве ловушки? Или его демонстративно вернули Жанне? Несомненно, английские солдаты не были образцами добродетели, и в нем Жанна чувствовала себе лучше, защищенная от их бестактности. Когда-то Уорик ее спас от изнасилования, но ее не могли ежечасно охранять от обычных грубостей.
Тем не менее это второстепенные аспекты дела. Если Жанна вернулась к своим шоссам и жиппону[100], значит, она хотела выразить сожаление об измене, которой стало ее отречение. На следующий день она скажет: она готова вновь надеть свое платье, сделать все, что от нее захотят, но не отречется от своих голосов. В жизни этой простой девушки были моменты, когда все связывалось в логическую цепочку. Чтобы спасти жизнь, она предала свое призвание. Она погубила себя.
И потом, ужасы сменяли друг друга и контрастировали друг с другом. 24 мая, на помосте кладбища Сент-Уэн, Жанна испытала страх смерти. Возможно, она стала жертвой другого ужаса в одиночестве тюрьмы, которая не была церковной тюрьмой, обещанной некоторыми из судей, и которая, по их словам, должна была стать для нее пожизненной. «Она предпочитает умереть, чем жить в оковах», — записали в протоколах те, кто ее допрашивал на следующий день.
Если ей позволят ходить к мессе и не находиться в оковах и если ей дадут надлежащую тюрьму, она будет хорошей и сделает то, чего захочет церковь.
Она очень скоро поняла, что ей предстоит умереть. 28 мая, во время чисто формального допроса, она резюмировала то, в чем была уверена. 29 мая состоялось краткое судебное заседание с целью объявить, что она упорствует в своей ереси. Она повторно впала в грех. Закон предусматривал лишь одно наказание для впавших в ересь повторно, с которым познакомились катары и тамплиеры, — костер. Присутствовало двадцать семь судей; двадцать шесть подали голос за смерть. Один-единственный — юрист — заявил, что надо обратиться к богословам. Глава когорты тех, кто стоял за передачу заключенной в руки светского правосудия, аббат Фекана Жиль де Дюремор, потребовал, чтобы Жанне сначала объяснили смысл наказания. Тома де Курсель выразил пожелание, чтобы ей еще раз сделали увещевание ради спасения ее души, объяснив, что ей более не на что «надеяться для своего смертного тела».
Прежде чем передать осужденную светскому правосудию, Кошон все-таки разрешил ей исповедаться и причаститься, пусть даже не упомянув о такой непоследовательности в окончательном приговоре. Получив отпущение грехов на исповеди, Жанна должна была умереть без публичного отпущения грехов. В этом отчетливо выразится двойственность позиции судей.
30 мая на площади Старого рынка Жанна умерла, призывая своих святых. Её голоса ее не обманули. Она это сказала в свой последний момент, после последней проповеди Никола Миди.
Через восемь дней люди услышали противоположное. Кошон нашел семь судей, утверждавших, что они были свидетелями второго отречения. Мерзавец Луазелёр посмел добавить: она сожалела о том, что «убила и обратила в бегство» столько англичан. Руанские нотарии были людьми скромными, но достойными. Они отказались подписать этот документ.
Бедфорда такой пустяк не смутил: он написал всем христианским государям и всем прелатам, баронам и добрым городам королевства Франции — или того, чем во Франции правил он, — чтобы известить: Жанна умерла, признав, что ее голоса «обманули и разочаровали» ее. Парижский университет поспешил написать то же папе и в Священную коллегию.
Здесь конец делам. Здесь исход означенной женщины, о чем ныне вам сообщаем.
Английское командование решило провести наступление на Эврё, где укрепился Ла Гир. Теперь, когда ведьма была мертва, ланкастерское завоевание могло возобновиться. Но по-настоящему на этот счет никто не заблуждался. «Мы сожгли святую», — сказал один англичанин, присутствовавший 30 мая 1431 г. на площади Старого рынка. Другой англичанин заметил несколькими днями раньше, во время процесса:
Славная женщина. Почему она не англичанка!
Глава XVII Перелом
Миропомазание в соборе Парижской Богоматери
И вот я посылаю своего ангела…Антифон едва слышался, хотя на синих драпировках были нашиты королевские лилии. Воистину очень странной была эта литургия коронации короля Франции, которую впервые служили в ее столице, в соборе Парижской Богоматери, 16 декабря 1431 г. ради миропомазания короля Англии, неспособного поехать в Реймс. Из прелатов королевства большинство отсутствовало. Миропомазание провел кардинал Англии в окружении епископов Парижа, Бове и Нуайона, а также канцлера Людовика Люксембурга, епископа Теруаннского. Был также один английский епископ, родственник юного короля. Народ отметил, что этого маловато. Не приехал даже архиепископ Сансский, а ведь Париж входил в Сансскую провинцию.
Епископ Парижский Жак дю Шателье откровенно злился: это ему полагалось помазывать короля, а не кардиналу Бофору. Он подзабыл, что без англичан миропомазание происходило бы в Реймсе.
Обещали присутствие легата. Его никто не увидел. Духовенство занималось откровенным саботажем. Каноники собора Богоматери отправили к Бофору депутацию, чтобы выразить протест против расходов, в которые их вгоняет церемония.
Где пэры Франции? Можно было видеть графа Солсбери, графа Уорика и графа Стаффорда. Но даже герцог Бургундский не счел нужным приехать. Для юного Генриха VI скудной компенсацией было то, что, проезжая перед дворцом Сен-Поль, он мог видеть в окне свою бабку Изабеллу Баварскую. Она плакала, и никто не знал, почему.
Зато на пиру было столько народу, что университет и парламент трижды поворачивали обратно, прежде чем им удалось проникнуть в большой зал.
Чернь занимала места с утра, и вовсю крали кошельки, шапки, миски и мясо. Когда парижская «мантия» достигла пиршественного зала, осталось всего несколько мест в конце стола.
Они уселись за столы, кои были предназначены для них, но оказались в обществе холодных сапожников, торговцев горчицей, буфетчиков или подручных каменщиков. Оных попытались заставить встать; но, когда поднимали одного или двух, с другой стороны усаживалось шестеро или семеро.
Уже разъяренные нотабли, которые были душой бургундской партии, вознегодовали еще больше, когда им стали передавать блюда. Англичане подали разогретое жаркое. Этот аспект праздника казался организаторам второстепенным.
Большую часть мяса, рассчитанную на простонародье, сварили в четверг — а было воскресенье, — что показалось французам весьма странным. Ибо хозяйничали англичане, а им мало было дела до чести, которую они получат, лишь бы отделаться.
Никто этому не порадовался. Даже больные из Отель-Дьё говорили, что за всю свою жизнь в Париже не видели столь убогих и столь голых объедков.
Бедфорд и его люди приобрели себе этим еще несколько врагов. Правду сказать, об этом шептались уже тогда, когда выплачивали праздничный налог. Во всяком случае, ему не простили, что он позволил своим людям отнестись во Франции к кулинарии как к неприятной работе, которую надо побыстрей сбыть с рук.
Может быть, горожане нарочно две недели назад, во время торжественного въезда, показали мистерию перед Шатле в момент проезда юного короля, направлявшегося во дворец на острове Сите по улице Сен-Дени и мосту Менял? В этой мистерии изображался ребенок-король, одетый в двойную корону и окруженный всеми принцами крови. Всеми принцами…
Горожане отметили, на сколь малые расходы пошли ради них. Маленький пир, маленькие турниры, маленькие щедроты. Парламент даже по этому случаю не смог добиться выплаты жалованья. Генрих VI не помиловал узников. Он не отменил налогов. В городе не постеснялись заметить, что даже на свадьбах детей горожан бывает веселей.
На дароприношении во время мессы люди короля хотели присвоить кувшин из золоченого серебра, в котором находилось вино. Вмешались каноники и в конечном счете одержали верх, но инцидент оставил неприятный осадок. В народе судачили об этом. Выглядело все это скверно.
Шел дождь, дни были короткие, хворост дорог, и парижане были всем недовольны. Генрих VI уехал после рождественских праздников. У Парижа осталось впечатление, что город сделал для него слишком много.
В это же время Франция узнала, что в Лилле после долгих переговоров делегаты Карла VII и Филиппа Доброго 13 декабря договорились о всеобщем перемирии на шесть лет. Успех для кардинала Альбергати, легата папы Евгения IV, перемирие стало пощечиной для Бедфорда. Легата ждали в Париже, а он был в Лилле. От Филиппа Доброго ожидали, что он нападет на Шампань, которую англичане предлагали ему отвоевать, а он сложил оружие. Английские власти поняли, что в Иль-де-Франсе и в Нормандии теперь они останутся одни. Планировать обширные завоеваний южней Луары уже не приходилось.
Сопротивление
После смерти Жанны д'Арк англичане сочли, что удача к ним вернулась. Эта иллюзия сохранилась ненадолго. Купив капитуляцию Лувье после пяти месяцев неэффективной осады, английские солдаты тотчас нарушили обещания, данные горожанам. Это оставило плохое впечатление в Нормандии и даже в Париже. В Мене, в Западной Нормандии отряды Амбруаза де Лоре, Ришмона, Дюнуа наносили точечные удары, которые почти не продвигали вперед дело Карла VII, но укрепляли у нормандцев представление, что Генрих VI не обеспечивает порядка. В Шампани Барбазану и гарнизону Труа было достаточно подчинить нескольких англичан, не покинувших эту местность в 1429 г. Ла Гир действовал в окрестностях Парижа, нападая на провиантские обозы, сжигая деревни, мешая проводить жатву и сбор винограда.
Родриго де Вильяндрандо нашел себе новые занятия, поступив на службу к Жоржу де ла Тремую. Он повел в Оверни войну против графини Марии, наследницы своей кузины — графини Жанны, покойной жены ла Тремуя. Потом рутьер двинул свои отряды в Анжу, где напал на владения королевы Иоланды.
Феодалы совсем распоясались. На Западе по любому поводу снова и снова вспыхивала война между Ришмоном и ла Тремуем. Герцог Алансонский устроил поход на герцога Бретонского. Сир де Прейи, Пьер Фротье, поколачивал монахов окрестных земель. В Центре не кончалась усобица между знатью Ле-Веле и Жеводана. В Лангедоке по-прежнему враждовали Фуа и Арманьяк.
Бедфорд попытался пресечь анархию, от которой он страдал больше, чем его противник. Амбруаз де Лоре потерпел неудачу под Каном в 1431 г., но Рикарвиль и его люди в феврале 1432 г. захватили Руан и некоторое время удерживали его, прежде чем погибнуть под топором палача. Любителей заговоров весть о Лилльском перемирии могла только воодушевить. Не проходило месяца, чтобы та или иная группа парижан не измышляла способа впустить в столицу тех, кого бывшие сторонники бургундской партии начали называть «французами». В том же 1432 г. заговор возник даже в аббатстве Сент-Анту-ан-де-Шан.
10 августа смелость осажденных горожан вкупе с молниеносной атакой Родриго де Вильяндрандо вынудила англичан снять осаду Ланьи. Рассказывали, что прекращенная осада обошлась в сто пятьдесят тысяч салюдоров. Ответственность за дороговизну жизни возлагали на правительство Бедфорда.
Бедфорд не придумал ничего другого, кроме как укрепить собственные гарнизоны и предложить союз обоим бретонским братьям — герцогу Иоанну V и коннетаблю де Ришмону. Он добился эффекта, обратного тому, на какой надеялся. Ла Тремуй решил, что это серьезная угроза, и заключил мир с Ришмоном. Советники королевы Иоланды догадались, какую опасность для короля представляет столь предприимчивый фаворит. Они подготовили его падение. Королева Мария Анжуйская и ее брат Карл Анжуйский, граф Менский, организовали заговор. В июне 1433 г. ла Тремуй, живший у короля в Шиноне, получил удар кинжалом в постели, а потом полумертвым похищен и заточен в Монтрезор. Его освободили за солидный выкуп только при условии, что отныне он будет держаться в стороне от политики. Карл VII перенес несчастье своего фаворита, как в свое время несчастье Жанны д'Арк, — не сказав ни слова.
Тем не менее события начали оборачиваться в его пользу. Власть теперь принадлежала королеве Иоланде, графу Менскому и прежде всего Ришмону. Английское правительство, напротив, уходило в небытие. Бедфорд старел. Генрих VI уехал к себе. Канцлер Людовик Люксембург был крайне непопулярен. Парижане сделали его козлом отпущения за то, что не удавалось заключить мир.
По секрету, а часто и открыто говорили: только от него зависит, чтобы во Францию вернулся мир. Их так же проклинали, его и его подельников, как некогда императора Нерона.
Регент еще раз попытался взять инициативу в свои руки. Он организовал оборону Нормандии силами самих нормандцев. Арундел и Талбот получили задание отбить крепости, потерянные в парижском регионе.
Поначалу рассчитывали на успех. Нормандские крестьяне согласились охранять порядок и для начала по воскресеньям стали упражняться в стрельбе из лука. Увы, Талбот и Арундел остановились после первой победы, несомненно, в ожидании инструкций, которые не поступили. Что касается энергичных действий нормандских крестьян, их активность обеспокоила гарнизонных воинов. Станут ли продолжать им платить, если вилланы сделаются дармовыми солдатами? Капитаны сговорились бороться с новыми конкурентами. Для большого отряда крестьян была устроена ловушка, и их перебили под Сен-Пьер-сюр-Див, прежде чем они успели как-либо разобраться в тактике. И тогда по всей Нормандии военная подготовка приобрела направленность на восстание. Пусть даже Бедфорд публично казнил в Руане виновников резни — тем же летом 1434 г. нормандцы взялись за оружие против оккупантов. Огромный налог, которого потребовали в сентябре от нормандских Штатов (334 тысячи ливров), убедил самых нерешительных. Выдвинулось несколько вождей, как крестьянин Кантепи или сир де Мервиль. Эта Жакерия нового типа во многих отношениях напоминала Жакерию предшествовавшего века: организация не была сильной стороной этих храбрых людей. Они двинулись осаждать Кан, позволили захватить себя врасплох и были разгромлены англичанами наголову.
Тем же летом люди Талбота отбили Бомон-сюр-Уаз, который плохо защищал Амадо де Виньоль, брат Ла Гира, и после шести недель осады вступили в Крей. Те, кто воодушевлял защитников двух этих крепостей, были повешены. Это обеспечило покорность выживших, но не их переход на сторону противника.
Больше никто не считал Бедфорда и его людей союзниками герцога Бургундского, и об арманьякской тирании стали забывать. Теперь англичан действительно воспринимали как оккупантов. Этому немало способствовало бремя их налогов. Как и бремя их репрессий, потому что народу трудновато было считать «ворами» столько смелых людей — от подмастерья до эшевена, — которых вешали за участие в заговорах. Наконец, этому способствовали их неуклюжие действия, и не самым пустяковым из них были притеснения Парижского университета.
Магистры — как богословы Сорбонны, так и юристы с Кло-Брюно — жили за счет определенной интеллектуальной гегемонии и международной клиентуры; гарантией того и другого была отдаленность конкурентов — Оксфорда, Тулузы, Монпелье, — но тому и другому угрожало затягивание войны. Северная Франция и Бургундское государство — вот на что после 1420 г. распространялось влияние Парижа. Магистры к этому приспособились, потому что не могли отрицать, что приняли некоторое участие в конфликте и несут некоторую ответственность за договор в Труа, но они страдали от этого. Милость регента Бедфорда и угодливость ректоров иногда, на несколько лет, создавали для университета видимость процветания. Когда в июне 1428 г. факультет канонического права принял четырех новых докторов, в том числе двух англичан, на пиру председательствовал Бедфорд. Магистры не упускали ни одного случая поздравить английское правительство и воздать ему хвалу ради своих корреспондентов. Они очень громко провозгласили от имени ученого мира благодарность королю, наконец посетившему свое Французское королевство и позволившему себя помазать. Мнение о Жанне д'Арк, которое они предоставили, показывало их верность. Фактически они не могли бы от него отречься. Пленники своей гордыни и первых обязательств, они были связаны собственной историей.
Из этого понятно их разочарование, когда они узнали, что англо-бургундская власть участвует в деле, ненавистном для обитателей пространства между Сеной и горой Святой Женевьевы, — создании новых университетов. Ни Бедфорд, ни Филипп Добрый не ставили целью подорвать позиции парижан, но отныне для государя считалось честью основать собственный университет, ради авторитета его государства и формирования своих административных кадров. Кстати, тот и другой не совсем доверяли Парижу, где следовавшие друг за другом «арманьякские» заговоры всегда позволяли ждать сюрприза. Было разумным принять меры, чтобы в случае необходимости обойтись без Парижа.
В 1422 г. Филипп Добрый добился от Мартина V разрешения создать университет в Доле. Герцог Иоанн V Брабантский в 1425 г. последовал его примеру в отношении Лувена. Известно, какие виды были у герцога Бургундского на Брабант.
Не захотел отставать и Карл VII, которому незачем было щадить друзей Пьера Кошона и Тома де Курселя. В 1431 г. создали университет в Пуатье: это было полноценное учреждение, с пятью факультетами, которое очень быстро заполнилось выжившими представителями парижской партии «мира», после исхода 1418 г. поселившимися по преимуществу в Пуатье. Двенадцать из четырнадцати экзаменаторов Жанны д'Арк в 1429 г. раньше были парижскими магистрами. Создав в Пуатье университет, Карл VII всего-навсего вернул их на кафедру, но тем самым создал упорных конкурентов Парижу. Еще тяжелей этот удар сделала Иоланда, добившись через несколько месяцев, чтобы университет в Анже, прежде специализировавшийся только на правоведении, в свою очередь мог давать образование в полном диапазоне.
Парижане были задеты за живое. Но Пуатье и Анже находились в стране противника. Это не вызвало удивления. Что касается Доля и Лувена, это были имперские города. Тут протестовать было трудно.
Вдруг те же магистры обнаружили, что одурачены. В январе 1432 г. указом Генриха VI университет создали в Кане, и было признано, что этим преследуются политические цели. Мало того, что Кан забирал у Парижа добрую часть клиентуры, но само рождение Канского университета означало, что власти не верят в будущее ланкастерского Парижа. Восемь лет борьбы и возражений после первых намеков на создание этого университета в 1424 г. не помогли. Парижские магистры писали регенту, папе, Базельскому собору. Они добились, чтобы на Совете в дело вмешался сам Филипп Добрый, подняв, впрочем, вопрос на уровень более общего конфликта интересов. Парижане боялись или делали вид, что боятся:
Рассеяния нашего образования, что приведет к сокращению населения сего доброго города.
Если знаешь, что с 1418 г. население столицы непрестанно уменьшалось из-за изгнаний, гриппа и оспы, если заметишь, что уже в 1425 г. две трети домов на мосту Нотр-Дам — 43 из 65 — стояли пустыми, а за десять лет, с 1422 по 1432 гг., большинство парижских домов потеряло 90 % своих доходов от сдачи жилья, становится понятно, что тревоги магистров были непритворными. Конечно, они были обижены, но они вполне обоснованно боялись краха.
Они в полном составе выразили протест парламенту. Купеческий прево Юг Рапиу поддержал их заявление. Они даже предложили то, что всегда отвергали: расширить у себя юридическое образование, добавив гражданское право, в котором Париж зависел от Орлеана. Все это ничего не дало.
Старинный Парижский университет утрачивал еще толику своего универсализма. Он терял и свой состав. Бургундцы и жители Франш-Конте уже исчезли, но Нормандия давала теперь добрую треть кадров: о последствиях победы Кана можно было догадаться. Впрочем, не стала бы благом она и для всех нормандцев: Руан и Верхняя Нормандия собирались и дальше пополнять ряды «нормандской нации» Парижского университета. Но Бедфорд только что потерял в Париже поддержку единственной корпорации, которая скомпрометировала себя ради него.
Аррасский договор
Для герцога Бургундского выбор был сделан. Он ни в чем не попытался помешать миропомазанию Карла VII и не почтил своим присутствием помазание Генриха VI. Перемирия, заключавшиеся одно за другим уже пять лет, не становились миром, но в конечном счете французы и бургундцы редко сражались друг против друга. И уже на следующий день после реймсской коронации в Аррасе встретились полномочные представители Карла VII и Филиппа Доброго. Весной 1432 г. переговоры возобновились. Они уже не будут прерваны.
Герцог Филипп не забыл ни убийства своего отца, ни собственных обязательств по договору в Труа. Но союз с англичанами отныне оказался ненужным, и теперь Бургундское государство подстерегали другие опасности. Связанный с Карлом VII узами дружбы, император Сигизмунд выражал намерение сдерживать бургундскую экспансию в направлении Рейна. Фландрия была недовольна экономическими последствиями войны, лишавшей Брюгге доброй части его европейского рынка. Коль скоро развитие английской суконной промышленности побуждало континентальных ткачей заменять английскую шерсть на шерсть кастильских мериносов, богатство фламандских городов все меньше зависело от связей с Англией и все больше — от континентальной сети распространения товаров крупной морской торговли. На юге был нужен мир с Францией. На севере — взаимопонимание с императором. А последний был союзником французского короля.
Добавим, что отряды Карла находились теперь на севере Иль-де-Франса, то есть на территориях, соседствующих с бургундскими владениями — Артуа и Пикардией, где царила неуверенность и множились набеги «арманьяков». С этой стороны все мечтали о франко-бургундском мире.
Тем не менее Карл VII не был готов к авантюрам. С тем терпением, в котором достаточно выражалась его привычная нерешительность, но все ясней проявлялась и уверенность, он воссоздавал единство своего королевства. Во Вьенне весной 1434 г. он собрал двор ради политических целей, выходивших за рамки простого утверждения его права на титул дофина Вьеннского. Там среди вельмож вновь появился коннетабль де Ришмон в сопровождении своего протеже Карла Анжуйского. Туда прибыли посланцы Базельского собора, кардинал Луи Алеман — кардинал Арльский, как его называли, — и кардинал Юг де Лузиньян, более известный под именем кардинала Кипрского, потому что он был из рода Лузиньянов, царствовавшего на Кипре с конца XII в. Там король на несколько дней вновь встретил даже человека, который пользовался его доверием в тяжелые дни, бывшего предводителя банды арманьяков времен Монтеро и рождения Буржского королевства — Танги дю Шателя.
О чем говорили во Вьенне? По видимости — о возобновлении враждебных действий против Бургундии. В реальности — о том, насколько они уместны. Вести об этом переговоры еще не следовало. К ним готовились.
То же самое было, когда в Туре 12 августа 1434 г. открылась ассамблея Штатов Лангедойля. Война возобновлялась на всех фронтах. О переговорах, как если бы король был побежден, не было и речи. Привлечь прелатов, баронов и добрые города означало не только получить возможность для финансирования войны. Это означало продемонстрировать единство того, что раньше было Буржским королевством, а теперь, даже если король проживал в Шиноне или в Пуатье, вновь становилось Французским королевством.
Решающие переговоры открылись в Невере в январе 1435 г. Там был Филипп Добрый. Карл VII прислал герцога Бурбонского, архиепископа-канцлера Реньо Шартрского, коннетабля де Ришмона, маршала де Лафайета и нескольких из своих лучших юристов. Герцог Бургундский вновь встретил здесь свою сестру Агнесу, герцогиню Бурбонскую, которую не видел много лет. Такая встреча после разлуки упростила задачу дипломатов. Враги весело пировали, немало пили, поднимали тосты за мир. Наблюдатели отмечали, что весьма безумен тот, кто позволяет убить себя ради этих людей.
Герцог Филипп дал понять, что готов покинуть своего английского союзника, если найдет способ не предавать память Иоанна Бесстрашного. Новую встречу назначили в Аррасе. При расставании у всех было чувство, что мир уже заключен.
Тем не менее Карл VII не выходил из защитной стойки. По возвращении в Шинон Ришмон был назначен «наместником короля [на землях] между Йонной и Сеной». Назначая представителей в Аррас, король в то же время принял предложение Дюнуа: Орлеанский бастард изъявлял готовность взять Сен-Дени. Пока что не Париж…
Эти распоряжения о наступлении были не пустыми словами. В начале мая Сентрай и Ла Гир разбили в области Бове, под Жерберуа, английскую армию графа Арундела. 1 июня Дюнуа вступил в Сен-Дени. Там он стал ждать указаний приступить к окончательному штурму столицы.
Филипп Добрый не остался в долгу. Он прибыл прозондировать почву в Париже и обнаружил, что его популярность не пострадала с тех пор, как его здесь видели в последний раз. Из этой поездки он извлек урок, важный для понимания последующих событий: своим политическим положением во Французском королевстве он ничуть не обязан союзу с англичанами. Но ему кричали «Мир!». Филипп Добрый не жил при кабошьенском терроре; он не мог услышать в этом крике никакого намека на прошлое. Зато он понял, что добьется всего, если благодаря ему закончится война.
Англичане испугались. Сепаратный мир между Францией и Бургундией означал для них гибель. Английские члены Совета уверяли, что готовы к миру, но напоминали о том, что стремятся к общему урегулированию. Бедфорд покинул Париж и уехал в Руан. Герцог Бургундский не смог его увидеть. Он довольствовался отправкой в Англию посольства с поручением указать Генриху VI, что, если действовать силой, этого дела никогда не закончишь. Никакая победа уже более невозможна. Нужно только договариваться.
Англичане относились к нему с подозрением. Не собирается ли герцог изменить своим обязательствам? Его клятва в 1420 г. связывала его с делом Генриха VI. Ему напомнили об этом. Срочно было направлено посольство в Италию, чтобы выяснить, не освободил ли тайно Евгений IV какого-нибудь французского принца от его клятв. Папа успокоил англичан: никто и никогда не обращался к нему с подобной просьбой.
5 августа 1435 г. в Аррасе открылся конгресс для принятия окончательных решений. Его возглавляли кардиналы Святого Креста и Кипрский — Альбергати и Лузиньян, один в качестве папского легата, другой как представитель собора. На самом деле присутствие Юга де Лузиньяна также выражало интерес церкви к заключению мира, которое было первым условием осуществления любого крестового похода. Одно только его имя олицетворяло гибельное положение латинского Востока. Разве его племянник Иоанн III Лузиньян на самом Кипре не находился в плену у турок?
Прислали представителя и отцы Базельского собора — дело приобретало масштабы всего христианского мира. Вскоре в Аррасе появились послы короля Неаполитанского и герцога Бретонского, посланники Карла Орлеанского и Иоанна Алансонского. Своих уполномоченных прислал Парижский университет. То же сделали крупные города Франции.
В течение месяца создавалось впечатление, что идут франко-английские переговоры. Наряду с кардиналом Бофором здесь присутствовали архиепископ Йоркский, граф Саффолк и несколько советников, таких как сенешаль Гиени, епископ Пьер Кошон и доктор богословия Гильом Эрар. Французская делегация была более многочисленной: здесь снова появились Бурбон, Реньо Шартрский, Ришмон, но их окружала толпа политических и юридических советников, таких как первый президент парламента Адам Камбрейский, советник Гильом Шартье и старейшина Парижа Жан Тюдер.
Люди Карла VII соглашались на немаловажные уступки: Ланкастер сохранял Нормандию, кроме Мон-Сен-Мишель, и Гиень, но должен был держать эти провинции в фьеф и принести за них оммаж Валуа. Кардинал Бофор, который, прибыв с опозданием, восстановил против себя легата и вызвал раздражение бургундцев, 23 августа после бесчисленных проволочек дал понять, что едва ли признает за Карлом VII что-либо сверх того, чем тот владеет на данное время, в августе 1435 г. Решалась судьба Парижа. То есть англичане заняли позицию, представлявшую собой точный негатив позиции французов: то, что Карл VII сохранит, он будет держать в фьеф от короля Генриха VI. Иначе говоря, Карл VII переставал быть королем Франции. В лучшем случае он становился первым из баронов ланкастерского королевства.
Военная ситуация уже не позволяла англичанам выдвигать такие требования. Легат счел их неразумными. Ему даже казалось, что Карл VII достаточно делает для мира, предлагая в фьеф треть своего королевства, причем лучшую треть. Злой на Бофора и его людей, легат заявил, что теперь лучше не мечтать о всеобщем мире, но по-прежнему можно заключать частный мир. Таким образом верней можно достичь мира для Христианства.
Никто не поверил в случайное совпадение, когда 25 августа стало известно, что Ла Гир и Сентрай во главе королевской армии только что перешли Сомму и идут на Аррас. Филипп Добрый отправил им навстречу баронов из своего окружения. Бурбон срочно передал им, что они должны отойти назад. Ла Гир и Сентрай повиновались. Внешне все выглядело так, будто король Франции пресек несвоевременную инициативу; все поняли, что это было напоминанием — если когда-то стоял вопрос, перейдут ли англичане Луару, то теперь дорога стала вести в другую сторону.
Бедфорд находился в Руане, прикованный к постели болезнью. Старый кардинал Бофор плохо отдавал себе отчет, чем рискует, блокируя переговоры в момент, когда французы и бургундцы открыто обсуждают нечто, что может превратиться в сделку.
У Филиппа Доброго был великолепный двор, при котором находились его зять герцог Гельдернский и его племянник герцог Клевский, а также несколько десятков сеньоров из Бургундии, Фландрии, Эно и Артуа. 1 сентября он устроил пир в честь кардинала Англии. Под конец он отвел своего гостя в сторону — затем, чтобы оглоушить его выводом из долгих размышлений: из-за своего упрямства англичане сами виновны в разрыве союза, без которого рухнет всё политическое здание, воздвигнутое в Труа в 1420 г. Бофор разъярился. Он и архиепископ Йоркский жестикулировали в течение часа. Кардинал весь взмок. Его тщетно пытались успокоить, предлагая вино с пряностями.
Крики ничего не изменили. Герцог Бургундский не отказался от давно выношенного решения. Ночью в сопровождении только канцлера Бургундии Никола Ролена и двух скромных рыцарей он инкогнито направился к кардиналу-легату. У этой секретности была лишь одна причина: англичане в этой беседе были бы лишними.
6 сентября полномочные английские представители покинули Аррас. Официально они повезли Генриху VI предложения французов. На самом деле их отъезд означал разрыв, и ничто этого не скрывало. Кардиналы Альбергати и Лузиньян составили протокол.
Весть о провале ускорила конец того, чья энергия и ясность ума так долго поддерживали жизнь двойной монархии. 14 сентября Бедфорд умер в своем Руанском замке, где некогда решили судьбу Жанны д'Арк.
Тем временем по ночам герцогу Бургундскому наносил визиты Ришмон, чему способствовало его взаимопонимание с канцлером Роленом. 8 сентября весь конгресс собрался на мессу, которую служили за мир. Через день совет герцога почти единогласно высказался за сепаратный мир с королем Франции. Епископ Оксерский отметил, что произошло чудо: это была годовщина убийства Иоанна Бесстрашного. 11 сентября конгресс вернулся к работе, без англичан: оставалось только оформить договор. В принципе соглашение было достигнуто.
21 сентября 1435 г. в аррасской церкви Сен-Вааст после мессы, отслуженной легатом, проповеди епископа Оксерского и публичного прочтения договора на хоры вышел юрист Жан Тюдер, старик, который служил еще в парламенте Карла VI и которого в качестве докладчика прошений на службе Карла VII можно было видеть на всех переговорах с Бургундией. Уже лет двенадцать Жан Тюдер добивался мира. Он преклонил колени у ног Филиппа Доброго. Слова публичного покаяния, которые он зачитал, были зафиксированы в договоре.
Монсеньор герцог Иоанн Бургундский был незаконно и низко умерщвлен теми, кто совершил преступление под влиянием дурного совета. Эта смерть всегда вызывала скорбь у Короля, и ныне он сожалеет о ней всем сердцем. Он бы воспрепятствовал ей, если бы пребывал в теперешнем возрасте и имел теперешнее разумение, но он был очень юн и имел на то время малые знания, не будучи достаточно прозорливым, чтобы сие предвидеть.
Герцог Бургундский ответил, что он прощает, поднял уполномоченного короля Франции на ноги и обнял его. Потом он поклялся соблюдать мир. Французы согласились на все его требования. Это были почти те же уступки, какие политическое окружение королевы Иоланды предлагало сделать еще во время первых аррасских встреч, в августе 1429 г., сразу после победы под Орлеаном и миропомазания в Реймсе. Многие, кто оценил по достоинству услугу, оказанную Жанной д'Арк по разрешению сложной ситуации в мае и июне 1429 г., не могли удержаться от мысли, что ее упорство после первых побед, не принеся ни малейшей выгоды, отсрочило мир на пять лет. Король уступал, словно бургундцы его победили.
Аррасский договор включал три группы статей: одни были посвящены чисто моральному удовлетворению, другие — территориальной компенсации, третьи имели большое политическое значение.
Погребальные мессы, основание в Монтеро картезианского монастыря, мемориальный памятник на мосту, где была устроена ловушка, — вот что освобождало герцога Филиппа от угрызений совести в связи с его клятвой отомстить. Сверх того, Карл VII обязывался покарать зачинщиков убийства в Монтеро. Все прочие «обиды» предавались забвению. Оба кардинала официально объявили Филиппа Доброго свободным от клятвы, которая составляла единственное юридическое основание англо-бургундского союза.
Никто тогда не публично не обратил внимание, что вследствие борьбы клик были совершены и другие преступления, помимо убийства герцога Бургундского Иоанна Бесстрашного, и первым из них было убийство герцога Людовика Орлеанского, совершенное однажды вечером 1407 г. по приказу его двоюродного брата — Бургундца. В этом злодействе никто не каялся и не давал за него удовлетворения. Вернувшись во Францию, Карл Орлеанский испытает некоторую горечь, обнаружив, что государственные интересы покрыли пеленой забвения смерть его отца.
Территориальные статьи были жесткими: Карл VII уступал графства Оксер и Макон, шателении Бар-сюр-Сен, Перонн, Руа и Мондидье, наконец, города «долины Соммы и на оной» и все, что отделяло Сомму от уже бургундского Артуа. Королю пошли навстречу лишь в одном: он мог выкупить города на Сомме за 400 тысяч экю. По другим статьям Филипп Добрый получал контрибуцию, гарантией выплаты которой становилась Пикардия. Тем не менее, если вспомнить об английских требованиях, выдвинутых как двумя неделями раньше, так и в свое время в Бретиньи, притязания герцога Бургундского можно расценить как умеренные. Победитель мог бы потребовать половину королевства. Англичане не сумели ее получить, потому что победителями они не были.
Ставка делалась на другое, и герцог проявил прозорливость также в том, что сумел довольствоваться отдельными территориальными уступками, в которых ему не отказал Карл VII. Настоящей ставкой как для одного, так и для другого был суверенитет. Король Франции в полной мере сохранял свой — как на все земли, остававшиеся у него, так и на все земли, которые он мог отвоевать у англичан. Герцог Бургундский добивался признания суверенитета всех своих государств: пока Карл VII жив, Филипп Добрый не принесет никакого оммажа королю Франции. Если он переживет Карла, новому французскому королю он оммаж принесет. Его наследники будут приносить оммаж, как и в прошлом.
Подкрепленное в 1435 г. отказом герцога становиться на колени в свою очередь — тем самым неравенство в отношениях становилось очевидным, — перед тем, кто прежде был королем убийц Иоанна Бесстрашного, освобождение от оммажа было не более чем пожизненным. Никто не ставил под сомнение, что бургундские государства по-прежнему принадлежат к Французскому королевству в той части, которая издревле находилась в ленной зависимости от него. Первый президент Адам Камбрейский и канцлер Никола Ролен точно оценили, каждый для своего господина, юридические пределы договорных условий. Просто для одного поколения оммаж «оставили в скобках». Но в политической реальности все видели, что Филипп Добрый, освобожденный от обязательств по отношению к Генриху VI и свободный от всяких обязательств по отношению к Карлу VII, то есть определяющий сам, с кем вступать в союз, в полной мере остается сувереном.
Впрочем, в трактате остались неосторожные и оплошные стилистические обороты, следствие как канцелярской рутины, так и просто придворной учтивости. Но именно благодаря этому трактат называл вещи своими именами.
Поскольку в настоящем договоре или в других текстах или устных высказываниях герцог называет и сможет называть короля «своим сувереном», стороны заявляют, что это наименование не наносит никакого ущерба личному освобождению [от оммажа], каковым он будет пользоваться пожизненно.
Взамен король теперь имел гарантию со стороны герцога Бургундского для своей короны. Он в настоящий момент поступился самолюбием и на время утрачивал часть своего королевства. Но он обеспечивал себе главное, в сохранении чего многие уже отчаялись в мрачные времена Буржского королевства, — легитимность. Теперь только один человек угрожал короне Валуа, один человек претендовал на название короля Франции, — тот, кто царствовал в Париже, англичанин, а не бургундец. Цена, заплаченная за то, чтобы изолировать Генриха VI, не могла быть слишком высока.
Крайние элементы с той и другой стороны были недовольны. Слишком быстро забылись убийство у ворот дворца Барбетт, кабошьенский террор, нескончаемый плен Карла Орлеанского. Не посчитались — напрасно, по мнению многих бургундцев, — с реальными преимуществами, которые имел герцог Филипп, прежде всего с союзом с парижанами. Граф де Линьи вышел из Сен-Вааста, не дав клятвы. Жан де Ланнуа иронизировал:
Вот рука, пять раз давшая клятву сохранять мир и ни разу не сдержавшая ее. Обещаю Богу, что сдержу сию клятву…
В конечном счете большинство выражало радость — как бароны, так и горожане. Кардинал Кипрский запел «Те Deum». Герцоги Бургундский и Бурбон на прощание обнялись. Народ кричал «Рождество!». Праздник продлился восемь дней, в течение которых юристы работали над уточнением деталей применения договора. Одна благодарственная месса следовала за другой. Как и пиры. Редко столько праздновали и так много ели. И уж никак не разогретое жаркое, как по случаю миропомазания Генриха VI.
Герцог и король получали разную выгоду. Но проигравший в этом деле был один. Это был человек, которого только что похоронили в Руанском соборе после пятнадцати лет мудрого и прагматичного правления, основанного на принуждении и иллюзиях. Когда английские делегаты проезжали через Лондон, вслед им свистели. Произошел мятеж, при котором разграбили дома крупных фламандских торговцев, расположенные в Лондоне.
Одно время можно было подумать, что конфликт идет к быстрой развязке. Бургундцы и англичане обманывали друг друга, каждый ради собственной выгоды. Филипп Добрый хотел взять Кале. Англичане напали на графство Фландрское и герцогство Бургундское, ничего не выиграв. Карл VII не мог оказать помощь ни стихийным движениям, происходившим в его поддержку по всей ланкастерской Франции, ни военной акции смелого вожака партизан Шарля де Маре, взявшего приступом Дьепп 28 октября 1435 г., ни восстаниям, которые чуть позже потрясли нормандские деревни и начались по призыву нескольких дворян, среди которых выделялся сир де Монтивилье.
Карл VII в Париже
Возвращение Парижа явно было первой из задач — как из-за того, что столица была перекрестком экономических дорог, так и уже из-за ее символического значения. Впрочем, Париж надо было брать, а антианглийские заговоры составлялись почти открыто, коль скоро верность бургундцам уже не означала поддержки английского присутствия. Оккупанты поняли опасность и потребовали от горожан новой присяги на верность, текст которой канцлер Людовик Люксембург с превеликой торжественностью получил 15 марта 1436 г. и которую никто не хотел приносить. Прево Симон Морье, слишком скомпрометированный сотрудничеством с англичанами, чтобы отказаться присягать, был настолько уверен в предательстве горожан, что приказал им не выходить из домов в случае осады. Маленький английский гарнизон, которому платили плохо, не проявлял особого рвения. Губернатор разрешил солдатам грабить соседние деревни. Рассказывали, что они обжирались яйцами и сыром в Нотр-Дам-де-Шан и что один англичанин не побоялся в Сен-Дени выхватить золоченую чашу прямо из рук священника, едва тот закончил причащение.
Старые приверженцы партии Бургундца пересматривали свой лексикон. Больше не говорили об «арманьяках». Ждали французов и короля Франции.
Власть в Париже принадлежала теперь группе из четырех епископов, вызывавших равную ненависть: это были Людовик Люксембург, почти не занимавшийся своим епископством Теруаннским, Пьер Кошон, добившийся назначения епископом Лизьё, поскольку вернуться в Бове он потерял надежду, Жак дю Шателье, сохранивший в душе некоторую горечь после того, как его прерогативами епископа Парижского пренебрегли во время миропомазания, и совсем новый епископ Мо, Паскье де Во. Никто из них не был способен помешать переменам во взглядах населения.
Ришмон и его армия уже заняли восточную и северную часть региона. Мелён, Ланьи, Сен-Дени, Понтуаз запирали дороги в Париж. В начале весны 1436 г. Ришмон сумел блокировать город с другой стороны, от Шарантона до Сен-Жермен-ан-Ле через Корбей. На сей раз блокада стала полной.
В Париже партия сторонников Карла VII объединилась вокруг аудитора Мишеля де Лайе, некогда ставшего жертвой бургундских репрессий и известного как организатора заговора против регента Бедфорда в 1422 г. Сделав вид, что принял новый режим, в то время как его братья Жак и Гильом — один в Пикардии, другой в парламенте Пуатье — остались открытыми сторонниками партии арманьяков, Мишель де Лайе просто-напросто без лишнего шума выжидал, когда настанет время для действий, которые уже не будут обычным заговором в кабачке.
Рано утром 13 апреля люди Лайе начали восстание. На узких улочках столицы в англичан полетели камни, поленья и битые горшки. Эта бомбардировка происходила из окон. Солдаты не знали, где укрыться. Они бросились к Крытому рынку, что у ворот Сен-Дени, а потом собрались в Бастилии, как раз напротив ворот Сент-Антуан, которые считались одними из самых угрожаемых и которые, в отличие от многих других, не замуровали. Со времен своего вступления в Париж англичане и бургундцы хорошо знали, что они вошли сюда не благодаря подкопу или штурму стен — им хватило тайком открытых ворот. Так же мог поступить и враг. Чтобы не охранять пятнадцать ворот, восемь, десять или двенадцать из них в зависимости от ситуации замуровывали. Некоторые использовались почти всегда, и окованные железом створки здесь не сменились камнем и гипсом: это были ворота Сен-Дени, Сент-Оноре, Сент-Антуан, Сен-Жак.
Английские капитаны узнали, что в Сен-Дени находится Жан де Вилье, сир де л'Иль-Адам. Накануне он нагнал страху на грабителей и появился к северу от города, перед воротами Сен-Дени. Л'Иль-Адам побывал губернатором Парижа при Бедфорде и герцоге Бургундском. Лучше, чем кто-либо, он знал слабое место обороны Парижа — невозможность быстрого маневра внутри города. Поскольку кругового хода с внутренней стороны городской стены не было, чтобы попасть от одних ворот к другим, надо было пройти через центр. Существовало всего четыре моста — по два через каждый рукав Сены, и с утра до вечера они были забиты. А лабиринт улочек между Гревской площадью и Шатле, «парижское переплетение», исключал любую мало-мальски значительную тактическую переброску. Атаковав через ворота Сен-Жак левобережье в то время, когда Лайе устраивал суматоху на улицах, л'Иль-Адам нейтрализовал англичан, следивших в Бастилии за воротами Сент-Антуан.
Стражники ворот Сен-Жак были обычными вооруженными горожанами, которые чувствовали, как их враждебность по отношению к Карлу VII проходит, и которые, как и Вилье, раньше были скорее за бургундцев, нежели за англичан. По первому же требованию они решили открыть ворота. Сопротивляться казалось нелепым. Чтобы ускорить события, один из защитников спустил вдоль стены лестницу. Вилье де л'Иль-Адам вскарабкался первым. Когда ворота открылись, люди Карла VII были уже в городе.
Отряд, продефилировавший перед монастырем Якобинцев, прежде чем спуститься по улице Сен-Жак, отражал объединение сил, действовавших порознь в течение десяти лет. Рядом с коннетаблем де Ришмоном, верность которого непрерывно менялась в зависимости от королевской милости, можно было видеть Орлеанского бастарда, будущего графа Дюнуа, сына первой жертвы бургундцев и верного соратника Жанны д'Арк. Там же ехал и Вилье, который когда-то был защитником Парижа от той же Жанны д'Арк и долгое время — действенным орудием осуществления англо-бургундского владычества в Париже. В этот момент апреля 1436 г. парижане могли понять, что война действительно стала общенациональным делом. Конфликт из-за династического происхождения и феодально-вассальных полномочий кончился. От нескончаемых последствии столкновения принцев, выродившегося в гражданскую войну, все устали. Осталась лишь одна война — французов против англичан.
Карл VII и его советники извлекли урок из событий истекшего полувека, из времен, когда на ссылки отвечали ссылками, на изгнания — изгнаниями, на казни — казнями. Новые победители провозгласили всеобщую амнистию, пресекли грабежи, избежали сведения счетов. С осажденными в Бастилии начали переговоры. В воскресенье 15 апреля, выплатив деньги, англичане и их последние сторонники под насмешки горожан вышли из города и двинулись в Нормандию. Зеваки вовсю советовали им больше не возвращаться.
Так ушли последние слуги Ланкастера — канцлер Людовик Люксембург, прево Симон Морье и его предшественник Пьер Ле Верра, судья по уголовным делам Жан л'Арше, купеческий прево Юг Ле Кок. Великий мясник Жан Сент-Ионский, чье политическое могущество, возможно, было одним из последних осколков кабошьенского движения, закончит жизнь сержантом английского короля, тогда как его старый сообщник Жан Тюржис, сын трактирщика и человек, готовый на все для англичан, нашел себе последнее занятие в Лондоне в должности арфиста королевы.
Вступление в Париж было в большей мере удачей, чем победой. Это стало хорошо понятно, когда раскрыли заговор, сплетенный одним клириком-счетоводом и одним адвокатом парламента, которые хотели открыть ворота людям Генриха VI. Карл VII владел своей столицей, но ее блокировал Талбот, как ранее Ришмон. В конце января 1437 г. один английский отряд отбил Иври. 13 февраля англичане снова оказались в Понтуазе. Они удерживали Вексен. Через два месяца в их руки попал Монтаржи. Карл VII предпринял ответные действия осенью — захватил с бою Немур, взял приступом Монтеро.
Король сам возглавлял свои войска во время окончательной осады Монтеро 10 октября. Он получил за это великую славу, чрезмерно большую — его смелость была весьма средней. Но через месяц он торжественно вступил в Париж с репутацией великого победителя, которую себе создал.
У парижан отныне был король, который побеждает. Когда он был в Ла-Шапель, в месте, видном от ворот Сен-Дени, 12 ноября 1437 г., купеческий прево Мишель де Лайе преподнес ему ключи от города; эта церемония, тогда совершенно новая, была рассчитана лишь на то, чтобы напомнить тому, кто захочет это понять, — и в первую очередь королю, — что не нужно брать столицу штурмом и что перед легитимным сувереном ворота открываются сами. Король понял символику. Он передал ключи коннетаблю.
Горожане устроили праздник. Процессия, живые картины, песни — все олицетворяло союз короля и его столицы. Никто не должен был заблуждаться: Карл VII вступал не в захваченный, а в освобожденный город. Это показывали радость народа и ликование нотаблей.
В Понселе был фонтан, в коем находился горшок, а из оного поднимался цветок лилии, каковой цветок извергал добрый гипокрас, вино и воду.
В соборе Парижской Богоматери король дал клятву, какую давали короли Франции по возвращении с миропомазания. Речь шла только о подтверждении юридических привилегий епископа и капитула. На самом деле эта церемония показывала, какое место этот радостный въезд занимает в истории царствования: Карл VII наконец возвратился из Реймса. Под аккомпанемент органа хористы спели «Те Deum».
Энтузиазм быстро вновь угас. На город наложили тяжелую талью. Церкви должны были поставлять на Монетный двор драгоценный металл: кадила, блюда, кувшинчики для воды и вина, подсвечники превращались в «белые гроши», которые были белыми только по названию — пять денье сплава и пять двенадцатых чистого серебра на самом деле делали монету черной, — но выпуск которых все-таки означал, что предпринимаются усилия по оздоровлению денежного обращения. Безопасность не была обеспечена даже у ворот Парижа. Англичане грабили все провиантские обозы. «Горожанин» чувствовал себя весьма разочарованным:
В окрестностях Парижа путников всегда подстерегали воры. Ни король, ни герцог, ни граф, ни прево, ни капитан этого не принимали в расчет, потому что находились в сотне лье от Парижа.
Когда Карл VII через три недели вновь отправился в путь, сочли, что он просто приезжал повидать город. Его визит обошелся дорого. Моральный дух вновь упал ниже некуда, и все располагало к брюзжанию. Рассказывали, что англичане совсем не боятся войны, потому что против них командует Ришмон. Действительно, в июле 1438 г. Ришмон совершил разведывательную вылазку под Понтуаз; его сочли «очень плохим или очень трусливым», потому что он ограничился тем, что осмотрел башни. Через несколько месяцев англичане отбили Сен-Жермен-ан-Ле.
Чиновники Карла VII решили заняться пропагандой. На воротах Парижа повесили три живописных холста, изображающих трех английских рыцарей, повешенных за ноги за клятвопреступление… по отношению к Танги дю Шателю. Парижане оторопели, но отметили, что зерно дорожает. Осенью к этой картине добавилась эпидемия оспы. Умерли тысячи, может быть, пятьдесят тысяч. Среди жертв был епископ Жак дю Шателье. Никто по нем не заплакал.
Зима выпала суровая. В столицу вплавь пробирались волки, нападали на собак, растерзали ребенка рядом с кладбищем Невинноубиенных. Правда, в Руане видели, что собаки и свиньи едят детей, умерших от голода. Во всяком случае, так говорили в Париже, чтобы утешиться: у врага дела идут не лучше.
Париж очень ошибся, полагая, что Карл VII вернет ему процветание. Город опустел. Квартирная плата, не перестававшая сокращаться с 1422 г., в 1438 г. упала дополнительно. В самом центре города каждая вторая лавка пустовала. Незанятые дома грозили рухнуть и давали опасные прибежища маргинальному населению. Королевский ордонанс поставил собственников перед выбором: чинить или полностью сносить. Заложенную недвижимость торопились продать с торгов. Дальновидные вкладчики дешево покупали земли, на которых через несколько месяцев смогут расположить свое недвижимое состояние.
Слуги монархии
Аррасский договор вынуждал Карла VII допускать бургундцев к управлению королевством. У него хватило мудрости не хитрить. Каждый служил делу, которое он считал справедливым, и каждый занимал определенное место в новом политическом порядке, пусть даже ценой беспрецедентного раздувания административных штатов. «Бургундский» парламент Парижа и «арманьякский» парламент Пуатье слились в Париже воедино: восемнадцать парижских советников остались на своих местах или были восстановлены в должности через несколько месяцев, двадцать шесть советников из Пуатье прибыли занять свои кресла, впрочем, не торопясь, потому что на Сильвестров день 1436 г. их приехало только одиннадцать, а появления последних пришлось ждать пять лет. Почти то же самое происходило в Счетной палате: оба магистра и оба клирика, оставшиеся в Париже, заняли место среди восьми магистров и двенадцати клириков, приехавших из Буржа.
Карл VII назначил нового прево, Филиппа де Тернана, приверженца герцога Бургундского, поставил рядом с ним своего человека в качестве судьи по уголовным делам и сохранил должность судьи по гражданским делам за превосходным юристом Жаном де Лонгеем, который был профессиональным судьей, а не политиком. Также назначенный Бедфордом в 1430 г. королевский прокурор Жан Шуар стал слугой Карла VII, поскольку служил Генриху VI как королю Франции, а не как Ланкастеру.
У Карла VII, которому благоразумные советы давал Ришмон, достало смелости не позволить своим сторонникам присвоить победу. С учетом нравов эпохи это было проявлением незаурядной мудрости. Танги дю Шатель получил возможность вновь красоваться в звании прево, но отправляться в Шатле, чтобы исполнять свои прежние функции, ему запретили. Главные виновники побоища 1418 г. исчезли — умерли или ушли с англичанами. Самых незначительных оставили в покое. Никто не спрашивал горожан, что они кричали в 1413 г. и что — в 1418-м.
Тем самым Франция избежала двадцати лет озлобления. В то же время она сделала решительный шаг к понятию постоянной государственной службы, чуждой волнениям политической жизни. Популярность государственных должностей, особенно в парижском обществе, во многом обязана тому, что после 1436 г. констатировали: служить королю, не рассуждая, какой король законный, — дело менее опасное и не менее выгодное, чем спекулировать на цене зерна или рисковать своим имуществом на морских и сухопутных дорогах. За десять лет после вступления Ришмона в столицу преобладание в ратуше деловых людей сменилось преобладанием магистратов, финансовых чиновников, адвокатов.
Богачи и знать шли одними и теми же путями: время, талант и деньги вкладывали в наименее рискованные дела. Деловая среда пережила крах спекуляций, связанных с политическими рисками 1405–1420 гг. Немало разочарований стало следствием и монетной нестабильности 1417–1421 гг. Сколько банкротств, разорений, поспешных изгнаний постигло купцов, попытавших счастья в это смутное время! Итальянский финансист Джованни сер Камби оценил убыток, понесенный в 1421 г. парижскими лукканцами вследствие девальвации, в 80 %. Для банкиров время было нелегким, тогда как безнадежным должникам раскол королевства надвое давал возможность скрыться просто путем бегства. Родной брат бургундского купеческого прево Парижа Юга Ле Кока, Пьер, не имел другой причины отправиться в 1422 г. во Францию Карла VII, кроме той, что все свои долги он сделал в Париже. В том же 1436 г., когда все снова оказались в столице, деловые люди знали, что достаточно лет на пятнадцать-двадцать укрыться в Этампе или Монлери, чтобы избежать выполнения своих обязательств.
Раньше открыто перейти в тот или иной лагерь значило крупно рискнуть состоянием, клиентурой и даже домом. Во всяком случае, можно было полагать, что все находятся в одинаковых условиях. Никогда государственная служба не была и настолько спекулятивной, как в 1418 г., когда надо было выбирать, сохранять ли верность безумному королю или присоединяться к дофину, легитимность которого спорна. И вот в 1436 г. деловые люди вдруг обнаружили, что это был разный риск. Ни тот, кто выносил постановления в Париже именем Генриха VI, ни тот, кто выносил свои в Пуатье от имени дофина, не смевшего называть себя королем, настоящему риску себя не подвергали.
Неожиданно сделанное в 1440-е годы, это открытие было чревато последствиями. Королю Франции будут хорошо служить. И добрая часть социально активного населения покинет экономическую сферу.
Прагерия
Знать скоро поняла, что монархия поставила точку в вековом противостоянии политических сил. Принцы Юга — Арманьяк, Альбре, Фуа — вели свои дела достаточно свободно и считали короля Франции скорей своим партнером, чем сувереном. Едва граф де Фуа умер, как Карл VII воспользовался этим, чтобы открыть вакансию королевского наместника в Лангедоке. Это означало, что монархия снова берет южные дела в свои руки. Принцы очень явственно ощутили угрозу. На севере герцоги Бургундский и Бретонский сами изображали суверенов. Анжуйский был королем в Неаполе и имперским князем в Провансе, Баре и Лотарингии; что касается Бурбона, он не позволял забыть, что это он прикрывал с востока независимость Буржского королевства. Карл Орлеанский сочинял стихи в английской тюрьме, но его единокровный брат Дюнуа с полным основанием полагал, что король более обязан ему, нежели он королю. Короче говоря, принцы не были готовы позволить тому, кого они знавали столь слабым, доминировать над ними.
Аррасский договор примирил Карла VII и Филиппа Доброго. Это не очень повлияло на деятельность тех, кто тратил свою энергию, а иногда и состояние на борьбу с Бургундией. Речь идет о герцогах Алансонском и Бурбонском. Иоанн Алансонский потерял в Нормандии всё из-за действий англичан: его владения конфисковали, после Вернёя ему пришлось платить выкуп за свое освобождение, и он ожидал от победы существенной компенсации. Амнистия бургундцам лишила его всякой надежды на добычу, а рента в 12 тысяч ливров, которую дал ему король, наводила прежде всего на мысль, что его службу недооценили. На деле, соперничая с Карлом Анжуйским и Ришмоном, Алансон добивался прежде всего власти с ее преимуществами.
Что касается Карла Бурбона, он сохранил для короля провинции Бурбонне, Овернь, Форе. Бурбонский дом всегда был оплотом против Бургундского.
Опираясь в Совете на архиепископа Реньо Шартрского и на Кристофа д'Аркура, герцог Карл умело и быстро оттирал тех, кто примкнул к королю в последний момент, кто стал первенствовать в Париже Карла VII после того, как занимал там те же позиции при Генрихе VI.
Дрогнул даже Дюнуа. Благодарность не была главной добродетелью короля. Конечно, Орлеанский бастард, отныне великий камергер Франции и граф Дюнуа — согласно жалованным грамотам от 21 июля 1439 г., — имел в Совете преобладающее влияние благодаря анжуйским клиентам королевы Иоланды и графа Карла Менского. Это был нерасторжимый союз старых врагов ла Тремуя, в который входил и Бурбон. Но ничто не могло помешать Дюнуа думать, что суверен не слишком много сделал, чтобы ускорить освобождение герцога Карла Орлеанского, взятого в плен при Азенкуре за службу своему сеньору — королю Франции. Уже двадцать лет поступали платежи для выкупа герцога. Дюнуа считал, что Карл VII мог бы внести в них и свой вклад.
Подобную же горечь испытывал и король Рене. Взятый бургундцами в плен в 1431 г., он шесть лет ждал освобождения, и Карл VII ему почти не помог. Рене Анжуйский выплатил большой выкуп. Он легко забыл, что был побежден в войне за лотарингское наследство, на которое зарился и его кузен Водемон. То, что Водемон извлек пользу из англо-бургундского союза, не меняло ничего: король Франции к этому делу отношения не имел. Тем не менее Рене считал, что в Аррасском договоре можно было учесть и его интересы. Он не ошибался.
Первая коалиция сформировалась в 1437 г. вокруг Бурбона и Алансона, которых поддержали король Рене, герцог Иоанн V Бретонский и граф Жан IV д'Арманьяк. Заговорщики грешили недостатком воображения: принцам казалось, что, если они задумали отстранить двух фаворитов-временщиков, Кристофа д'Аркура и епископа Мартена Гужа, то это оригинальная мысль. План был глупым — Карл VII не принадлежал к людям, готовым пойти на многое, чтобы спасти своих приверженцев, а Аркур числился среди клиентов герцога Бурбонского. Король понял, откуда ветер дует. Бурбон не посмел заходить слишком далеко и попросил прощения.
Новый заговор возник в 1439 г., когда король проявил намерение реорганизовать монархическую власть на новых административных основах, иначе говоря, проигнорировать феодалов при формировании правительства послевоенной Франции. В ближайшее время все действия правительства были направлены на отвоевание провинций, еще занятых англичанами. Однако никто не обманывался — это означало и окончательное усиление королевской власти.
Хотя в глазах многих баронов это было бесчестьем, но идея замены отдельных лиц по аналогии с той, какую произвел договор в Труа, идея смены короля не казалась этому поколению столь немыслимой, как другим. Зимой 1439/40 г. некоторые принцы сочли, что пора доверить власть юному дофину. Будущий Людовик XI был нервным и нетерпеливым юношей, который входил во взрослый возраст — ему исполнилось шестнадцать — без особых надежд на получение короны в ближайшем времени. Его отец и дед получили власть, не обремененные годами. Людовик знал, что отец отличается отменным здоровьем и имеет богатое состояние. Он полностью согласился с планами заговорщиков, мечтавших доверить ему регентство и сохранить за собой власть.
Дело возглавляли герцоги Бурбонский, Бретонский, Алансонский. К ним присоединился ла Тремуй. А также Дюнуа. Через посредство герцога Бретонского свою поддержку пообещали англичане. Взамен Иоанн V предложил свою помощь английскому гарнизону Авранша, которому угрожали войска Карла VII. Такой заговор граничил с изменой.
Заговорщики обосновались в Ньоре, в сердце провинции, которая издавна привыкла к феодальным распрям и в которой — парадокс и наивность — Карл VII только что поручил дофину Людовику положить конец местным войнам. Присутствие ла Тремуя среди вождей восстания помещало последнее в долгий ряд волнений, практически не прекращавшихся в Пуату уже лет двадцать.
В соглашении между принцами говорилось о «выгоде, благе и пользе, состоянии и чести короля и его сеньории». Но дофин не скрывал своей игры: он «вполне составит выгоду королевства». Восстание было открытым. Оно скоро получило свое название. Политики еще помнили восстание в Чехии в 1419 г. против короля Сигизмунда, которого националисты обвинили в том, что он слишком легко оставил реформатора Яна Гуса на растерзание Констанцскому собору. Изгнанный из Праги, лишенный чешского трона, Сигизмунд Люксембург был вынужден двенадцать лет бороться с коалициями мелких чешских феодалов, очень ценящих свою независимость, и крестьянства, привлеченного гуситской программой социальных реформ. Став императором, Сигизмунд сделал уступку в литургии, имевшую большое символическое, а значит, политическое значение: Базельский собор в 1436 г. согласился, чтобы причастие в Чехии давалось под обоими видами как причастие таинству тела и крови Христовых, тогда как римское католичество допускало для простых верующих только причастие таинству тела. Второстепенная уступка? Конечно, нет.
Дух единообразия как в церкви, так и в империи сдал позиции. Суверенная власть с универсалистской основой уступила партикуляристской воле феодалов. Полностью понимая значение этой исторической ассоциации для других времен и других мест, хорошо информированные люди окрестили восстание французских принцев Прагерией. Дофин Людовик был здесь только орудием в руках феодалов, мало заботившихся о том, чтобы их победа над англичанами преобразилась в победу Короны.
Вожди Прагерии забыли две вещи. Франция устала от войны, и французы ничего не могли выиграть от конвульсий феодализма. Карл VII великолепно сыграл на настороженности населения. В феврале 1440 г. он писал добрым городам, предостерегая их против тех, кто хочет внести какие-либо смуты или новшества в осуществление нашей сеньориальной власти, что привело бы к полному разрушению нашего королевства, замедлило бы объединение церкви, достижение мира для нашего королевства и освобождение нашего брата Орлеанского.
Короля мало занимал его кузен Карл Орлеанский. Жители добрых городов беспокоились за последнего еще меньше. Но они совсем не желали, чтобы война вспыхнула снова, когда уже появилась надежда на ее окончание. В борьбе против феодалов Карл VII вновь нашел традиционных (с начала коммунального движения в XI в.) союзников — горожан, испытывавших больше враждебности к местной власти графа и епископа, чем к вмешательству агентов короля, всегда корыстному, но часто восстанавливающему справедливость. Конечно, в моменты высшего подъема этого движения власть суверена входила в конфликт с городами, вернее, с податными людьми. Так было во времена Гарелли и восстания майотенов. С тех пор как феодальные силы политической раздробленности снова взяли верх, города играли на стороне короля. Прагерия быстро выявила это.
Тогда-то Карл VII и показал свою силу. Три гонца, которых он послал к герцогу Бурбонскому, не были ни юристами, ни легатами, ищущими примирения. Это были Ришмон, Сентрай и Гокур — коннетабль в сопровождении двух капитанов, известных своей энергичностью. Тем временем король блокировал Лош, капитан которого неосторожно примкнул к Прагерии. Ришмон вернулся, только чтобы передать «оскорбительные и бесчестные слова» герцога Бурбонского. Карл VII завершил сбор своей армии на Луаре. Рассчитывая также на армию, которая должна была подойти из Лангедока, в марте он двинулся на Пуату. Никто не мог оставаться в неведении, что стоит на кону: на стягах «копий» была нарисована золотая корона.
Армия Карла VII — это была армия, только что оттеснившая англичан. В ней находились Ришмон и другие командиры, недавно вошедшие в Париж. В ней были Карл Анжуйский, граф Менский, и Бернар д'Арманьяк, граф де ла Марш. Они чаще участвовали в походах, чем большинство заговорщиков. Через пять дней они подошли к Ньору. «Милый герцог» Алансонский вынужден был в полном одиночестве организовать оборону против этой армии. Будучи племянником Ришмона, равно как и Арманьяка, он без труда договорился о перемирии. Потом он попытался воспользоваться этой отсрочкой: он обратился за помощью к англичанам.
Энергичность, проявленная королем, не вызвала удивления. Он уже лично возглавлял внезапную атаку, с помощью которой был отбит Сен-Мексан через несколько часов после начала путча герцога Алансонского. Он же встал во главе своей армии, когда его главные силы направились на Ньор. Принцы учли это. Ладно еще участие в заговоре, но выступление против короля с оружием в руках могло привести и на плаху. Они эвакуировали свою штаб-квартиру.
Настала середина апреля 1440 г. Прагерия еще успела поменять театр военных действий. Дофин и герцоги переместились в Овернь. Карл VII их преследовал, пускал в ход свою артиллерию, занял тридцать крепостей, одобрил благоразумную верность своих добрых городов. Мелкое дворянство не доверяло таким играм принцев — оно сохранило спокойствие.
Приближалась лангедокская армия, которой именем короля командовал виконт де Ломань. Это как раз были компании, на которые давно рассчитывали участники коалиции. Тогда же стало очевидным, что многие города готовы в войне поддержать короля. Такое решение только что приняли Штаты Оберни, вопреки позиции Бурбона. Движение сторонников короны во Франции ширилось.
Принцы могли большего достичь от переговоров, чем от продолжения войны, в которой непрестанно отступали. Дюнуа уже покинул их, дав понять, что заблуждался, не разобравшись в интригах герцога Бурбонского. Герцог Бургундский держался в стороне от конфликта; он предложил свое посредничество. Филипп Добрый подписал сепаратный мир с королем не затем, чтобы другие затягивали войну до бесконечности, и был человеком достаточно здравомыслящим, чтобы понять — после его разрыва с англичанами переход последних к новым завоеваниям не в интересах его государства.
Все единодушно выступили за переговоры. Последние состоялись между Клермоном и Монферраном — сначала у францисканцев, потом у якобинцев. Каждая сторона меняла свои требования. Король прервал переговоры, взял Виши, занял Роанн. Вмешался граф д'Э, снова предложив мир. Коалиция распалась. Алансон заключил свой мир и удалился. Дофин и герцог Бурбонский попросили у короля пощады.
Карл VII сделал вид, что забыл проступок наследника, сделал суровое внушение кузену, отказался возвращать доверие менее значимым сеньорам, в частности, ла Тремую. Мелкая баронская сошка была довольна, что может удалиться на свои земли. Амнистию объявили всем, но Карл VII хорошо помнил измены.
Это было первое осложнение в отношениях между отцом и сыном. Когда будущий Людовик XI посмел заговорить о своих обязательствах по отношению к тем, кто ему служил, его грубо одернули.
Вы мой сын. Вы не можете брать обязательств по отношению к кому бы то ни было без моего дозволения.
Если вы хотите уйти, уходите! Ибо, если Богу будет угодно, мы найдем кого-нибудь из людей нашей крови, которые лучше помогут нам хранить нашу честь и сеньорию, чем до сих пор делали вы.
К концу июля дело выглядело законченным. Дофин отправился принимать во владение свой Дофине, который Карл VII в реальности до тех пор придерживал для себя. Бурбон получил пенсию. На ла Тремуя наконец были возложены полномочия посла. Время шло, а Карл VII вознамерился играть в великодушие. Как оказалось, напрасно.
Отвоевание новых земель
Однако он воспользовался этим временем, чтобы активизировать войну против англичан. В 1438 г. был занят Дрё. В том же году Вильяндрандо совершил молниеносный прорыв в направлении Бордо: отправившись с берегов Ло, он взял Фюмель, потом Иссижак и Лозён, вновь свернул на юг, чтобы в Тоннене перейти Гаронну, и внезапно пошел на Медок. Он захватил Бланкефор у ворот Бордо и обосновался в самом сердце Медока, в Кастельно. В свою очередь Сентрай вместе с Альбре и Бурбонским бастардом перешел в наступление на юге. Бордо задрожал. Через несколько дней армия Карла VII встала лагерем в Сен-Сёрене. Но, чтобы взять Бордо, ей не хватало артиллерии, которую французы не взяли в поход. Был отдан приказ об отступлении. Французы сохранили за собой только Тартас.
В области Бордо не очень любили людей Карла VII. Потрава виноградников, сделанная солдатней Вильяндрандо и Сентрая, усилила враждебность населения, давно привыкшего считать, что их благосостояние связано с экспортом в Лондон и Брюгге. Крупными покупателями для гасконских виноградарей, безусловно, были страны, лишенные хорошего винограда, а не Средняя Франция, достаточно богатая ценными сортами вин. Поэтому бордосцы больше заботились об отношениях с Лондоном, чем о дороге в Париж: у Парижа были свои поставщики — в Боне или Оксере, Орлеане или Сен-Пурсене, Аржантёе или Сюрене, тогда как поставщики Лондона или Саутгемптона находились в Гаскони.
Разорение Медока, которое солдаты Карла VII учинили от Бланкефора до Леспарра, включая Кастельно и Сен-Лоран, обернулось против короля. Теперь он не найдет в Гиени того сочувствия населения, какое было для него столь ценным в Нормандии.
Попав в плен после Азенкура, Карл д'Артуа, граф д'Э, был только что освобожден в обмен на Сомерсета, который сам в 1421 г. стал пленником Карла VII. Он встал во главе небольшой армии и отправился воевать с англичанами в земли Ко. Он поставил в Арфлёре гарнизон, принадлежавший к числу самых неприятных препятствий для связей Руана с Англией. Но все победы имели относительную ценность: в общем итоге операций выигрыши и потери компенсировались. Так, баланс 1439–1440 гг. странным образом оказался отрицательным для всех. Конечно, Ришмон вступил в Мо как триумфатор. Это была первая серьезная осада после осады Парижа: у Ришмона была артиллерия, а циркумвалационная линия, возведенная по его приказу, включала в себя не менее семи укреплений. Уильям Чемберлен не сумел воспользоваться подкреплениями, посланными Сомерсетом и Талботом; город — правый берег — 12 августа капитулировал. Но укрепленный рынок на левом берегу еще сопротивлялся, и англичане пытались прорвать блокаду. Спешно набранная в Нормандии армия Сомерсета и Талбота, посланная на помощь, предоставила защитникам рынка только отсрочку. Англичане бы с удовольствием дали сражение, поставив на карту все. Ришмон уклонился от боя, заперся в городе и продолжал удерживать мост через Марну. 15 сентября Чемберлен сдался.
Эту победу омрачила сдержанность принцев. Герцог Бурбонский Карл подговорил «живодеров», грабивших Лотарингию, не принимать предложений Ришмона, то есть предложений короля. Поэтому рутьеры двинулись в Бургундию и Центр, предавая деревни огню и мечу. Однако Бурбон не отправился в Мо воевать с англичанами. Пока коннетабль осаждал рынок, в Орлеане на тайном сборище встретились Карл де Бурбон, маршал де Лафайет, Дюнуа и некоторые другие.
Сентрай и Брезе уже заняли Лувье, а потом Конш. Тем временем англичане взяли Лильбонн и снова захватили Арфлёр, хотя город героически защищал Жан д'Эстутвиль и в подкрепление была послана армия во главе с графом д'Э и графом Дюнуа. Крепость Сен-Жермен-ан-Ле, взятая летом 1439 г. англичанами, в декабре 1440 г. была отбита французами. Казалось, все это никогда не кончится.
Ситуация резко изменилась в 1441 г., когда Карл VII смог наконец деблокировать Париж. Большим облегчением для столицы в плане ее снабжения было уже взятие Мо. В мае 1441 г. захватили Крей. В июне за ним последовал Бомон-ле-Роже. Наконец, 19 сентября после трех месяцев осады пал Понтуаз. Король стал хозяином Иль-де-Франса.
Глава XVIII Время живодеров
Одураченные в Невере
Едва начавшись, освобождение страны прервалось: принцы — и не самые незначительные — возобновили свои интриги. В самом деле, к тем, кто недавно подстрекал дофина Людовика к мятежу, добавилось двое недовольных, обладавших большим влиянием: одним из них был герцог Бургундский, другим — герцог Орлеанский.
Карл Орлеанский за время пленения сложил немало стихов, но несколько озлобился из-за своей личной участи. Взятый в плен при Азенкуре в возрасте двадцати одного года, он потратил двадцать пять лет на то, чтобы собрать деньги себе на выкуп, а Карл VII проявил весьма мало рвения, чтобы в таких обстоятельствах помочь кузену, который во многих отношениях был и первым его союзником на политической шахматной доске. Разве герцог Карл не приходился сыном тому человеку, в котором все арманьяки видели первую жертву бургундской партии? Разве не был он зятем Бернара д'Арманьяка, главы антибургундского сопротивления? Карл боялся, что проведет в тюрьме всю жизнь. А в конечном счете оставшиеся суммы выплатил авансом герцог Бургундский после переговоров, проведенных герцогиней Бургундской. Карл Орлеанский стал объектом ловкой манипуляции, и его настроили так, что он называл себя «совершенным бургундцем в душе». Филипп Добрый устроил в честь него празднество, пригласил занять место в кругу рыцарей Золотого Руна.
Утонченный поэт любви был по-настоящему обозлен, чувствовал себя обманутым и униженным. Вернувшись во Францию осенью 1440 г., он поспешил улыбнуться новому другу, заняв тем самым вызывающую позицию по отношению к своему кузену Карлу VII. В частности, герцог Карл женился на племяннице герцога Бургундского, Марии Клевской, юной четырнадцатилетней принцессе, которая уже сама начала заигрывать с музой.
А ведь Филипп Добрый строго судил короля Франции. Распущенные банды — живодеры — разоряли его деревни, и эта нескончаемая война не позволяла надеяться ни на общественный порядок, ни на экономическую активность. Герцог Филипп заключил в Аррасе мир с Карлом VII, но это было сделано, чтобы ускорить заключение общего мира. Конечно, он испытал из-за этого трудности — достаточно упомянуть его ссору 1435 г. с англичанами. Но он мог надеяться, что Карл VII, не опасаясь помех со стороны Бургундии, быстро завершит свое дело. Кстати, и сами бургундцы активно помогали французам в войне: разве Вилье де л'Иль-Адам не вступил в Париж? В благодарность же Карл VII неизменно поддерживал самых строптивых подданных герцога, в частности, льежцев. Он еще не был в достаточной мере победителем, а его уже упрекали, что ради своего робкого возвышения он возвращается к старой политике французских королей, всегда готовых вмешаться во внутренние дела своих магнатов.
Короче говоря, герцог Бургундский подумывал, что, может быть, ради пользы его государств стоит сменить союзника. Во всяком случае, следовало пересмотреть позицию Бургундии по отношению к Карлу VII. С момента возвращения во Францию Карл Орлеанский поддерживал это мнение. Бурбон и Алансон уже были готовы. Намерения герцога Бретонского зондировались. Карл Орлеанский поехал повидать его в Нант; там он встретил Иоанна Алансонского. Принцы сделали вид, что хотят выступить арбитрами в конфликте между Карлом VII и Генрихом VI. Все открыто вступили в переговоры с Англией. Наконец, в январе 1442 г. все собрались в Невере на большое совещание французских баронов. Даже доблестный командир нормандской армии, граф д'Э, был участником коалиции.
Карл VII уже был осведомлен о происходящем: ему передали письмо от гербового короля Подвязки канцлеру Англии — письмо, перехват которого стал большой удачей для французов. Его отдали перевести капитану шотландской гвардии Чемберу, знавшему английский так же хорошо, как и французский. Письмо подробно сообщало о передвижениях гонцов от принцев. Политические чувства участников коалиции подверглись пристальному анализу. Измена герцога Алансонского говорила сама за себя: бывший соратник Жанны д'Арк сообщал английскому капитану Аржантана, что город, где командует последний, собираются неожиданно для него сдать. Короче говоря, письмо гербового короля было орудием Провидения, попавшим в руки короля Франции.
Советники Карла VII полагали, что король не должен открыто реагировать на этот вызов. Пусть вместо того, чтобы выносить приговор членам лиги, он разыграет их. Дюнуа со всем чистосердечием заранее известил их, что король не возражает против их собрания. Герцог Орлеанский притворно попросил разрешения поехать в Невер; он не удивился, что ему запросто разрешили принять участие в заговоре. Бурбон не заметил подвоха, даже получив два приглашения — одно от Карла Орлеанского, другое от короля. Единственным, кто удивился такому приглашению, был герцог Бретонский: у Иоанна V все еще оставалось чувство, что он борется с королем, и он посчитал, будто имеет дело с ошибкой.
Я не могу знать намерения моего сеньора короля в отношении нашего собрания. Но мне кажется, что имеет место игра понятиями и прочая латынь, что со всей очевидностью видно из его писем.
В конце января все прибыли в Невер. Там была действительно «прочая латынь». Обнаружилось, что Карл VII пригласил себя сам. От имени короля там присутствовали канцлер Реньо Шартрский и рыцарь Луи де Бомон. Они взяли на себя руководство дебатами. Изумленные принцы выслушали перечисление условий, которые ставил Карл VII для брака Карла Менского с Марией Гельдернской, племянницей Филиппа Доброго. Потом им изложили королевские планы: Карл VII желает, чтобы все делалось быстро, — у него намерение лично возглавить поход на Гиень, и это дело, как они увидят, не может ждать до 1 мая. Карл VII определял повестку дня собрания, изначально задуманного как заговор!
Принцы выдвинули несколько упреков, чтобы не получилось, что они приехали зря. Они обсудили приданое Марии Гельдернской. Они заверили людей короля в своей преданности короне.
Что они могли сделать? Иоанн V Бретонский так и не явился на собрание, а могуществом Карла VII пренебречь было нельзя. Каждый выдвинул перечень своих претензий. Это был длинный ряд справедливых критических замечаний по адресу правительства, неумелого во многих отношениях, и частных притязаний, отражавших все оттенки недовольства феодалов. Принцы прежде всего требовали, чтобы с ними советовались в государственных делах.
И крупные феодалы нарисовали противоречивый образ королевской власти, достаточно сильной, чтобы обеспечивать порядок и процветание, и достаточно слабой, чтобы свою политику она должна была обсуждать с принцами, а образ действия — с Генеральными штатами.
У Карла VII и его советников хватило мудрости не отвергать этот меморандум. Они ответили по пунктам. Ответ прежде всего давал понять, что волнения вельмож только усугубили беспорядок во Франции. Король очень хочет «изгнать всех, кто творит грабежи», но обладает скудными средствами для этого. Если он не смог принять нужные меры, то потому, что «ему чинили много помех». Создатели последней «помехи» поняли, что имелось в виду.
В остальном совесть короля была чиста, и он оправдывал себя перед каждым из жалобщиков, при случае даже отпуская колкости по адресу герцога Бургундского. В его Совете есть нотабли, принадлежащие ко всем вчерашним партиям: о расколах Франции забыто. Конечно, в Совете Карла VII бывших бургундцев было больше, чем бывших арманьяков в Совете Филиппа Доброго. Этот аргумент позволил королю ответить на главную претензию участников лиги — требование допустить их к реальному управлению королевством.
Король воздержался от того, чтобы нападать, судить, выносить приговоры. Он сделал вид, будто верит в верность принцев. Те оказались вынуждены сохранить верность. Они разъехались.
Пенсии, которые одну за другой выдавливала из себя королевская казна, обеспечили политический мир. Их преимуществом было то, что их в любой момент можно было отменить, что это были не уступки земель. Таким образом Карл VII помог Карлу Орлеанскому выплатить недоимки за выкуп, щедро вознаградил за службу Дюнуа, помог Рене Анжуйскому выправить его финансовое положение. Смерть Иоанна V Бретонского и восхождение на престол его брата Франциска I в 1442 г. окончательно повернули герцогство в кильватер политики французского короля. Дофина Людовика послали подчинить Жана IV д'Арманьяка, который вторгся в Комменж и отрекся от своего оммажа королю.
Единственным, кто не сделал из этого выводов, был «милый герцог» Иоанн Алансонский, который столь действенно послужил Карлу VII в мрачные времена Буржского королевства и который теперь в поисках лучшей участи стремился к союзу с англичанами.
День Тартаса
У Карла VII были развязаны руки, чтобы снова заняться англичанами. После снятия блокады с Иль-де-Франса, казалось, приходит время нанести удар по Гиени. Крепость Тартас на правом берегу Адура была в 1441 г. взята англичанами, но она принадлежала дому Альбре, и договор, устанавливавший на двадцать лет власть англичан над домом Альбре, оставлял шанс королю Франции: на 1 мая 1442 г. был назначен «день». Пока этот день не настал, старший сын Шарля д'Альбре оставался в заложниках у англичан. Если Карл VII соглашался на «битву» в рыцарском смысле слова, судьба Тартаса и сеньории Альбре должна была решиться силой оружия.
Шарль д'Альбре, за которым по пятам следовал сомнительный Жан IV д'Арманьяк, был единственной надеждой французского короля между Тартасом и Нераком, на левом берегу Гаронны. Утратив его, Карл VII потерял бы лицо и в то же время всякую возможность заключить тыловой союз против английской Гиени. Лично выступить в «день» Тартаса — в конечном счете перенесенный на Иванов день, — значило неизбежно потерять много времени. Не идти значило лишиться уважения баронов. После Прагерии и собрания в Невере такое уклонение было бы роковым.
Королевская армия собралась под Лиможем. Заняли Ангумуа, где Дюнуа умело выступил посредником и добился ухода компаний — в частности, компании Гио де ла Роша, — державших крепости гораздо в большей мере для себя, чем ради англичан. 8 июня 1442 г. король с большой помпой вступил в Тулузу. Балдахин несли капитулы. Присутствовал граф д'Арманьяк наряду с Гастоном де Фуа и Шарлем д'Альбре. Дело начиналось с политического успеха — непрочного, но все-таки успеха.
У королевской армии было чем произвести впечатление на народ. Короля сопровождали коннетабль и оба маршала. Жан Бюро подвез артиллерию. Был здесь и дофин Людовик, ехавший по правую руку от своего отца Карла VII. Не меньшее внимание обращали на графов Менского и д'Э: все знали, какую роль они сыграли, командуя королевскими армиями к северу от Луары. Одним своим присутствием оба этих барона, оба этих капитана в достаточной мере демонстрировали, что Карл VII на нормандской границе уже не занимает чисто оборонительные позиции. В то самое время, когда король и его армия подходили к Тартасу, маленький отряд бальи Эврё Робера де Флока — его фамильярно называли Флоке, и он сам так подписывался, — под Эврё обратил в бегство англичан, еще ждавших подкреплений, которые обещал Талбот.
Французы провели Иванов день, выстроившись «баталией». Ни один англичанин не показался. Карл VII велел занять Тартас, а на следующий день взял Сен-Север, где обнаружился английский сенешаль Томас Рэмптон — тот самый, который утвердил трактат, предусматривающий «день». Он был хранителем большой печати герцогства Гиенского. То, что печать попала в руки французов, выглядело дурным предзнаменованием для англичан.
Заняв Сен-Север и Дакс, французы перерезали сухопутную дорогу, соединявшую оба главных города английской Гиени — Бордо и Байонну. После этого Карл VII мог сжимать кольцо вокруг Бордо. В свою очередь пали Тоннен и Марманд. Был занят Руайян. Французская флотилия проникла в порт Бордо и задержала там два судна с грузом продовольствия. В городе это вызвало панику. Бордосцы считали, что их бросили. Архиепископ Пей Берлан, который до сих пор воодушевлял всех противников присоединения к Валуа, призвал своих прихожан стойко держаться, ожидая подкреплений. Потом он отплыл в Лондон. Чтобы получить подкрепления, вернее всего было самому отправиться за ними. Пей Берлан был выразителем последней надежды всех защитников города: неужели Генрих VI посмеет отказать в помощи архиепископу Бордоскому?
7 декабря, после четырех дней осады, капитулировал город Ла-Реоль. Французов снова увидели у ворот Бордо. Страх перед заговором, который способен открыть ворота Бордо, был отнюдь не химерическим, и некоторые уже подумывали, не заплатят ли они за века верности Плантагенетам и Ланкастерам не столь дорого, если сумеют не ожесточить людей Валуа.
Ближе к зиме англичане выправили положение. В августе они отбили Дакс, потом Сен-Север. Прибытие нескольких подкреплений позволило им в октябре провести контрнаступление в окрестностях Бордо. Пей Берлан вернулся в декабре, пообещав скорое прибытие Сомерсета с армией. Французы потратили много времени под Ла-Реолью, где замок — уже после взятия города — держался пятьдесят семь дней. Сам король находился здесь до конца осады, в конце концов едва не сгорев при пожаре в своем жилище, которое нарочно подожгли покоренные, но не смирившиеся жители.
Карл VII распылял силы, нападая на все мелкие укрепления, защищавшие страну. Он не мог за одну кампанию занять двадцать крепостей и захватить Бордо. Он это осознал слишком поздно.
Суровая зима сорвала продолжение операции. 23 декабря 1442 г., оставив в Ла-Реоли адмирала Коэтиви, Карл VII приказал отходить в Лангедок. Бордосцы были спасены.
Французы смогли извлечь уроки из этой истории. Чтобы покончить с английской Гиенью, им недоставало настоящего флота и армии, которая бы снабжалась двенадцать месяцев из двенадцати. Но они прощупали оборону противника, испытали в боях, впервые после Жанны д'Арк, сильную армию. Они посеяли страх в душах гасконцев, верных англичанам, и разрушили систему соучастия — прежде всего соучастия Шарля д'Арманьяка, — благодаря которой могло сохраняться это двуглавое княжество, управляемое из Бордо и Байонны, осколок великой Аквитании.
Жертвой этого дела стал граф д'Арманьяк. Он неосмотрительно занял графство Комменж после смерти старой графини Маргариты. А ведь король договорился с ней о переходе графства во владение короны. Дофину Людовику было поручено наказать мятежника. Жан IV д'Арманьяк был схвачен в Лиль-Журдене и, как полагалось, посажен в заточение. Будущий Людовик XI одну за другой занял крепости Арманьяка. Весной 1444 г. англичане Гиени остались без союзников в борьбе с королем Франции.
Сомерсет попытался сдержать обещания, данные архиепископу Пею Берлану, — обещания, стоимость которых английские податные уже вполне испытали на собственной шкуре. Генриху VI пришлось собирать налоги, подати, делать займы. Он заложил часть своих драгоценностей. Реквизиции кораблей вызвали раздражение купцов, уже и так враждебно относившихся к этой войне, которая без конца вводила их в расход и мешала торговле. Но для герцога, которым он теперь стал, Сомерсет был глуп. Когда он выступил из Нормандии с шестьюстами латниками и четырьмя тысячами лучников, ему даже не пришло в голову, что прежде всего он должен деблокировать Гиень. Он задержался в Нормандии, делая вид, что его отряды имеют полное право грабить страну, потому что население явно относится к ним как к иностранной армии: снабжение за счет жителей обходилось дешевле, чем выплата жалованья, причем задержка последнего достигала восемнадцати месяцев. Тем временем бывший прево Парижа Симон Морье стал казначеем Нормандии и по-прежнему с самой неприкрытой алчностью сочетал ненависть к соотечественникам, в чьих глазах все более выглядел изменником. Потом Сомерсет отправился разорять Анжу и счел за благо опустошить бретонский городок Ла-Герш исключительно из корыстных целей. У герцога Бретонского это вызвало вполне законную ярость, чем воспользовалась французская дипломатия.
Разбив в Анжу небольшую французскую армию, а потом взяв Бомон-ле-Виконт, Сомерсет вернулся в Руан. «Генерал-капитан Гиени» явно забыл о своей миссии. По возвращении его освистали.
В Нормандии дело обстояло не лучше, чем в Гиени. Талбот в 1442 г. купил за золото капитуляцию французского гарнизона Конша, но в то же самое время рутьер Франсуа де Сюрьенн — Арагонец — продал Дюнуа крепость Галлардон. Французы благодаря внезапности взяли Гравиль.
Талбот попытался компенсировать свои неудачи, отбив Дьепп. После девяти месяцев изнурительной осады он был вынужден уступить, когда 14 августа 1443 г. подошла армия дофина Людовика, при котором находился Дюнуа. Бретонские суда непрестанно снабжали город провизией. Казалось, король Франции и его союзники войдут в Нормандию, как только пожелают. В Лондоне полагали, что на материке можно ждать дальнейшего ухудшения дел.
Живодеры
На самом деле королевство Франция снова оказалось обескровленным, и это не было выгодным никому, кроме оставшихся не у дел солдат, которые с легким сердцем жили грабежом и выкупами и едва-едва окрашивали разбой в цвета того или иного принца.
Эти живодеры приходились внучатыми племянниками рутьерам Большой компании, головорезам, которых некогда в Испанию водил Дюгеклен. Солдатами они были, солдатами и остались, даже когда война стихла или приобрела вялотекущий характер, а принцы вербовали их все реже и ненадолго. Мы не будем делать различий между королевским латником, олицетворением верности и дисциплины, и живодером, находящимся вне закона и вне королевского бана. Это один и тот же человек в зависимости от того, платят ему жалованье или нет. Когда он подчиняется маршалам, он немного лучше платит за то, что берет, и немного меньше грабит. И воюет он только в соответствии с приказами. Когда он не у дел, он ищет средства сам. Главное — сохранить оружие и коня.
Когда настает ночь, они укладываются недалеко друг от друга. Питаются они плохо и часто довольствуются орехами и хлебом. Но хорошо кормят своих коней.
Они шли куда глаза глядят, исходя из своих представлений о местности. Маршрут их беспорядочных блужданий был виден — они оставляли по себе самую печальную память, страх даже обгонял их орду, и женщины в этой орде грабили не менее рьяно, чем мужчины.
Их поочередно видели в армии Бедфорда и Ришмона, при ла Тремуйе и дофине Людовике. Они были за того, кто платит. Когда им не платили, им приходилось выживать. Патриоты они или бандиты — такой вопрос им даже не приходил в голову. Разве в 1444 г. Флоке и англичанин Мэтью Гаф не обирали пикардийские деревни вместе? Лютые живодеры в тот период своей биографии, Бурбонский и Арманьякский бастарды были отпрысками знатных родов, хоть и незаконными. Сентрай и Ла Гир соперничали в отваге, борясь за дело Карла VII. Родриго де Вильяндрандо проявлял отвагу за его деньги в деревнях Гиени. Было бы анахронизмом видеть в этих людях маргиналов: это были профессиональные военные, готовые служить, но способные воевать и по собственной инициативе. Когда Флоке брал Эврё, когда Ла Гир бился в Нормандии, им никто не приказывал это делать.
Можно было бы говорить о различии, если бы армии короля — как того, так и другого, — воздерживались от жизни за счет населения. А для этого им должны были бы регулярно платить и не оставлять шесть месяцев в году без дела. Капитан Компьеня Гильом де Флави считался одним из самых грозных главарей банд, граф де Фуа Жан де Грай и сеял страх в том самом Лангедоке, чьим губернатором он был до своей смерти в мае 1436 г., сир де Понс разорял Сентонж, королевский вигье Тулузы Пьер Раймон дю Фога самолично раздевал путников, а ла Тремуй слыл скорее лихим грабителем, чем искушенным политиком.
Каждый старался по мере возможности урвать свое. Филипп Добрый для борьбы с живодерами в Бургундии отправлял отряды, которые простой народ вскоре прозвал стригалями (retondeurs), потому что они многократно обирали страну, как стригут сукно после каждой валки, чтобы удалить ворс.
Многие воины утратили всякую надежду на денежное содержание после заключения Аррасского мира: было ясно видно, что герцог Бургундский понемногу выходит из войны, и многие гарнизоны — французские или бургундские — в значительной мере теряли смысл своего существования. От Пикардии до Оверни и от Лангедока до Анжу население все больше боялось безработных солдат, как, впрочем, боялись и отрядов, находящихся на службе. Такой страх мог передаваться из города в город, но при этом только возрастал.
Надеясь покончить с этой ситуацией, Карл VII приказал тем, кто послужил ему в Мо, идти в город и остаться там в качестве гарнизона. Им обещали регулярно платить. Однако рутьеры отказались повиноваться. Как всегда, когда король пытался в какой-то мере восстановить порядок у себя в королевстве, он столкнулся в враждебностью принцев. Последние дали понять живодерам, что те больше заработают в других местах, чем если станут охранять Ла-Ферте-Бернар, Лаваль или Сабле.
Живодеры снова рассеялись: одни покинули Мо в поисках приключений, другие поначалу согласились последовать за Ришмоном в довольно бесполезный поход в Нижнюю Нормандию. В конечном счете из-за их праздности пострадал Анжу. Это по крайней мере стало уроком для короля Рене: он жестоко поплатился за то, что раньше не поддержал своего кузена Карла VII в его неудачной попытке закрепить за компаниями роль постоянных гарнизонов.
Проследим за судьбой одного из этих живодеров, кастильского капитана, уже встречавшегося на службе Карла VII в Лангедоке и Аквитании, — Родриго де Вильяндрандо, человека, который в 1433 г. командовал неудачным контрнаступлением в Лангедоке, проведенным по просьбе Базельского собора в помощь обороняющемуся Авиньону, которому тогда угрожала армия графа де Фуа. Потом он разграбил Руэрг и Лимузен, содрал выкуп с Милло и Юсселя, ссудив в то же время тысячу экю виконту де Комборну и шесть тысяч герцогу Бурбонскому… Он покупал земли, вкладывал капиталы. В 1436 г. он женился на незаконнорожденной единокровной сестре герцога Бурбонского, Маргарите. Это не помешало ему впоследствии разорять Нижний Лангедок, осаждать города — Безье, Кабриер — и обращать в пепел деревни. За это время его повидали в Берри и в Турени. Туренцы были готовы на все, чтобы больше его не видеть.
В 1438 г. Вильяндрандо добился, чтобы его наняли и ему заплатили Штаты Нижней Оверни: его задача состояла в том, чтобы изгнать других рутьеров. Потом, договорившись с Потоном де Сентраем и его людьми, он отправился на зиму в Гиень. Карлу VII пришлось наложить подать на Лангедок, чтобы на отвоеванных землях Гиени обеспечить пропитанием своих бывших солдат. Их кормили, чтобы они не грабили регион, о котором было известно, что там не очень хорошо относятся к королю. Уже скоро зародится идея ордонансных рот, сводящаяся к следующему: надо платить солдатам в походе, чтобы они сражались, и платить в период между походами, чтобы они не грабили королевство. Карл VII будет систематически внушать эту идею, убеждая провинциальные штаты вотировать налоги, которые во всех отношениях предпочтительней грабежа.
Дабы помочь нашей земле Лангедок и дабы они туда не приходили и не являлись зимовать, как уже некоторые из них начали делать и пришли туда, что стало бы разорением для означенной земли и наших подданных и обитателей оной, мы весьма настоятельно повелели им, дабы они оставались на весь сей мертвый сезон в нашем герцогстве Гиени и земле Гаскони. А поелику необходима некая сумма денег, дабы помочь им прожить в означенных герцогстве и земле, повелели мы оную взять, собрать и взыскать с означенных наших подданных и обитателей оной нашей земли Лангедок… Не получив оной суммы срочно, означенные наши кузены Родриго и Потон не смогут пребывать и прокормиться в сих землях как по причине дороговизны съестного, так и из-за других надобностей, каковые они имеют.
В следующем году Вильяндрандо объединил свои силы с силами Бурбонского бастарда. В то время как другие разоряли все вокруг Альби и Каркассона, он опустошил Тулузскую область, занял Вильмюр на Тарне, Сей и Бузель на Гаронне, взял Браквиль у самых ворот Тулузы. Он перехватывал продовольственные обозы, брал выкуп с купцов, терроризировал деревенских жителей. Капитулы раскошелились, заплатив Родриго две тысячи экю и тысячу бастарду. И наш витязь немедленно, чтобы заработать на жизнь себе и своим солдатам, вымогает две тысячи мутондоров у Штатов Жеводана — за то, что не будет разорять окрестности Манда. Это не помешало ему заключить, словно крупному феодалу, союзный договор с графами де Фуа и де Комменжем, который узаконивал грабежи рутьера: граф де Комменж и его племянник де Фуа фактически выкупали города, занятые в Комменже людьми Вильяндрандо. За ежегодную ренту старый противник обоих графов предложил даже союз.
После этого он вернулся в Кастилию по призыву короля Хуана II, которому недоставало войск против своих восставших баронов. Итак, Вильяндрандо сражался за короля, в то время как часть его компании осталась по эту сторону Пиреней и регулярно обирала Керси. Став графом де Рибадео, Родриго теперь был вельможей. Под Толедо он спас короля Хуана II; тот предоставил ему и наследникам право обедать за королевским столом каждый год в годовщину этого подвига, а также получать в дар одежду, которая во время этой ежегодной трапезы будет на короле Кастилии. С тех пор, не забывая приумножать состояние и вкладывать деньги в морскую торговлю с Англией, Вильяндрандо поддерживал легенду о себе как о национальном герое. Гарсия де Ресенде напишет о нем поэму. Его называли «монсеньор». Никто бы и не помыслил увидеть в нем бандита, даже раскаявшегося. Это был воин, который всегда воевал.
Тем временем дофин Людовик прибыл в Лангедок и вновь нанял в свою армию некоторых рутьеров — в частности, Потона де Сентрая, — что заставило остальных, отныне разобщенных, разбежаться. Бурбонский бастард исчез. Вскоре он умрет.
К несчастью для края и прежде всего для окрестностей Лораге, помощник Вильяндрандо, Жан де Салазар, собрал отряды, оставшиеся в Лангедоке, а также те, которые по окончании дел в Испании отхлынули на эту сторону Пиреней. Карл Vn ловко вышел из положения — он их нанял. И вот знамя короля стало развеваться рядом со знакомым всем знаменем Вильяндрандо. Жан де Салазар станет одним из капитанов ордонансных рот. Еще в конце царствования Людовика XI он будет командовать «ротой испанцев».
В те же времена Арагонец Франсуа де Сюрьенн упустил случай примкнуть за деньги к королю Франции, с которым до сих пор, неизменно верный тому, кто больше предложит, вел постоянную борьбу в рядах англо-бургундцев. Его бывший начальник Перрине Грессар благоразумно вышел из войны, из которой до тех пор неизменно умел извлекать свою выгоду. Арагонец сознательно выбрал сторону англичан. Он даже стал военным советником английского Совета во Франции. В действительности он позволял себя эксплуатировать Сомерсету и Саффолку, которые были очень рады, что под рукой есть человек, готовый на любые дурные дела. Он до последнего момента оборонял Монтаржи, удерживал Сен-Жермен-ан-Ле, держался в Вернёе. Короче говоря, он шел в арьергарде медленного смещения к Ла-Маншу англо-французской границы, которой не было. Это ему было поручено захватить Дрё, взять Фужер.
Таким образом, этот капитан по крайней мере выглядел солдатом на регулярной службе, которому англичане должным образом платили, чтобы он мешал Франции Валуа расширяться и придавать границе пилообразную форму. Взятие Монтаржи — доселе остававшегося в руках Карла VII — в июне 1433 г. принесло ему десять тысяч салюдоров; в 1436 г. Саффолк назначил ему постоянное содержание. Итак, ничего бандитского не было в этом сеньоре из знатного рода, получившем в 1437 г. титул рыцаря, на который бывший каменщик Перрине Грессар никогда не смел и претендовать.
Но Сюрьенн и его люди жили за счет населения, равно как и компании французского короля, с которыми они сражались за Гатине, Иль-де-Франс или Нормандию. То, что не удавалось похитить, жгли, чтобы не оставлять врагу. Нивы превращались в пепел, виноградники устилались обрезанными лозами, поваленные деревья пересекали дороги вокруг Монтаржи, как позже вокруг Дрё. В одних случаях это делали люди Дюнуа и Потона де Сентрая, тогда солдата на регулярной службе, в других — люди Арагонца.
Сюрьенн не гнушался брать деньги у обеих сторон. В то время как англичане заплатили ему три тысячи ливров, чтобы он оборонял Монтаржи, он получил от Дюнуа двенадцать тысяч золотых руайялей, чтобы сдать город Карлу VII и войти с отрядом в состав французской армии. Но он впоследствии поселился в першском городке Лоньи, то есть у англичан, забыв, что получил деньги от Генриха VI на оборону Монтаржи, а от Карла VII — за то, что поступает к нему на службу.
Через девять лет Сюрьенн повторил тот же трюк — за одиннадцать тысяч салюдоров сдал тому же Дюнуа крепость Галлардон, тогда как англичане уже заплатили ему за ее оборону. Больше иметь дело с ним никто не пожелает.
Правду сказать, англичане уже не имели права проявлять требовательность по отношению к тем, кто им служит. В том, что у дела Ланкастеров есть будущее, мало кто был уверен. За них сражались только ради непосредственной выгоды. Один из членов английского Совета не без горечи писал в 1439 г.:
Они не хотят ничего или почти ничего делать без содержания или жалованья. И даже когда им заплатили, они очень скоро устают от дела.
Разоренная Франция
Эта война засад, налетов, «внезапных нападений» изнуряла страну. К налогу на борьбу с живодерами добавлялся налог на борьбу с англичанами — или французами — и налог на то, чтобы живодеры шли грабить в другое место. Под угрозой находилось все — маленькие и большие города, укрепленные деревни и отдельные хутора. Никто не мог считать, что он вне опасности: так, однажды у ворот Санса обнаружили архиепископа Людовика Мелёнского, которого живодеры обобрали на таком расстоянии от стены его архиепископского города, на каком был слышен голос. Не лучше от превратностей судьбы были застрахованы и военные: маршал Жан де Рьё закончит свои дни в застенке Гильома де Флави.
Города по крайней мере могли защищаться, контратаковать, а чаще всего откупаться, пусть рискуя, что бесконечная игра в шантаж и уступки после начнется снова. Так, Тулуза, купив в 1438 г. уход англичан, обосновавшихся в Клермон-Дессу, а потом уход Бурбонского бастарда, в 1439 г. должна была платить за уход Вильяндрандо. Тем не менее бюргерство было готово платить, чтобы избавиться, хотя бы и временно, от угроз, мешавших восстановлению экономики. Поэтому Карлу VII без большого труда удавалось заставлять провинциальные Штаты вотировать налоги, необходимые для обороны или спокойствия. Штаты Лангедока, Штаты Оверни и даже Штаты Бургундии были готовы оплачивать «выгоны», которых требовали рутьеры.
Сельской же местности оставалось лишь дрожать от страха. В период, когда одна угроза исчезла, а другая еще не возникла, жители даже не начинали восстанавливать разрушенное. Крестьяне укрывались кто в замке, кто в лесу. Лангедокские деревни худо-бедно укреплялись. Церковь служила крепостью, а охапки сена превращали нефы в общие спальни. В церкви Богоматери Бург-Дьё, в Берри, богослужению как-то помешали роды. Но никаких гарантий не было, и в Пикардии рутьеры не остановились перед тем, чтобы поджечь церковь в Лионсе, когда там заперлось двести-триста деревенских жителей. Другие церкви получали новое предназначение: одну превратили в стойло, другую в публичный дом.
Повсюду на горизонте виднелся дым от горящих деревень и подпаленных риг. В такой ситуации никто не осмеливался покидать город, отправляться в путь, рисковать своим состоянием. Французская экономика впала в паралич. Сокращение населения было не менее ощутимым, чем прекращение хозяйствования. Целые деревни стояли заброшенными, бедная местность Юрпуа и богатая — Валуа выглядели настоящими пустынями, так же как Овернь или Керси, Мен или Ангумуа. Лимож остался без жителей. Самые торговые улицы Тулузы опустели и к тому же стали нежилыми.
В парижском порту Эколь-Сен-Жермен — через который дерево, зерно, сено везли вниз по течению, — к пристаням близ Сен-Жермен-л'Оксерруа уже не причаливало ни одно судно. Положение Гревского порта было немногим лучше, а число перекупщиков на парижском рынке сократилось вдвое.
Деловая и муниципальная жизнь повсюду переживала реорганизацию. Тулузцы сократили численность капитулов. В Монтобане в 1442 г. не нашлось желающего взять на себя обязанности консула.
Война и ее следствие — недоедание — всегда сопровождались эпидемиями. В 1438 г. Иль-де-Франс опустошила оспа, в 1440 г. Лангедок вновь поразила чума. Горожане часто спасались бегством в сельскую местность, но что им там было делать, кроме как пополнять число бродяг?
Отчаяние выражали все слои общества в разных присущим им стилях. Однажды в 1438 г., когда рутьеры выказали особую дерзость, бравый Горожанин, живущий на острове Сите, записал у себя в дневнике:
В день Богоявления воры Шеврёза, числом двадцать-тридцать, прошли через ворота Сен-Жак и вошли в Париж, убив привратника, каковой сидел на входе. И они беспрепятственно возвратились, захватив трех стражей, охранявших ворота, и многих других бедных людей, не считая добычи, каковой было немало. И случилось это в двенадцать часов дня или около того. И они говорили: «Где ваш король? Эй! Он спрятался?»
По причине разбоя, устроенного означенными ворами, хлеб и вино подорожали так, что мало кто ел хлеба вдоволь. Бедняки вообще не пили вина и не ели мяса, если им его не давали: они ели только репу и капустные кочерыжки, испеченные на углях, без хлеба.
Всю ночь и весь день маленькие дети, женщины и мужчины кричали: «Я умираю! Увы! Горе мне, Боженька, я умираю от голода и холода!» Всякий раз, когда в Париж приходили латники, сопровождая добро, каковое сюда направляли, они приводили с собой две-три сотни семей простолюдинов, чтобы те умерли от голода в Париже.
А в другом стиле епископ Бовезийский Жан Жувенель дез Юрсен в следующем году комментировал для Карла VII несчастья патриарха Иова. Его речь была более ученой, чем у Горожанина, идея — той же.
Правду и ложь разделить трудно. Совершили ли рутьеры все те преступления, о которых сообщали современники и список которых услужливо составил Жувенель, — список, отразившийся в драматической картине, которую в своей истории Карла VII набросает Тома Базен, будущий епископ Лизьё? Вероятно, нет. Но, поскольку о них рассказывали, слушатели дрожали. Как и во времена «жаков», молва раздувала и множила эти истории о беременных женщинах, посаженных на кол, о детях, брошенных в реку, — для пущего эффекта добавляли: «Без крещения», — и о крестьянах, привязанных к сваям и оставленных на съедение волкам. Но заразительность страха была не вымышленной, и Жувенель справедливо обличал слабость короля, поощрявшую воина делаться разбойником: с тех пор как не находят иного средства от рутьеров, кроме как платить им, чтобы они на некоторое время успокоились, каждый хорошо понимает, как урвать свою долю.
Не имея возможности платить, бедняки ушли, так что край стал совсем необитаемым. Из сотни человек не осталось и одного, что весьма прискорбно.
А поскольку у иных не было места, чтобы легко грабить народ, они завладели крепостями, сделав вид, будто намерены вести войну с врагом… Но сделано это было, чтобы соединиться с врагом и грабить людей благомыслящих и подданных короля. Это видно явственно, поелику они накоротке с врагом, и пируют вместе с ним, и так они тиранят ваш бедный народ.
А коль скоро в деревнях не осталось более никого, они набрасываются на горожан… Они приходят всякий раз в означенные города и пируют, а уходя, берут и уводят лошадей работников и упряжных и даже женщин и детей, за чем может последовать полное разорение означенных городов, а вследствие оного и разорение королевства.
Генеральным штатам, собравшимся в Орлеане в октябре 1439 г., уполномоченные Парижского университета без обиняков заявили: если срочно не заключить мир, королевство в конечном счете покинут все. То же своим цветистым слогом выразил епископ Жувенель:
Вся краса Франции исчезла и ушла, поэтому принцы растеряны, как бараны, не находящие пастбища.
Турское перемирие
Сложить оружие — об этом подумывали уже несколько лет. Это было выгодно многим принцам, и герцог Бретонский не жалел сил для заключения мира, от которого его герцогство, уже более века зажатое меж обоих противников из-за хитросплетения всех бретонских дел, должно было получить больше преимуществ, чем кто-либо другой. Герцогиня Бургундская Изабелла Португальская с 1439 г. способствовала возобновлению переговоров между Францией и Англией. На конференции в Гравелине в июле 1439 г. повторилась та же сцена, которая в 1435 г. была разыграна в Аррасе. Реньо Шартрский предложил англичанам Гиень и часть Нормандии, чтобы они держали их в фьеф от короля Франции. В том же примирительном тоне, но полагая, что идет в своих уступках довольно далеко, Бофор предложил Карлу VII сохранить то, что он уже имеет, в качестве фьефа от английского короля.
По крайней мере, англичане были искренне готовы к перемирию. Французы обусловили это перемирие официальным отказом Ланкастера от титула короля Франции. Поскольку все дело уперлось в это, оно застопорилось.
Конечная неудача похода, который провел в 1443 г. Сомерсет, побудила англичан возобновить переговоры. На сей раз их возглавлял Уильям де ла Поль, граф Саффолк; ему казалось, что Англия нуждается в передышке.
Конференция, которая состоялась в Туре с 16 апреля по 28 мая 1444 г. в присутствии епископа Брешианского, папского легата, не позволила достичь общего урегулирования конфликта, уже более чем векового к тому времени. В отношении территориального раздела Франции каждый остался на своих позициях. Но англичане уже не смели притязать на корону. Тем не менее они требовали полного суверенитета Гиени и Нормандии. Это означало раздел королевства. Французы на это, очевидно, не могли согласиться.
Стороны, тем не менее, были готовы к уступкам. Их можно было обсуждать. 20 мая Карл VII дал принципиальное согласие на перемирие, которое может быть заключено на двадцать два месяца. Перемирие распространялось на союзников обеих сторон: Кастилию, Неаполь и Шотландию — с одной, со стороны короля Франции, империю, Португалию и скандинавские королевства — с другой. Полномочные представители Англии нашли гарантию для своей хрупкой конструкции мира: они потребовали для самого короля Генриха VI руку Маргариты Анжуйской, дочери короля Рене, а значит, племянницы Карла VII. Перемирие еще не было заключено, когда при всеобщем ликовании уже отпраздновали эту многообещающую помолвку.
До окончания срока этого перемирия Саффолк добьется первого его продления, отказавшись от всех прав Англии на Мен. С первого взгляда казалось, что от перемирия выигрывают все. На самом деле выгадал Карл VII: пауза позволяла ему организовать реванш. Продлили раз, другой, и Турское перемирие затянулось до 1449 г. К тому времени Франция уже была готова.
Старый борец Реньо Шартрский, архиепископ, миропомазавший Карла VII в мрачные времена, когда буржский король едва выходил из состояния безысходности, связанного с его несчастьем, уже не мог увидеть проблески почетного мира. Канцлер Реньо Шартрский умер 4 апреля 1444 г. в самом Туре, куда приехал, чтобы обсудить с королем начинавшиеся переговоры. Его оплакивали. «Он был достойным человеком».
В ходе торжественной церемонии в Монтиль-ле-Тур Саффолк передал Карлу VII жалованные грамоты Генриха VI, которые были прежде всего верительными грамотами. Это был и политический жест. О «том, кто именует себя королем Франции», уже не говорилось. Ланкастер писал своему «дражайшему французскому дяде». Корона более не ставилась под сомнение.
Глава XIX Карл Победоносный
Национальная война
Карл VII не стал дожидаться Турского перемирия, чтобы начать реорганизацию королевства. Конечно, административные структуры худо-бедно устояли и не развалились, но, пережив кризис, отчасти утратили свою эффективность. Репутация тех реформ, которые начал Карл V и к которым перед 1413 г. вернулось реформаторское движение, была, хоть и непреднамеренно, подорвана эксцессами парижской улицы. С тех пор как Карл VII осуществил подобие восхождения на престол после подписания договора в Труа, он жил одним днем, не осмеливаясь планировать на далекое будущее ни малейших действий.
С 1435 г. врагами стали англичане и только они. Конфликт принял национальную окраску, и власть монарха из него могла выйти окрепшей. Уходило в прошлое то время, когда в числе врагов Валуа — так же как и Плантагенета, удаленного с французского трона, потому что бароны желали видеть королем «уроженца королевства», — были герцог Бретонский, король Наваррский, который для многих был графом д'Эврё, герцог Бургундский и, наконец, герцог Бурбонский. Врага уже не звали Плантагенет, Аркур и Грайи, Марсель и Ле Кок, Кошон и л'Иль-Адам. В 1444 г. его звали Ланкастер, Талбот, Сомерсет.
В январе 1437 г., меньше чем через год после вступления Ришмона в Париж, парламент — в котором заседало немало бургундцев — рассмотрел злополучное обязательство вступить в брак, которое дали солдат Талбота и дочь бюргера с улицы Сент-Антуан. Девушка хотела последовать за своим женихом, клянясь, что она никогда в жизни не согласится выйти за другого. Родители, не слишком гордясь таким проявлением былой широты взглядов, которую в обществе уже начинали считать коллаборационизмом, возражали против этих планов. Парламент рассудил, что означенная Жаннетта не вправе уехать со своим женихом и «стать англичанкой», пока не закончится война.
Современники Жоффруа д'Аркура оценили бы подобную ситуацию иначе. Во времена Талбота «англичанин» уже противопоставлялся «французу». Выходя замуж за англичанина, становишься англичанкой.
Говорили, что Жаннетту надо арестовать; она держалась спокойно. Дениза Ле Верра не могла вести себя так же: она была матерью четырех детей, а их отец оказался в Руане. Это был луккский купец Жак Бернардини, делец, слишком тесно связанный с английскими деловыми кругами и с торговлей с Лондоном, чтобы не уйти вместе с оккупантами. Едва обосновавшись в Руане, Бернардини вызвал Денизу, которая без труда добыла себе разрешение на выезд. Об этом прознали в Шатле. Имущество супругов конфисковали, прежде всего имущество Денизы Ле Верра, которая была дочерью нотабля.
Тщетно адвокат семьи доказывал в суде, что мать не может оставить супруга и детей: так и животное не поступит. Парламент рассудил, что долг подданного выше долга матери. Кстати, Дениза только усугубила свое положение тем, что имела четверых детей от человека, отныне считавшегося англичанином: она произвела на свет еще четырех англичан, в будущем четверых английских податных. По общему мнению, во время войны не следовало рожать новых англичан.
Прежним феодальным конфликтам, как и обычным играм принцев, бюргеры и дочери бюргеров оставались чужды. В том конфликте, который принял облик столкновения двух наций, нейтралитета быть уже не могло. По другому поводу королевский прокурор скажет:
Всякий должен и обязан попечением и защитой стране, где он проживает, и этот долг важнее, чем долг перед родителями.
Таким образом, выступать в качестве владыки королевства и обладателя короны Людовика Святого Карл VII начал, должным образом воссоздав, благодаря стечению благоприятных обстоятельств, политический аппарат монархии. Он пользовался любой возможностью, и тот, кого в беррийском изгнании знали как человека безвольного и скептичного, в 1440-е годы вдруг стал вдохновителем создания множества новых форм, которые расширяли возможности для проведения королевской политики во всех сферах.
Часто говорили, что в Карле VII середины века уже не узнавали буржского короля. Некоторые честь этой перемены приписывали харизме Жанны д'Арк и примеру, который подала она. Другие предпочитали видеть проявитель «нового человека» в любви Агнесы Сорель. Нужно напомнить, что ко времени Турского перемирия Жанну уже немного подзабыли, а Агнеса Сорель появилась в жизни короля только в то время, когда «милый дофин» уже уступил место государственному мужу. Было бы справедливей сослаться на влияние таких людей, как Ришмон — грубый тип, но энергичный политик, — или как удивительный Пьер де Брезе.
Карл VII, «Которому Хорошо Служат», не мог обходиться без советников, фаворитов, придворных. Он не был человеком, принимающим решения единолично, каким позже станет его сын Людовик XI. Но юный принц, униженный в Труа и подавленный своей ответственностью, позволял властвовать над собой теще Иоланде и опекать себя посредственностям вроде ла Тремуя. Взрослый король — в эпоху перемирия ему было сорок лет — разрешал только советовать себе, а советчиков выбирал сам. Конечно, великий Карл VII периода отвоевания земель по-прежнему был подвержен колебаниям, страхам, уклончивости. Ведь это был тот же самый человек, и он во всех смыслах слова сохранил узкие плечи. Но с первыми успехами к нему пришла вера в себя. В этом смысле новый человек, которым стал Карл VII 1440-х годов, новый человек, который сформировался не за один день, многим был обязан Жанне д'Арк.
Прагматическая санкция
Возможность для создания первой из «гранитных глыб», на которых станет покоиться королевская власть, непреднамеренно дал Базельский собор. Карл VII для своего дела нуждался в духовенстве и энергично поддержал антипапские претензии епископов. С тех пор как папа и собор вошли в открытый конфликт — в основном после 1433 г., — король выступил на стороне собора. Поскольку король Англии традиционно противился притязаниям папства, любая другая позиция лишила бы короля Франции некоторых симпатий, которыми он пользовался у своего духовенства.
Важным делом было назначение епископов. Папа с давних пор присвоил право замещать глав епископств, а король добровольно поддерживал его в этом, поскольку в списках, составляемых папой, было немало кандидатов королевской власти. В конечном счете королю легче было договориться с папой, заинтересованным в том, чтобы тот не противился сбору папских налогов во Франции, чем с выборщиками, часто строптивыми. Ведь у королевских чиновников почти не было реальных возможностей оказывать давление на каноников. Еще нужно было, чтобы духовенство хоть минимально одобряло такие сделки между папой и королем. Во время Базельского собора этого ждать уже не приходилось.
После Аррасского договора у Карла VII появились амбиции. Он мечтал выступить в роли арбитра. В 1436 г. он предложил собору нечто вроде компромисса, который и папа, и собор восприняли одинаково негативно. С тех пор люди короля наблюдали за ситуацией, развивавшейся без их участия, и ждали момента, когда можно будет извлечь из нее выгоду.
Выходили все новые реформаторские каноны, публикуясь сериями во время общих заседаний собора. Были отменены основные папские налоги, восстановлена выборность епископов и аббатов, епископы вновь получили право назначения держателей меньших бенефициев. А 24 января 1438 г. 29-я сессия собора декретировала отстранение Евгения IV от должности.
На сей раз король не мог остаться в стороне. Кто-то поддержал собор, кто-то по-прежнему признавал папу. В ситуации общей неопределенности Карл VII созвал в Бурже на 1 мая общее собрание духовенства, которое в конечном счете собралось в июне.
Далеко не все духовенство присутствовало там — наряду с королем, дофином, герцогом Бурбонским и некоторыми знатными баронами. Приехало только четыре архиепископа и двадцать пять епископов; с учетом того, что королевство насчитывало сто семнадцать диоцезов, это было немного, даже если исключать земли, где еще властвовали англичане. Было несколько аббатов, много приоров и каноников, доктора канонического права и магистры богословия. Южная Франция была представлена слабо. Северная — не полностью. До национального собора этому собранию было далеко, но в 1438 г., когда королевство Валуа еще переживало трудные времена, представительство французского духовенства здесь можно было счесть довольно солидным.
Собор прислал своего «оратора». Это был Тома де Курсель, богослов, который, как мы видели, отличился среди судей Жанны д'Арк, высказавшись за пытку. Но в 1435 г. он был в числе делегатов Карла VII на Аррасской конференции. Когда к нему обратились во время процесса реабилитации Жанны д'Арк, он предпочел сослаться на плохую память, чтобы ничего не вспоминать. Он произнесет в соборе Парижской Богоматери надгробное слово Карлу VII.
Пока что Курсель пользовался лестной репутацией в «Священной странице» — так официально называлось университетское богословие. Его часто слышали в Базеле, и самые важные каноны были многим обязаны мнениям, которые высказал он. Отцы собора знали, что делают, поручая ему отстаивать их интересы в Бурже. Король доверял Курселю, а значит, представления собора о будущей организации церкви имели все шансы сразу же найти благоприятный отклик.
Не меньшей решительностью отличался духовник короля. Им был Жерар Маше, гуманист нового образца, известный очень умеренными политическими позициями. Он числился епископом Кастра, но считать, что он представляет Лангедок, было бы заблуждением: он был человеком Сорбонны и Наваррского коллежа. А прежде всего — человеком короля. Когда-то он в Париже возражал Жану Пти, желавшему оправдать убийство Людовика Орлеанского. В свое время он возглавлял в Пуатье экзаменаторов Жанны д'Арк. Поскольку он принадлежал к тем арманьякам, на руках которых не было крови, к людям, которые во все времена составляли партию «мира», как в Париже, так и в Пуатье, он считался мудрецом, и самые ярые бургундцы не могли видеть в нем противника. И вот в Бурже Жерар Маше твердо заявил, что надо поддержать собор.
Канцлер Реньо Шартрский — один из немногих присутствующих архиепископов — мог тогда со всеми необходимыми нюансами, чтобы не ставить короля ни на сторону папы, ни на сторону собора, сделать вывод: собрание духовенства Франции изучит базельские каноны и решит, какие из них королевство Франция может принять.
Принимая такое решение, Карл VII отделял себя от папы, не впадая в слепое повиновение собору. Он прислушался к мнению духовенства, но духовенства своего королевства. Ни от кого не ускользнул один нюанс: как некогда, во времена отказа от повиновения папе, король выступил как глава французской церкви.
Поскольку надо было показать, что они не остановились на уровне деклараций, король и его духовенство приняли решение модифицировать некоторые тексты, разработанные в Базеле. Однако никто не обманывался — форма здесь приобретала значение довода. Ряд изменений, внесенных в соборные каноны, утверждал право короля предписывать французской церкви свой закон. Епископы и доктора играли в Бурже только роль советников. Каноны Базельского собора, принятые Францией, 7 июля 1438 г. были опубликованы в виде королевского ордонанса.
Эта «Прагматическая санкция» была порождением обстоятельств. Карла VII увлекла энергия собора. Тогда же то же самое, что и французы, сделали английское и немецкое духовенство: они изучили базельские каноны и приспособили их к своим представлениям. Но Генрих VI много от этого не выиграл, а Альбрехту Габсбургу выигрывать было нечего, тогда как Карл VII Французский, который только что вернулся к себе в столицу и еще в столь малой степени подчинил себе свое королевство, выиграл все, сделав церковь одним из органов управления французской монархией. То, что капитулам и монастырям предложили во время выборов епископов и аббатов учитывать «кроткие и благожелательные ходатайства короля в пользу достойных особ, ревностно служащих благу государства и королевской власти», было успехом только теоретически — эффективность этого предложения еще надо было подтвердить на практике. Но то, что королевский ордонанс в форме жалованных грамот, принятый по просьбе прелатов и докторов, мог устанавливать правила церковной дисциплины, осуждать сожительство клириков с женщинами, ограничивать применение отлучений, уточнять формы чтения треб и запрещать проведение в церквах мирских праздников — в это поверить ранее было трудно. Согласие на это духовенства создало прецедент.
Когда отцы Базельского собора в свою очередь — без энтузиазма — смирились с тем простым фактом, что Франция подправила каноны и санкционировала их властью короля, этого было достаточно, чтобы сделать вывод: собор поддержал новое представление о французской церкви. Как скоро напишет один юрист, «король Франции — первое церковное лицо в королевстве».
В ходе долгого возведения того здания, которое позже назовут галликанством, осуществлявшегося со времен Людовика Святого и Филиппа Красивого, Карлу VII в 1438 г. удалось добиться успеха принципиальной важности. Эта удача, кстати, значительно способствовала и новому укреплению монархии.
В тот же период архиепископ Пей Берлан в Бордо попытался воспрепятствовать росту престижа Карла VII как церковного главы. Ланкастерская Гиень, изолированная как от Тулузы, так и от Орлеана и Парижа, больше не имела возможностей формировать свою элиту в университетах. В 1439 г. архиепископ объявил, что учреждает университет. Его уставы были обнародованы в 1441 г. И Пей Берлан немедленно дал дотацию для создания коллежа на двенадцать бедных школяров под покровительством святого Рафаила. Капитул Бордо и старосты приходских церквей сразу же стали соперничать с архиепископом: в апсиде собора заложили первый камень монументальной башни и начали реставрацию церкви Сен-Мишель. Ведь надо же было продемонстрировать веру в будущее.
Экономическое возрождение
Если в отношениях с церковью король следовал за обстоятельствами, то в экономической сфере он все-таки предпринял некоторые инициативы сам. Только нормально развивающаяся экономика могла выдержать реорганизацию государства и войну за возвращение земель — она должна была обеспечивать поддержку со стороны народа, а также поступление налогов. Штаты, особенно Штаты Лангедока, никогда не упускали случая напомнить, что их борьба за благосостояние в долгосрочной перспективе соответствует интересам короля, даже если в ближайшее время приводит к снижению налогов.
Города и деревни нужно было отстраивать. В селе выполнение этой задачи могло быть только очень долгим — для этого понадобится добрых полвека, — а возможность оказывать влияние на чужие сеньории король имел лишь в ограниченных масштабах. Тем не менее важный шаг будет сделан, когда в 1447 г. Карл VII присвоит себе — в общих интересах — право разрешать сеньорам заново сдавать в аренду заброшенные земли, не опасаясь, что вернется тот, кто имеет на них право как последний держатель. Ведь никто бы не взял на себя труд распахивать заброшенную землю — и платить чинш, — зная, что однажды придется уступить место внуку крестьянина, ушедшего отсюда во времена больших компаний. Отныне достаточно будет четырех «публичных оглашений», четырех объявлений раз в две недели на большой мессе, чтобы освободить участок земли от всех прав на него.
Тем не менее после заключения перемирия развернулось движение по общему восстановлению порядка в земельной собственности. Во всех сеньориях, даже в тех, которые оставались в английской Гиени, переписывали земли, составляли перечни прав, подсчитывали средства, которые можно и желательно в них вложить. Те, кто был посмекалистей, долго не ждали, прежде чем взять аренду: это было еще выгодно в те годы, когда пустующих земель было слишком много, чтобы сеньор мог требовать большего, если не хотел, чтобы его владения опустели. Когда он находил новых людей, готовых, пусть даже за меньшие повинности, обрабатывать его землю, он был рад и этому.
В городах дело шло быстрее, и у короля здесь были козыри — налоговые, торговые, монетные привилегии. Поднять строения из руин, отстроить жилища, укрепить мосты, вновь благоустроить судоходные фарватеры, восстановить пристани — все это требовало денег, и казна где-то брала или находила их. Достаточно было снизить пошлину за перевозку какого-то товара, освободить податных, уступить общине жителей налоговые поступления, собираемые с них самих или с других. Поскольку все люди стремятся туда, где могут достичь процветания, легко было предвидеть, что недополученная в ближайшее время прибыль очень скоро обернется доходом. Карл VII любил повторять: не в его интересах оставлять «малонаселенными» такие города, как Париж или Тулуза, Труа или Мо, Дьепп или Лувье.
Так, он помог бюргерам Нарбонна отстроить двадцать семь принадлежащих им мостов по всему течению Ода и восстановить дороги, без которых нельзя было тянуть корабли. Для этого они получили на двадцать лет доход от налога под названием «блан» (blanc), составлявшего пять денье со ста фунтов соли, продаваемой на солеварнях региона (в Нарбонне, Капестане, Сижане, Лапальме, Пейриаке) и доход от «заставы», поставленной на Пон-Ферме, в двух лье от города: денье с пешего, два с конного, пять с вьючного животного.
В других местах иногда довольствовались тем, что освобождали местную торговлю или региональные перевозки от того или иного налога или повинности, отягощавших их и усугублявших тяжелое положение разрушенных инфраструктур. Мерой наиболее общего характера из мер такого рода была отмена в 1444 г. всех мостовых пошлин, введенных во время войны на Сене и ее притоках.
Надо было избавить коммерцию также от пут, созданных кризисом. Так, парижские купцы некоторое время компенсировали убытки от продаж, делая займы в счет будущего дохода от своих лавок. Конституированная рента с рыночных прилавков в конце периода застоя была настолько несоразмерна возможному доходу — доходу от оздоровляющейся торговли в городе, который еще надо было заселить заново, — что многие предпочитали бросить свое дело. Ипотека пожирала доход. Чтобы найти выход из этого тупика, правительство Карла VII пошло на решительные меры — разрешило банкротство. Король упразднил все конституированные ренты с рыночных прилавков. Его юристы нашли ему превосходный аргумент: подобную ипотеку запретил когда-то Филипп Красивый. Кредиторы почти не протестовали: они давно закаялись добиваться чего бы то ни было от закрытых торговых предприятий. Но каждый надеялся, что в результате банкротств на рынках появятся торговцы, товары и, следовательно, покупатели.
Правительство Карла VII также попыталось оживить торговые потоки, парализованные войной, и даже создать их заново сообразно новой политической карте. Самым активным инициатором этой политики, несомненно, был Жак Кёр, вошедший в Королевский совет в 1443 г. Он действовал не в одиночку. Но именно Жак Кёр тогда придал средиземноморской торговле Франции совершенно новый импульс. Он создал компанию «Галеры Франции», чтобы избавиться от дорогостоящего посредничества итальянцев в связях с Востоком, и утвердил назначение Монпелье средиземноморским портом королевства, еще не владевшего Марселем. Чтобы укрепить это предприятие, Карл VII предоставил своему казначею монополию на экспорт французских товаров в мусульманский мир. Потом он предоставил льготы портам Эг-Морт и Ла-Рошель, избавив их от нового налога, которым обложили экспорт пряностей и всех восточных товаров — экспорт, который в 1446 г. по всем сухопутным дорогам был запрещен. Король прямо-таки вынуждал купцов выбирать те или иные маршруты.
Политика в отношении ярмарок вытекала из тех же забот, из того же дирижизма, диктуемого необходимостью содействовать экономическому подъему. Ярмарки давно пришли в глубочайший упадок. От шести ежегодных съездов, собиравших в четырех шампанских городах купцов всей Европы, осталось лишь смутное воспоминание. Ярмарки в Ланди, рядом с Сен-Дени, сохранялись до середины периода английской оккупации, но в только качестве местного продовольственного рынка, а не делового центра. Ярмарки, созданные в Лионе в самый разгар кризиса, в лучшем случае прозябали. Что касается лангедокских ярмарок в Пезенасе и Монтаньяке, они остались крупными центрами торговли сукном между Лангедоком и Руссильоном, но болезненно воспринимали угрозы, которые чаще создавали живодеры всех мастей, чем набеги английских армий.
В этот-то период Карл VII счел ловким ходом (результаты его разочаруют) увеличить число ярмарок в стране. Во всяком случае, ему пришла в голову хорошая мысль оживить бывшие ярмарки, предоставив той налоговые льготы, другой торговые монополии. Так он создал иллюзию воскрешения шампанских ярмарок: ордонанс 1445 г. восстановил шесть ярмарок, подтвердил прежние привилегии, ввел новые. Но все это не компенсировало открытия сухопутных путей, отныне вполне надежных, через Сен-Готард и Бреннер и морского пути через Гибралтар, появление которого еще в 1300-е годы резко изменило карту торговых связей между средиземноморским миром и странами Северного моря.
В Лионе было две ярмарки в год, которые еле теплились. Не придав этому значения, учредили третью и велели, чтобы все французские и иностранные монеты имели на этих ярмарках свободное хождение. Это значило избавить рынок от определенных оков: прежде он страдал от того, что купцы были обязаны менять иностранную монету.
Точно так же Карл VII вернул ярмаркам в Ланди, заснувшим лет на пятнадцать, относительное процветание путем освобождения от некоторых налогов, которого хватило, чтобы привлечь купцов из Фландрии и Артуа, Шампани и Бургундии. Ланди уже мог быть лишь чисто региональным экономическим центром. Во всяком случае, он пользовался исключительным географическим положением: это был перекресток речных и сухопутных путей, ведущих в Париж, но без корпоративных ограничений, которые действовали в столице и сдерживали там инициативу.
Королевское правительство сумело также повысить значимость лионского «перекрестка» и помочь этому королевскому городу в торговом соперничестве с Женевой. Ордонанс 1445 г. запретил всем купцам вывозить какие бы то ни было товары на женевские ярмарки, предварительно не выставив их — то есть не предложив для продажи — на лионских. Политика в отношении портов и ярмарок имела общую направленность: Карл VII создавал карту французской торговли.
Это делалось в расчете на будущее процветание. Король восстановил ярмарки в Ланди 15 апреля 1444 г., за шесть недель до Турского перемирия. Правда, сделано еще ничего не было, а в первую очередь надо было заново заселить города.
Увеличить и умножить население, число людей всякого сословия и достатка, что не могло бы совершиться ни быстро, ни легко, если там не станут часто появляться люди и товары.
Может быть, легче всего к тому моменту было заново заселить столицу. Королевская администрация, вернувшись, образовала слой людей с высокой покупательной способностью, которая всегда способствует активизации дел, даже когда жалованье платят с запозданием. Нужно было лишь немного стимулировать миграцию простонародья, чтобы возобновилась прежняя оживленность. Это и сделал Карл VII, освободив на три года от всех налогов — кроме налога на вино — нормандцев, которые пожелают бежать от английского владычества и обосноваться в Париже. Тем самым он выигрывал по двум статьям: увеличивал число парижан и уменьшал численность податного населения в ланкастерской Нормандии. Чтобы ускорить экономическое разорение противника, король даже ввел запрет на импорт всего английского, нормандского или бордоского сукна.
Восстановление финансов
Экономическое возрождение королевства позволило восстановить финансовую сферу. При этом добивались не столько большего объема финансов, превращенных в наличность (Карл VII никогда по-настоящему не испытывал недостатка в средствах), сколько регулярности возможного финансирования государства. При любой возможности, фактически раз или два в год, обязательно обсуждали с депутатами Генеральных или провинциальных штатов принципиальную возможность выделения помощи (эда), «даруемой для ведения войны», и ее сумму. Налог воспринимался как нескончаемое бедствие и не мог служить ни твердой основой для постоянного функционирования гражданских механизмов правительства, ни надежной базой для поддержания порядка двенадцать месяцев в году. Война велась в виде отдельных походов, и средства на нее королевская власть собирала с помощью отдельных налоговых кампаний, для каждой из которых вводили особые правила и разные органы для обложения и сбора.
Так, некто Пьер Мандонье был «назначен в нижнюю землю Оверни для сбора эда в две тысячи франков, каковой наш государь король повелел взять с оных земель Лангедойля в июне месяце 1437 г., подобно тому, как сие было сделано в предыдущем году». Пусть даже Мандонье год за годом должен был взимать почти все налоги, которыми облагалась Нижняя Овернь, — он не был просто сборщиком налогов в Нижней Оверни. Каждый налог представлял собой единое целое со своим названием, своей суммой, своей датой. А если именование должности чиновника занимало три строчки и утрачивало связность, то куда денешься.
Живодеры, вполне непреднамеренно, дали великолепный аргумент людям короля, которые старались приучить народ к постоянному налогу. Ведь из-за живодеров постоянной была если не война, то как минимум военная угроза, а сохранение порядка требовало денег. Это казалось ясным, коль скоро капитанам — как мы видели на примере Вильяндрандо — надо было давать деньги за то, чтобы они зимой не разоряли страну, после того как летом им платили за ее оборону.
Поэтому люди понемногу скорей привыкли к постоянным налогам, чем в принципе согласились на них. В январе 1436 г., когда Штаты Пуатье — весьма непредставительное собрание, несмотря на свое название, — вотировали косвенный эд на четыре года, некоторые депутаты во главе с представителями Тура выразили протест: следует созвать настоящие Генеральные штаты. Недостаточно полномочное собрание может принять срочные меры, но не обеспечить будущую войну. Власти виляли, то заменяя эд прямым налогом, то возвращаясь к эду. В конечном счете в мае 1436 г. Штаты признали этот эд в принципе. Но эта история всех утомила. Король уже не перестанет взимать косвенный налог, но больше в Лангедойле никто не напомнит о необходимости испрашивать на это согласия Штатов.
Лангедок в это же время противился налогу, и его Штаты готовились не допустить введения эда. Предвидя это, Карл VII ввел этот эд в начале 1437 г., даже не дожидаясь открытия сессии. Пусть после этого депутаты для проформы будут протестовать, но добрым людям придется платить налог не менее двенадцати денье с ливра — пяти процентов — за все продаваемые товары, за исключением вина, которым торговали в розницу: его облагали особой пошлиной в размере восьмой части цены.
Косвенный налог больше всего подходил для превращения в постоянный, и люди короля давно поняли это. Будущее эда было вполне обеспечено.
Что касается прямого налога, о нем продолжали спорить. Последний раз Карл VII собирал Генеральные штаты Лангедойля в октябре 1439 г. в Орлеане, и они вотировали сбор суммы в сто тысяч франков. Но после последней сессии в Пуатье в 1436 г. война продолжалась, и королевскому правительству приходилось делать вид, что согласие податных получено. В 1437 г. собрали двести тысяч ливров, столько же в 1438 г., в 1439 г. — триста тысяч. Согласие орлеанских Штатов утверждало сохранение некоего принципа, но те, кто как платил, так и платит, могли бы посмеяться над этим явно ненужным утверждением. Потому-то власти отныне и будут обходиться без созыва Генеральных штатов Лангедойля. Через некоторое время стали имитировать переговоры с местными собраниями, которые было легко запугать. После 1450 г. прекратится и это.
В этой истории с испрашиванием согласия на налог, необходимым по закону, так как налог был чрезвычайной мерой, принимавшейся при особо тяжелых финансовых трудностях, или считался таковой, в 1442 г. последнее слово сказал Карл VII:
Нет надобности собирать три сословия, чтобы ввести талью… Это лишь бремя и расход для бедного люда, каковой должен оплачивать тех, кто собирается. Многие видные сеньоры страны ходатайствовали, дабы такие созывы прекратились. По сей причине они будут довольны, если король соблаговолит сам дать поручение делегатам.
Иначе говоря, если уж платить налог, вовсе не обязательно дополнительно платить еще и за то, чтобы обсуждать его. Абсентеизм, который в то время особо отмечался в Штатах Лангедока, достаточно демонстрирует, что король почти не преувеличивал.
На пути к постоянной армии
Перемирие не имело бы никакого смысла, если бы не позволяло подготовить решительное наступление на земли, которые англичане еще удерживали в Нормандии, а также в Гиени. Забота о создании регулярного финансирования предваряла заботу о создании регулярной армии, той самой постоянной армии, к созданию которой практически приступил — не смея сказать об этом открыто — Карл V и отсутствие которой (гражданская война превозмогла прекрасную организацию мудрого короля) сделало периоды после кампаний еще опасней, чем периоды боевых действий. Нередко оказывалось, что действия бродячих банд страшней набегов противника.
Когда армия то есть, то ее нет, — это расточительство сил еще и с тактической точки зрения. Какие-то крепости то брали, то теряли через несколько месяцев. Война затягивалась до бесконечности как на уровне королевства, так и на уровне деревни, потому что ни один результат не был окончательным. Становилось очевидным: победит тот из противников, кто первым сумеет консолидировать свои позиции двенадцать месяцев из двенадцати.
Финансы Карла VII дали ему такую возможность — он опередил противника. Но ордонанс, обнародованный в феврале или марте 1445 г., на первый взгляд не вводил коренных реформ. Он просто объявлял о постоянном содержании на жалованье (retenue) определенного количества рот (или компаний, compagnies), которые образуют армию, «предписанную» (ordonnee) королем. Пятнадцать рот, тысяча пятьсот «копий» (lances), а вскоре восемнадцать рот и тысяча восемьсот «копий» — вот личный состав «большого ордонанса» (или grande retenue), благодаря которому в 1450-е годы будет отвоевано королевство Валуа.
Сохранить пятнадцать рот значило выбрать из капитанов, более или менее постоянно служивших королю до перемирия, пятнадцать счастливчиков, притом что недовольных будет гораздо больше. Для простых воинов служба королю становилась привилегией, что оправдывало повышенные требования к ее качеству.
Кто стал избранниками? Естественно, оба маршала — Андре де Лозак и Филипп де Кюлан, как и старые приверженцы короля, бывшие соратники Жанны д'Арк и вожди последних походов — Потон де Сентрай, Оливье де Коэтиви, Шарль де Кюлан. Некоторых из этих «ордонансных» капитанов ждала блестящая карьера: человек дофина Людовика Жоашен Руо в конечном счете станет маршалом. О других заговорят позже — например, о прево Тристане Отшельнике[101]. Почетное место занимали иностранцы, под чьим началом были собраны воины, когда-то навербованные Карлом VII за пределами Франции: шотландцы Робин Петтилоу и Роберт Каннингем, испанец Мартин Гарсия, итальянец Бонифачо де Вальперга. Один из Вальперга уже отличился под Орлеаном во времена Жанны.
Некоторые вельможи в этом большом ордонансе Карла VII оказались на привилегированном положении. Так, среди капитанов можно найти родного отца ордонанса 1445 г. — Пьера де Брезе. Арно-Аманьё д'Альбре — сир д'Орваль и герцог Карл де Бурбон также не погнушались ввести свои компании в состав рот большого ордонанса короля.
Этот список готовился долго, в него не вошло большинство принцев — они бы не согласились удалиться от дворов, — и за его рамками осталось несколько беспокойных баронов, в частности, Комменж. Многие капитаны были возвращены в гражданскую жизнь, и им велели самим распустить своих воинов. Самые удачливые найдут службу в королевской администрации, и бывшие капитаны сделают карьеру в качестве бальи или сенешалей. Простые солдаты станут искать более скромного применения своим силам, довольно часто возвращаясь в то социальное положение, из которого их подняла война со времен Карла V. Живодеры, завербованные за неимением лучшего в 1439 г., снова сделаются опасными.
Так, королевскую армию покинули сотни безземельных дворянчиков, бастарды высшей и прежде всего низшей знати и самозваные оруженосцы, благородное происхождение которых вызывало сомнение и которые во всех смыслах слова не имели корней. Кончились времена тех, кого фамильярно называли «железными мечами». Война надолго перестала быть авантюрой.
После чистки 1445 г. кавалерия короля Франции вновь стала тем, чем была при первых Валуа, — армией знати. Кроме набора на местах, который многие капитаны практиковали в деревнях своей сеньории, в этой армии уже не было ничего феодального. Высшие посты в ней занимала знать, но каждый был всем обязан королю — и местом, и жалованьем. Королю и тем, кто выступал от имени короля. Ведь ордонансные капитаны были клиентами: Брезе принадлежал к старинному анжуйскому клану, как и Коэтиви; Броон и другие бретонцы были людьми коннетабля де Ришмона, который, кстати, продвигал Тристана Отшельника. Однако после Прагерии никто не строил иллюзий: армия была королевской, и не было иной войны, кроме войны короля.
Полторы тысячи, тысяча восемьсот «копий». Что это значит? «Копье» — это латник (homme d'armes), в двух случаях из трех дворянин, и к нему почти всегда относились как к дворянину, но редко рыцарь. Это также паж — будущий латник — или слуга. Наконец, это два конных лучника с одним слугой на двоих и один кутилье (coutillier). Итого шесть человек, из которых три всадника, то есть автономная тактическая группа, способная к маневру и ответному удару исключительно благодаря тому, что бойцы и их вооружение взаимно дополняли друг друга. Таким образом, король, заботясь о численности профессиональных бойцов и периодически их контролируя при помощи смотров, сократил массу нестроевых, слуг, «мелкой сошки», которую в большей или меньшей степени допускали в прежние компании, всех, кто лучше умел есть и грабить, чем сражаться или эффективно служить бойцам. Слишком многочисленным слугам, склонным слишком часто менять господ, склочникам по призванию и денщикам из лености, больше не доверяли. Ограничили число девиц, следующих за солдатами, которые гораздо чаще были «распутницами», чем санитарками. Сила «копья» определялась не численностью ртов, а численностью вооруженных рук: нужны были хорошие и профессиональные воины — некоторые служили лет двадцать-тридцать — и опытные лучники, которым бы служил смелый и сильный пеший кутилье. Это и было «копье».
Таким образом, в самый разгар войны, около 1450 г., вся королевская кавалерия составляла десять-двенадцать тысяч человек, в том числе семь-восемь тысяч бойцов. Очень стабильная армия, которую король сохранил, немного уменьшив после того, как большие операции прекратились. Королевские финансы отныне это позволяли. Чтобы противостоять интригам феодалам, чтобы противостоять Бургундии, Карлу VII и Людовику XI этого вполне хватит. Просто во время войны против Карла Смелого большой ордонанс постараются довести почти до трех тысяч копий.
Речь шла о походной армии. Гарнизоны же составляли малый ордонанс: в них служили пехотинцы, но все-таки бойцы. Размещаясь в отвоеванных крепостях, они поэтапно обеспечат окончательную победу. Далее они будут обеспечивать просто-напросто порядок в городах. Это были «люди мертвой оплаты» (gens а'lа morte-paie), которых называли так потому, что не они не двигались с места. Распределяемый по крепостям по мере освобождения страны, малый ордонанс включал в себя с 1451 г. в Нормандии пятьсот пятьдесят латников, после 1454 г. в Гиени — триста пятьдесят латников. При каждом из них был паж и два лучника. Таким образом, чтобы удерживать отвоеванную Францию, Карл VII имел в распоряжении три-четыре тысячи человек — реальную силу, если учесть, сколь скудной была численность английских гарнизонов при Бедфорде.
Армия, впрочем, состояла не только из большого и малого ордонансов. Они составляли ее стабильное ядро, которое при случае усиливали контингенты союзных принцев (так, в войне за Гиень — Арманьяка и Фуа) и к которому иногда добавляли отдельные роты, завербованные старым способом и получавшие оплату за время похода. Летом 1451 г., когда завоевали Нормандию и направили главный удар на Гиень, король Франции располагал приблизительно двадцатью тысячами бойцов (половина из них была всадниками, другая — пехотинцами) и мог выделить три тысячи человек для занятия городов.
Пять месяцев войны обходились в шестьсот-семьсот тысяч турских ливров. Эффективность новой королевской армии зависела от эффективности новой финансовой системы, которая сама была результатом восстановления политической власти.
На взгляд Карла VII и его советников, это было не поводом отказываться от бесплатной службы, от бана и арьербана, на основе которого со времен Филиппа Красивого суверены худо-бедно созывали в свою армию вассалов короны и их людей или получали от потенциальных бойцов денежную «субсидию» в качестве компенсации военной службы. Карл VII прибегнул к этому способу еще в 1453 г.: он созвал знать королевства в летний поход. Но он заплатил ей.
Неудача другой попытки выявится позже: ордонансом от 28 апреля 1448 г. были созданы «вольные лучники» (francs-archers). Они были вольными, потому что освобождались от прямых налогов, и лучниками, потому что должны были упражняться в стрельбе из лука или арбалета. Своих лучников должен был выделять каждый приход из расчета один человек на восемьдесят очагов. По документам это давало королю на всей территории королевства приблизительно восемь тысяч боеготовых лучников.
Такая идея создания резервной пехоты сама по себе была превосходной, но среднего бюргера интересовала в ней только налоговая льгота. Этот институт зачах, едва родившись, потому что способствовал освобождению самых богатых горожан от налогов, не обеспечивая настоящей боевой эффективности лучников. Среди них оказывались больные, немощные, старики, которых больше привлекала привилегия, чем побуждала воинственность. Некоторых забавляла возможность изображать из себя воинов. Они с удовольствием созывали друзей на встречи, где военные упражнения были только предлогом, а главным — свежее белое вино. Во многих городах вольными лучниками оказались самые хитрые нотабли. Но в бою их отрядов король уже не встречал. В народе смеялись над «Вольным лучником из Баньоле»[102] и склонностью ему подобных удирать с поля боя. Сюжет перешел в песни. В 1480 г. Людовик XI отменил этот институт.
Наконец, артиллерия стала не просто средством тактической поддержки, с которым следовало считаться еще при Филиппе VI. Под руководством Пьера Бессонно — до 1444 г., а потом братьев Гаспара и Жана Бюро она начала превращаться в решающую силу для достижения победы. В городах появлялось все больше литейщиков пушек, в большинстве бывших литейщиков колоколов; они чаще занимались починкой поврежденных орудий, чем отливкой новых. Ведь пушка — предмет хрупкий, и артиллерийской прислуге очень советовали сражаться только в состоянии благодати.
Ему следует более, чем любому иному воину, бояться обидеть Бога, ибо, приводя в действие свое орудие, он всякий раз подвергается опасности сгореть заживо.
Измыслили пушки самых разных размеров, от легкой серпантины, стреляющей пяти-шестифунтовыми ядрами, и кулеврины, управляться с которой было еще нетрудно, — положив ствол на сошку, вбитую в землю, пушку потом окапывали, — до пищалей (veuglairs) и курто, до бомбард и «толстых пушек», которые устанавливали на деревянный помост. Чтобы облегчить маневрирование, то так, то этак приспосабливали колесные повозки, удачно заменившие прежние ложа; генуэзский инженер Луи Жирибо изобрел очень удобную тележку, благодаря которой артиллерия отныне успевала реагировать на перемены в ходе сражения. Это был большой шаг вперед по сравнению с баллистами и требюше, пружины и балансиры которых настраивали раз и навсегда.
В то же время алхимики усовершенствовали качество пороха: шесть частей селитры, одна серы, одна угля. Никто бы не поклялся, что в этом рецепте нет чего-то магического.
Отныне существовало оружие массового воздействия. В последних сражениях Столетней войны артиллерия служила не просто для того, чтобы устрашать противника пламенем и грохотом. Град ядер истреблял английскую конницу, которая становилась жертвой своей неприспособленности к новому оружию, как век назад французская конница, недостаточно учитывавшая подвижность лучников. В осадном деле прошла пора огромных каменных глыб, которыми вели навесную стрельбу из требюше — орудий, неспособных корректировать стрельбу, времена, когда прилетавшие обломки скал пугали население, проламывая крыши, но были неспособны причинить большой ущерб каменной кладке. В то время как легкие орудия стреляли свинцовыми или чугунными ядрами, бомбарды по-прежнему метали каменные ядра, но их стрельба стала прицельной, нередко настильной и рассчитанной на то, чтобы пробить стену или снести ворота. А при осаде Бордо в 1452 г. использовали разрывные полые ядра, начиненные разрывными зарядами.
Кризис в Англии
Время работало на Карла VII. В то время как он восстанавливал свою силу, мощь англичан заметно снижалась. Если король Франции справился с Прагерией, то его враг стал жертвой феодальных волнений, которые внушали надежду принцам и вели Англию ко внутренней войне. Дядя короля, герцог Хамфри Глостер, открыто плел заговоры. В парламенте он подвергал нападкам политику собственного дяди — кардинала Бофора. Он оспаривал власть у графа Саффолка. Брак Генриха VI с Маргаритой Анжуйской, скрепивший перемирие 1444 г., все восприняли как поражение Глостера. Последнему нужно было восстанавливать свои позиции.
Молодой король Англии — к моменту заключения перемирия ему было двадцать два года — не мог думать о возобновлении войны. Как ни старался Глостер, изобличая ошибочность выжидательной политики в то время, когда противник вооружается, Саффолк не желал ничего слышать. Инициатор перемирия, которое могло стать решительным шагом к миру, он боялся, что отголоски войны, все более непопулярной у англичан, скажутся на внутреннем положении в стране. Но народ не любил свою французскую королеву, а когда Генрих VI предложил вернуть Мен своему тестю Карлу Анжуйскому, в то время графу Менскому, раздались возгласы возмущения. Чувствуя себя увереннее в роли критика, чем Саффолк в роли правителя страны, Глостер всякий раз здесь брал верх.
В отчаянии Саффолк созвал в феврале 1447 г. парламент в совершенно непривычном месте — в Бери-Сент-Эдмундс, где мог легко оградить себя от неожиданностей и откуда посмел отдать приказ арестовать королевского дядю. Через пять дней стало известно, что Глостер умер в тюрьме. Объявили об апоплексическом ударе: арест «огорчил» его — такова была официальная версия. Многие заговорили об убийстве. Несомненно, они заблуждались. Тем не менее Глостер был сыном короля, и его смерть вызвала в 1447 г. в Англии много шума. Когда 11 апреля в свою очередь скончался старый Бофор, многим приходило в голову, что кардинал Винчестерский поплатился за свою вину.
Так за несколько дней со сцены сошло целое поколение. Генрих VI и его наставник Саффолк остались у власти одни, но они далеко не контролировали Англию. Феодалы не прекращали волноваться. В первые ряды стал выдвигаться Сомерсет. Герцог Ричард Йорк начал усваивать мысль, что по матери он принадлежит к старшей ветви по отношению к Ланкастерам. Генрих VI столь же плохо поддерживал своих капитанов, сколь плохо подчинял себе своих баронов и даже не сам выбирал себе союзников. На горизонте Англии возник призрак «войны Алой и Белой розы». Ее предвестия не могли упрочить английское владычество во Франции. Потеря материка лишь усугубит ситуацию на острове.
Ошибки Сомерсета
Тем не менее искал ли войны Карл VII? Это как раз не факт. Он демонстрировал свою новую силу, но прежде всего затем, чтобы взять верх на неизбежных переговорах, на которых, как можно было надеяться, англичане покажут себя более сговорчивыми, чем во времена Бедфорда. Ведь с 1445 по 1447 гг. переговоры, более или менее добросовестные, не прекращались. Обменивались письмами, посольствами. Дюнуа ездил в Лондон. Перемирие несколько раз продлевали, но заключение мира было обусловлено выполнением обещаний, данных при браке Генриха VI с Маргаритой Анжуйской. Так, капитан Ле-Мана Осберн Мандефорд без конца находил все новые предлоги, чтобы не уступать город. Весной 1448 г. Дюнуа и Брезе были вынуждены привести под Ле-Ман небольшую армию и занять предместья, угрожая взять город штурмом. Мандефорд держался браво, даже предложил бой, но в итоге эвакуировал крепость. Тем не менее он со своими людьми после этого занял Мортен и Сен-Жам-де-Беврон — два городка, сильно пострадавших от войны и уже не защищенных.
Франциск I Бретонский немедленно выразил протест: под угрозой оказалось его герцогство. Правда, герцог Франциск ненавидел англичан. Очевидно, что операция Мандефорда была изолированной выходкой, но английский капитан взялся укреплять Мортен и Сен-Жам. Таким образом, легко было поднять крик о нарушении перемирия, и Карл VII не преминул этого сделать: условия перемирия запрещали укреплять новые крепости на границе.
Французы и англичане еще вели переговоры, но тон стал резче. Каждая сторона выдвигала список своих претензий. Охотно перечисляли допущенные противником нарушения перемирия. Сомерсет повел себя «надменно», и его собеседники были вынуждены призвать его к порядку. Встретившись в Лувье, Гильом Кузино и епископ Чичестерский Адам Молейнс стали состязаться в изобретательности, устроив юридическую дискуссию, в которой каждый толковал условия перемирия к выгоде своей стороны. Дошло до спора о том, распространяется договор на Бретань или нет. И французы сразу напомнили, что герцог Франциск — в полной мере подданный, вассал и племянник короля Карла VII. Прошли времена, когда Иоанн V Бретонский лавировал меж обоих лагерей. Франциск I решительно встал на сторону Валуа. Но у епископа Молейнса были свои аргументы: спорные города — нормандские. Герцог Бретонский не имеет оснований говорить, что угрожают ему.
Правду сказать, англичан устраивало, что на бретонской границе возникло некоторое беспокойство. Герцог Франциск повел себя вызывающе по отношению к ним, внезапно принеся оммаж Карлу VII, и велел арестовать собственного брата Жиля, не скрывавшего симпатий к Ланкастеру. Генрих VI это воспринял с изрядным неудовольствием. Налет Осберна Мандефорда в конечном счете означал английский реванш.
В то время как внимание было привлечено к конференциям в Лувье, Сомерсет готовил громкий и масштабный удар. 18 марта 1449 г. Генрих VI написал Карлу VII, предлагая новую конференцию, которая может состояться 15 мая в Пон-де-л'Арше. Можно провести переговоры о мире вообще и о последних нарушениях перемирия в частности. А 24 марта Франсуа де Сюрьенн, по прозвищу Арагонец, внезапно захватил город Фужер.
Арагонец был одним из лучших капитанов Генриха VI. В Англии он теперь стал членом Королевского совета и рыцарем Подвязки. В последнее время он командовал гарнизоном в Вернёе, но за последние месяцы дважды ездил в Англию. Было известно, что он имел долгую беседу с Саффолком. Его вернёйский гарнизон укрепили прежде других гарнизонов в Нормандии, не более и не менее угрожаемых. По приказу Сомерсета в Вернёй даже подвезли дополнительные боеприпасы. Короче говоря, история с Фужером не могла быть случайной выходкой капитана, действующего по собственной инициативе.
Гильом Кузино тогда находился в Руане, где переговоры с Сомерсетом были в полном разгаре. Он разгадал провокацию. Послав письмо, он предупредил Карла VII.
На бретонскую границу с тремя сотнями копий двинулся маршал де Лоэак. В подкрепление ему был придан адмирал де Коэтиви — он считался специалистом по осадам. Когда Сомерсет в свою очередь написал королю Франции в конце апреля, прося его не вмешиваться в это дело, было уже поздно. Сомерсет выражал сожаление по поводу захвата Фужера, но отнюдь не проявлял склонности возвращать город. Карл VII не поддался на обман: он сделал вид, что продолжает переговоры о перемирии, притворно обратился за советом к герцогу Бургундскому и стал готовить ответный удар.
13 мая он заявил Сомерсету, что не намерен обсуждать мелкие детали перемирия в момент, когда происходит самое вопиющее нарушение этого перемирия.
Вполне ясно, что в настоящий момент рассматривать другие посягательства, оставляя в стороне фужерское дело, столь великое и столь огромное и столь прямо направленное против существа означенного перемирия, значило бы мало способствовать поддержанию оного перемирия.
В ночь с 15 на 16 мая под крики «Святой Ив! Бретань!» Жан де Брезе и Робер Флоке захватили маленькую крепость Пон-де-л'Арш. Карл VII не расторгал перемирия: это просто был ответ на захват Фужера. Но все знали, что Брезе близок к королю, а Флоке — бальи Эврё. Возгласы никого не обманули. Именно этого и хотел король.
В последующие дни люди Карла VII наложили руку в Бовези — на Жерберуа, в Нормандии — на Конш, в Гиени — на Коньяк. Это было уже не просто предупреждением. Сомерсет был достаточно глуп, чтобы удивиться этому по-настоящему. Забыв о Фужере и сделав вид, что не знает о напрасной отправке им отряда к Сенту, он пришел в панику от мысли, что война может возобновиться в неблагоприятной ситуации. Он сообщил в Лондон, что не считает возможным удержать Нормандию.
Отвоевание Нормандии
«Степенный и осторожный», по выражениям своего будущего историка, епископа Тома Базена, Карл VII теперь плел свою интригу. 17 июня 1449 г. был заключен союзный договор с Франциском Бретонским; договор предусматривал, что, если Фужер не будет возвращен через короткое время, союзники вступят в войну с англичанами. В то же время Филипп Добрый сообщил королю, что одобряет это решение, выразив лишь пожелание, чтобы, прежде чем возобновить войну, посоветовались с принцами крови Франции. Герцог Бургундский теперь в официальных актах называл себя «герцогом Божьей милостью», и Карл VII тщетно протестовал против этого. Открыто причислив себя к принцам крови, Филипп придал последней стадии Столетней войны выраженный национальный колорит.
Не теряли времени королевские легисты, уже несколько лет находя все новые подтверждения былого единства короля и нации. В трактате, изобилующем выдержками из подлинных документов, хранящихся в королевских архивах, Жан Жувенель дез Юрсен демонстрировал несостоятельность притязаний Плантагенета на корону Капетингов. У агиографов, преданных делу короля, в лице «святого» Хлодвига начали проглядывать черты Карла VII: обоих королей во всем поддерживало Провидение, оба были основателями французской нации. И освободителями Аквитании — тоже…
Теперь Карл VII делал все по порядку. 17 июля в своем замке Ле-Рош-Траншельон близ Шинона он собрал Большой совет. Там присутствовали принцы крови, как желал Филипп Добрый. Каждый говорил по очереди. Общее мнение было таково, что король Франции сделал даже больше, чем требовала справедливость. В нарушении перемирия был повинен не он. Канцлер Гильом Жувенель дез Юрсен — брат Жана — заранее подготовил мудрое решение: по мнению принцев, для короля было бы бесчестием не защитить свой народ и не изгнать англичан. Это означало перевод конфликта на национальный уровень, однако без отказа от старых рыцарских понятий: долг сеньора оказывать покровительство своим людям весьма удачно оправдывал войну, которая уже не была насилием со стороны сеньора-короля по отношению к его вассалу-герцогу, потому что Ланкастер, в отличие от Плантагенета, уже не был вассалом для Валуа.
В тот же день Дюнуа был назначен «наместником марок за реками Соммой и Уазой до самого моря». На коннетабля де Ришмона, дядю герцога Франциска, была возложена ответственность за охрану бретонской границы.
31 июля в присутствии двора Карл VII принял английских послов — Жана Ланфана и Жана Кузена. Им официально заявили, что время дискуссий прошло.
Разумным было атаковать сначала Нормандию. Если в Гиени англичане по большей части могли рассчитывать на сочувствие общества, то большинство нормандцев от них отвернулось. От земли Ко до Котантена английская администрация встречала только уклончивость, помехи, а то и козни. Даже прелаты — епископ Авранша в 1437 г., аббат Шербура в 1442 г. — утверждали, что не в состоянии провести перепись своих владений, как из-за небезопасности дорог, так и из-за нежелания жителей. Налеты, нередко удачные, которые совершали отряды сторонников Карла VII, всегда находили помощь со стороны сочувствующих в городах и поддержку в деревне. Тридцать лет оккупанты жили в постоянном ожидании подвоха.
Не станем обманывать себя. Англичане — это значило беспорядок. Это значило налоги и солдаты. Сторона Карла VII очень легко приобрела репутацию врагов фиска — английского — и противников мародерства. Люди, которых менее всего можно было заподозрить во враждебности по отношению к Генриху VI, не упускали случая, ничем не рискуя, пожалеть о временах Генриха V: тогда царил порядок. Во всяком случае, некоторые в это верили, пусть даже они поторопились поверить, что порядок царит как раз во владениях буржского короля. Образцовое поведение частей Карла VII, дисциплинированных и оплачиваемых, укрепляло боевой дух участников нормандского сопротивления: было известно, что армия Валуа — отныне — воздерживается от грабежа. Не платя денег своим гарнизонам, Генрих VI проигрывал по всем статьям: его люди теряли популярность и были готовы к быстрой капитуляции. Некоторые английские капитаны решили помешать сговорам французов с противником, казня все больше народу. Этим они ничего не выиграли.
Кампания началась 20 июля. Дюнуа бросил отряд Брезе на Верней, ворота которого открыл привратник-сообщник. Потом, оставив английский гарнизон, запершийся в башне, Дюнуа двинулся навстречу армии, которая во главе со старым Талботом вышла из Руана на помощь Вернёю. Если говорить о помощи, то Талбот спешно скомандовал отступать, едва узнав, что французы ищут с ним боя. В конечном счете он заперся в Руане.
Дюнуа теперь был спокоен. Он пришел в Эврё, потом соединился с армией, которую из Пикардии привел граф де Сен-Поль. К середине августа большая часть городов Нормандии: Понт-Одемер, Пон-л'Эвек, Лизьё, Берне — сдались. Дюнуа закрепился в Лизьё, завязал отношения со сторонниками французской короны, готовыми действовать в Кане, сообщил Карлу VII, что того ждут. 30 августа 1449 г. в Лувье король Франции впервые с давних пор провел заседание своего Совета в Нормандии.
Только что пали Мант и Верной. Сен-Поль подавил последние очаги английского сопротивления в земле Бре, Дюнуа сделал то же самое на левом берегу. Один взял Гурне и Нёфшатель, другой продвинулся до Аржантана. В сельскую местность вступил герцог Алансонский и без труда занял Сеез и Алансон. Стало известно, что гарнизон Дьеппа захватил Фекан. Оставалось взять Руан, чтобы англичане больше не запирали выход из Сены.
Последние пребывали в прострации. Крах, происшедший за два месяца, слишком уж соответствовал худшим ожиданиям Сомерсета. Пришедшая в сентябре весть, что на сцену вышли бретонцы, лишь усугубила ситуацию. Франциск I Бретонский считал своим долгом отомстить за Фужер, и при нем был его дядя Ришмон. Запертый в Руане, Сомерсет не мог и мечтать вмешаться в события в Котантене. Ему пришлось довольствоваться отправкой в Лондон призыва о помощи.
Герцог Бретонский не замедлил подойти к Фужеру, уже осажденному его братом Пьером. Он вошел в Нормандию, занял Кутанс и Гранвиль, потом Сен-Ло. Карантан и Валонь сделали вид, что сопротивляются. К середине октября дело было закончено. Франциск I вернулся к Фужеру и помог брату захватить город, который пал 5 ноября. Наконец он ушел на зимние квартиры. Оскорбление было смыто.
В Руане хорошо поработал один тайный агент Карла VII. Его звали брат Жан Конвен, и он был августинцем. Позже король был вынужден платить ему ренту в пятнадцать экю за то, что тот два месяца сновал между Руаном и Лувье. Через него Карл VII получал информацию о положении в городе. Король даже мог согласовать свои действия с теми, которые со своей стороны намеревались осуществить руанцы.
Королевская армия появилась под Руаном 9 октября. Ей командовал лично Карл VII, которого сопровождали король Рене, граф Менский, маршалы де Лафайет и де Жалонь и весь двор. Но показать силу было недостаточно; Дюнуа был вынужден подумать о штурме. Он вновь появился под Руаном 16 октября, устроил диверсию на севере против Бовуазенских ворот и метнулся чуть восточней, к Сент-Илерским воротам, которые посвященные горожане в тот самый момент открыли. Однако Талбот успел отреагировать. Дюнуа отступил. Но англичане совершили ошибку, перебив на месте горожан, заподозренных в соучастии: общественное мнение приняло сторону жертв. Руанцы считали, что лучше договориться с Карлом VII, хотя бы затем, чтобы победители не устроили грабежа.
Поэтому часть горожан открыто собралась в ратуше и передала королю, что готова упростить ему задачу в обмен на определенные обещания. Сомерсет был парализован; он не мог помешать этому сговору. Но он по крайней мере попытался вмешаться в переговоры. Карл VII соизволил пообещать, что разрешит англичанам свободно удалиться, если только они не будут противиться передаче города. Дело было ясным: если гарнизон окажет сопротивление, к нему проявят меньшее великодушие.
Сомерсет отказался капитулировать. Впрочем, уже было поздно. Утром 19 октября вспыхнуло восстание. Англичане укрылись в замке. Тем же вечером Дюнуа вступил в Руан через Мартенвильские ворота.
Осажденный без надежды на помощь, лишенный артиллерии, в то время как французы крушили замок ядрами, Сомерсет еще попытался торговаться о сдаче, но потом принял условия победителя: немедленный отказ от Кодебека, Танкарвиля, Онфлёра, Арка и Монтивилье. 29 октября англичане вышли из замка и ушли в направлении Кана.
Люди французского короля проследили, чтобы вступление их армии в Руан не дало повода ни к каким эксцессам. Англичане были непопулярны. Карл VII считал важным не уподобиться им. Торжественный въезд, совершенный им 10 ноября 1449 г. в три часа пополудни, был триумфом, достойным этой победы. Всем даровали прощенье. Королю было довольно и того, что он взял верх.
Зеваки, которых приучили презирать буржского короля, поняли, что время переменилось. Ведь процессия была воистину исключительной. Вслед за духовенством и латниками, вслед за лучниками и трубачами выступал за герольдами великолепный белый конь, которого вели под уздцы, без всадника. На высоком седле — дамском, которое было обтянуто сукном, расшитым лилиями, — искрился драгоценный ларец, содержащий в себе большую печать Франции. Далее на парадном коне следовал Гильом Жувенель дез Юрсен в длинном, подбитом мехом облачении канцлера, а непосредственно за ним двигался сам король Карл, «закованный во все белое» и сидящий на маленьком коне, покрытом таким же золотым сукном с лилиями, как и иноходец, везущий ларец.
Люди показывали друг другу Потона де Сентрая, несущего большой меч короля, и Жана Авара, держащего королевский стяг с тремя золотыми лилиями на лазоревом поле. Четыре конных пажа везли копье, дротик, секиру и арбалет короля. Четыре руанских горожанина держали балдахин.
Добрый народ восхищался шапкой Карла VII — шапероном из седого бобра с отворотами алого атласа, обшитыми золотым и шелковым шнуром. Застежка спереди была украшена огромным бриллиантом. Об этом долго говорили.
Проехал и Дюнуа. Поговаривали, что один только прибор меча Орлеанского бастарда стоил двадцать тысяч экю. Узнавали короля Рене, принцев, знатных баронов. Горожане увидели в лицо и человека, одно имя которого все чаще ассоциировалось с деловой средой, — королевского казначея Жака Кёра.
За королевским штандартом малинового атласа с вышитым изображением святого Михаила, сопровождаемым по углам золотыми солнцами, двигалась армия: около трехсот копий под началом итальянца Теода де Вальперга, старого королевского приверженца из трудных времен, еще шестьсот в конце процессии под началом Шарля де Кюлана и шестьсот лучников, которых вел Пьер Фротье, сир де Прёйи. Демонстрируя достоинство, король Франции в то же время показывал и силу.
В соборе запели «Те Deum». Карла VII принимали архиепископ Руанский в митре, а также епископы Эврё, Лизьё и Кутанса. Перед порталом, на возвышении, две девушки держали белого оленя, которого они преподнесли королю. Олень встал на колени. Во всяком случае, в это верили те, кто его видел.
Новый бальи Руана был назначен еще летом — это был Гильом Кузино, бывший полномочный представитель Карла VII. Он представил королю нотаблей. Суверен получил ключи от города и тут же передал их новому капитану — Пьеру де Брезе. Горожане пели «Те Deum» от всего сердца — они выпутались из положения без особого ущерба.
Для зрелища было сделано немало. На перекрестке баран — несомненно, из раскрашенного дерева — извергал вино из рогов и ноздрей, «а ниже воду». Известно, что для этого сделали десять-двенадцать трубок…
Из окна за триумфом наблюдал Талбот. Старый солдат остался в Руане, попав в число заложников, которых потребовал Карл VII. Печаль не мешала ему как знатоку восхищаться армией, которую ему показывали. Через недолгое время его выслали в Дрё для жительства под надзором. Он произнес о короле слова восхищения, которые стали повторять. Его освободили.
Купеческие круги быстро сделали из осенней кампании те выводы, которые напрашивались. В первые дни 1449 г. два клирика из города Парижа, Мартин де ла Планш и Тибо Тюд, купили совсем новый реестр, чтобы вносить туда «французские компании» — непременные сообщества «ярмарочных» торговцев и парижских горожан, — которые, как ожидалось, будут зарегистрированы после победы. Взятие Руана вслед за взятием Дьеппа означало открытие заново большого торгового речного пути, ведущего в Ла-Манш, а также в Центральную Францию и в Бургундию. Первым, кто явился в Дом с колоннами на Гревской площади, был 8 октября купец из Труа, привезший от имени французской компании груз из ста тысяч сельдей, купленных в Дьеппе.
Отныне по Сене перемещались сюренское и оксерское вино, пикардийское и нормандское зерно, копченая и соленая бочковая сельдь от рыбаков Нормандии и Артуа. Реку бороздили суда, которые везли вверх и вниз по течению поленья и хворост из Севра, балки из Вилле-Коттере, мостовой камень-песчаник и мельничные жернова из Ла-Ферте-су-Жуарр, сено с Нижней Сены, яблоки и груши из Нормандии, финики из Испании, лопаты и деревянные ложки работы вексенских ремесленников, сукна из Руана и инструменты из Кана. С октября 1449 г. в окружении купеческого прево поняли, что Столетняя война кончается. Реестр был готов.
Однако взятием Руана поход не закончился. Карл VII на самый суровый период зимы отправился в Жюмьеж. Там он пережил горестное событие — смерть Агнесы Сорель. Дюнуа тем временем развивал преимущество, созданное летом. 1 января 1450 г. после трехнедельной осады, в которой показали себя шестнадцать толстых бомбард, капитулировал Арфлёр. 18 февраля после месяца осады пал Онфлёр, 22 марта после недельной осады — Френе-ле-Виконт.
Потом стало известно, что англичане переходят в контрнаступление. Призыв о помощи, отправленный в сентябре Сомерсетом, был услышан, и 15 марта в Шербуре высадился с армией Томас Кириэл. Он собирался через Валонь и Кан идти на Руан. История повторялась. Как в 1346 г., как в 1415 г. Триумфальный набег, начатый на Котантене, должен был закончиться разгромом французов где-нибудь близ Креси или Азенкура. «Наш черед!» — воскликнул Сомерсет.
В середине апреля 1450 г. эта английская армия двинулась на Кан. Кириэл методично отвоевывал крепости, захваченные осенью Ришмоном. Капитан Валони Абель Руо тщетно ждал, что его осажденному городу придут на помощь: Франциск Бретонский и Артур де Ришмон решили не торопиться.
Карл VII занервничал и поручил графу Жану де Клермону, сыну герцога Бурбона, выправить ситуацию на Котантене. Кстати, король был бы не против назначить собственного наместника вместо герцога Бретонского, у которого со временем могло возникнуть искушение расположиться в Нормандии как у себя дома. Клермон двинулся на Котантен. Он встретился с англичанами на реке Вира, не успев соединиться с Ришмоном, который был еще рядом с Сен-Ло.
Клермон предпочел бы уклониться от боя до подхода главных сил. Он решился 25 апреля атаковать только затем, чтобы избежать бунта собственных солдат, свирепевших от зрелища англичан, которые спокойно переходят Виру и беспрепятственно направляются в Бессен. Кириэл собирался соединиться в Кане с Сомерсетом. Лучше было сейчас столкнуться с Кириэлом, не дожидаясь подкреплений от Ришмона, чем потом иметь дело с Кириэлом и Сомерсетом вместе, притом без гарантий, что к тому моменту Ришмон подоспеет.
Англичане вечером 14 апреля расположились в Форминьи, на дороге между Карантаном и Байё. Клермон в последний раз попытался связаться с коннетаблем — послал к нему гонца и назначил встречу в Форминьи под утро. Англичане ни о чем не подозревали. Заметив авангард графа де Клермона, они решили, что неминуема стычка. Через миг они поняли: предстоит сражение.
Клермон под утро ждал коннетабля. Поэтому он не рисковал отдавать приказ об атаке. Кириэл воспользовался утренней передышкой, чтобы укрепиться. Спешно выкопали несколько траншей, в землю врыли несколько кольев. Это было рассчитано на французскую конницу.
Кириэл думал, что это его Креси. Он забыл об артиллерии. В полдень кулеврины генуэзца Жирибо обрушили на англичан град мелких ядер, которые не нанесли бы большого урона каменной кладке, но оказались смертоносными для людей и лошадей. Чтобы захватить кулеврины, англичане взяли на себя инициативу в сражении.
Исход был еще неясен, когда на горизонте появилась большая армия. Крики радости в рядах англичан, приветствовавших приход Сомерсета, заглохли, когда стало очевидно, что это Ришмон с его тремястами копьями и восемьюстами лучниками.
Опасаясь попасть в окружение, англичане покинули оборудованные ими позиции и выстроились в боевой порядок перед Форминьи. Атака французской конницы под командованием Брезе смяла их левый фланг. Ришмон атаковал с фронта.
В дело вмешались нормандские крестьяне. Они хотели внести свой вклад в победу. Они сделали для этого немало, соревнуясь, кто перебьет больше всадников, выбитых из седла, и лучников, оружие которых не давало им преимуществ в рукопашном бою.
К вечеру 15 апреля Нормандия для Ланкастеров была потеряна. Разгром оказался полным. Тщательно подсчитали убитых англичан — 3774, и хронисты всерьез спорили, сколько было убито французов: пять, шесть, восемь или двенадцать. Коэтиви сделал из этого вывод:
Монсеньора коннетабля послал нам Бог.
В самом деле, без Ришмона англичане имели бы численное преимущество и остались на укрепленных позициях.
Английским гарнизонам больше не приходилось ждать подмоги. Авранш сдался Франциску I, наконец вступившему в войну. Клермон и Дюнуа соединились, чтобы войти в Байё. Для нанесения окончательного удара прибыл Карл VII: 5 июня 1450 г. он расположился у ворот Кана, в Арденнском аббатстве. Была организована осада: Дюнуа встал с юго-востока, со стороны Воселя, Ришмон и Клермон — с запада, напротив аббатства Мужей, Э и Невер — с северо-востока, напротив аббатства Жен. Артиллерия проделала в стене бреши. 24 июня Сомерсет предложил капитуляцию, не дожидаясь бойни, в которую превратился бы штурм. 1 июля Дюнуа принял ключи от города. 6 августа Карл VII совершил въезд, который он ловко связал со всеобщей амнистией, поставив Кан на одну доску с Руаном. Король простил даже купцов из Берне, снабжавших английскую армию. Страница была перевернута. Сомерсет отплыл в Кале.
С продолжением военных действий у Карла VII возникли затруднения. Война не прекращалась с предыдущего лета, и казна опустела. Жак Кёр ссудил сорок тысяч экю. Позже оказалось, что для этого ему самому пришлось влезть в долги.
21 июля сдался Фалез. Там обнаружили Талбота, который еще раз спас свою свободу, пообещав — шел Святой год[103] — отправиться в паломничество в Рим. Через три дня капитулировал Домфрон. Последней английской крепостью был Шербур, для осады которого пришлось использовать всю мощь королевской артиллерии. Братья Бюро установили бомбарды даже на взморье, где на пушки дважды в сутки приходилось надевать кожаные чехлы, чтобы они не пострадали от прилива. Шербур открыл ворота 12 августа.
Англичане отплыли к себе на остров. Ровно год назад, день в день, Дюнуа занял Понт-Одемер. Начав платить армии двенадцать месяцев в году, Карл VII порвал с традиционным циклом набегов и осад, каждый год начинающихся заново. Пятнадцать лет административных, финансовых и военных реформ наконец принесли свои плоды.
Ришмон был назначен губернатором Нормандии, Пьер де Брезе — великим сенешалем. Гильом Кузино стал бальи Руана, Робер Флоке — бальи Эврё.
Франсуа де Сюрьенн — Арагонец — добился, чтобы о его причастности к фужерскому делу забыли. Он присоединился к Карлу VII, честно отослав свой орден Подвязки Генриху VI. Он стал человеком победителя, который нуждался в таких солдатах. Ему нашли дело. В конечном счете Арагонец стал бальи Шартра.
Отвоевание Гиени
В Гиени для короля Франции дела обстояли хуже. Население ничуть не сочувствовало ему. Прагерия не слишком вдохновила баронов играть на руку тому, кто, в отличие от Карла V, уже даже не был их сувереном. Горожане знали, насколько их благосостояние зависит от торговли с Англией; свою враждебность они проявили еще при Карле V. Что касается духовенства, оно объединилось вокруг Пея Берлана. До какой степени нормандцы ощущали себя в оккупации, до такой гасконцы чувствовали себя хозяевами в своем доме. Единственное, за что они упрекали англичан, — за их отсутствие, равнодушие, а не за их присутствие.
Если бы им пришлось выбирать, гасконцы, несомненно, поколебались бы, вставать ли им на сторону короля Англии против короля Франции. Но, по их мнению, вопрос так не стоял. Лондонский король их почти не притеснял, и они боялись, став людьми парижского короля, потерять все. Они боялись королевского фиска, чиновников, говорящих на языке «ойль», судей, пропитанных парижскими обычаями, иностранных гарнизонов. Бордо чувствовал себя отчасти столицей, и бордосцы не хотели отказываться от этого ощущения. Жюрада[104] со времен Черного принца усвоила привычку обходиться без господина.
К тому же бордосцы поверили, что наступил мир. Перемирия принесли торговле очень ненадежное процветание, но это процветание было неподдельным. Только за зиму 1444/45 г. в Гулль вывезли тридцать тысяч бочек вина — для этого понадобилось нагрузить не менее ста тридцати шести судов. Сохранение привилегированных связей с Англией сочеталось здесь со свободным доступом к виноградникам верховий, уже занятых Валуа; перемирие предоставило этот доступ английским купцам. С 1444 г. бордосцы верили в сохранение мира, хоть и видели, что французский король вооружается. Их могло только разъярить возобновление военных действий, вину за которое они возложили на Карла VII.
Пока завершалось дело в Нормандии, Гиень выжидала. Французы — равно как и англичане — не могли по-настоящему вести войну на два фронта. Альбре и Фуа, которых вскоре сменил граф де Пантьевр, руководили операциями, не берясь за большие задачи: до полного покорения Нормандии это было бы преждевременным. Пали Коньяк и Сен-Мегрен, потом Молеон и Гиш, потом Бержерак и Базас. 1 ноября 1450 г. Арно Аманьё д'Альбре, сир д'Орваль, разгромил армию, набранную мэром Бордо. Ничто из этого не имело решающего значения.
Прибытие Дюнуа весной 1451 г. стало сигналом к началу настоящего штурма твердыни Ланкастеров. На сей раз в деле должны были принять участие Жан Бюро и его артиллерия. В мае пал Монгион. Через некоторое время, атакованный с суши и блокированный с моря, сдался Блей. Флот, который послали на выручку бордосцы, был рассеян, и его преследовали вплоть до широты Руайана. Ближе к 1 июня свои ворота открыли Бург, Либурн, Кастийон и Сент-Эмильон. В свою очередь пал Фронсак. Теперь Дюнуа контролировал устье Дордони. Он послал Жака де Шабанна в Антр-де-Мер.
Шарль, сир д'Альбре, тем временем занимал южные позиции Ланкастеров: за несколько дней пали Дакс, Дюрас, Рионс.
В Англии Генрих VI был парализован в политическом отношении. Саффолк оказался в тюрьме, Сомерсета открыто обвиняли в неспособности. Герцог Ричард Йорк вел себя уже как признанный соперник короля, а не просто как претендент в члены Совета. Бордо понял, что от Лондона ждать ему нечего.
Посредником выступил капталь де Буш. Он призвал всех умерить свои притязания. Бордосцы официально передали королю Англии, что ожидают от него помощи и, если ее не будет, договорятся с Карлом VII и совесть их будет чиста, потому что их сеньор пренебрег своим долгом защиты вассалов. На самом деле никто не желал осады, поскольку таковая ожесточила бы противника, и никто не хотел разрушения Бордо. Будущим мэром города назначили Жака Бюро. Он вошел в город с охранным свидетельством, чтобы начать переговоры.
Пей Берлан отстаивал интересы паствы: пусть те, кто поддержит Карла VII, получат полную амнистию, а остальные — шесть месяцев, чтобы покинуть Бордо. Разговор шел об освобождении от налогов, о праве чеканить монету. Предусматривалось даже создание Бордоского парламента. Бордосцы были бы полными дураками, отказавшись от таких выгодных условий.
Была достигнута договоренность о сдаче города, если английские подкрепления не придут к 23 июня. Никто не появился, и на закате герольд это зафиксировал. 30 июня Дюнуа вступил в город. Его сопровождали Арманьяк, Невер, Ангулем и Вандом. В лице Невера и Вандома в триумфе Валуа участвовали Бургундская и Анжуйская династии. Жюраты принесли присягу на верность Карлу VII. То же сделал Пей Берлан.
Оставалась южная база бывшей сеньории Плантагенетов. 7 августа Дюнуа подошел к Байонне; 20-го город сдался. Народ изумился облаку, показавшемуся в небе 21 августа во время вступления в город французской армии: оно имело форму белого креста, эмблемы партии Карла VII. Облако меняло форму. Сначала в нем увидели корону, потом лилию. Ветер все разогнал. Об этом долго говорили в регионе.
Карл VII назначил губернатором Гиени графа де Клермона, а сенешалем сделал Оливье де Коэтиви.
Генрих VI ради Бордо не шевельнул пальцем. Он забеспокоился, что может прийти очередь Кале, и направил туда кое-какие подкрепления. Кале был континентальным портом английской торговли, которую король умело облагал сборами. Англия обеспечивала благополучие Бордо, Кале — благополучие Англии. В этом состояла вся разница.
В дела Кале уже вмешивался Филипп Добрый. Бургундские Нидерланды и особенно Брюгге и Антверпен были крайне заинтересованы, чтобы английские купцы лишились прямого доступа на континентальный рынок. Генрих VI хорошо знал, что потери Кале англичане ему не простят. Он приготовился к этому.
Оливье де Коэтиви спас Кале своими неумелыми действиями. Гасконцы запомнили, какие уступки им сделали в 1451 г. Они удивились, когда сенешаль вознамерился заставить их платить налог на содержание его войск. Положение, которое пообещал французский король, было ощутимо более благоприятным, чем то, к которому они привыкли при Плантагенете или Ланкастере.
Реальное положение всего через год оказалось намного хуже. В Бурж отправилась депутация; ей вежливо отказали. Посланцам Бордо дали понять, что им следует активно участвовать в обороне Гиени.
Бордосцы сочли, что их одурачили. С другой стороны, они очень плохо восприняли административную колонизацию, связанную с установлением нового режима. Гасконцы чувствовали, что попали под опеку, а бретонскую клику, окружавшую Коэтиви, переносить было трудно. Когда граф де Клермон объявил, что в случае опасности созовет бан и арьербан, это вызвало единодушное недовольство. Считалось, что завоеванные земли будут защищены за счет короля, но бордосцы не понимали, что король не может платить, не получая денег от податных. Старейшина де Сен-Серён возглавил заговор, в котором приняло участие большинство знатных гасконцев. В августе 1452 г. Гастон де Фуа и сеньор де Леспарр прибыли в Лондон, где Сомерсет только что вновь перехватил бразды правления. Йорк на время был оттеснен. Настало время заново позолотить королевский герб. Тем самым угроза, нависшая над Кале, была бы устранена наилучшим образом.
Командование было поручено Талботу. Флот был готов взять курс на Кале, где его ожидали Дюнуа, Ришмон и Брезе. 17 октября он снялся с якоря, направился к Жиронде и 20-го пришвартовался в Сулаке. 23-го англичане вступили в Бордо, не встретив реального сопротивления. Коэтиви много говорил об обороне, но ничего заранее не предпринял. Его схватили, прежде чем он успел вступить в бой. Граф де Клермон едва не попал в ловушку и спасся в последний момент. Французское владычество рухнуло как карточный домик.
Все произошло, как того и следовало ожидать. Через две недели англичане уже были в Либурне, Кастийоне, Рионсе, Кадийяке, Лангоне. Руо отстоял Фронсак, а Бонифачо де Вальперга сумел удержать Блей.
Карл VII воспринял весть о катастрофе хладнокровно. Он ждал, что на результаты его победы последует покушение в Нормандии; это произошло в Гиени. Стали готовиться начать действия весной.
Талбот начал кампанию в марте 1453 г. В его руки попал Фронсак. В качестве подкрепления к нему подошла армия под командованием его собственного сына, виконта Лайла. Теперь встала задача возвращения великой Аквитании, Аквитании Плантагенетов, Аквитании Бретиньи.
Но те, кто строил такие планы, не учли новой силы Карла VII. Король Франции был в состоянии набрать армию.
Граф де Клермон предпринял наступление с юга. С ним были Сентрай, Орваль, Вальперга и некоторые другие из тех испытанных капитанов, на которых догадались опереться для организации постоянной обороны королевства. Пройдя через Беарн, к нему присоединился граф де Фуа. В апреле-мае 1453 г. без труда удалось освободить область Базаса. На Иванов день Клермон и Фуа заняли Медок. Оба маршала, Лоэак и Жалонь, тем временем двинулись из Перигора и Ангумуа. При помощи Жоашена Руо и Жана Бюро они взяли Шале, потом Жансак. В начале июля они осадили Кастийон. Английский гарнизон направил в Бордо призыв о помощи. Талбот сделал вид, что считает его напрасным проявлением растерянности.
Их можно подпустить еще ближе!
То есть Талбот жертвовал Кастийоном и рассчитывал, что исход войны решится в битве за Бордо. Но население очень хорошо знало, что ждет гасконцев, слишком поспешивших в 1452 г. нарушить присягу на верность, принесенную Карлу VII в 1451 г. Оно так же обозлилось на Талбота, как прежде на Коэтиви.
И тем не менее старый воин не был безучастен к несчастью земли, которую столько раз опустошала война. Узнав о приближении Клермона, он задумал ограничить ущерб для населения за счет правильной «битвы» — столкновения на ристалище, достойного рыцарей. Он предложил французам назначить «день».
Мы не можем иметь о вас определенных сведений, потому что вы каждый день перемещаете лагерь и переходите в другую местность. Дабы не гневить Бога и не отягощать и не разорять бедный народ, если вам будет угодно остановиться и подождать в сообразном месте в открытом поле, чтобы там встретиться, мы уведомляем вас, что в течение трех ближайших дней будем там собственной персоной. Так не отступайте же! И да падет вина на вас!
Это случилось 21 июня. Клермон согласился и ждал три дня под Мартиньясом. Талбот приблизился, сделал привал в двух лье от французов, накормил коней и велел отступать к Бордо. Лучники с дороги устали и не могли следовать за армией. Клермон и его всадники увидели их на привале и перебили.
Талбот просто-напросто решил, что французов слишком много. Предлагая устроить «битву», он был плохо осведомлен. Но он зря заявил, покидая Бордо, что его возвращение будет триумфальным. Бордосцы пожали плечами.
Англичане не могли ждать, пока маршалы, занятые на Дордони, соединятся с графом де Клермоном, — тогда французов стало бы еще больше. Талбот сообразил, что обстоятельства уже не те, какие были до несостоявшегося «дня». Если он допустит соединение сил противника, время начнет работать на французов. Но если он заставит Клермона тщетно искать пропитания для своих войск в Медоке, который разоряли достаточно часто, чтобы там остались какие-либо ресурсы, то же самое время будет работать против французов. Талбот переменил мнение: Кастийон надо деблокировать.
Кастийон
Прожив на свете более восьмидесяти лет, старый капитан мало значения придавал новшествам. Он намеревался искрошить при помощи своих конных «копий» пехоту, составлявшую основное ядро французской осадной армии. Что касается артиллерии Бюро и Жирибо, то что она может сделать против движущейся конной лавины? Талбот рассуждал так же, как в свое время рыцари Филиппа VI или Иоанна Доброго об английских лучниках.
Под Кастийоном Лоэак, Жалонь, адмирал Жан де Бюэй и великий магистр Жак де Шабанн перегруппировали своих людей, распределив их между несколькими укрепленными пунктами и временным лагерем, где спешно возвели легкие укрепления — частокол и рвы. Утром 17 июля 1453 г. Талбот пошел на приступ. Шабанн и Руо как раз сумели защитить ядро своих войск: они увели все силы в лагерь, оставив лишь на высотах в стороне от поля два бретонских отряда. Англичане обладали инициативой, и казалось, что они на пути к победе.
Французы на этом сыграли: они выпустили своих коней. Животные помчались прочь в огромном облаке пыли. Многие в английской армии приняли это за начало бегства. Однако зрелище было совершенно неожиданным, и некоторые предположили, что следует выждать и понаблюдать, а то и разведать обстановку, прежде чем возобновлять атаку. Талбот не прислушался к этим благоразумным голосам. Он решил смять беглецов. С криками «Талбот! Святой Георгий!» английская конница бросилась в атаку на укрепленный лагерь, иначе говоря, на то, что можно было принять за арьергард бегущей армии, еще не тронувшийся с места.
Перед частоколом на английскую конницу обрушился ливень свинца. Это открыл огонь Жирибо, тщательно нацелив свои орудия на место, где он ожидал появления врага. Англичане без прикрытия пытались под ядрами преодолеть ров. Появление бретонских всадников, до тех пор укрывавшихся в засаде на высоте, заставило их круто повернуть. Теперь англичане оказались меж атакующих бретонцев и французов, вышедших из укрепления. Отбиться для них оказалось невозможно. Вырвались лишь отдельные беглецы, которых потом встречали близ Сент-Эмильона. Талбот и его сын в этом побоище нашли смерть. Через три дня Кастийон капитулировал.
После этого Бордо был обречен. К Карлу VII приехал гонец от Жака де Шабанна, привезший стальное оплечье храброго Талбота. Король благочестиво помянул усопшего, велел отслужить «Те Deum» в честь победы и отправился к Бордо с частями, остававшимися в резерве для финального штурма. Во всех городах королевства провели процессии по случаю полного поражения англичан.
Граф де Фуа осадил Кадийяк, граф де Клермон взял на себя осаду Бланкефора. Впрочем, сопротивления больше почти никто не оказывал. В середине августа Бордо был осажден, а флот блокировал его порт. Жан де Бюэй поставил свою артиллерию в Лормоне. Король расположился в сердце Антр-де-Мер.
Бой при Кастийоне уничтожил английскую армию. Об организации какого-то подобия обороны больше не было и речи. Бордосцы страшились мести короля Франции и без колебаний поддержали своего нового сенешаля Роже де Камуа, пытавшегося собрать последних из стойких и помочь осажденным крепостям. Но все было тщетно. 19 сентября пал Кадийяк. Далее наступила очередь Рионса и, наконец, Бланкефора.
Англичане в Кадийяке пытались капитулировать как обычно, предложив десять тысяч экю за возможность свободно уйти. Карл VII пренебрег этим предложением: он им передал, что денег ему хватает. Англичане были отправлены в тюрьму. Капитан города был гасконцем; его обезглавили на месте за измену. Прошли времена, когда крепости брали одну за другой и защищали одну за другой одни и те же воины. Английские солдаты изрядно удивились, что не могут искать лучшей участи в другом месте.
Положение под Бордо было не самым блестящим. Французы тщетно искали провизию в разоренном краю. Этого-то и добивался Талбот, но его уже здесь не было, чтобы этим воспользоваться. Бедствия осаждающих усугубила эпидемия чумы. Что касается осажденных, они умирали от голода. Англичане заговорили о капитуляции — им грозила самое большое тюрьма. Гасконцы знали, что им грозит веревка или топор, и колебались дольше. Наконец они отправили к Карлу VII парламентеров — дворян, бюргеров и клириков. Те сказали, что готовы на все, лишь бы бордосцам оставили жизнь и имущество. Король посмотрел на них пренебрежительно: он сделает с ними, что захочет.
Бюро начал обстреливать город из пушек. Жители дрогнули. 8 октября в Лормоне их депутаты приняли условия короля. Бордо должен был заплатить сто тысяч экю и терял все привилегии. Тем, кто хотел уехать в Англию, дозволялось туда отправиться. Король изгнал двадцать гасконцев, которых считал более виновными, чем другие. Это были те люди, которые в первую очередь ждали, что их повесят. Они были рады и тому, что остались в живых. На этих условиях Карл VII простил город.
19 октября 1453 г. англичане вышли с оружием и направились на свои корабли. Карл VII позволил себе роскошь дать каждому экю на пропитание. Через несколько часов над Бордо взвилось знамя с лилиями. Но король погнушался вступать в город. Оставив Клермона и Бюро следить за завоеванной территорией, он поселился в Лузиньяне.
Столетняя война кончилась. С точки зрения Бордо, завершилась трехвековая борьба.
Все вполне сознавали, что для Франции пришли новые времена. Была выпущена медаль с изображением Карла, Которому Хорошо Служат. Медаль отчеканили в 1451 г. в честь Карла Победоносного. Вокруг щита с тремя лилиями шла в два ряда простая легенда:
Когда я была сделана, без различия Осторожному королю, другу Божьему, Подчинялись повсюду во Франции, Кроме как в Кале — сильной крепости.Это было правдой.
Исторические источники
Столетняя война никогда не испытывала недостатка в своих историках. Люди XIV и XV вв., очевидцы или исследователи своей эпохи, побуждаемые желанием, чтобы их прочли, или просто потребностью писать, написали много. Историк не мог бы отрицать, что эти рассказы, жизнеописания, хроники и дневники — изложение канвы событий и в то же время попытки объяснить их, чаще характерные, чем убедительные, — оказывают ему помощь. Даже если очевидец или толкователь событий, боев или трудностей, имевший к ним больше или меньше отношения, самым бесстыдным образом перевирает факты и ничего в них не понимает, он уже тем самым выдает секрет собственного представления о своей истории и о поведении других.
Впрочем, за эти два века, в течение которых люди старались сохранить память о трудных временах, в которые они жили, историческая литература сделала большой шаг вперед. Пришел конец одному литературному жанру — жанру хроник, авторы которых списывали друг у друга и под видом рассказа обо всем нередко впадали в компиляцию или выдумки. Вольная или невольная переработка текста выдает пристрастного, а не объективного автора. Когда этот прием практикуется систематически и порой включает вымысел в чистом виде, он становится формой полемики. Научный текст, памфлет и даже миф — все это составные части историографии. Но историческое повествование проходит проверку, становясь аргументом в публичных дебатах историков. Критика этих трудов необходима, но использовать их можно. Современный историк может опираться на труд своего далекого собрата только при условии, что будет проверять его, однако он бы сильно ошибся, лишив себя этого труда.
Официальная историография, торжественная и династическая, продолжалась в форме «Больших французских хроник». Канцлер Пьер д'Оржемон, составлявший их при Иоанне Добром и Карле V, ловко насыщал цитатами, заимствуемыми из королевских архивов, рассказ, представляющий собой откровенный панегирик династии Валуа. Историография у Оржемона входит в арсенал политической пропаганды. Это относится и к периоду, когда при Карле VII Жан Жувенель дез Юрсен, брат канцлера Гильома, доходит до включения собственных свидетельств в рассказ о недавних событиях, который он наполняет соображениями и размышлениями, имеющими глубоко личный оттенок. Рамки официальной историографии несколько раздвигаются и тогда, когда нормандский клирик, составляющий «Хронику первых четырех Валуа» из «Больших хроник» и еще нескольких более ранних рассказов, добавляет на удивление современный набор данных, полученных устным путем и часто содержащих суровые суждения о французском рыцарстве и его тактических концепциях. Не очень интересная в самом начале, это хроника становится ценным источником сведений о временах Карла V и начале царствования Карла VI: она часто оригинальна в том, то касается нормандских дел и парижских движений, причем к последним автор отнюдь не скрывает симпатии.
Оставим в стороне другие «продолжения». Большая часть из них, например хроника монаха Ришара Леско из Сен-Дени, посвященная началу царствования Филиппа VI, всего лишь продолжает традицию Гильома де Нанжи и Жеро из Фраше.
Les Grandes chroniques de France. Publiées… par Jules Viard. Paris: Sociétéde l'Histoire de France, 1920–1953. 10 vol.
Pintoin, Michel. Chronique du religieux de Saint-Denys: contenant le regne de Charles VI de 1380 a 1422. Publiée en latin pour la premiére fois et traduite par m. L. Bellaguet. Paris: Impr. de Crapelet, 1839–1852. 6 vol. [Documents inédits sur l'histoire de Francé 6].
Juvenal des Ursins, Jean. Histoire de Charles VI, roy de France, et des choses mémorables advenues durant quarante-deux années de son régne: depuis 1380 jusqu'á 1422. Publ. par MM. Michaud… et Poujoulat. Paris: Ed. du commentaire analytique du Code civil, 1836. [Nouvelle collection des mémoires pour servir a l'histoire de Francé 1, 2].
Chronique des quatre premiers Valois (1327–1393). Publiée pour la premiére fois pour la Société de l'histoire de France, par M. Siméon Luce. Paris: Vve de J. Renouard, 1862.
Lescot, Richard. Chronique de Richard Lescot, religieux de Saint-Denis (1328–1344), suivie de la continuation de cette chronique (1344–1364). Publiée pour la premiere fois pour la Société de l'histoire de France, par Jean Lemoine. Paris: Renouard: H. Laurens, 1896 Société de l'histoire de France].
Зато хроники стали вызывать самый живой интерес с тех пор, как авторы обратили внимание на то, что непосредственно окружало их самих. Квалифицировать эти тексты, авторы которых имели самые обширные замыслы, но которые свидетельствуют прежде всего о жизни города или квартала, как рассказы из локальной истории значило бы недооценить их. На самом деле такие хроники позволяют нам понять глубинные силы, действовавшие в обществе, и ясно разобраться, как современники воспринимали события, которые в краткосрочной перспективе оценивать трудно.
Так, приор парижских кармелитов с площади Мобер, Жан де Венетт, с 1340 по 1368 г. — а во времена Этьена Марселя ежедневно — писал хронику, очень пристрастную, выражавшую очень враждебное отношение к принцам и знати и одно время сочувственное к купеческому прево, но в ней отражалась вся жизнь Парижа, какой ее можно было увидеть из монастыря кармелитов. Точно так же автор «Нормандской хроники XIV в.», написанной в конце царствования Карла V, но начинающейся с начала войны, включает в нее рассказы о войне — не что иное, как воспоминания латника, принявшего участие в нормандских походах. В «Зерцале знати Эсбея» ему вторит Жак де Эмрикур.
Каноник из Реймса Жан Ле Бель написал «Правдивую и достойную историю» 1426–1461 гг., где пытался критически оценивать получаемую информацию и объективно судить о событиях. Но здесь чувствуется пристрастие автора к рыцарским подвигам, как и его презрение к бюргерским интересам. В этом рассказе, в целом написанном с сочувствием к англичанам, через некоторое время нашел вдохновение Иоанн Замаасский — Ян де Прейс, — чтобы написать свое «Зерцало историй», большое значение придал ему и Фруассар, взяв там прежде всего материал для своего повествования о временах Иоанна Доброго.
Другую точку зрения, ограниченную, но с добавлением множества сведений личного характера и анекдотов из жизни, представляет «Книга рыцаря де ла Тур Ландри», которую в 1371 г. в назидание собственным детям составил бывший воин, рыцарь Жоффруа де ла Тур Ландри. Историк не вправе ей пренебречь.
Jean de Venette. Continuationis chronici Guillelmi de Nangiaco pars tertia. 1340 á 1368 // Cuillaume de Nangis. Chronique latine de Guillaume de Nangis de 1113 á 1300: avec les continuations de cette chronique de 1300 á 1368. Nouvelle édition revue sur les manuscrits. Annotée et publiée pour la Société de l'histoire de France, par H. Geraud. Paris: J. Rénouard et cie, 1843. [Société de l'histoire de France. Publications in octavo. 33, 35].
Chronique normande du XIVe siécle. Publiee pour la Société de l'histoire de France, par Auguste et Émile Molinier. Paris: Librairie Renouard, 1882. [Société de l'histoire de France. Publications in octavo. 317, 324].
Le Bel, Jehan. Chronique de Jean le Bel. Publiée pour la Société de l'histoire de France, par Jules Viard et Eugene Deprez. Paris: Librairie Renouard, H. Laurens, successeur, 1904–1905. [Société de l'histoire de France. Publications in octavo. 205]. [Русский перевод: Жан Ле-Бель. Правдивые хроники/пер. М. В. Аникиева // Хроники и документы Столетней войны. СПб: Издательство СПб университета, 2005.]
Hemricourt, Jacques de Œuvres, publ. par le chevalier C. de Borman. A. Bayot (et É. Poncelet). (Acad. roy. de Belgique, comm. roy. d'hist., publ. in-4). Bruxelles: Kiessling et cie, P. Imbreghts, successeur, 1910–1931. 3 vol.
Outremeuse, Jean d'. Le Myreur des histors, chronique de Jean des Preis dit d'Outre meuse. Publ. par A. Borgnet [et Stanislas Bormans]. Bruxelles: Hayez, 1864–1887. 7 vol.
Ceoffroi de la Tour Landry. Le livre du chevalier de La Tour Landry, pour l'enseigne ment de ses filles. Publié d'aprés les manuscrits de Paris et de Londres par M. Anatole de Montaiglon. A Paris: Chez P. Jannet, 1854.
He следует довольствоваться работами только «французских» историков. Чтобы понять первые десятилетия Столетней войны, неизбежно приходится обращаться к английским авторам. «Historia sui temporis» Адама Муримута воспроизводит для нас за период до 1347 г. воспоминания клирика, активно участвовавшего в политических делах, посла Эдуарда II в Авиньоне, здравомыслящего наблюдателя событий того периода, когда оба королевства одновременно шли к конфликту.
Хранитель реестров двора в Кентербери Роберт из Эйвсбери дает в труде «Об удивительных деяниях короля Эдуарда III» подробный рассказ о войне и дипломатических демаршах, которые привели к заключению договора в Бретиньи.
Murimuth, Adam. Adami Murimuthensis Chronica sui temporis. Edidit et recensuit Thomas Hog. Londini: Sumptibus Societatis, 1846.
Robertus de Avesbury. Adu Murimuth Continuatio chronicarum. De Gestis mirabilibus Regis Edwardi Tertii. Edited by Edward Maunde Thompson. London: printed for H. M. Stationery off., by Eyre and Spottiswoode, 1889. [Rolls series].
В этой когорте хронистов, старавшихся воспроизвести историю, при этом не лишая себя права изложить личное мнение, особое место занимают трое. Этим местом они обязаны желанию изложить собственные свидетельства, обоснованными симпатиями к своим героям и даже своему эпическому вдохновению. В исторической литературе своего времени, безусловно, задают тон Фруассар. Герольд Чандоса и Кювелье, пусть даже современный историк должен с большой осторожностью использовать их рассказы.
Жан Фруассар, родившийся в Валансьене в бюргерской семье, очень скоро в качестве молодого клирика, а затем священника оказался совсем рядом с главными действующими лицами своего времени. Приближенный королевы Филиппы де Эно, спутник герцога Кларенса, позже близкий к Роберту Намюрскому, он далее стал капелланом графа Блуаского Ги де Шатийона, побывал у графа де Фуа Гастона Феба, был связан с правителем Эно графом Вильгельмом Остреванским и, наконец, закончил дни при дворе Ричарда II, где умер немногим позже 1404 г.
Следовательно, Фруассар познакомился со всеми точками зрения, услышал все аргументы, со всех сторон пережил драму своего времени. Испытывая сильные симпатии к англичанам до 1370 г., он довольно скоро принял профранцузскую позицию графа Блуаского, умерил свои суждения после встреч с Гастоном Фебом, под влиянием Вильгельма Остреванского склонился на сторону Бургундца, поддержал миротворческие стремления Ричарда II.
При всей вовлеченности в конфликты своего времени он тем не менее обладал скрупулезностью истинного историка. Много путешествовав — он побывал даже в Италии — и наслушавшись всего, он осознал относительность истины. Он задавал вопросы, он читал. Он искал очевидцев. Он разъезжал по архивам. По мере подбора документов и продолжения работы он обогащал текст оттенками и дополнял его. В частности, он переписывал свою первую книгу, за тридцать лет претерпевшую несколько редакций.
Тем не менее Фруассар не был ни очень умен, ни очень проницателен. Пристрастный из-за ангажированности, доверчивый по наивности, он громоздит мелкие подробности и плохо улавливает главное. Он путается в географии и хронологии. Современному историку надо знать, что можно выяснить у этого колоритного рассказчика, неспособного возвыситься над событиями, но хорошего знатока людей и тонкого наблюдателя повседневных реалий войны. Его мнение — это мнение рыцарей, которые его окружают и для которых развлечением служит грабеж, а отдыхом — насилие. Впечатление на него производят удачные поступки, красивые доспехи, достопамятные подвиги. С него можно спрашивать только за то, что он видел сам.
Если Фруассар был знаком с представителями всех сторон. Герольд Чандоса — преданный слуга Черного принца. «Жизнь и подвиги презнатного принца Уэльсского и Аквитанского» — длинная поэма, написанная около 1386 г., где личные воспоминания поставлены на службу умеренному поэтическому дару ради вящей славы принца. Герольд Чандоса побывал в Аквитании, а также в Испании. Его панегирик — творение соратника.
О представителе другого лагеря, Жане Кювелье, того же сказать нельзя. Последний из труверов, писавших на языке «ойль», в «Жизнь Бертрана Дюгеклена» вкладывает больше чужих воспоминаний, чем собственных. Он обращается к «Большим хроникам», он использует ныне утраченные хроники, в частности, бретонские, несомненно, достойные внимания, и добавляет ко всему этому отдельные соображения, почерпнутые из опросов очевидцев событий. В потоке компиляций, чаще всего некорректных, иногда возникают интересные замечания, которые очень полезно вылавливать.
Froissart, Jean. Chroniques. Publiées par Siméon Luce, Gaston Raynaud, Léon Mirot… [et al.] Paris: J. Renouard. 1869–1975. 15 vol. [Société de l'Histoire de Francé 269 282]. [Русский перевод 1-й книги: Фруассар Жан. Хроники: 1325–1340 / пер. М. В. Аникиева. СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008.]
Chandos Herald. Le Prince Noir. Poémé du héraut d'armes Chandos' texte critique suivi de notes par Francisque-Michel. London: J.G. Fotheringham, 1883.
Cuvelier. Chronique de Bertrand Du Guesclin par Cuvelier, trouvére du XIV eme siécle. Publiée pour la premiére fois par E. Charriére. Paris: F. Didot fréres,1839. [Collection de documents inédits sur l'histoire de France. 1re série. Histoire politique].
Творчество Кристины Пизанской имеет совсем иную природу. Писательница с именем, зарабатывавшая пером на жизнь, потому что ей надо было растить детей и потому что, в конце концов, она привыкла к интеллектуальной независимости, дочь врача и астролога Карла V, после 1404 г. написала «Книгу деяний и добрых нравов мудрого короля Карла V» только затем, чтобы угодить герцогу Бургундскому. Действительно, в пику тенденциям времени, когда тон задавал его племянник Людовик Орлеанский, Филипп Храбрый желал появления памятника во славу своего брата Карла V — затейливого перечня достоинств мудрого короля. Анекдоты, собранные Кристиной Пизанской, — те самые, которые ходили в Париже через двадцать лет после смерти короля. Так же, как при Карле V, они дают сведения о политическом обществе, которое их культивировало и распространяло. Но непосредственности в этом заказном произведении нет.
Christine de Pisan. Le livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V. Publié pour la Société de l'histoire de France (Série antérieure a 1789) par S. Solente… Paris: H. Champion, 1936–1940. 2 vol. [Publications pour la société de l'histoire de France].
Поэты оставляют самые интересные свидетельства, когда они не пытаются рассказывать, а лишь напоминают. В этом отношении братоубийственные войны и бедность народа равно вдохновляли Гильома де Машо в «Суде короля Наварры», а в следующем поколении — Алена Шартье в «Лэ о мире», Эсташа Дешана в «Балладе о мире с англичанами» и Кристину Пизанскую, которая верней находит здесь свое место с «Ламентациями о бедах гражданской войны». Но надо сказать, что суждения Эсташа Дешана — это не только суждения поэта, ученика Гильома де Машо. Это суждения королевского бальи, опытного человека, чиновника, очень хорошо осведомленного о ситуациях и событиях, потому что он сам в них участвовал.
Cuillaume de Machaut. Œuvres. Publiees par Emest Hoepffner. Paris: Firmin-Didot, 1908–1921. 3 vol. [Société des anciens textes français].
Eustache Deschamps. Oeuvres complétes. Publiées d'aprés le manuscrit de la Bibliothéque nationale par le marquis de Queux de Saint-Hilaire et Gaston Raynaud. Paris: F. Didot, 1878–1903. 11 vol. [Société des anciens textes français].
Christine de Pisan. Oeuvres poétiques. Publiées par Maurice Roy. Paris: F. Didot, 1886–1889. 3 vol. [Société des anciens textes français]
В XV в. очевидцев было в избытке. Уже в годы несовершеннолетия Карла VI канцлер Людовика I Анжуйского, епископ Жан Ле Февр, вел дневник, представляющий большой интерес как источник сведений о начале и развитии событий Великой схизмы Запада. Позже два секретаря Парижского парламента прямо в реестрах судебных заседаний, между записями о защитных речах и передачах дел, каждый день записывали мелкие и важные факты, очевидцами которых они были. Современный историк обнаружит здесь настоящий дневник.
В то же время один парижанин, возможно — каноник Жан Шюффар, вел «Дневник Парижского горожанина», где тщательность наблюдений за материальной жизнью — за ценами на овощи, за уличными происшествиями, — а также методичный пересказ расхожих слухов и изложение, часто неявное, собственного мнения сообщают историку то, чего не даст больше ни один источник того времени: мысли среднего француза.
Le Févre, Jean. Journal de Jean Le Févre, évêque de Chartres, chancelier des rois de Sicile Louis ler et Louis II d'Anjou. Publ. par H. Moranvillé. Paris: A. Picard, 1887.
Nicolas de Baye. Journal de Nicolas de Baye: greffier du Parle ment de Paris, 1400–1417. Texte complet publié pour la Société de l'histoire de France par Alexandre Tuetey. Paris: Renouard, 1885–1888. 2 vol. [Société des anciens textes français].
Fauquembergue, Clément de. Journal de Clément de Fauquembergue, greffier du Parlement de Paris, 1417–1435. Texte complet publie pour la Société de l'histoire de France par Alexandre Tuetey; avec la collaboration de Henri Lacaille. Paris: H. Laurens. 1903–1915. 3 vol. [Société des anciens textes français].
Journal d'un bourgeois de Paris: 1405–1449 [attribué au chanoine Jean Chuffart], Publ. d'aprés les mss. de Rome et de Paris par Alexandre Tuetey. Paris: H. Champion, 1881. [Société de l'histoire de Paris et de I'lle de France].
Иное дело — литература. В том, что эти компилятивные и часто заказные исторические произведения необъективны, нет никаких сомнений. Читать их надо с осторожностью.
При Карле VII три главных имени в этом жанре — Жан Жувенель дез Юрсен и Жан Шартье, уже упомянутые, и Герольд Берри. «История Карла VI» Жувенеля, «Хроники Карла VII» Жана Шартье и оба труда Жиля Ле Бувье, прозванного Герольдом Берри, «Хроника короля Карла VII» и «Отвоевание Нормандии» — классические произведения, по прямой линии продолжающие традицию хроник во славу суверена. Однако каждый автор производит свой анализ, в зависимости от своих функций или социального положения, выражает тревоги и высказывает мнения, которые в конечном счете придают произведению неоспоримую оригинальность. История глазами герольда — совсем не то, что история глазами крупного бюргера, ставшего президентом парламента.
Juvenal des Ursins, Jean. Histoire de Charles VI, roy de France, et des choses mémorables advenues durant quarante-deux années de son régne: depuis 1380 jusqu'á 1422. Publ. par MM. Michaud… et Poujoulat. Paris: Ed. du commentaire analytique du Code civil, 1836. [Nouvelle collection des mémoires pour servir a l'histoire de Francé 1, 2].
Chartier, Jean. Chronique de Charles VII, roi de France. Nouvelle édition revue sur les manuscrits, suivie de divers fragmens inédits. Paris: P. Jannet, 1858. 3 vol. [Bibliothéque elzévirienne].
Cilles le Bouvier. Les chroniques du roi Charles VII par Gilles Le Bouvier dit le héraut Berry. Publiées pour la Société de l'histoire de France par Henri Courteault et Léonce Celier avec la collaboration de Marie-Henriette Jullien de Pommerol. Paris: C. Klincksieck, 1979. [Publications pour la société de l'histoire de France].
Blondel, Robert. Narratives of the expulsion of the English from Normandy, 1449–1550. Edited, from mss. in the Imperial Library at Paris; by the rev. Joseph Stevensen… London: Longman, Green, Longman, Roberts and Green, 1863.
He задерживаясь на некоторых второстепенных текстах, ценных в том отношении, что они содержат подробные сведения об отдельных моментах войны, как «Хроника Девы» или труд нормандского нотария Пьера Кошона, перейдем к бургундским историкам. Певцы двора Филиппа Доброго — Ангерран де Монстреле, Матье д'Эскуши и Жорж Шателлен — ставили настоящий талант на службу династическому величию того, кому служили. Хороший поэт Шателлен, хроника которого дошла до нас лишь частично, еще пытается быть непредвзятым. Этого нельзя сказать о епископе Жане Жермене, чья «Liber virtutibus» — не более чем идеализированный портрет лучшего из государей. Наконец, современный историк предпочтет менее масштабные труды, авторы которых внимательней к жизненным реалиям и к изнанке внешней пышности: таковы рассказы дипломата Жильбера де Ланнуа или герольда Жана Ле Февра, прозванного Золотым Руном.
Chronique de la Pucelle ou Chronique de Cousinot; suivie de la Chronique normande de P. Cochon relatives aux régnes de Charles VI et de Charles VII… Cuillaume Cousinot. Publiées… d'aprés les manuscrits avec notices, notes et développements par M. Vallet de Viriville. Paris: Adolphe Delahays, 1859. [Chronique normande.]
Monstrelet, Enguerrand de. La chronique d'Enguerran de Monstrelet: en deux livres, avec piéces justificatives 1400–1444. Publiée pour la Société de l'histoire de France, par L. Douet-d'Arcq… Paris: Mme ve J. Renouard, 1857–1862. 6 vol. [Société de l'histoire de France. Publications in octavo; 91, 93. 99. 105, 108, 113].
Escouchy, Mathieu d'. Chronique de Mathieu d'Escouchy. Publ. par Gaston du Fresne de Beaucourt. Paris: Ve J. Renouard, 1863–1864. 3 vol. [Publications pour la société de l'histoire de France].
Chastellain, Georges. Oeuvres. Publiées par Kervyn de Lettenhove. Bruxelles: Heussner. 1863–1866. [Académie royale de Belgique].
Lannoy, Ghillebert de. Oeuvres de Ghillebert de Lannoy: voyageur, diplomate et moraliste. Recueillies et pub. par Ch. Potvin. Louvain: Impr. de P. et J. Lefever, 1878. [Siécle littéraire des dues de Bourgogne. Ghillebert de Lannoy].
Le Févre, Jean. Chronique de Jean Le Févre, seigneur de Saint-Remy. Transcrite d'un manuscrit appartenant a la Bibliothéque de Boulogne-sur-Mer et publiée pour la Société de l'Histoire de France par François Morand. Paris: Renouard. 1876–1881. [Publications pour la société de l'histoire de France].
В то время, когда рыцарство уже не всегда совершало подвиги на полях сражений и в основном придавало больше представительности рыцарским орденам принцев, а также вдохновляло авторов популярных романов, в большей или меньшей степени воспроизводивших сюжеты романов Круглого стола, каждый принц стремился приобрести талантливого хрониста, который бы фиксировал его великие деяния и в то же время воспевал величие его двора. Тем самым принц вступал в ряд легендарных героев. У Карла Орлеанского был Гильом Кузино, у Людовика Бурбонского — Жан Кабаре, у Иоанна Алансонского — Персеваль де Каньи, у Гастона де Фуа — Гильом Лезёр.
Здесь история почти смыкается с биографией. Завершением этого процесса станет труд Коммина. Еще в начале века «Книга деяний маршала Бусико» и «История Карла V» Кристины Пизанской вошли звеньями в литературную цепочку, никогда не прерывавшуюся и идущую от Жуанвиля через Герольда Чандоса и Кювелье. «Хроника Артура Ришмона» Гильома Грюэля — яркий пример неполного и пристрастного произведения. Если бы не интеллектуальные достоинства автора, то же самое можно было бы сказать об истории Карла VII, составленной епископом Тома Базеном с целью вознести образ короля, внимавшего советам Тома Базена, и соответственно принизить Людовика XI, сославшего епископа. В рассказе Тома Базена, работе поздней и полной скрытой полемики, больше можно почерпнуть из его соображений по посторонним поводам, чем из свидетельств, которые он приводит в поддержку своих взглядов.
Не забудем о человеке, писавшем только для себя и близких. Как «Парижский горожанин» в качестве очевидца описывал жизнь столицы в беспокойное военное время, так рыцарь Жан де Бюэй, адмирал Карла VII в конце войны, в «Юнце», написанном с целью практического приобщения молодых дворян к военному искусству и военной морали, описал походную жизнь такой, как испытал ее на себе, и изложил свои представления о благородстве воина. Эта иносказательная книга, занимающая промежуточное место между историческим и педагогическим жанрами, имеет ценность как честное свидетельство, где даже искажения отражают менталитет автора. Таких людей, как автор книги «Юнец», непохожей на систематичные работы герольдов Берри и Золотого Руна, были тысячи: Бюэй не сознавал себя свидетелем истории.
Cabaret (Jean) d'Onronville. La Chronique du bon due Loys de Bourbon par J. Cabaret d'Orville. Publiee… par A.-M. Chazaud. Paris: Renouard, 1876. [Publications pour la société de l'histoire de France].
Cagny, Perceval de. Chroniques de Perceval de Cagny. Publiées pour la premiere fois pour la Société de l'histoire de France par H. Moranville. Paris: Renouard, 1902. [Publications pour la société de l'histoire de France].
Leseur, Cuillaume. Histoire de Gaston IV, comte de Foix: chronique française inédite du XVe siécle. Par Guillaume Leseur; publiee pour la Société de l'histoire de France par Henri Courteault. Paris: Renouard, 1893–1896. [Publications pour la société de l'histoire de France].
Le livre des faicts du bon messire Jean Le Maingre, dit Boucicaut, maréchal de France et gouvemeur de Gennes//Nouvelle collection des memoires pour servir a l'histoire de France. Joseph-Franfois Michaud et Jean-Joseph Franfois Poujoulat. Paris: [s. п.], 1836. 1ére série. Tome second.
Cruel, Cuillaume. Chronique d'Arthur de Riche mont: connétable de France, duc de Bretagne (1393–1458). Par Guillaume Gruel; publiee pour la Société de l'histoire de France par Achille Le Vavasseur. Paris: Renouard, H. Laurens, successeur, 1890. [Publications pour la société de l'histoire de France 249].
Basin, Thomas. Histoire de Charles VII. E: d. et trad, par Charles Samaran; avec la collab. de Henry de Surirey de Saint Rémy. Paris: Les Belles lettres, 1933–1944. 2 vol. [Les Classiques de l'histoire de France au Moyen a[ge.]
Bueil, Jean de. Le jouvencel. Publié pour la Société de l'histoire de Francé introduction biographique et litteraire par Camille Favré texte établi et annoté par Léon Lecestre. Paris: Renouard, 1887–1889. 2 vol. [Publications pour la société de l'histoire de France].
Итак, полсотни этих историографических трудов составляют основу наших знаний о фактах, их развитии, их взаимосвязи. Надо добавить несколько крупных произведений по политической теории, важность которым придает как роль, которую они играли в принятии решений главными действующими лицами, так и представление об изменчивости взглядов и об умонастроениях, какое они дают.
Главной работой этого жанра во времена Карла V было «Сновидение садовника», стихотворная аллегория, где давалось определение властям, соперничающим за воздействие на христианское общество, и источникам власти суверена, равно как и критериям легитимности публичной власти. Идеи, всплывающие здесь в диалоге клирика и рыцаря, имена которых автор не пожелал назвать, — это идеи, которыми руководствовались Карл V и его Совет. Заботы, которые можно увидеть за этими рассуждениями, — точное отражение тех, которые занимали умы людей, занимавших какие-либо ответственные посты во Франции 1376 г. Позже гуманист Никола де Кламанж вложил в свой трактат «Разрушение церкви» весь опыт сделанных ошибок и всю надежду на спасительные реформы. Поколением позже были даны другие формулировки того же идеала, когда епископ Бовезийский Жан Жувенель дез Юрсен составил длинный памфлет «Достопочтенные отцы в Господе…», приготовив его для сорвавшейся сессии Генеральных штатов.
Среди огромного числа выучеников схоластики особое место следует выделить великому богослову Жану Жерсону, который часто выражал глубинные чаяния народа, уставшего от игр принцев. Напротив, пристрастность Жана Пти не должна побуждать историка отказываться от обращения к памфлетам, подбор аргументов в которых ясно отражает политические и религиозные принципы одной из партий. Оба автора сходятся в желании спасти единство церкви, и «Жалоба Церкви», написанная автором «Апологии тираноубийства», любопытным образом перекликается с трактатом «О схизме и папстве», который в то же время обнародовал Жерсон.
Со времен «Сновидения садовника» Франция пережила много драм, и договор в Труа заставил теоретиков власти снова задаться вопросом об истинной природе Короны и о правах, которые распространяются на нее. Нормандец Робер Блондель в «Ответе доброго и верного француза народу Франции» произвел критический анализ договора 1420 г. В своем большом труде «Права Короны во Франции» он определил принципы в свете реально переживаемой ситуации. Тоже самое сделал Жувенель в речи, написанной для Штатов 1440 г. Другой юрист, Жан из Терр-Руж, показал в «Трактате о наследовании Короны» беспочвенность притязаний Ланкастера. Вся эта литература, где ход мыслей подчинен строгим правилам (большая часть которой еще труднодоступна, поскольку содержится в разрозненных рукописях или в старинных изданиях), тем не менее знакомит нас как с людьми, так и с сущностью политической проблемы.
Надо еще вспомнить настоящий трактат по международному праву — «Древо сражений» Оноре Боне. Эта кодификация военного права и этот менее бесполезный, чем может показаться на первый взгляд, труд ценны для понимания психологических пружин, определявших исход многих переговоров и многие политические решения.
Brunei, Jean-Louis. Traitez des droits et libertez de l'Eglise Gallicane. [Paris]: [s.n.], 1731. Tome 2. — Содержит единственное полное издание «Сновидения садовника». Репринт: Le songe du vergier: qui parle de la disputacion du clerc et du chevalier: sur l'imprime; par Jacques Maillet, l'an mil cccc quatre vints & unze, le vintieme jour de mars. Strasbourg: Palais de l'universite;,1957.
Clamanges, Nicolas de. Le Traité de la ruine de l'Eglise de Nicolas de Clamanges et la traduction franjaise de 1564. Paris: E. Droz, 1936.
Juvenal des Ursins. Jean. Exrits politiques de Jean Juvénal des Ursins. Publiés pour la Société de l'histoire de France par P. S. Lewis; avec le concours de Anne-Marie Hayez. Paris: C. Klincksieck: ill., 1978–1992. 3 vol. [Publications pour la société de l'histoire de France].
Chartier, Alain. Le quadrilogue invectif. E: dite par E. Droz. Paris: H. Champrion, 1923.
Chartier, Alain. Les oeuvres latines d'Alain Chartier. E: d. critique par Pascale Bourgain-Hemeryck… Paris: E: d. du Centre national de la recherche scientifique, 1977.
Cerson, Jean de. OEuvres complétes. Introd., texte et notes par Mgr Glorieux. Paris; Toumai; Rome [etc.]: Desclée, 1960–1973. 10 tomes en 11 vol.
Honore Bonet. L'Arbre des batailles d'Honoré Bonet. Publié par Elmest Nys… Bruxelles et Leipzig: C. Muquardt; Londres & New-York: Trubner & Co. [etc.], 1883.
Мы не можем в этом обзоре перечислить все документальные источники по вековой истории франко-английского конфликта, так повлиявшего на феодальный мир, что нужно было бы упомянуть все европейские архивы и все публикации на основе их материалов. Даже внутреннюю историю воюющей Франции, основанную прежде всего на документах, хранящихся в Национальном архиве, в большинстве архивов департаментов и во многих муниципальных архивах, нельзя написать без обращения к бельгийским архивам — Генеральному архиву королевства. Государственному архиву Гента, Муниципальному архиву Брюгге и т. д. — и к английским архивам, в частности, к финансовым сериям Государственного архива Великобритании (Public Record Office), без которых нам не хватало бы основных источников сведений об управлении областями, находившимися под властью Плантагенета, а потом Ланкастера. Наконец, необходимо напомнить, что полное исследование того времени предполагает использование Ватиканских архивов.
Поэтому здесь можно будет найти лишь краткий список основных систематических публикаций. С другой стороны, многие документы содержатся в приложениях или в оправдательных документах в трудах, упомянутых в библиографии далее.
Ordonnances des Roys de France de la troisieme race, recueillies par ordre chronologique… Paris: Impr. royale [-imperiale, nationale], 1723–1849. 22 vol.
Archives nationales (France). Registres du tresor des chaites. Paris: Impr. nationale, 1958–1984.T. 1; t. 2, pt. 1; t. 3; in 5.
Mandements d actes divers de Charles V (1364–1380): recueillis dans les collections de la Bibliotheque Nationale. Publiés ou analyses par M. Léopold Delisle. Paris: Imprimerie nationale, 1874.
Viard, Jules. Documents parisiens du regne de Philippe VI de Valois: 1328–1350. Elxtraits des registres de la chancellerie de France. Paris: Champion, 1899–1900. 2 vol.
Les grands traites de la guerre de Cent ans. Publiés par E. Cosneau. Paris: A. Picaid, 1889.
Proceedings and ordinances of the Privy Council of England: 1386–1542. Edited by Sir Nicholas Harris Nicolas… London: [pr. by G. Eyre and A. Spottiswoode], 1834–1837. 7 vol.
Calendar of the Close Rolls preserved in the Public Record Office. London: Published by Her Majesty's Stationery Office, 1892–1963. 45 vol.
Calendar of the Patent Rolls preserved in the Public Record Office. London: Published by Her Majesty's Stationery Office, 1893–1973. 70 vol.
Calendar of signet letters of Henry IV and Henry V (1399–1422). Edited by J.L. Kirby. London: H.M.S.O., 1978.
Letters and Papers illustrative of the Wars of the English in France during the reign of Henry VI (with a translation). Ed. by J. Stevenson. London: Longman, Green, Longman, and Roberts, 1861–1864. 2 vol.
Rymer, Thomas. Foedera, conventiones, literae… Editio tertia. Hagae Comitis: apud Joanne m Neaulme, 1739–1745. 10 vol.
Registres des papes d'Avignon publiés par l'Есоlе française de Rome. Paris, 1884–1979. 120 vol.
Denifle, Henri: Chatelain, Emile. Chartuiarium Universitatis Parisiensis. Paris: Delalain, 1889–1897. 4 vol. — Auctarium chartularii Universitatis parisiensis… Paris: Delalain puis Didier, 1894–1964. 6 vol.
Denifle, Heinrich: Samaran, Henricus Carolus; Van Moe, Aemilius A.; Ville, Susanna. Auctarium Chartularii. Paris: H. Didier, 1935–1942. 3 vol.
Судебные документы позволяют не только познакомиться с делами, которые разбирались судом. Благодаря историческим изложениям мотивов, представляемым сторонами и частично воспроизводимым в приговорах, протоколы судебных заседаний становятся кладезем сведений о социальных структурах, демографии, ментальностях. В настоящее время немыслимо систематическое издание тысяч протоколов, которые сохранились во Франции и которые часто полезны для историков, но читатель может обратиться к некоторым ярким публикациям и даже к изданиям отдельных уникальных документов, как, например, документы обоих процессов Жанны д'Арк.
Timbal, Pierre-Clement. La guene de cent ans vue a travers les registres du Parle ment. Paris: Centre national de la recherche scientifique,1961. [Pubhcations du Centre d'études d'histoire juridique].
Tuetey, Alexandre. Testaments enregistrés au Parle ment de Paris sous le regne de Charles VI. Paris: Impr. nationale, 1880. [Documents inedits].
Registre criminel du Chatelet de Paris. Du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392. Publ. pour la premiere fois par la Société des bibliophiles fianfois; par Al. Cache maree; introd. par Henri Duples-Agier. Paris: Ch. Lahure, 1861–1864. 2 vol.
Paris pendant la domination anglaise (1420–1436): documents extraits des registres de la Chancellerie de France par Auguste Longnon. Paris: C.H. Champion, 1878. [Société de l'histoire de Paris et de I'lle-de-France.]
Proces de condamnation et de rehabilitation de Jeanne d'Arc, dite La Pucelle. Publiés… par Jules Quicherat. Paris: J. Renouard, 1841–1849. 5 vol.
Proces de condamnation de Jeanne d'Arc… Texte établi et publié par Pierre Tisset; avec le concours de Yvonne Lanhers. Paris: Klincksieck, 1960–1971. [Société de l'histoire de France.]
Proces en Nullite de la Condamnation de Jeanne D'Arc. E: d. par la Société de l'histoire de France. Texte établi et publié par Pierre Duparc. Paris: C. Klincksieck, 1977–1979. 2 vol.
История войны — и история трудностей, переживаемых городом и деревней во времена военных действий, — очень явственно отражается в финансовых документах. Уже упомянутые «Ордонансы» и «Календари» содержат основные регламентарные тексты из фискальной и монетной сфер. Счетные книги и налоговые реестры позволяют уточнить реальные расходы и доходы.
Еще не подготовлено ни одной систематической публикации значительных серий квитанций и «смотров», хранящихся в фондах Казначейства (Exchequer) в Государственном архиве Великобритании и среди «подлинников» Национальной библиотеки. Также есть лишь отдельные частичные издания местных счетов папских сборщиков налогов, счетов, в основном и составляющих серию «Collectorie» Ватиканских архивов. Зато сохранившиеся бухгалтерские документы Французского королевства сейчас как раз издаются, как и значительная подборка генеральных счетов Бургундии.
Несомненно, материал, который могут дать местные, домениальные, а также муниципальные счета, еще нескоро будет исчерпан. Следует отметить, что удачным дополнением к муниципальным счетам, включающим богатую информацию о том, во что война реально обходилась населению, оказавшемуся под угрозой, представляют прекрасные серии, содержащие протоколы совещаний эшевенов и консулов.
Мы можем упомянуть лишь отдельные примеры, полезным дополнением к которым стала бы региональная библиография.
Comptes du Tresor (1296, 1316. 1384, 1477). Publiés par Robert Fawtier; sous la direction de Ch.-V. Langlois. Paris: Impr. nationale, 1930.
Pocquet du Haut-Jusse, Barthelemy Amedee. La France gouvernée par Jean sans Peur: les depenses du Receveur géneral du royaume. Paris: Presses Universitaires de France, 1959. [Mémoires et documents publiés par la Société de I'Ecole des Chartes; 13).
Les joumaux du Tresor de Philippe VI de Valois; suivis de I'Ordinarium thesauri de 1338–1339. Publiés par Jules Viard. Paris: Imprimerie nationale, 1899. [Collection de documents inédits sur l'histoire de France, publiés par les soins du ministre de I'instruction publique.]
Comptes généraux de I'Etat bourguignon entre 1416 et 1420. Publ. par M. Michel Mollat. Paris: Impr. nationale: C. Klincksieck, 1965–1978. 4 vol. [Recueil des historiens de la France. Documents financiers; 5].
Les Contribuables pansiens a la fin de la guerre de Cent ans: les roles d'import de 1421, 1423 et 1438. Publ. par Jean Favier. Genevé Paris: Droz, 1970.
Documents relatifs au Clos des Calees de Rouen et aux armies de mer du roi de France de 1293 a 1418. Recueillis et analysés par Anne Merlin-Chazelas. Paris: Bibliotheque nationale, 1977–1978. 2 vol. [Collection de documents inédits sur l'histoire de France. 2–1].
Higounet-Nadal, Arlette. Les comptes de la taille et les sources de l'histoire démographique de Périgueux au XIVe siécle. Paris: S.E.V.P.E.N, 1965.
Wolff, Philippe. Les «estimes» toulousaines des XIVe et XVe siécles. Toulouse: Bibliotheque de I'Association Marc Bloch de Toulouse, 1956.
L'assiette de l'import direct a la fin du XIVe siécle: le livre d'estimes des consuls de Saint-Flour pour les années 1380–1385. Publ. par Albert Rigaudiere. Paris: Presses universitaires de France, 1977.
Comptes du Domaine de la Ville de Paris… Texte édit. et annot. par Alexandre Vidier,… Leon Le Grand… et Paul Dupieux, puis J. Monicat. Paris: impr. nationale. 1948–1958. 2 vol. [Histoire générale de Paiis…[W]].
Chauvin-Lechaptois, Monique. Les comptes de la chatellenie de Lamballe (1387–1482). Rennes: Université de Haute-Bretagne, 1977.
Известно, насколько переписка способствует пониманию поступков или, по крайней мере, мотивов этих поступков. Историк Столетней войны, к сожалению, имеет в распоряжении мало столь ценных источников, и большая часть собраний документов этого жанра еще не стала объектом тщательного изучения. Это относится к серии «Ancient correspondence» Государственного архива Великобритании и отдельным торговым перепискам, информирующим нас о положении дел и мнениях.
Документы, способствующие анализу экономической ситуации, чаще изучались, чем публиковались. Их пример — фискальная документация, приведенная ниже. Сеньориальные источники в этом массиве материала занимают привилегированное положение, но большие серии документов, относящихся к истории французской торговли, еще ждут своего издателя. Английские эрудиты в этом нас значительно опережают.
Тем не менее представление о разнообразии этих исторических источников можно получить по нескольким работам, краткий список которых претендует не более чем на показательный характер.
Le Terrier de Jean Jossard. coseigneur de Chatillon-d'Azergues, 1430–1463. Publ. par Rene Fedou. Paris: Impr. nationale, 1966. [Documents inédits sur l'histoire de France. 5].
Les Affaires de Jacques Coeur, journal du Procureur Dauvet, proces-verbaux de séquestre et d'adjudication. E: d. par M. MoUat… Paris: A. Colin, 1952–1953. 2 vol.
Favier, Jean. Le Commerce fluvial dans la région parisienne. I, Le Registre des compagnies franfaises (1449–1467). Paris: Imprimerie Nationale, 1975. [Histoire générale de Paris).
Comptes du sel de Francesco di Marco Datini, pour sa compagnie d'Avignon, 1376–1379 = Libro di ragione e conto di salle. Publiés par Christiane Villain- Gandossi. Paris: Bibliotheque nationale, 1969. [Collection de documents inedits sur l'histoire de France. 7].
The local port book of Southampton for 1439-40. Edited with an introd. by Henry S. Cobb. Southampton: The University, 1961.
Coleman, Olive. The Brokage book of Southampton, 1443–1444. Southampton: University of Southampton, 1960–1961. 2 vol.
Ни одно из художественных произведений того времени не безразлично к обществу, которое, в зависимости от жанра, представляет собой основную тему или просто фон. Наряду с последними героическими песнями и первыми романами, лирическими поэмами и трактатами об искусстве умирать можно упомянуть два труда, чтение которых знакомит с образом жизни двух социальных сред, получивших четкую характеристику.
Le livre de la chasse de Gaston Phoebus; transcrit en français moderne avec une introduction et des notes par Robert et André Bossuat. Paris: Librairie Cynégétique, 1931.
Le ménagier de Paris: traité de morale et d'economie domestique composé vers 1393. E: d. par Jérome Pichon. Paris: Impr. de Crapelet, 1846. 2 vol. [Société des bibliophiles français.]
Библиография
Общие работы
Lavisse, Ernest. Histoire de France depuis les origines jusqu'a la révolution. Sous la direction de Ernest Lavisse. Tome quatrieme. I,Les premiers Valois et la Guerre de Cent ans (1328–1422) par A. Coville. Tome quatrieme. II, Charles VII, Louis XI et les premieres années de Charles VIII (1422–1492) par Ch. Petit-Dutaillis. Paris: Hachette, 1902.
Perroy, Edouard. La guerre de Cent Ans. Paris: Gallimard, 1945. 6е éd. [Русский перевод: Перруа, Эдуард. Столетняя война/пер. М. Ю. Некрасова. СПб.: Евразия, 2002.]
Contamine, Philippe. La Guene de Cent ans. Paris: Presses universitaires de France, 1968. [Que sais-je 1309.]
Lewis, Peter Shervey. La France a la fin du Moyen age: la société politique. Traduit de l'anglais par Claude Yelnick. Paris: Hachette, 1977.
Fowler, Kenneth. Le siécle des Plantagenets et des Valois: La lutte pour la suprématie, 1328–1498. Trad, de Jane Fillion. Paris: A. Michel, 1968. [Русский перевод: Фаулер, Кеннет. Эпоха Плантагенетов и Валуа: Борьба за власть (1328–1498) / Пер. С. Кириленко. СПб.: Евразия 2002.]
Mollat du Jourdin, Michel. Genese médievale de la France moderne, XIV–XVe siécles. Paris: Arthaud, 1970.
Huizinga, Johan. Le Declin du Moyen-Age. Trad, du hollandais par Julia Bastin. Paris: Payot, 1967. [Русский перевод: Хейзинга, Иохан. Осень Средневековья: Соч. в 3-х т. Т. 1: Пер. с нидерланд. М.: Прогресс — Культура, 1995.]
Политическая история и финансовые дела
Guеnéе, Bernard. L'Occident aux XIVe et XVe siécles: Les etats. Paris: Presses universitaires de France, 1971. [Nouvelle Clio; 22].
Pouvoir et societe en France: (XIVe-XVe siécles). Par Françoise Autrand. Paris: Presses universitaires de France, impr. 1974. [Dossiers Clio; 75].
Favier, Jean. Finance et fiscalité au bas Moyen age. Textes choisis et présentés par Jean Favier. Paris: Société d'édition d'enseignement supérieur,1971.
Bossuat, Andre. L'idee de nation et la jurisprudence du Parlement de Paris au XVe siécle // Revue Historique. 1950 (204). P. 54–61.
Gazelles. Raymond. La société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois. Paris: Lib. d'Argences, 1958.
Goville Alfred. Les Etats de Normandie: leurs origines et leur développe ment au XIVe siécle. Paris: Imprimerie nationale, 1894.
Gilles, Henri. Les Јtats du Languedoc au XVe siécle. Toulouse: E. Privat, 1965.
Lacour, Rene. Le Gouvernement de l'apanage de Jean, due de Berry: 1360–1416. Paris: A. Picard, 1934.
Leguai, Andre. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans. Moulins: Impr. réunies, 1969.
Tucoo-Ghala, Pierre. Gaston Рhoebus et la vicomté de Béarn (1343–1391). Bordeaux: Impr. Biere, 1959.
Marquette, Jean-Bernard. Les Albret. Bazas: Les Amis du Bazadais, 1975–1979. 5 vol. [Les Cahiers du Bazadais].
Henneman, John Bell. Royal taxation in fourteenth century France. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1971–1976. 2 vol.
Rey, Maurice. Les Finances royales sous Charles VI: les causes du déficit: 1388–1413. Paris: Imprimerie nationale. 1965.
Wolfe, Martin. The Fiscal system of Renaissance France. New Haven London: Yale university press. 1972.
Humbert, Frangoise. Les finances municipals de Dijon du milieu du XIVe siécle a 1477. Paris: Les Belles Lettres, 1961. [Publications de I'Université de Dijon; 23).
Samaran, Gharies; Mollat, Gudlaume. La Fiscalité pontificale en France au XIVe siécle: Période d'Avignon et du grand schisme d'Occident. Paris: De Boccard. 1968. (Reprod. de I'éd. de 1905.)
Favier, Jean. Les finances pontificales: a Tépoque du grand Schisme d'occident 1378–1409. Paris: Ed. E. de Boccard. 1966.
Dupont-Fenier, Gustave. Etudes sur les institutions financieres de la France a la fin du Moyen-age. Paris: Firmin-Didot et Cie. 1930–1932. 2 vol.
Maugis, Edouard. Histoire du Parlement de Paris: de I'avenement des rois Valois a la mort d'Henri IV. Paris: A. Picard. 1913–1916. 3 vol.
Jassemin, Henri-Frederic. La Chambre des Comptes de Paris au XVe siécle, précédé d'une étude sur ses origines. Paris: Picard. 1933.
Postan, M. M. The costs of the Hundred Years' War // Past & present. 1964 (27). P. 34–53.
The English Government at work, 1327–1336. Ed. by James F. Willard and William A. Morris. I. Central and prerogative administration. Cambridge (Mass.): The Mediaeval Acade my of America, 1940. [The Mediaeval Acade my of America publications; 37).
Ramsay, James Henry. А History of the revenues of the Kings of England (1066–1399). Oxford: the Clarendon press, 1925.
Finance and Trade under Edward III. By members of the History School; edited by George Unwin. Manchester: University Press, 1918. [Publications of the University of Manchester. Historical series; XXXII]. Reprint: London: F. Cass, 1962.
Harriss, Gerald Leslie. King, parliament, and public finance in medieval England to 1369. Oxford: Clarendon Press. 1975.
Война и общество
Bamie, John. War in Medieval English Society: Social Values and the Hundred Years War 1337-99. London: Weidenfeld and Nicolson, 1974.
War, literature and politics in the late Middle Ages: [essays in honour of G.W. Coopland]. Edited by C.T. Allmand. Liverpool: Liverpool university press, 1976.
Luce, Simeon. La France pendant la guerre de cent ans: épisodes historiques et vie privaux XIVe et XVe siécles. Paris: Hachette, 1890–1893. 2 vol.
Boutet, Dominiqué Strubel, Armand. Littérature, politique et société dans la France du Moyen age. Paris: Presses universitaires de France, 1979. [Litteratures modernes; 18].
Champion, Pierre. Histoire poétique du XVe siécle. Paris: H. Champion, 1923. [Bibliothéque du XVe siécle. 27–28].
Le Noblesse au Moyen age (Xle — XVe siécles): essais a la memoire de Robert Boutruche. Reunis par Philippe Contamine. Paris: Presses universitaires de France, 1976.
Kilgour, Raymond Lincoln. The decline of chivalry, as shown in the French literature of the late middle ages. Cambridge, Mass.: Harvard university press, 1937.
Mollat du Jourdin, Michel. Les pauvres au Moyen age: étude sociale. Paris: Hachette, 1978.
Etudes sur l'histoire de la pauvreté (Moyen age, XVIe siécle). Sous la direction de Michel Mollat. Paris: Sorbonne, 1974. [Publications de la Sorbonne].
Coville, Alfred. Documents sur les Flagellants // Histoire litteraire de la France. T. 37. Paris: Imprimerie Nationale, 1938. P. 390–411.
Aries, Philippe. L'homme devant la mort. Paris: Editions du Seuil, 1977. [L'Univers historique; 24]. [Русский перевод: Арьес, Филипп. Человек перед лицом смерти / Пер. В. К. Ронина. М.: Прогресс: Прогресс-академия, 1992.]
Tenenti, Alberto. La vie et la mort: a travers l' art du XVe sikle. Paris: A. Colin, 1952. [Cahiers des Annales; 8].
Организация войны
Contamine, Philippe. Guerre, état et société a la fin du Moyen age: Audes sur les armées des rois de France: 1337–1494. Paris; La Haye: Mouton, 1972. [Civilisations et sociétés; 24].
Hewitt, Heiberi James. The organization of war under Edward III, 1338—62. Manchester: Manchester U.P.; New York: Barnes & Noble, 1966.
Lyon, Bryce D. From fief to indenture: the transition firom feudal to non-feudal contract in Western Europe. Cambridge: Harvard University Press, 1957.
Powicke, Michael Rhys. Military obligation in medieval Elngland: a study in liberty and duty. Oxford: Clarendon Press, 1962.
The Hundred Years War. Edited by Kenneth Fowler. London: Macmillan; New York: St. Martin's Press,1971. [Problems in focus series).
Caier, Claude. L'Industrie et le commerce des armes dans les anciennes principautés beiges: du XIIIe a la fin du XVe siécle. Paris: les Belles Lettres, 1973. [Bibliotheque de la Faculté de Philosophie et Lettres de I'Université de Liege; 203].
Chatelain, Andre. Architecture militaire médiévale: principes elémentaires. Paris: Union R.E.M.P.A.R.T. 1970.
Ritter Raymond. L'architecture militaire du Moyen age. Paris: Fayard,1974. [Résurrection du passe].
Foumier, Gabriel. Le Chateau dans la France medievale: essai de sociologie monumentale. Paris: Aubier Montaigne, 1978. [Collection historique].
Cille, Bertrand. Les ingénieurs de la Renaissance. Paris: Hermann, 1964. [Points. Sciences; 15].
Военное искусство
Contamine, Philippe. La guerre au Moyen age. Paris: Presses universitaires de France, 1980. [Nouvelle Clio; 24]. [Русский перевод: Контамин, Филипп. Война в Средние века / Пер. Ю. П. Малинина и др. СПб.: Ювента, 2001. — (Историческая библиотека).]
Lot, Ferdinand. L'Art militaire et les armées au Moyen age en Europe et dans le Proche-Orient. Paris: Payot, 1946. 2 vol.
Hale, John Rigby. The Art of War and Renaissance England. Washington: Folger Shakespeare Library, 1961. [Folger Booklets on Tudor and Stuart Civilization.]
Keen, Maurice Hugh. The laws of war in the late Middle Ages. London: Routledge & K. Paul; Toronto: University of Toronto press, 1965. [Studies in political history).
Wise, Terence. Medieval warfare. London: Osprey Publishing, 1976.
Koch, Hannsjoachim Wolfgang. Medieval warfare. London: Bison Books, 1978.
Contamine, Philippe. L'oriflamme de Saint-Denis aux XIVe et XVe siécles. Nancy: Institut de recherche regionale, 1975.
Демография и Черная чума
Mols, Roger. Introduction a la demographie historique des villes d'Europe du XIVe au XVIIIe siécle. Gembloux: J. Duculot, 1954–1956. 3 vol.
La demographic medieuale: sources el methodes. Actes du congres de I'Association des historiens mediévistes de l'enseigne ment supérieur public, Nice, 15–16 mai 1970. Paris: Les Belles lettres, 1972. [Annales; 17].
Baralier, Edouard. La demographie provenpale du XIIIe au XVIe siécle: avec chiffres de comparaison pour le XVIIIe siécle. Paris: S.E.V.P.E.N., 1961. [Demographie et société (Paris); 5].
Higounel-Nadal, Arlelte. Les comptes de la taille et les sources de l'histoire démographique de Périgueux au XIVe siécle. Paris: S.E.V.P.E.N, 1965.
Carpentier, Elizabeth; Glénisson, Jean. La démographie française au XIVeme siécle // Annales E.S.C. 17 (1962). P 109–129.
Biraben, Jean-Noel. Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens. Paris; La Haye: Mouton; Paris: Ёсо1е des hautes études en sciences sociales, 1976. 2 vol. [Civilisations et société's; 36].
Carpentier, Elizabeth. Autour de la Peste Noire: Famines et epidémies dans l'histoire du XIVe siecle 11 Annales E.S.C. 17 (1962). P. 1062–1092.
Coville, Alfred. Merits contemporains sur la peste de 1348 a 1350 // Histoire litteraire de la France. T. 37. Paris: Imprimerie Nationale. 1938. P. 325–390.
Glénisson, Jean. La seconde peste: I'épidémie de 1360–1362 en France et en Europe / / Annuaire-Bulletin de la Societe d'Histoire de France. 1968–1969 (1971). P. 27–38.
Кризисы и волнения
Abel. Wilhelm. Crises agraires en Europe: XIIIe — XXe siécle. Paris: Flammarion, 1973. [Nouvelle bibliotheque scientifique.]
Mollat du Jourdin, Michel: Wolff, Philippe. Ongles bleus, Jacques et Ciompi: les revolutions populaires en Europe aux XIVe et XVe siécles. Paris: Calmann-Lévy, 1970. [Les grandes vagues révolutionnaires; 7)].
Villages desertes et histoire economique: XIe-XVIIIe siécles. Ed. par I'Ecole pratique des hautes etudes. Vie section et le CenUe de recherches historiques. Paris: S.E.V.P.E.N, 1965. [Les Hommes et la terre; 11].
Medeiws, Marie-Therese de. Jacques et chroniqueurs: une Aude comparée de recits conte mporains relatant la Jacquerie de 1358. Paris: H. Champion,1979. [Nouvelle bibliotheque du Moyen age; 7].
Denifle, Heinrich. La désolation des eglises, monasteres, hopitaux en France, pendant la guerre de cent ans. Paris: A. Picard et fils, 1897–1899. 2 part en 3 vol.
Denifle, Henri. La désolation des eglises. monasteres et hopitaux en France vers le milieu du XVe siécle. Macon: Protat. 1897.
Luce, Simeon. Histoire de la Jacquerie: d'apres des documents inédits. par Léopold- Victor Delisle. Paris: H. Champion, 1894.
Mirot, Lion. Les insurrections urbaines au debut du regne de Charles VI (1380–1383): leurs causes, leurs consequences. Paris: A. Fontemoing,1905.
От истоков до Карла V
Favier, Jean. Philippe le Bel. Paris: Fayard,1978. [Le Livre de poche.]
Deprez, Eugene. Les préiminaires de la guerre de cent ans: la papauté, la France et I'Angleterre (1328–1342). Paris: A. Fontemoing,1902. [Bibliotheque des Ecoles françaises d'Athenes et de Rome; 86).
Lucas, Henry Stephen. The Low Countries and the Hundred Year's War, 1326–1347. Ann Arbor: University of Michigan, 1929. [University of Michigan publications. V. 8. History and political science.]
Burne, Alfred Higgins. The Crecy war a military history of the Hundred Years War from 1337 to the peace of Bretigny, 1360. London: Eyre & Spottiswoode, 1955. [Русский перевод: Берн, Альфред. Битва при Креси: история Столетней войны с 1337 по 1360 г. / Пер. П. В. Тимофеева. М.: Центрполиграф, 2004. — (Битвы, изменившие историю).]
Delachenal, Roland. Histoire de Charles V. Paris: A. Picanj et fils, 1909–1931. 5 vol.
Toumeur-Aumont, Jean-Midinc. La bataille de Poitiers (1356) et la construction de la France. Paris: Presses universitaires de France, 1940. [Publications de I'Universite de Poitiers. Série Sciences de I'homme].
Hewitt, Herbert James. The Black Princes expedition of 1355–1357. Manchester: Manchester University Press, 1958.
Actes du Colloque international de Cocherel, 16, 17 et 18 mai 1964. Vemon: Cercle d' etudes vemonnais, impr. 1966. [Les Cahiers vemonnais; no. 4].
Russell, Peter Edward Lionel. The English intervention in Spain and Portugal in the time of Edward III & Richard II. Oxford: Clarendon Press. 1955.
Политический кризис и религиозный кризис
Nordberg, Michael. Les dues et la royauté: Etudes sur la rivalité des dues d'Orleans et de Bourgogne. 1392–1407. Stockholm: Svenska Bokforlaget, 1964. [Studia historica upsaliensia; 12].
Coville, Alfred. Jean Petit, la question du tyrannicide au commencement du XVe siécle. Paris: Editions A. Picard. 1932.
Coville, Alfred. Les Cabochiens et I'ordonnance de 1413. Paris: Hachette. 1888.
Delaruelle, Etienne; Labande, Edmond-Rene; Ourliac, Paul. L'Eglise au temps du Grand Schisme et de la crise conciliaire (1378–1449). Paris: Bloud et Gay. 1962–1964. [Histoire de I'Eglise; 14).
Valois, Noel. La France et le grand schisme d'Occident. Paris: A. Picard et fils, 1896–1902. 4 vol.
Martin, Victor. Les origines du gallicanisme. Paris: Bloud & Gay, 1939. 2 vol.
Favier, Jean. Les finances pontificales: a' I'époque du grand Schisme d'occident 1378–1409. Paris: Ed. E. de Boccard, 1966.
Cenese et debuts du grand schisme d'Occident: (1362–1394). Centre national de la recherche scientifique.Colloque international,Avignon,25–28 septembre 1978. Paris: Editions du C.N.R.S., 1980.
Coville, Alfred. Gontier et Pierre Col et I'humanisme en France au temps de Charles VI. Paris: Droz. 1934.
Morrall, John Brimyard. Gerson and die Great Schism. Manchester. Manchester University Press, 1960.
Omato, Ezio. Jean Muret et ses amis Nicolas de Clamanges et Jean de Montreuil: contribution a I'étude des rapports entre les humanistes de Paris et ceux d'Avignon: 1394–1420. Geneve: Droz, 1969. [Publications du centre de recherches d'histoire et de philologie. Hautes études mediévales et modernes; 6].
Badel, Pierre-Yves. Le Roman de la Rose au XIVe siécle: Etude de la reception de I'oeuvre. Geneve: Droz, 1980. [Pubbcations romanes et franfaises; 153].
Возобновление войны
Palmer, John Joseph Norman. Elngland, France and Christendom, 1377-99. London: Roudedge and K. Paul. 1972.
Jones, Michael. Ducal Brittany, 1364–1399: relations with England and France during the reign of Duke John IV. London: Oxford University Press, 1970. [Oxford historical monographs.]
Knowlson, George Akenhead. Jean V, due de Bretagne, et I'Angleterre (1399–1442). Cambridge: Heffer, 1964. [Archives Historiques de Bretagne; No. 2).
Mirot, Leon. Une Tentative d'invasion en Angleterre pendant la guerre de Cent ans (1385–1386). Paris: A. Picard et fils. 1915.
Vale, Malcolm Graham Allan. English Gascony, 1399–1453: a study of war, government and politics during the later stages of the Hundred Years' War. London: Oxford university press, 1970. [Oxford historical monographs; 5].
Azincourt. Présenté par Philippe Contamine. Paris: R. Julliard,1964. [Archives; 5].
Burne, Alfred Higgins. The Agincourt war: a military history of the latter part of the Hundred Years' War from 1369 to 1453. London: Eyre & Spottiswoode, 1956. [Русский перевод: Берн, Альфред. Битва при Азенкуре: история Столетней войны с 1369 по 1453 г. / Пер. Л. А. Игоревского. М.:) Центрполиграф, 2004. - (Битвы, изменившие историю).]
Hibbert, Christopher. Agincourt. London: В. Т. Batsford, 1964. [British battles series.]
Nicolas. Nicholas Harris. History of the battle of Agincourt and of the expedition of Henry the Fifth into France, in 1415. London: Johnson & со, 1832. Facsimile: New York: Barnes & Noble. 1970.
Newhall. Richard Ager. The English conquest of Nonnandy, 1416–1424: a study in 15th century warfare. New Haven: Yale university press; London: Humphrey Milford, 1924.
Jacob. Ernest Eraser. The Fifteenth Century. 1399–1485. Oxford: Clarendon Press. 1961. [Oxford History of England. Vol. 6.]
Jacob, Ernest Eraser. Henry V and the invasion of France. London: Hodder & Stoughton. 1947. [Teach yourself history library.]
Возвращение французских земель
Bossuat, Andre. Jeanne d'Arc. Paris: Presses univereitaires de France, 1967. [Que sais- je?; 211).
Beaucourt, Gaston du Fresne de. Histoire de Charles VII. Paris: A. Picard. 1881–1891. 7 vol.
Le Cacheux, Paul. Rouen au temps de Jeanne d'Arc et pendant l'occupation anglaise (1419–1449). Paris: A.Picard; Rouen: A. Lestringant. 1931.
Jouet, Roger. La résistance a I'occupation anglaise en Basse-Normandie, 1418–1450. Caen: Musée de Normandie, 1969. [Cahier des Annales de Normandie; 5].
Paris pendant la domination anglaise (1420–1436): documents extraits des registres de la Chancellerie de France par Auguste Longnon. Paris: C.H. Champion, 1878. [Société de l'histoire de Paris et de I'lle-de-France.]
Dickinson, Joycelyne Gledhill. The Congress of Arras, 1435: a study in medieval diplomacy. Oxford: Clarendon Press. 1955.
Thielemans, Marie-Rose. Bourgogne et Angleterre: relations politiques et economiques entre les Pays-Bas bourguignons et I'Angleterre: 1435–1467. Bruxelles: Presses universitaires de Bruxelles. 1966. [Université libre de Bruxelles. Travaux de la Faculte de philosophie et lettres; Tome XXX].
Биографические очерки
Richard, Jules-Marie. Une petite-niece de Saint-Louis: Mahaut. comtesse d'Artois et de Bourgogne, 1302–1329: étude sur la vie privee, les arts et I'industrie, en Artois et a' Paris au commencement du XIVe siécle. Paris: H. Champion. 1887.
Plaisse, Andre. Charles, dit le Mauvais: comte d'Evreux, roi de Navarre, capitaine de Paris, Evreux: Société libre de I'Eure. 1972.
Molinier, Emile. Etude sur la vie d'Amoul d'Audrehem: maréchal de France. 1302–1370. Paris: Impr. nationale, 1883. [Memdres presenté par divers savants a' l' Academie des inscriptions et belles-lettres de I'lnstitut de France. Deuxiéme serie, Antiquites de la France; 6].
Chavanon, Jules. Renaud VI de Pons: Vicomte de Turenne et Carlat, Seigneur de Ribérac, etc. Lieutenant du roi en Poitou, Saintonge et Angoumois, conservateur des treves de Guyenne: vers 1348–1427. La Rochelle: Impr. nouv., Noel Texier. 1903.
Luce, Simeon. Histoire de Bertrand Du Guesclin et de son epoque. La jeunesse de Bertrand. (1320–1364). Paris: Hachette et cie. 1876.
Fowler, Kenneth Alan. The King's lieutenant: Henry of Grosmont, Firet Duke of Lancaster, 1310–1361. London: Elec. 1969.
Saint-Remy, Henry de Surirey de. Jean II de Bourbon: due de Bourbonnais et d'Auvergne: 1426–1488. Paris: Belles-Lettres. 1944. [Nouvelle collection d'études médiévales].
Terrier de Loray, Henri Philibert A. Jean de Vienne. amiral de France, 1341–1396.
Paris: Librairie de la Société Bibliographique, 1877.
Lehoux, Françoise. Jean de France, due de Berri: sa vie. son action politique (1340–1416). Paris: A. et J. Picard, 1966–1968. 4 vol.
Moranville, Henri. Etude sur la vie de Jean Le Mercier, 13..-1397. Paris: Impr. nationale, 1888,
Jarry, Eugéne. La vie politique de Louis de France, Duc d' Orleans: 1372–1407. Paris: Picard; Orle;ans: Herluison, 1889.
Batiffol, Louis. Jean Jouvenel, prévot des marchands de la ville de Paris (1360–1431). Paris: H. Champion. 1894.
Bouille, Antoine de. Un conseiller de Charles VII: le marechal de la Fayette 1380–1463. Lyon: Audin. 1955.
Cosneau, Eugene. Le connétable de Richemont (Arthur de Bretagne): (1393–1458). Paris: Librairie Hachette, 1886.
Champion, Pierre. Guillaume de Flavy, capitaine de Compiegne, contribution a' l'histoire de Jeanne d'Arc et a' I'Aude de la vie militaire et privee au XVe siécle. Paris: H. Champion. 1906.
Lecoy de La Marche, Albert. Le roi Rene: sa vie, son administration, ses travaux artistiques et litteraires d'aprés les documents inedits des archives de France et d'ltalie. Paris: Firmin-Didot freres, fils et cie, 1875.
Dupont-Ferrier, Custave. Gallia regia ou Etat des Officiers royaux des bailliages et des sénéchaussées de 1328 a' 1515. Paris: Impr. nationale, 1942–1966. 6 vol.
Компании и живодеры
Cuigue, Georges. Récits de la guerre de Cent ans. Les Tardvenus en Lyonnais. Forez et Beaujolais. Lyon: Vitte et Perrussel. 1886.
Monicat, Jacques. Les grandes compagnies en Velay, 1358–1392. Seconde édition. Paris: E. Champion, 1928. [Histoire du Velay pendant la guerre de Cent ans. Publications de la Société des études locales. Section de la Haute-Loire; № 8].
Tuetey, Alexandre. Les écorcheurs sous Charles VII: episodes de l'histoire mihtaire de la France au XVe siécle. d'aprés des documents inédits. Montbe; liard: H. Barbier. 1874. 2 vol.
Contamine, Philippe. Les compagnies d'aventure en France pendant la guerre de Cent Ans // Melanges de /'Ёсо/е fmnfaise de Rome — Moyen Age. 87 (1975). P. 365–396.
Cherest, Aime. L'Archipretre, episodes de la guerre de Cent ans au XIVe siécle. Paris: A. Claudin, 1879.
Bossuat, Andre. Penrinet Gressart et Franpois de Surienne, agents de I'Angleterre: contribution a' I'étude des relations de I'Angleterre et de la Bourgogne avec la France, sous le regne de Charles VII. Paris: E. Droz. 1936.
Quicherat, Jules-Etienne. Rodrigue de Villandrando, I'un des combattants pour I'indépendance française au quinziéme siécle… Paris: Hachette et cie, 1879.
Региональные исследования
Fourquin, Guy. Les campagnes de la région parisienne a la fin du Moyen-age: du milieu du XIIIe siécle au debut du XVIe siécle. Paris: Presses universitaires de France, 1964. [Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines de Paris. Serie recherches; 10].
Favier, Jean. Le Commerce fluvial dans la région parisienne. Paris: Imprimerie Nationale, 1975. [Histoire générale de Paris).
Mollat du Jourdin, Michel. Le commerce maritime normand a la fin du Moyen Age: étude d'histoire économique et sociale. Paris: Plon, 1952.
Plaisse, Andre. La baronnie du Neubourg: essai d'histoire agraire, économique et sociale. Paris: Presses Universitaires de France, 1961.
Touchard, Henri. Le commerce maritime breton a la fin du Moyen Age. Paris: Les Belles Lettres, 1967. [Annales litteraires de I'Université de Nantes; 1].
Boutruche, Robert. La crise d'une société: seigneurs et paysans du Bordelais pendant la Guerre de Cent Ans. Paris: les Belles Lettres, 1947. [Publications de la faculté des lettres de I'Université de Strasbourg; 110).
Bernard, Jacques. Navires et gens de mer a Bordeaux: (vers 1400—vers 1550). Paris: S.E.V.P.E.N., 1968. 3 vol. [Ports, routes, trafics; 23].
Samaran, Charles. La Gascogne dans les registres du Tresor des chartes. Paris: BibHothkque nationale, 1966. [Collection de documents inedits sur l'histoire de France. Série in 8].
Wolff, Philippe. Commerces et marchants de Toulouse: vers 1350–1450. Paris: Plon, 1954.
Pezenas: ville et campagne, XIIIe-XXe- siécles: actes du 48e congres de la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, organisé a Pézenas les 10 et 11 mai 1975. Montpellien Fédération historique du Languedoc méditerraneen et du Roussillon, 1976.
Baratier, Edouard; Reynaud, Felix. Histoire du commerce de Marseille. Tome 2. Paris: Ubr. Plon. 1951.
Lorcin, Marie-Therese. Les Campagnes de la région lyonnaise aux XIVe et XVe siécles. Lyon: M.T. Lorcin. 1974.
Bergier, Jean-François. Geneve et I'economie europeenne de la Renaissance. Paris: S.E.V.P.EN. 1963. [Affaires et gens d'affaires; 29].
Dubois, Henri. Les Foires de Chalon et le commerce dans la vallee de la Saone a la fin du Moyen age: vers 1280—vers 1430. Paris: Publications de la Sorbonne, 1976.
Le role du sel dans l'histoire. Travaux prépares sous la direction de Michel Mollat. Paris: Presses universitaires de France, 1968. [Publications de la Faculte des lettres et sciences humaines de Paris. Série recherches 37].
Renouard, Yves. Etudes d'histoire médievale. Paris: S.E.V.P.E.N, 1968. 2 vol. [Bibliotheque generale de I'Ecole pratique des hautes Nudes' 6e section).
Городское общество и городская экономика
Gazelles, Raymond. Paris de la fin du regne de Philippe Auguste a la mort de Charles V, 1223–1380. Paris: Association pour la publication d'une histoire de Paris, 1972.
Favier, Jean. Nouvelle histoire de Paris… [4], Paris au XV siécle: 1380–1500. Paris: Association pour la publication d'une histoire de Paris: diffusion Hachette, 1974.
Geremek, Bronislaw. Le salariat dans I'artisanat parisien aux XIII–XV siécles: etude sur le marche de la main-d'oeuvre au moyen age. Traduit du polonais par Anna Posner et Christiane Klapisch-Zuber. Paris; La Haye: Mouton & Co., 1968. [Eсоlе pratique des hautes études, Sorbonne].
Geremek, Bronislaw. Les marginaux parisiens: aux XIVe et XVe siécles. Traduit du polonais par Daniel Beauvois. Paris: Flammarion,1976. [Collection L'Histoire vivante. Revokes et protestations].
Chevalier, Bernard. Tours, ville royale (1356–1520): origine et développement d'une capitale a la fin du Moyen age. Louvain; Paris: Vander-Nauwelaerts, 1975. [Publications de la Sorbonne. Série N.S. Recherches; 14].
Favreau, Robert. La Ville de Poitiers a la fin du Moyen Age. Poitiers: Société des antiquaires de l'Ouest, 1978.
Schneider, Jean. La ville de Metz aux XIIIe et XIVe siécles. Nancy: Impr. G. Thomas, 1950.
Despories, Pierre. Reims et les Rémois: aux XIIIe et XIVe siécles. Paris: A. et J. Picard, 1979.
Plaisse, Andre; Plaisse, Sylvie. La Vie municipale a Evreux pendant la guerre de Cent ans. ^vreux: Société Hbre de I'Eure, 1978. [Connaissance de I'Eure. Numéro hors série; 2].
Higounet-Nadal, Arlette. Périgueux aux XIVe et XVe siécles: étude de démographie historique. Bordeaux: Federation historique du Sud-Ouest, 1978. [Etudes et documents d'Aquitaine; 4].
Bordeaux sous les rois d'Angleterre. Sous la direction de Yves Renouard. Bordeaux: Federation historique du Sud-Ouest, 1965.
Основная хронология
1152 Алиенора Аквитанская выходит за Генриха Плантагенета.
1204 Филипп Август захватывает Нормандию.
1259 Парижский франко-английский договор.
1277 Установление морского пути между Генуей и Брюгге.
1297 Англо-фламандский союз.
1302 Маго — графиня д'Артуа после смерти брата.
1305 Франко-фламандский мир; Атисский договор.
1314 Шотландцы побеждают англичан при Бэннокберне.
1314 Смерть Филиппа Красивого.
1317 Тяжелый хлебный кризис и мор.
1323 Восстание в Приморской Фландрии.
1324 Конфискация Гиени.
1328 Восхождение на престол Филиппа Валуа.
1328 Фламандское восстание подавлено в результате сражения при Касселе.
1329 Амьенский оммаж: Эдуард III — вассал Филиппа VI.
1332 Суд пэров выносит приговор Роберу д'Артуа.
1332 Рождение Карла Злого.
1336 Начало шерстяной войны между Англией и Фландрией.
1336 Франко-кастильский союз.
1337 Конфискация Гиени. Англо-имперский союз.
1338 Якоб ван Артевельде — капитан Гента.
1339 Наступление англичан и англо-фламандский союз.
1340 Победа английского флота при Слёйсе. Эсплешенское перемирие.
1341 Смерть герцога Иоанна III Бретонского.
1343 Генеральные штаты королевства. Перемирие в Малетруа.
1344 Праздник Круглого стола в Виндзоре.
1345 Возобновление войны. Убийство Якоба ван Артевельде. Смерть Жана де Монфора.
1346 Избрание Карла Люксембургского в империи. Поражение французов при Креси. Временный захват графства Артуа.
1347 Взятие Кале Эдуардом III.
1348 Черная чума. Основание ордена Подвязки Эдуардом III. Англо-наваррское соглашение.
1349 Вспышка антисемитизма. Флагелланты. Уступка Дофине Франции.
1350 Смерть Филиппа VI. Иоанн II — король Франции.
1351 Регламентация найма и жалований. Создание ордена Звезды Иоанном Добрым. Реорганизация королевской армии. Битва Тридцати.
1353 Бокккаччо завершает «Декамерон».
1354 Франко-наваррский кризис.
1355 Франко-наваррский договор в Валони. Набег Черного принца на Лангедок. Генеральные штаты: переход налогов в ведение Штатов.
1356 Иоанн Добрый совершает акт насилия в Руане. Уход англичан от боя под Леглем.
1356 Иоанн Добрый побежден и взят в плен при Пуатье. Генеральные штаты претендуют на политическую власть. Дофин Карл встречается с императором в Меце.
1357 Штаты реформируют систему монархии. Предварительные переговоры в Лондоне.
1358 Парижское восстание. Этьен Марсель. Жакерия. Англо-наваррский союз.
1359 Вторые прелиминарные переговоры в Лондоне. Бесполезный набег Эдуарда III на Францию.
1360 Франко-английские договоры в Бретиньи и Кале.
1361 Компании. «Опоздавшие». Смерть герцога Бургундского Филиппа де Рувра.
1362 Компании наносят поражение королевской армии при Бринье. Иоанн Добрый в Авиньоне.
1363 «Этап» английской шерсти переносится в Кале. Тяжелый рецидив эпидемии чумы. Новые враждебные действия в Бретани.
1364 Стабилизация монеты; создание франка.
1364 Смерть Иоанна Доброго. Карл V — король Франции. Дюгеклен побеждает наваррцев при Кошереле. Иоанн IV де Монфор одерживает победу при Оре.
1365 Герандский договор. Победа Монфоров.
1366 Англо-наваррский договор в Либурне.
1367 Черный принц одерживает победу при Нахере. Организация обороны Франции.
1368 Тесный оммаж сира д'Альбре Карлу V.
1368 Прием гасконских апелляций Советом Карла V.
1369 Вступление Юга де Шатийона в Абвиль. Эдуард III притязает на французскую корону.
1369 Свадьба Филиппа Бургундского и Маргариты Фландрской. Набег Ланкастера на Пикардию и Нормандию. Конфискация Аквитании.
1370 Начало строительства Бастилии. Набег Роберта Ноллиса до самой Бретани. Победы французов в Аквитании и Бретани.
1372 Победа кастильского флота под Ла-Рошелью. Занятие Пуату, Они и Сентонжа.
1373 Роковой набег герцога Ланкастера. Кампания Дюгеклена против Солсбери в Бретани.
1375 Англо-французское перемирие в Брюгге. Капитуляция Сен-Совёр-ле-Виконт. Эпидемия чумы и голод.
1376 Смерть Черного принца.
1378 Визит императора Карла IV в Париж. Начало Великой схизмы Запада. Восстание чомпи во Флоренции. Конфискация герцогства Бретонского.
1379 Волнения во Фландрии.
1380 Смерть Дюгеклена и Карла V. Набег Бекингема.
1381 Ордонанс Карла VI против евреев. Второй Герандский договор о наследовании Бретани. Восстание «трудящихся» в Англии. Мятеж в Безье. Начало действий тюшенов.
1382 Фландрия восстает. Филипп ван Артевельде в Ренте. «Гарелль» в Руане. Майотены в Париже. Королевская армия разбивает фламандцев при Розебеке.
1383 Репрессии в Париже и Руане. Крестовый поход епископа Нориджского во Фландрию. Разорение Гента англичанами.
1383 Свадьба Карла VI и Изабеллы Баварской.
1383 Восстание Раймона де Тюренна против Климента VII.
1389 Жан Жувенель — хранитель должности купеческого прево.
1392 Начало болезни Карла VI.
1393 Франко-английские переговоры в Лелингене.
1394 Изгнание евреев.
1395 Франко-английские переговоры в Париже.
1396 Карл VI и Ричард II в Ардре. Генуя отдает себя под власть короля Франции.
1397 Англичане уступают Брест герцогу Бретонскому.
1399 Кристина Пизанская: «Послание богу любви».
1399 Французский собор: отказ от повиновения авиньонскому папе. Свержение Ричарда II.
1403 Возврат к подчинению Бенедикту XIII. Война между Арманьяком и Комменжем.
1404 Смерть Филиппа Храброго. Иоанн Бесстрашный — герцог Бургундский.
1405 Высадка англичан на Котантене. Принцы приводят армии под Париж.
1407 Убийство Людовика Орлеанского.
1408 «Апология тираноубийства» Жана Пти.
1409 Шартрский мир между принцами.
1410 Нападение англичан на Фекан. «Роскошный часослов герцога Беррийского».
1411 Иоанн Бесстрашный в Париже. Конфликт между Фуа и Арманьяком.
1412 Восстановление парижского муниципалитета. Оксерский мир между принцами. Набег Кларенса от Котантена до Бордо.
1413 Генеральные штаты и движение «кабошьенов». Арманьякская реакция и арманьякский террор.
1414 Открытие Констанцского собора.
1415 Высадка англичан и взятие Арфлёра. Победа англичан при Азенкуре.
1417 Уничтожение французского флота под Ла-Уг. Завоевание англичанами Нормандии. Избрание Мартина V. Конец схизмы.
1418 Англичане в Фалезе, Эврё и Лувье. Вступление бургундцев в Париж. Беспорядки. Тяжелая эпидемия оспы.
1419 Взятие англичанами Руана. Убийство Иоанна Бесстрашного. Восстание в Тулузе в поддержку графа де Фуа.
1420 Тяжелая эпидемия чумы в Лангедоке и Провансе. Договор в Труа. Генрих V — наследник французского престола.
1421 Победа арманьяков при Боже.
1422 Взятие англичанами Компьеня. Смерть Генриха V и Карла VI. Создание университета в Доле.
1423 Победы арманьяков при Мёлане и Ла-Гравеле. Победа англичан при Краване.
1424 Вылазка герцога Глостера в Эно. Победа англичан при Вернёй-сюр-Авр. Начало осады Мон-Сен-Мишель. Перемирие в Шамбери между Карлом VII и бургундцами.
1425 Ришмон — коннетабль.
1426 Разорение Тулузской области Арманьякским бастардом.
1427 Дюнуа наносит поражение Уорику при Монтаржи.
1428 Осада Орлеана.
1429 «Битва селедок». Жанна д'Арк освобождает Орлеан. Победа французов при Пате.
1429 Миропомазание Карла VII в Реймсе. Неудача Жанны д'Арк под Парижем.
1430 Пленение Жанны д'Арк под Компьенем.
1431 Процесс и костер Жанны д'Арк. Создание Пуатевинского университета. Открытие Базельского собора.
1431 Миропомазание Генриха VI в соборе Парижской Богоматери.
1432 Создание Канского университета. Попытка Рикарвиля отбить Руан. Неудача англичан при Ланьи. Ван Эйк завершает «Мистического агнца».
1435 Франко-бургундский договор в Аррасе. Смерть Бедфорда и Изабеллы Баварской. Взятие Дьеппа Шарлем де Маре.
1436 Вступление Ришмона в Париж.
1437 Коалиция принцев против Карла VII.
1438 Вильяндрандо ведет войну в Оверни. Эпидемия оспы. Прагматическая санкция в Бурже.
1439 Франко-английские переговоры в Гравелине. Новая коалиция принцев: Прагерия. Вывод налогов из ведения Генеральных штатов.
1440 Чума в Лангедоке. Взятие Мо Ришмоном.
1442 Встреча в Невере. Провал коалиции принцев. «День» Тартаса.
1443 Неудача Талбота под Дьеппом. Бесполезный набег Сомерсета на Нормандию.
1444 Франко-английское перемирие в Туре.
1445 Королевские привилегии для лионских ярмарок. Создание «ордонансных рот».
1448 Создание «вольных лучников».
1449 Возобновление войны.
1450 Отвоевание Нормандии. Форминьи.
1451 Первое отвоевание Гиени.
1452 Возвращение англичан в Гиень.
1453 Окончательное отвоевание Гиени. Кастийон. Процесс Жака Кёра.
1456 Реабилитация Жанны д'Арк.
1465 Лига общественного блага против Людовика XI.
1469 Основание ордена Святого Михаила.
1475 Высадка англичан. Договор в Пикиньи.
1477 Поражение и гибель Карла Смелого.
1482 Аррасский договор. Бургундия воссоединяется с Францией.
Приложения
Отвоевание земель Карлом V. Этапы отвоевания.
Брюгге и Гент.
Осада Орлеана.
Отвоевание Гиени.
Наследование Франции.
Наследование Наварры.
Наследование Артуа.
Наследование Бретани.
Наследование Бургундии.
Баварские семейные союзы.
Дочери Иоанна Бестрашного.
Король Рене.
Йорки и Ланкастеры.
Примечания
1
В 1326 г. английский король Эдуард II отрекся от престола в пользу своего сына под давлением восставших баронов в главе с его супругой Изабеллой Французской и был убит в заточении в 1327 г. (прим. ред.).
(обратно)2
Речь идет о войнах за графство Фландрию (1297–1305 гг.), которые вел французский король Филипп IV Красивый (1285–1314 гг.), стремившийся к усилению королевской власти и подчинению непокорных сеньоров и областей французского королевства. После захвата Фландрии королевскими войсками к 1300 г. население большинства фламандских городов, недовольное налоговым гнетом и притеснениями со стороны французского наместника Жака де Шатийона, подняло восстание против Филиппа. Сигналом к нему стала «Брюггская заутреня» (18 мая 1302 г.), когда жители Брюгге перебили чиновников французского короля, находившихся в их городе. Королевская армия под командованием Робера II д'Артуа была разбита фламандской пехотой в битве при Куртре (2 июля 1302 г.). После того, как французы под командованием лично Филиппа Красивого нанесли фламандцам поражение в сражении при Монс-ан-Певеле (18 августа 1304 г.), начались переговоры, завершившиеся Атисским миром (24 июня 1305 г.). Условия мирного договора были крайне суровыми для фламандцев и их графа Роберта Бетюнского: они должны были заплатить королю за военные издержки (400 тысяч ливров за четыре года), в течение года содержать французские гарнизоны во Фландрии и возместить ущерб, причиненный сторонникам Филиппа IV Красивого в графстве, снести укрепления городов Гента, Ипра, Брюгге и Дуэ. Трем тысячам горожанам Брюгге надлежало отправиться в паломничество в Святую землю во искупление своих грехов. Практически невыполнимые условия договора привели к неоднократным пересмотрам его условия и повторным конфликтам между французскими королями и фламандцами, продлившимися до 1326 г.
(обратно)3
«Баталия» представляла собой крупную тактическую единицу, состоявшую из «знамен», или «хоругвей», — отрядов «знаменных» рыцарей («баннеретов») (прим. ред.).
(обратно)4
Во время Седьмого крестового похода в Египет французский король Людовик IX Святой попал в плен к мусульманам (6 апреля 1250 г.); его выкупили за недавно захваченный крестоносцами город Дамьетту, а его войско — за огромную сумму в 500 тысяч турских ливров (прим. ред.)
(обратно)5
Эти документы жаловали некоторые вольности дворянству соответствующих провинций (прим. ред.).
(обратно)6
Закон, запрещавший женщинам наследовать фьеф; восходил к Салической правде — своду франкских законов V–VI вв. (прим. ред.).
(обратно)7
Имеется в виду междуцарствие в Священной Римской империи, начавшееся с 1254 г., когда умер Конрад IV, последний из признанных императоров из династии Гогенштауфенов, и окончившееся в 1273 г., когда к власти пришел Рудольф I, первый из императоров династии Габсбургов (прим. ред.).
(обратно)8
Правовые обычаи отдельных провинций или городов в средневековой Франции (прим. ред.).
(обратно)9
Студенты в средневековых университетах делились на так называемые «нации» в зависимости от своего происхождения (прим. ред.).
(обратно)10
Villeneuve (букв, «новый город») — одно из традиционных названий новых поселений во Франции в средние века (прим. ред.).
(обратно)11
Тип пейзажа: поля, окаймленные лесными полосами (прим. ред.).
(обратно)12
Ремесленники, работавшие со всеми металлами, кроме драгоценных (прим. ред.).
(обратно)13
Компания (compagnie) — в XIV–XV вв. административная и тактическая войсковая единица под командованием капитана, насчитывавшая от нескольких до свыше ста копий (прим. ред.).
(обратно)14
Узкий мужской камзол, вошедший в моду в середине XIV в. (прим. ред.).
(обратно)15
Виды мужских и женских платьев, узких или широких в разные периоды; сюрко надевалось поверх котты (surcotte) (прим. ред.).
(обратно)16
Имеется в виду единственный порт, через который английский король разрешал экспортировать шерсть из страны (прим. ред.).
(обратно)17
Французский король Людовик VI правил в 1108–1137 гг. (прим. ред.)
(обратно)18
Средневековые меры емкости, т. е. сыпучих тел и жидкости; их величина сильно колебалась (прим. ред.).
(обратно)19
Буквально «вассал вассала» (прим. ред.).
(обратно)20
От английского «indented» — «зазубренный» (прим. ред.).
(обратно)21
Пехотинцы, вооруженные длинными ножами (прим. ред.).
(обратно)22
Простонародные прозвища (прим. ред.).
(обратно)23
Мелкая испанская порода лошадей (прим. ред.).
(обратно)24
Пошлина в королевскую казну за экспорт шерсти и кожи (прим. ред.).
(обратно)25
От французского aide (помощь) — косвенный экстраординарный налог (прим. ред.).
(обратно)26
Арбалетная оперенная стрела (прим. ред.).
(обратно)27
Вид шлема с развитым назатыльником, позже также с вытянутым забралом (прим. ред.).
(обратно)28
Маленький круглый, квадратный или треугольный щит (прим. ред.).
(обратно)29
Высокий овальный или прямоугольный щит, чаще всего применяемый арбалетчиками (прим. ред.).
(обратно)30
Цит. по: Фруассар, Жан. Хроники. 1325–1340/Пер. М. В. Аникиева. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. С. 173.
(обратно)31
Баннерет — рыцарь, приводивший в королевское войско небольшой отряд и сам командовавший им под собственным знаменем (прим. ред.).
(обратно)32
Легковооруженные всадники, ирландцы по происхождению (прим. ред.).
(обратно)33
Имеются в виду Маргарита, дочь Филиппа III и жена Эдуарда I, и Изабелла, дочь Филиппа IV и жена Эдуарда II (прим. ред.).
(обратно)34
Средневековая метательная машина (прим. ред.).
(обратно)35
Сына его сестры Маргариты и Ги I, графа Блуаского (прим. ред.).
(обратно)36
Франкоговорящие жители Бретани (прим. ред.).
(обратно)37
Жители Бретани, говорящие по-бретонски (прим. ред.)
(обратно)38
Эпохи французского короля Людовика XIV (1643–1714) (прим. ред.).
(обратно)39
Капитулами (capitouls) назывались в Тулузе синдики, чиновники городского управления (прим. ред.).
(обратно)40
Используя этот анахроничный термин, автор имеет в виду нежелание семей рожать много детей (прим. ред.).
(обратно)41
Боккаччо, Джованни. Декамерон/Пер. Н. Любимова. М.: Худ. лит., 1989. С. 6.
(обратно)42
Пер. В. Станевич.
(обратно)43
Мирские братства при монашеских орденах («первым орденом» считался мужской, вторым — женский) (прим. ред.).
(обратно)44
Божий мир — провозглашаемое церковью прекращение военных действий на ограниченной территории на определенный срок. Божье перемирие предполагало прекращение военных действий в определенные дни недели, а также по большим церковным праздникам (прим. ред.).
(обратно)45
Словом «земледелец» (laboureur) при Старом порядке во Франции называли сравнительно зажиточного крестьянина, имевшего собственную землю и хотя бы одну лошадь (прим. ред.).
(обратно)46
Простой рыцарь, не имеющий под началом других рыцарей, в отличие от баннерета (прим. ред.).
(обратно)47
Он умер 8 июня 1376 г., а его отец Эдуард III — 21 июня 1377 года (прим. ред.).
(обратно)48
Средиземное море (прим. ред.).
(обратно)49
Золотая английская монета, на аверсе которой изображался геральдический леопард в короне, а на реверсе — крест с леопардами между перекладинами (прим. ред.).
(обратно)50
В отечественной литературе этот налог принято называть «эд», от французского aide — помощь (прим. ред.).
(обратно)51
Бернар Сессе (ум. 1311) — аббат южнофранцузского монастыря Сент-Антонен. Сессе вступил в конфликт с французским королем Филиппом Красивым, который пренебрег его правами на город Памье. Стремясь воспрепятствовать королю, Сассье добился, чтобы папа Римский Бонифаций VIII сделал его первым епископом Памье. Вскоре он организовал заговор против Филиппа Красивого: Сассье отрицал права Филиппа на корону и предложил графу де Фуа суверенную власть над Лангедоком. По приказу короля был изгнан из Франции и умер в Риме (прим. ред.)
(обратно)52
При Филиппе IV Жан II д'Аркур (1245–1302) враждовал с Робером де Танкарвилем (прим. ред.).
(обратно)53
Вид мужской и женской верхней одежды XIV–XV вв., узкий камзол (прим. ред.).
(обратно)54
Haute justice, то есть правом решать важнейшие дела и выносить смертные приговоры (прим. ред.).
(обратно)55
На Гревской площади находился один из крупнейшим парижских рынков; здесь, видимо, она символизирует бюргерство (прим. ред.).
(обратно)56
То же, что кардинал-священник; он носил титул по названию римской церкви, при которой числился (прим. ред.).
(обратно)57
Имеется в виду Жан Бирель, генерал ордена картезианцев (прим. ред.).
(обратно)58
Слово «девиз» может означать также геральдический знак (прим. ред.).
(обратно)59
У Фруассара — «синяя дама [Богоматерь] в окружении солнечных лучей» (прим. ред.).
(обратно)60
Башмаки с длинными остроконечными носками по тогдашней моде (прим. ред.).
(обратно)61
Этим словом (routier) называли профессиональных воинов, нанимавшихся в ту или иную армию либо занимавшихся разбоем в составе самостоятельной банды — руты (route) (прим. ред.).
(обратно)62
Он станет великим магистром в 1377 г. (прим. ред.).
(обратно)63
От французского «chaise» — кресло (прим. ред.).
(обратно)64
Вдовствующие королевы, которые были, соответственно, женами Карла IV и Филиппа VI (прим. ред.).
(обратно)65
Я различаю (лат.).
(обратно)66
Цит. по: Из хроники Жана де Венетт // Французская деревня XII–XIV вв. и Жакерия. Всеобщая история в материалах и документах. М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1935. С. 77.
(обратно)67
Имеется в виду Иль-де-Франс (прим. ред.).
(обратно)68
Цит. по: Из хроники Жана де Венет… С. 78
(обратно)69
Так в то время во Франции называли бывших бойцов всех армий, занимавшихся грабежом и разбоем после увольнения (прим. ред.).
(обратно)70
Знатоки феодального права (прим. ред.)
(обратно)71
Так в то время иногда называли крестовый поход (прим. ред.).
(обратно)72
Байярд, Пьер Террай, сеньор де (ок. 1473–1524) — прославленный французский рыцарь, участник Итальянских войн, за доблесть, великодушие и соблюдение рыцарского кодекса был прозван «рыцарем без страха» и упрека (прим. ред.).
(обратно)73
Роберт Благочестивый — второй король Франции из династии Капетингов (996—1031 гг.). Передал герцогство Бургундское своему младшему сыну Роберту, положив начало династии бургундских герцогов из рода Капетингов, просуществовавшей до смерти Филиппа де Рувра (прим. ред.).
(обратно)74
Боевая единица, состоящая из рыцаря и оруженосца; в XV в. к ним добавится «кутилье» (прим. ред.).
(обратно)75
Строго говоря, золотая монета под названием «конный франк» (franc а cheval) с изображением конного короля на аверсе появилась еще при Иоанне II, в 1360 г., и действительно чеканилась до 1385 г.; в 1365 г. начали чеканить монету «пеший франк» (franc а pied), со стоящим королем на аверсе (прим. ред.).
(обратно)76
Герцог Роберт I Барский и Мария Французская, дочь Иоанна Доброго, были троюродными братом и сестрой: их бабки были дочерьми герцога Роберта II Бургундского (прим. ред.).
(обратно)77
Эдмунд Лэнгли приходился Маргарите троюродным дядей: его бабка Изабелла Французская была сестрой прадеда Маргариты Филиппа V (прим. ред.).
(обратно)78
Французское слово «mouton» означает «баран» (прим. ред.).
(обратно)79
В 1380 г. его усыновила королева Джованна I Неаполитанская (прим. ред.).
(обратно)80
При Пуатье (прим. ред.).
(обратно)81
В смысле: люди простонародного происхождения (прим. ред.).
(обратно)82
Предполагается, что слово «trepas» — искаженное «outrepasser», что в данном случае значит «переправляться через» [реку] (прим. ред.).
(обратно)83
См. раздел «Аррасский договор» в главе XVII «Перелом» (прим. ред.).
(обратно)84
Екатерина (1320–1347), дочь герцога Леопольда I Австрийского (прим. ред.).
(обратно)85
Мериго Марше (1360–1391) — известный французский рутьер благородного происхождения; казнен за то, что служил англичанам (прим. ред.).
(обратно)86
Это слово происходит от «Haro!» — возгласа, означавшего в Нормандии законный протест (прим. ред.).
(обратно)87
Во французском языке слова «город» (la ville) и, в частности, «Гент» (Gand) — женского рода (прим. ред.).
(обратно)88
Французские партизаны Второй мировой войны, от слова «maquis» — лесные заросли, чаща (прим. ред.).
(обратно)89
«Коротышек», «обезьянок» (фр.) (прим. ред.).
(обратно)90
Этот спор подробно описан в книге И. Хёйзинги «Осень средневековья», М.: 1995. С. 121–125 (прим. ред.).
(обратно)91
О том, что Изабелла Баварская была любовницей Людовика Орлеанского, впервые заявил только историк и писатель Брантом (1540–1617) в XVI в., не приведя никаких доказательств (прим. ред.).
(обратно)92
Жак — воинская куртка до бедер, кольчуга или бригантина, обычно пехотная одежда (прим. ред.).
(обратно)93
Салад — шлем с удлиненным назатыльником (прим. ред.).
(обратно)94
Сладкое вино с добавлением корицы (прим. ред.).
(обратно)95
Элеонора Кобхем все-таки была английской дворянкой (прим. ред.).
(обратно)96
Игра слов: «bonfils» — «добрый сын», «bonnefille» — «добрая дочь» (прим. ред.).
(обратно)97
Жан де Бюэй (прим. ред.).
(обратно)98
Изабелле Португальской (1397–1471), дочери короля Португалии Жуана I и Филиппы Ланкастер (прим. ред.).
(обратно)99
По-французски cochon — свинья; так же звучит фамилия епископа — Cauchon (прим. ред.).
(обратно)100
Шоссы — в данном случае узкие штаны-чулки, жиппон — нижняя мужская одежда со шнуровкой спереди (прим. ред.).
(обратно)101
Тристан Отшельник станет при Людовике XI, сыне Карла VII, прево и одним из самых приближенных людей короля, приобретя самую зловещую репутацию (прим. ред.).
(обратно)102
Фаблио, появившееся в 1468 г., главный герой которого — хвастливый, но трусливый солдат (прим. ред.).
(обратно)103
Святой, или юбилейный, год празднуется католиками в круглые даты Рождества Христова. Впервые эту дату велел праздновать Бонифаций VIII в 1300 г. с интервалом в 100 лет, потом интервал сократили до 50 и до 25 лет (прим. ред.).
(обратно)104
Муниципальный совет Бордо (прим. ред.)
(обратно)


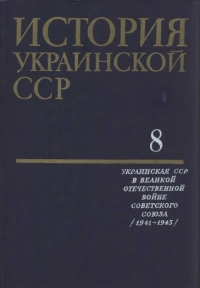
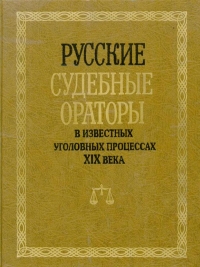
Комментарии к книге «Столетняя война», Жан Фавье
Всего 0 комментариев