Лев Колодный
Переулки Арбата
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ХОЖДЕНИЕ В МОСКВУ
Из всех хождений по Москве для этой книги я выбрал только те, что проходили по Арбату и прилегающим к нему улицам и переулкам, району, где находится университет и консерватория. По этой земле, по словам Ивана Бунина, "совсем особому городу", я путешествовал несколько лет.
Если Кремль - сердце Москвы, то Арбат - его душа.
ПОТЕРИ ПРЕЧИСТЕНКИ
Одну из потерь, название, Пречистенке вернули несколько лет тому назад. До 1990 года она именовалась Кропоткинской в честь князя Кропоткина, известного борца с самодержавием, столпа отечественного анархизма, крупного ученого-географа... Чем-то анархизм напоминает коммунизм: в теории все логично, все хорошо, основано на справедливости, гуманизме, на желании страстном всеобщего благоденствия. На практике... Приверженцев анархизма, обосновавшихся в Москве, коммунисты вышибали из захваченных ими особняков артиллерийским огнем... И было за что: анархисты грабили и убивали, кого хотели. А к Петру Алексеевичу Кропоткину, приехавшему в Россию после долгой эмиграции, вождь большевиков, если можно так сказать, питал слабость. Пригласил на беседу в Кремль, где захотел потеоретизировать с идеологом анархизма, автором книг, в частности "Великой французской революции", которую Ленин высоко ценил... Когда же старый революционер умер, то в январе 1921 года гроб с его телом поставили для прощания в Колонном зале Дома Союзов. Штатный переулок на Пречистенке, где родился князь, переименовали в Кропоткинский, переименовали площадь, набережную и улицу, организовали в пречистенском особняке музей, почтили память Петра Алексеевича с большевистским размахом. Позднее, когда борьба с идейными противниками набрала силу, музей ликвидировали. Но названия в честь вождя анархистов сохранялись до наших дней. Кропоткинской улицы больше нет. Есть Пречистенка. Своему названию она обязана царю Алексею Михайловичу, который часто направлялся по ней из Кремля на богомолье в Новодевичий монастырь. Он обратил внимание, что называлась она как-то богохульно - Чертольской. Царь ездил на поклонение к иконе Пречистой Девы Богоматери, потому и повелел назвать улицу Пречистенкой.
От средневековой Москвы сохранились на Пречистенке каменные палаты, отреставрированные недавно и переданные Книжной палате. Еще одни палаты, побеленные, на высоком подклете, видны в Чертольском переулке. Они дают представление не только о том, как выглядели в допетровские времена улицы белокаменной, но и о том, как резко изменился строй жизни и характер архитектуры, когда Москва стала застраиваться по европейским стандартам, вошла в мировой поток зодчества, так поразивший воображение Петра Первого, реформировавшего не только государство, армию, но и градостроительство.
До создания регулярной армии солдаты жили не в казармах, а в стрелецких слободах, где имели землю, дворы, дома, могли выращивать овощи, торговать ими. Две такие стрелецкие слободы находились в районе Пречистенки. По имени стрелецкого полковника Зубова и место, где располагалась слобода, называлось Зубово, о нем напоминает название Зубовской площади, на которую выходит Пречистенка в сторону Садового кольца.
И церковь, которую соорудили стрельцы во времена полковника Зубова, называлась Святой Троицы в Зубове. Пятиглавый храм появился на Пречистенке в 1642 году. Через десять лет, накопив деньги, заказали построить колокольню. Она поднялась высоко в виде шатровой башни. Звон колоколов этой церкви разносился на большое расстояние. Шатровая архитектура самобытно-московская. Искусствоведы восхищаются гармонией, пропорциями, эстетикой этих башен. Пречистенская колокольня среди всех других подобных была самой высокой, выше шатровой колокольни Николы Явленного на Арбате.
А участь пречистенского шатра точно такая же, как у арбатского. Если вы подойдете по улице к дому № 31 довоенной постройки, самому большому среди окружающих строений, появившемуся в злосчастном 1937 году, то приблизитесь к месту, где без малого триста лет простояла церковь стрельцов. Как раз в этом месте возжелали поселиться чины рабоче-крестьянской милиции. Для них много строивший в Москве архитектор Зиновий Розенфельд спроектировал этот многоэтажный дом.
Другая стрелецкая слобода возглавлялась полковником Левшиным. В память о нем сохранилось название Малого Левшинского переулка. Был еще и Большой Левшинский, ставший в советские годы улицей Щукина. Как раз на углу Большого Левшинского переулка и Глазовского переулка, ставшего улицей Луначарского, стрельцы построили в 1712 году церковь Покрова Пресвятой Богородицы, что в Левшине. Она представала одноглавой, с трапезной и колокольней. "Церковь была небольшой, весьма скромной, - видно, стрельцы полковника Левшина были победнее зубовских, выстроивших большую, пятиглавую церковь с высокой колокольней по соседству", - пишет современный известный краевед Сергей Романюк. На мой взгляд, дело здесь в другом, стрельцы получали одинаковое жалованье, дело во времени появления храмов. Первый возник в середине XVII века, когда стрельцы, их войско занимали достойное положение в русском обществе, царская власть их жаловала. Петр Первый с детства ненавидел, страшился этих бунтарей и относился к ним соответственно, после того как они безуспешно пытались возвести на царство его сестру, царевну Софью. Ничего большего в 1712 году петровские стрельцы себе уже позволить не могли.
Стрельцов не стало, а церковь их обустраивалась. В середине восемнадцатого века появилась трапезная. Один придельный храм во имя Сергия датировался 1722 годом. Второй в честь Дмитрия Ростовского относился к концу восемнадцатого столетия. И этой церкви не стало в 1930 году, когда на ее месте соорудили жилой дом. "О составе его жильцов можно судить по двум мемориальным доскам, висящим на его стенах: одна в память члена-корреспондента-строителя, а другая - тоже строителя, но министра, крупного организатора, видного деятеля", - не без сарказма повествует нам Сергей Романюк, справедливо негодуя против варварского сноса церквей на Пречистенке, и несправедливо, в пренебрежительном тоне возлагает вину за случившееся бедствие на живших здесь людей, не виноватых в злодеяниях разрушителей. Между прочим, упомянутым без фамилии "министром-крупным организатором-видным деятелем" был бывший недолгое время главой Москвы хороший строитель Николай Дыгай. Не будь его, не имела бы Москва сегодня высотной телевизионной башни в Останкино, поднявшейся в облака более чем на полкилометра. Фундамент башни по проекту Николая Никитина, крупнейшего конструктора XX века, заложили, а строить несколько лет не решались, коллеги Никитина не верили его расчетам, признанным теперь выдающимися, требовали, чтобы фундамент был громадным, глубоким, в то время как конструктор-автор доказывал, что можно обойтись без того, чтобы вгрызаться в землю. Дыгай взял ответственность на себя, дал команду продолжить прерванное строительство и помог организовать его так, что за несколько лет самое высокое сооружение в мире поднялось над севером Москвы. И сделано все это было без приглашения иностранных фирм. Так что Дыгай действительно был крупным организатором и видным деятелем, жаль только, что преждевременная смерть помешала ему послужить городу в полную меру.
Третья пречистенская церковь красовалась в том месте улицы, где сегодня находится музей Александра Пушкина, вблизи дворца Хрущевых-Селезневых, бывших владельцев усадьбы, переданной пушкинскому музею. Овдовевшая царица Марфа Матвеевна, жена царя Федора Алексеевича, в память о муже пожелала, чтобы на месте небольшой деревянной церкви выстроили каменную. Место называлось Божедомкой потому, что в этой земле, как и в других с таким же названием, хоронили людей, умерших без церковного обряда причастия, а ими были бездомные, самоубийцы, жертвы разбоя. Храм Спаса появился в 1696 году. Стерли его с лица земли в 1934 году, когда на месте церквей московские власти решили в пределах старого города, разросшегося после бегства в Москву сотен тысяч бездомных крестьян, построить несколько десятков школ. Так что когда вы видите перед собой кирпичную типовую школу предвоенной постройки в окружении ампирных особняков и доходных домов, то не исключено, что на этом месте находился храм.
Наконец, четвертая пречистенская церковь сокрушена в том месте, где сейчас находится наземный вестибюль станции метро. Она называлась Сошествия Святого Духа. Было у нее и второе название по приделу - церковь Покрова. И у нее фигурировала привязка к местности: "что на Грязи". Соорудили храм у ворот крепостных стен Белого города, где в средние века толпился народ на рынке у ворот. В документах есть о ней упоминание, относящееся к 1493 году. В Никоновой летописи она названа при рассказе о крупном московском пожаре, случившемся в том году. По-видимому, тогда она была деревянной, а ту, что сломали в 1933 году, возвели из кирпича. То был одноглавый небольшой храм с маленькой колокольней.
Таким образом, на Поварской, как и на Арбате, из панорамы улицы исчезли все храмы, все до одного!
Самая большая потеря последнего времени произошла на наших глазах в 1972 году. Советская столица готовилась к встрече американского президента, в разгар потепления отношений между СССР и США, когда удалось договориться о сокращении ядерных взрывов, подписаны были важные соглашения. Тогда Моссовет решил "почистить" город, одним махом уничтожить десятки старых строений, которые не могли уже тогда нормально содержать, не доводить до разрушения.
Сил и средств на ремонт исторической Москвы давно не было. Денег на это требовалось много, миллионы, намного больше, чем на возведение типового многоэтажного дома. А квадратных метров в старых домах после их перепланировки под современные квартиры в две-три комнаты выходило совсем мало. Поэтому и никто ими по-настоящему не занимался, поэтому при каждом удобном случае их стирали с лица земли. Ну а тут появился случай-приезд президента США. Захотелось убрать по пути его следования обветшавшие дома, что и было сделано. Вот тогда, в частности, не стало углового дома между Пречистенкой и Остоженкой, двухэтажного строения, с которого начинался счет домов по нечетной стороне улицы. В плане он похож был на букву Л, фасадами выходил на Остоженку, Пречистенку и раскинувшуюся перед ними площадь, которую украшал своим портиком с 1825 года, с пушкинских времен. На первом этаже дома находились торговые помещения, а второй этаж служил жилым. Первую московскую квартиру заимел именно в нем знаменитый художник Василий Суриков, приглашенный в Москву для росписи строившегося Храма Христа Спасителя, располагавшегося в нескольких сотнях метров от дома мастера. Город потряс воображение сибиряка, со всех сторон на него смотрели замечательные здания и храмы, один другого краше и древнее. Ну а в самом большом соборе доверили Сурикову написать четыре фрески, что он и сделал.
"Я как в Москву приехал, прямо спасен был. Старые дрожжи, как Толстой говорил, поднялись... Памятники, площади, - они мне дали ту обстановку, в которой я мог поместить свои сибирские впечатления. Я на памятники, как на живых людей, смотрел, расспрашивал их: вы видели, вы слышали, вы свидетели?"
Да, при таком умении разговаривать многое, наверное, услышал художник: церковь Сошествия Святого Духа рассказала ему о Москве белокаменной, о стенах и башнях Белого города, охранявшего Москву высоким неприступным каменным кольцом там, где сегодня зеленеют бульвары. Церковь Спаса на Божедомке поведала о любви царицы Марфы Алексеевны к мужу, царю Федору Алексеевичу, которого она намного пережила, не дав Москве сына-государя. Стрелецкие колокольни и храмы полков Зубова и Левшина оплакивали звоном колоколов зарубленных, четвертованных у Лобного места стрельцов, дерзнувших противостоять воле неудержимого Петра... Нет их теперь, и нам, как Василию Сурикову, не видать их никогда и не расспросить о прошлом.
ЧТО НЕ ПОТЕРЯЛА ПРЕЧИСТЕНКА?
На улице сохранилось много особняков. Пушкин, написав шутливое четверостишие, обращенное к посаженной матери княжне Е.Трубецкой:
"Когда Потемкину в потемках
Я на Пречистенке найду,
То пусть с Булгариным в потомках
Меня поставят наряду, -"
подразумевал здание, где жила княгиня, ныне имеющее № 21. Перед революцией двухэтажный особняк, который можно назвать за его размеры дворцом, принадлежал Ивану Морозову. Его стены он увешал картинами, о которых шла молва далеко за пределами Москвы. Этот московский купец обладал замечательным вкусом, которому могли бы позавидовать искусствоведы. В то время когда музеи Франции даже даром не принимали в свои стены картины импрессионистов, Морозов охотился за ними, покупал произведения отверженных мастеров и привозил в Москву, на Пречистенку. Его коллекцию, которую он намеревался, как Третьяков, оставить народу, постигла участь многих подобных собраний: в 1918 году картины национализировали, в стенах дворца на Пречистенке открыли музей нового западного искусства. Но импрессионисты не вписывались в габариты предшественников социалистического реализма, поэтому, когда началась борьба с "низкопоклонством перед Западом", а случилось это бедствие по воле товарища Сталина после Победы, музей в 1948 году закрыли, картины попали частью в Эрмитаж, частью в Музей изобразительных искусств. Морозовская коллекция, морозовский музей перестали существовать. Одним музеем в Москве стало меньше. Здесь теперь выставочные залы Академии художеств и ее резиденция.
На противоположной стороне Пречистенки украшает улицу большая некогда барская усадьба с восьмиколонным портиком и фронтоном. В ней до революции помещалась мужская гимназия педагога Л. Поливанова.
Сейчас много пишут и говорят о новых нестандартных методах преподавания, реформе средней школы, так вот Поливанов обладал талантом педагога, который эти методы реализовывал и очень успешно. Его гимназия давала блестящее гуманитарное образование, ковала, можно сказать, литераторов. Ее закончили Валерий Брюсов, Андрей Белый, Максимилиан Волошин, великий шахматист Александр Алехин... Сюда приходили Федор Достоевский и Лев Толстой, дети которого учились здесь.
В этой гимназии, в светлых высоких классах детей воспитывала и архитектура. По-видимому, ее методы и программа так не похожи на современные, превосходят их своим качеством, давно утерянным, как не похоже классическое здание с колоннадой на типовую кирпичную коробку школы, стоящую на месте церкви.
Еще один пречистенский дворец упомянут в стихах поэта-партизана Дениса Давыдова, в его послании, направленном в форме рифмованного заявления на имя директора Комиссии для строений А.Башилова.
Помоги в казну продать
За сто тысяч дом богатый,
Величавые палаты,
Мой Пречистенский дворец...
В этих стихах речь идет об особняке, которым владел генерал Бибиков, разгромивший Емельяна Пугачева. Этот шедевр конца XVIII века, где бывали в разное время многие поэты России, испорчен севшим на его крыло грузным пятиэтажным домом советской постройки. И в этом дворце размещалась до революции гимназия, но женская. Как видим, для гимназий подбирались здания красивые, поскольку полагали, что детей должна воспитывать красота, само жизненное пространство.
Александро-Мариинский институт, где обучались девушки, занимал дворец, построенный Матвеем Казаковым. Естественно, что, как и у гимназий, судьба его была печальна: после революции и это учебное заведение закрыли. А вместо благородных девиц в стены дворца на Пречистенке вошли молодые командиры Красной Армии, поскольку в классах института появилась военная академия, где не долго начальствовал Михаил Фрунзе. Этот дворец по традиции красят в розовый цвет Тем, кто захочет полюбоваться этим строением, скажу, что номер его 19. Казаков строил дворец для князя А. Долгорукова, сын которого Илья упомянут Пушкиным в его романе "Евгений Онегин", в написанной шифром главе о декабристах, как "осторожный Илья".
Еще одна жительница Пречистенки, жена графа Михаила Орлова - Екатерина послужила Александру Сергеевичу моделью для образа Марины Мнишек, ей же он посвятил стихотворение "Увы! Зачем она блистала минутной нежной красотой!". А муж графини описан Александром Герценом в "Былом и думах": "Бедный Орлов был похож на льва в клетке. Везде стукался он в решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела". А жили Орловы в особняке № 10. Не обошел вниманием одного из жильцов Пречистенки и великий пролетарский поэт Владимир Маяковский: "А вот этот молодчик - Жиро, заводчик. Нас как липку обирал, с рабочих шкуру драл!" Имеется в виду фабрикант Андрей Жиро, хозяин шелкоткацкого комбината, получившего после революции имя "Красной Розы". Жиро владел также домом, завершающим улицу на нечетной стороне. В нем снимал квартиру художник Врубель в пору, когда писал картины "Пан" и "Царевна Лебедь".
Кроме коллекции Ивана Морозова, на Пречистенке еще одну собрал купец Морис Филипп, специализировавшийся на картинах старых голландских мастеров и произведениях фарфора. Он владел домом, где некогда жили Орловы. Где теперь эти картины, где фарфор?
Таких домашних коллекций, которые имели все основания превратиться в музеи, в дореволюционной Москве насчитывалось много, но будущего лишила их революция.
Хотя Пречистенка и считалась заповедной улицей согласно последнему советскому Генеральному плану, разработанному под руководством Михаила Посохина, ее потихоньку, как выражался покойный отец города Владимир Промыслов, "подламывали". Так, не стало здания, где сегодня сквер с памятником скульптору Вере Мухиной, еще один сквер появился на месте снесенных домов во владении № 30. А за ним вид улицы уродует по сути типовой жилой дом, только что построенный из кирпича в конце 60-х годов, когда по Москве прокатилась одна из последних разрушительных волн. Очень хотелось жить властям предержащим на такой красивой улице.
Чем обогатилась улица за годы советской власти? Двумя музеями. В одном маленьком особняке еще в 1920 году открылся музей Льва Толстого. В первые годы после революции стала музеем усадьба Льва Толстого в Хамовниках, куда, живя в Москве, великий старец ездил и ходил по Пречистенке. К этому графу революционная власть благоволила. Ильич определил его творчество "зеркалом русской революции", опять же хвалил товарищам, называл глыбой, матерым человечищем. Удостоился музея и Пушкин Александр. Его стали усиленно почитать с середины тридцатых годов, когда власть зауважала классиков, до того сбрасываемых с "парохода современности". Многие пожилые люди помнят, с каким размахом праздновалось столетие со дня гибели поэта в 1937 году. Музей же открылся в начале шестидесятых годов. И за это спасибо.
Но ущерб улице нанесен непоправимый. Она лишилась всех своих храмов.
АРБАТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Начнем с Арбатской площади. Она есть, и в то же самое время ее-то и нет. Современный вид той многострадальной площади является немым укором поколению современных архитекторов, которые не раз брались ее переустраивать, да так и не довели ни разу дело до конца. В то же время, когда смотришь на эту площадь на старых фотографиях, то видишь, что облик ее сложился к началу XX века, и самое верное решение должно было состоять в том, что ничего в принципе не следовало бы трогать. Не только эта площадь, лежавшая между бульварами, имела вполне завершенный вид, но и все другие успели превратиться в течение минувшего века, после известного пожара 1812 года, в законченные ансамбли, потому что в первую очередь городские власти и обслуживавшие их зодчие обращали внимание как раз на площади, потому что они представляли наибольший интерес для предпринимателей, застройщиков, торговцев и многих жителей Москвы, ведь каждая площадь - узел транспортный, место, где сходилось сразу по нескольку больших улиц и многие переулки. От таких площадей веером расходилось сразу по четыре, пять транспортных проездов.
На таких площадях, как правило, располагались храмы, а они закладывались в средние века у ворот Белого города, защищавших Москву и снесенных во времена Екатерины II. Напомню, что как раз на месте этих стен разбиты были первые московские бульвары, ныне опоясавшие центр города.
И на Арбатской площади красовались храмы. Они хорошо вписывались в кадры снимков, которые фотографы делали, установив свои аппараты у памятника Николаю Гоголю. Справа, вблизи того места, где находится наземный павильон станции "Арбатская" первой очереди метрополитена. Как раз в то время, когда стали открытым способом рыть тоннель для линии, как говорят, "неглубокого заложения", и пошла на слом церковь, первое упоминание о которой относится к 1620 году. Тогда "церковь Тихона Чудотворца древяна сгорела". Каменное ее здание в присутствии царевны Софьи освятили в 1690 году. Спустя шестьдесят шесть лет к церкви с приделами Тихона и Никиты пристроили еще один придел с престолом Воскресения Словущего. Над каждым приделом возвышался купол, к этому ансамблю примыкала невысокая колокольня.
Другая церковь, более древняя, упоминается в летописи, где описывался большой пожар, случившийся в июле 1493 года. "...и выгоре посад за Неглимною от Духа Святого, по Черторью и по Борис и Глеб на Арбате". В то время все знали про овраг и ручей Черторый, Арбатом называлась также нынешняя улица Воздвиженка. В конце ее на месте деревянной церкви поставили во время князя Василия III каменный храм, один из тех, что стоял на западной дороге, по которой из Москвы шли на войну русские полки. Кто ее строил - неизвестно. А когда пришло время снести обветшавшую за несколько веков церковь, проект новой, большой заказан был известному московскому архитектору Карлу Бланку. Он и возвел храм еще до того, как зазеленел бульвар, в 1768 году, новую церковь Бориса и Глеба, также одноглавую, с колокольней. Две колокольни и купола возвышались над городскими домами и образовывали вместе с ними только присущий белокаменной силуэт. Земля, где стояли эти храмы, по сей день не застроена, и не исключено, что, как на Красной площади, на Арбатской также выстроят на месте сломанных святынь новые церкви.
Можно сказать, что Арбатской площади фатально не везло. Ее изуродовали до крайности, сделали неудобной для переходов и пассажиров городского транспорта, особенно после того как проложили под ней тоннель. Стоит в одиночестве кинотеатр "Художественный", оставшийся без соседей. Примыкавшее к нему угловое здание разворотила фугасная бомба в дни минувшей войны. Летчик хотел ее сбросить на наркомат обороны, занявший комплекс зданий бывшего здесь военного училища, чьи постройки сегодня видны за каменным забором на углу Знаменки.
К этим бедам площади нужно добавить и ту беду, что случилась с памятником Гоголю, которым Москва возвела по проекту скульптора Андреева. В сталинские времена грустный, печальный, скорбно сидящий Гоголь ревнителям соцреализма показался несозвучным эпохе. Его перенесли во двор того дома на бульваре, где писатель жил в последние годы, где он сжег в порыве отчаяния второй том "Мертвых душ". На его месте поставили статую в рост Гоголя молодого, стройного, как офицер, жизнерадостного, приветствующего прохожих. На постаменте нового монумента каждый сегодня может прочесть, что установлен этот памятник Гоголю "от Советского правительства", того самого, что не только перетаскивало с места на место старые, всем полюбившиеся монументы (также обошлись с памятником Пушкину, перенесли его с одной стороны площади на другую), крушило храмы, старинные дома, стирало с лица земли целые кварталы, реализуя "гениальный сталинский план реконструкции Москвы".
По этому-то плану, но не в тридцатые годы, а в начале шестидесятых Никита Хрущев сделал то, что не успел в молодости, "реконструируя Москву", будучи первым секретарем горкома. Дал добро на то, чтобы проложить на месте Арбата и его переулков новый проспект, застроенный по обеим сторонам небоскребами, наподобие тех, что возвышались над Гаваной. Надо сказать, не самых лучших.
Десятки каменных зданий разрушили и снесли до основания. Тогда-то не стало известной каждому москвичу Собачьей площадки, о которой сейчас пойдет речь. Но сначала вот о чем.
Конечно, глубоко заблуждается такой критик проспекта, как Вадим Кожинов, когда утверждает, что прорубали Калининский проспект главным образом для того, чтобы Хрущеву было удобно ездить на дачу, когда говорит, что "архитектурный проект чудовищен, не соблюдено соотношение длины и высоты", и так далее в том же духе.
На дачу по Арбату в Волынское ездил Иосиф Виссарионович. Но даже и он не пошел бы на то, чтобы разрушить десятки домов для ускорения движения своей машины, проще было бы перекрыть движение городского транспорта, что и делалось в прошлом, да и сегодня практикуется при необходимости для высокого руководства и высоких гостей Москвы. И архитектура проспекта для своего времени была отнюдь не "чудовищна", соответствовала духу тех лет, возможностям строительной индустрии, конечно же, проектировали магистраль и все здания умелые и опытные мастера, бывшие в ладу с гармонией, знавшие, как соотносить длину и высоту.
Прорубили широкую полосу через старинный район Арбата уже тогда, когда через Москву-реку перебросили Калининский мост, когда от него широкой полосой тянулся на запад Кутузовский проспект, застроенный красивыми многоэтажными домами. Зодчие старались на всем пути машины, доставлявшей товарища Сталина из Кремля на "ближнюю дачу", возвести величественные дома в духе социалистического реализма, не жалея для этого колонн, портиков, всех других достижений классической архитектуры, уважавшейся Иосифом Виссарионовичем. И квартиры в этих домах строились очень даже хорошими, просторными, с высокими потоками и другими достоинствами. Не случайно в "сталинских домах" стремятся и сегодня жить самые ярые демократы, в то время как в жилых корпусах такого демократа, как Никита Сергеевич, люди жить не хотят, называют такие дома "хрущобами".
Так что никакого "волюнтаризма" в решении соединить Кутузовский проспект с центром Москвы, конечно же, не было. Другой вопрос в том, как это следовало бы сделать. Мало кто знает, что проспект Калинина, нынешний Новый Арбат, возводился в два яруса. Верхний - все видят, а кроме него, в земле проложена улица для машин, обслуживающих большие магазины проспекта. Вот эту-то улицу можно было при желании сделать шире, просторнее, и по ней могли бы двигаться те самые автомобили, что сегодня мчатся по Новому Арбату. Архитекторы могли придумать и другой путь для машин, не уничтожая Собачью площадку, могли.
Но все дело в том, что для Никиты Хрущева, для руководства тех лет старая Москва, ее архитектура, ее здания не представляли никакой исторической и архитектурной ценности. Сталин и его выкормыши стремились уничтожить "купеческую Москву", на ее месте соорудить новую Москву, застроенную громадными зданиями, наподобие того, что поднялось над Арбатской площадью, я имею в виду белокаменное строение, если не ошибаюсь, Генерального штаба, "лебединой песни" архитектора Михаила Посохина. Не прав, конечно, и такой уважаемый знаток старой Москвы, как Сергей Романюк, охарактеризовавший это сооружение, как "уродливое здание советского Пентагона". Нет, Михаил Посохин "уродливых" зданий не проектировал, десятки лет он был глазным архитектором Москвы, имея на то все профессиональные и творческие основания. Архитектура во все времена исполняет только ту музыку, что ей заказывают власть имущие, только в одно время их роль играет партийно-советское руководство, а в другое время - команда президента...
Так вот, Никита Сергеевич не видел никакой ценности в тех арбатских особняках и доходных домах, что обрекались на слом, после того как их покидали люди, а в опустевших стенах селились звуки, пугавшие прохожих и детей соседних дворов до тех пор, пока не появлялся перед обреченным агрегат с висящей на его конце чугунной шар-бабой...
И тогда газетные репортеры радовались, а у поэта вырывалась из груди такая песня:
...От страха дети больше не трясутся:
Нет дома, что два века простоял,
И скоро здесь по плану реконструкций
Ввысь этажей десятки вознесутся
Бетон, стекло, металл...
Эти строки Владимира Высоцкого из "Песни-сказки о старом доме на Новом Арбате" датируются 1966 годом, как раз тогда над асфальтовой широкой полосой поднимались многоэтажные коробки домов, известные всем магазинами и ресторанами.
Да, сегодня от Собачьей площадки ничего, ничего не осталось, никогда уже нельзя будет ее восстановить, как это случилось с Казанским собором на Красной площади, но помнить о ней Москва будет всегда. Потому что то была особая московская среда обитания, и я полностью согласен с Вадимом Кожиновым, когда он говорит, что "над Собачьей площадкой, как нигде, веял дух отечественной культуры", что на ней она достигла мирового величия.
Дух этот витал во многих ее строениях, и в первую очередь в особняке Хомяковых. "Сороковые годы, эпоха разгоряченных умов и жарких споров, распада на западников и славянофилов, эпоха "взбаламученною моря" и завершения русского романтизма, многообразно, порой неуловимо, связана с этим домом, бывшим средоточием культурной жизни Москвы того времени. Завсегдатаями этого дома были все крупнейшие культурные деятели эпохи, среди которых можно назвать Гоголя, Аксаковых, Киреевских, Герцена,. Грановского, Чаадаева, Н. Языкова, Погодина, А. Толстого. Кошелева и много, много других", - так характеризовал этот дом автор путеводителя "Бытовой музей сороковых годов". Открыла его советская власть в 1920 году, в эпоху Луначарского, когда наблюдался музейный ренесанс в Москве и старые дворянские гнезда оберегались, превращались в музеи. Советская власть, когда на смену Луначарскому пришли другие наркомы, выполнявшие другие директивы своей партии, притушила этот замечательный очаг культуры: закрылись восемнадцать музейных залов...
...Не без волнения могу сказать о себе, что я жил и учился как раз на Собачьей площадке, когда она уже называлась Композиторской улицей, а в доме Хомяковых располагалось музыкальное училище сестер Гнесиных: в здании было маленькое общежитие студентов, а также классы, служившие им для индивидуальных занятий. Из окон дома всегда раздавалась музыка, в нем пахло деревом и хотелось петь, в комнатах и большом зале была отличная акустика. Я приходил сюда на уроки по фортепиано к Нине Александровне Чубуковой, а она поджидала запаздывающих учеников с книгой в руках. То была всегда книга одного и того же автора, Пушкина. Другие не признавались Так что и мне посчастливилось глотнуть воздуха старой московской культуры...
Видел я и керосиновую лавку, устроенную в части того самого дома, на другом углу площадки, где у друга Соболевского пять счастливых месяцев жил автор "Бориса Годунова"", тут впервые прочитанного; написано было здесь послание декабристам "Во глубине сибирских руд...". Рядом красовался особняк, деревянный, уютный, в стиле ампир, где недолгое время обитала семья Ульяновых и по дороге в Сибирь останавливался Владимир Ильич... Наивные краеведы шестидесятых годов были уверены, что эти обстоятельства примут в расчет и не снесут хотя бы этот особняк с мемориальной доской и профилем вождя. Не помогли имена Вернадского, Вавилова и других ученых, живших в другом доме на площадке. Стерли с лица земли этот арбатский феномен, площадь, мощенную булыжником, посредине которой стоял фонтан без воды.
Так что нам остается теперь брать в руки замечательный путеводитель, изданный под редакцией профессора Николая Гейнике в 1923 году "Новой Москвой", и читать о нем очерк "По дворянской Москве", который начинается разделом "Собачья площадка":
"Обратите внимание на фундаменты этих домов: они из мячковского камня, иногда со следами окраски в дикий цвет - живое свидетельство стройки первой половины начала XIX века..."
Ну а мне приходится обращать внимание на то, чего уже нет.
Что потерял Арбат, кроме Собачьей площадки? Пройдем на середину улицы, где виднеется сегодня стена, украшенная рисунками, над которой каким-то странным образом оказалась земля, сквер, используемый сегодня госпиталем. Как раз в этом месте возвышалась над прохожими колокольня, напоминавшая шатер, а за нею стоял храм, известный всем в Москве, храм Николы Явленного. Думаю, что если дело пойдет дальше, начатое сейчас восстановлением церквей, то Никола этот снова вернется на свое место, фундамент его сохранился, над ним ничего не смогли соорудить, к счастью.
Колокольня стояла в том месте, где Арбат изгибается, образуя излучину. Такое положение позволяло ее видеть прохожим, которые шли к ней и с востока, и с запада. Она возвышалась на 14 саженей, появилась эта колокольня во второй половине XVII века. Ну а церковь построена при Борисе Годунове, о чем есть свидетельство письменное, что этот много строивший в столице государь "воздвиг с основания большой храм Николы Чудотворца в Москве на Арбате".
Неподалеку от этого храма князь Дмитрий Пожарский в августе 1612 года разбил войско гетмана Хоткевича, а спустя семь лет на этом же месте потерпел поражение другой гетман, Сагайдачный. И по случаю этой победы появился у Николы Покровский придел. Царь Михаил Романов подарил церкви колокол. Некий провидец, Василий Власов, живший на колокольне, предсказал Елизавете, дочери Петра, что она станет императрицей. Когда же это предвидение сбылось, то Елизавета Петровна не раз приезжала сюда и служила панихиды по усопшему, заботилась о его могиле, находившейся у храма.
Помянул Николу Явленного Лев Толстой в романе "Война и мир", когда описывал вхождение войск Наполеона в Москву. "В четвертом часу пополудни войска Мюрата вступали в Москву. Впереди ехал отряд виртенбергских гусар, позади верхом, с большой свитой, ехал сам неаполитанский король.
Около середины Арбата, близ Николы Явленного, Мюрат остановился, ожидая известия от передового отряда о том, в каком положении находилась городская крепость..."
Соседом Николы был особняк с портиком из шести колонн, разрушенный фугасной бомбой. Другая мощная фугасная бомба попала в старинное здание Театра имени Вахтангова, на месте которого поднялся всем ныне известный другой фасад и зал.
Но приходится с грустью признать, что самые большие потери старинная улица понесла не во время бомбардировок, а при злосчастной реконструкции. В результате этого варварского акта, длившегося много лет, Арбат лишился всех своих церквей. Ближе к Садовому кольцу располагался храм Живоначальной Троицы, сооруженный в середине ХVIII века. Разобрали его в 1931-м, когда взорвали и Храм Христа, и многие другие церкви.
Третья арбатская церковь - Николы в Плотниках, стоявшая на том углу, где Плотников переулок. На этом месте выстроен жилой дом № 45, известный как магазин "Диета" (единственный арбатский Никола сохранился на Спасопесковской площадке). Все это дало основание писателю Борису Зайцеву назвать Арбат улицей Николая, ей он посвятил под таким названием замечательный очерк. Впрочем, он не одинок в любви к улице, недавно отметившей пятьсот лет.
Вблизи Арбата и на нем самом располагалось около десяти церквей, больших и малых.
ГДЕ ЖИЛА СУВОРОЧКА
За пятьсот лет своей истории как улицы Арбат многое приобрел и, к сожалению, еще больше потерял. О недавних утратах напоминают свежие пустыри и прикрывающие их аккуратные заборы, установленные строителями в знак того, что ушли они отсюда не навсегда, а должны рано или поздно вернуться, чтобы заполнить образовавшиеся между домов бреши.
Первыми начали это доброе дело каменщики, реализовав проект, разработанный известным грузинским архитектором Шота Кавлашвили, восстановившим недавно старый Тбилиси, его маленькие деревянные дома. Размашистую подпись мастера, начертанную под словами "Автор проекта Ш. Кавлашвили", я увидел на большом рисунке в комнате, которую занимал в 1985-1987 годах начальник стройки. На рисунке изображены были выкрашенные в жизнерадостные цвета (под стать остальным домам улицы) стены знакомых всем москвичам домиков (42 и 44), на фасадах которых прорисованы все прежние замысловатые детали, украшавшие карнизы, окна, пилоны. Только между домами, прежде стоявшими порознь, теперь выложили стену с общей дверью, причем так же, как фасады, выдержанную в старомосковском стиле.
С Арбата оба этих дома выглядят одноэтажными, над асфальтом приподнимаются утонувшие в грунте окна подвалов. Войдя во двор, можно увидеть наверху окна антресолей, типичных для многих арбатских домов XIX века. Таким образом, с виду приземистые домики на самом деле были трехэтажными. Такими они и стали снова, возрожденные после недавнего сноса...
Их первоначально строили из бревен и досок, а стены штукатурили и красили. Стильные архитектурные детали украшали деревянные стены, о чем многие прохожие и не догадывались. Поэтому, когда начали реконструкцию владения, выяснилось, что стены, простоявшие с начала XIX века, настолько обветшали, что реставрировать их, к сожалению, не удастся. Нужно выкладывать заново. Решили на сей раз делать их из кирпичей и блоков. И, как прежде, оштукатурить. Со старых снесенных стен сняли бережно все образцы лепнины, чтобы сделать по ним новые, точно такие же.
По проекту Шота Кавлашвили быстро, можно сказать на глазах, за два месяца московские каменщики выложили стены, которые поднялись в октябре 1986 года, на всю свою высоту. Видны стали всем кирпичные пилястры, которые покрыла штукатурка. Отделку здания, внешнюю и внутреннюю, выполнили грузинские мастера. Они выступали в роли генерального подрядчика.
Описывая все эти новации, испытываешь двойственное чувство. С одной стороны, плохо, что при таком способе реконструкции утрачены планировка, интерьеры еще одного памятника прошлого, с другой стороны, хорошо, что образ самих строений не утрачивается, как и прежде, они будут украшать улицу. Однако цокольный этаж стал на 40 сантиметров выше.
В одном из этих воссозданных домов на Арбате, 42, всего в три окошка по фасаду, я еще застал доживающих долгий век двух арбатских старушек, рассказавших, что когда-то жил в их квартире директор Большого театра, чью фамилию они позабыли. Хорошо помнили ночь 1941 года, когда спустя месяц после начала войны разорвалась на улице фугасная бомба, разрушившая Театр Вахтангова, выбившая стекла в их домике...
Соседний с ними особняк, фасад которого также заново выложен из красного кирпича, появился на улице после пожара 1812 года. По справке, составленной для архитекторов библиографом В. В. Сорокиным, в нем в разное время проживали две известные в Москве женщины.
Первая, в 1823 - 1830 годах, Наталья Александровна Зубова, урожденная Суворова, дочь прославленного полководца. Нежно любивший отец ее называл Суворочкой. Он писал в одном из своих писем о двухлетней Наташе: "...дочь моя в меня - бегает в холод по грязи, еще говорит по-своему".
Биограф полководца Олег Михайлов отмечает, что письма Суворова к дочери и сегодня нельзя читать без волнения. Будучи в походах и сражениях, отец всегда думал о ней, какие бы важные дела ни занимали его, будь то предстоящий штурм или осада. Находил минуты, чтобы сочинить очередное письмо, каждая строка которого полна поэзии и искреннего чувства. Отцом прославленный генерал стал в 46 лет.
"Суворочка, душа моя, здравствуй... У нас стрепеты поют, зайцы летят, скворцы прыгают на воздух по возрастам: я одного поймал из гнезда, кормили из роту, а он и ушел домой. Поспели в лесу грецкие да волоцкие орехи. Пиши ко мне изредка. Хоть мне недосуг, да я буду твои письма читать. Молись Богу, чтоб мы с тобой увиделись. Я пишу тебе орлиным пером; у меня один живет, ест из рук. Помнишь, после того я уж ни разу не танцевал. Прыгаем на коньках, играем такими большими кеглями железными, насилу подымаешь, да свинцовым горохом: коли в глаз попадет, так и лоб прошибет. Послал бы к тебе полевых цветов очень хороших, да дорогой высохнут... Отец твой Александр Суворов".
Писались эти строки пером орлиным и сердцем любящим.
Когда дочь подросла, отец не переставал думать о ее будущем: "Наташа правит моей судьбой, скорее замуж: дотоле левая моя сторона вскрыта". Суворов придирчиво выбирал женихов для своей дочери и остановил выбор на генерал-поручике графе Николае Зубове. Он был храбр, отличился в боях, обладал богатырской силой. Это его достоинство пригодилось, когда Зубов принял участие в заговоре против Павла I, который и возвышал Суворова, и унижал его. Николай Зубов нанес первый удар императору. Но при новом императоре генерал прожил всего несколько лет.
Рано овдовев, дочь Суворова жила с шестью детьми в Москве. Она не успела вовремя выехать из города перед вступлением французов в 1812 году. Карета ее попала в руки неприятеля. Однако, узнав, кто перед ними, французы не только отпустили Наталью Александровну из плена, но отдали ей воинские почести. Она пережила отца на сорок четыре года и умерла в Москве.
Этот же особняк в 1868 - 1872 годах принадлежал Елизавете Николаевне Киселевой, в девичестве Ушаковой. Елизавету Ушакову и ее старшую сестру Екатерину обессмертил Александр Пушкин. В московском доме Ушаковых на Пресне молодой Пушкин провел много счастливых часов, посвящал обеим сестрам прекрасные стихотворения. Альбом сестер не раз заполнялся рисунками поэта, его стихотворными автографами. Елизавете Ушаковой он писал:
"Вы избалованы природой;
Она пристрастна к вам была.
И наша вечная хвала
Вам кажется докучной одой.
Вы сами знаете давно,
Что ваc любить немудрено..."
Елизавета вышла замуж за полковника Сергея Киселева, с которым поэт находился в приятельских отношениях, бывал у него в гостях.
Со слов матери, Н. С. Киселев оставил запись о том, что Пушкин охотно беседовал с его бабкой и часто просил ее "диктовать ему известные ей русские народные песни и повторять их напевы. Еще более находил он удовольствие в обществе ее дочерей. Обе они были красавицы, отличались живым умом и чувством изящного".
В арбатском доме Елизавета Киселева поселилась спустя 30 лет после гибели поэта, но память о нем хранила всю жизнь.
Так что и этот особняк связан с именем поэта, чей мемориальный музей открыл свои двери на Арбате, 53, напротив бывшего дома Елизаветы Ушаковой-Киселевой. Можно предположить, что и в нем хранились традиции пресненского особняка Ушаковых, где, по словам современницы: "...все напоминает о Пушкине: на столе найдете его сочинения, между нотами "Черную шаль" и "Цыганскую песню", на фортепианах - его "Талисман"... в альбоме несколько листочков картин, стихов и карикатур, а на языке беспрестанно вертится имя Пушкина".
Елизавета Николаевна рассказывала сыну, что Александр Сергеевич нередко приезжал к ним верхом на белой лошади и при этом всегда вспоминал услышанные в юности слова одной гадалки, предсказавшей, что он умрет или от белой лошади, или от белокурого человека из-за жены...
История практически любого дома на Арбате, даже самого малого и, казалось бы, незначительного, в конечном счете, если начать ее исследовать, непременно приводит нас к именам и событиям, забыть которые невозможно, не рискуя потерять свое лицо.
"ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОСОБНЯК"
В начале улицы под № 7 располагались на Арбате прежде два строения, соединенные каменными воротами. Глядя на опустевший, архитектурно непримечательный дом, можно было подумать, что о заурядном этом строении и писать вроде нечего, и восстанавливать его не следует после недавнего пожара, облизавшего черным языком стены и крышу, через которую капает вода. Под грудой мусора видна была лестница в подвал...
Последним торговал тут магазин "Ткани", а до него - "Лен". В другом строении, 7а, находился известный колбасный магазин. Оба эти каменных здания появились на улице после пожара 1812 года.
Было время, когда дом № 7 славился не только магазином. Во второй половине XIX века в нем открылась одна из первых частных библиотек города. В 1875 году ее опечатала полиция, поскольку на книжных полках стояло, по словам полиции, "много сочинений политических преступников: Радищева, Герцена, Чернышевского, Огарева, Михайлова, Ткачева, Прыжова и др.".
Висевшая на фасаде дома до недавнего времени мраморная доска напоминала о другом событии, первой русской революции. "В этом доме в 1906 году помещался Московский Союз текстильщиков и ряд других профессиональных организаций". Помещались в этом здании также профсоюзы строителей, маляров и рабочих других профессий, получившие после революции 1905 года возможность действовать легально. Но свобода эта длилась недолго: профсоюзы из дома ушли.
Проходит еще год, и дом становится известным благодаря разместившемуся в нем кинотеатру "Паризьен", одному из многих, появившихся тогда в Москве.
В дни последнего пребывания в городе вечером 18 сентября 1909 года Лев Толстой решил впервые посмотреть новинку века - кинематограф, о котором он слышал не раз. Из своего дома в Хамовниках писатель пришел на Арбат, в "Паризьен", стараясь не привлекать к себе внимания, сел в кресло, чтобы увидеть немой фильм...
После окончания первой части в зале вспыхнул свет. Киномеханик перезаряжал аппарат. Но Лев Толстой не стал ждать, когда начнется продолжение демонстрации фильма, встал и, к удивлению зрителей, вышел из кинотеатра, направившись домой. Как передают очевидцы: "Он был поражен нелепостью представления и недоумевал, как это публика наполняет множество кинематографов и находит в этом удовольствие".
Через несколько лет, уже после революции, в зале закрывшегося кинотеатра установили столики со стульями, эстраду. На Арбате, 7, появилась вывеска кафе "Литературный особняк". И не только здесь. В разных концах Москвы с начала 1918 года, когда, казалось, было не до того, чтобы открывать кафе (старые рестораны, трактиры, кофейни закрывались), они тем не менее зажигали огни, хотя продуктов с каждым днем в городе становилось все меньше, голод и разруха усиливались. Учреждали эти кафе не частные лица, как прежде, содержатели ресторанов, а возникшие после революции литературные организации разных существовавших тогда поэтических группировок: футуристов, имажинистов, неоклассиков. Всероссийского союза поэтов...
Поэты-футуристы во главе с Владимиром Маяковским облюбовали на несколько месяцев подвал, бывшую прачечную на углу Тверской и Настасьинского переулка. Поэты-имажинисты во главе с Сергеем Есениным открыли кафе "Стойло Пегаса" на Тверской в закрывшемся актерском кафе "Бом". На этой же улице в бывшем кафе "Домино" сначала появилась эстрада, а затем кафе Всероссийского союза поэтов, объединявшего стихотворцев разных группировок. Все здания, где помещались названные кафе-клубы, не сохранились при реконструкции главной улицы Москвы в предвоенные годы.
Поэт Иван Грузинов, друг Сергея Есенина, в воспоминаниях под названием "Литературные кафе 20-х годов" в сборнике архивистов "Встречи с прошлым" упоминает среди наиболее популярных поэтических кафе той поры "Литературный особняк", где, по его словам, "выступлениям поэтов не было конца".
Эти кафе не только предоставляли возможность литераторам прочесть новые сочинения в кругу друзей или на публике - издаваться стало совсем трудно, - но и решить не менее тогда важную задачу: хоть как-то поесть, чтобы не умереть с голоду.
В один из вечеров в "Литературный особняк" пришел с друзьями Сергей Есенин и прочел новую поэму "Пугачев". Работа над ней шла с конца 1920 года. Отрывки из незаконченного сочинения автор начал читать в Москве летом 1921 года, вернувшись из поездки по Средней Азии. Как сообщалось в газете "Известия", в ближайшие дни в клубе "Литературного особняка" (Арбат, 7) устраивается ряд вечеров. 6 августа С. Есенин читает "Пугачева"...". Это случилось за день до смерти Александра Блока, в свой последний приезд в Москву жившего на Арбате...
Проходит еще год, и под сводами бывшего "Литературного особняка" обосновался небольшой театр. Назывался он "Мастфор", сокращение это образовалось из полного названия: "Мастерская Н. М. Фореггера".
Это был маленький театр, где ставились пьесы пародийные, полные буффонады, эксцентрики, режиссерской выдумки, художнических открытий, одним словом, театр нетрадиционный, экспериментальный, ищущий. Небольшой, но довольно популярный в течение нескольких театральных сезонов. Основал театр молодой режиссер Николай Фореггер, живший поблизости от Арбата, на Малой Никитской, 21. Как вспоминает известный кинорежиссер Сергей Юткевич, "Фореггер был крайне любопытной фигурой. Родом он из обрусевших немцев. Его полный титул был - барон Фореггер фон Грейфентурн... Окончив филологический факультет Киевского университета, Фореггер увлекся театром и стал настоящим знатоком старинного театра...".
Свой первый театр он основал у себя на квартире, после того как семья перебралась в одну комнату, а все остальные предоставлены были новоявленному театру под названием "Четыре маски", вмещавшему несколько десятков зрителей. Существовал этот театр недолго, на его крохотной сцене дебютировал, будучи студентом театральной студии, Игорь Ильинский, о чем он вспоминает в своих мемуарах "Сам о себе".
Небольшая труппа Николая Фореггера ставила первое время пьесы на разных сценах, где придется, и только позднее получила стационар, бывший клуб "Литературного особняка". В "Мастфоре" сделали первые самостоятельные шаги в театре два друга, никому тогда не известные, Сергей Юткевич и Сергей Эйзенштейн. Поначалу они выступали как художники-оформители. Сергей Юткевич до поступления в режиссерскую студию Всеволода Мейерхольда учился в Строгановском училище, а молодой Сергей Эйзенштейн перепробовал себя на разных поприщах: учился в институте на архитектора, работал строителем, учил языки, готовился стать профессиональным переводчиком, служил в армии, поступил в Академию Генерального штаба. И все бросил, чтобы начать с нуля в искусстве. Сергей Юткевич испытал себя на сцене "Мастфора" и как режиссер.
Произошло это, как часто бывает в искусстве, непредсказуемо: "Случилось так, что режиссер Фореггер, загадочно поблескивая очками, попыхивая неизменной трубкой, одобрительно хмыкнул, увидев мои эскизы к Мольеру. Я получил приглашение оформить спектакль пародий в его театре. Из кусков цветной бумаги, фанеры и обрывков пестрых материй соорудили мы - я и Сергей Михайлович Эйзенштейн - первое оформление для буффонадного спектакля-пародии на "Федру" Расина в постановке Камерного театра..."
Из "Мастфора" друзья один за другим ушли, когда рамки этого театра стали для них узки, но всю жизнь помнили эту арбатскую мастерскую, потому что первые шаги всегда незабываемы.
В книге "Вся Москва" за 1924 год, в списке столичных театров, вслед за главруком "Мастфора", председателем правления и художественного совета Н. М. Фореггером значатся фамилии свыше 40 актеров, актрис и других сотрудников "Мастфора". Казалось, что театру суждена долгая жизнь. Однако в том же году он закрылся, по-видимому, не выдержав конкуренции в условиях новой экономической политики, и главрук перешел в Театр сатиры заведовать хореографической частью...
Почему мне захотелось напомнить о некогда существовавших на Арбате книжных и исторических коллекциях, о "Паризьене", "Литературном особняке", "Мастфоре"? Да потому, что ныне на пешеходном Арбате загораются пока новые огни магазинов, кафе, но угасли все кинотеатры, нет ни одного выставочного зала, библиотеки, читального зала: на весь Арбат - единственный Театр Вахтангова.
Когда же дойдет очередь до реконструкции заброшенного владения № 7, когда, вспоминая о прошлом этого дома, мы найдем ему достойное применение?
* * *
После публикации очерка автор получил письмо коренной москвички:
"Уважаемый Лев Колодный!
Прочла в газете Вашу статью "Арбатский особняк". И перенеслась в светлые дни своей юности.
Огорчилась, что в статье есть неточность (библиограф В. В. Сорокин допустил ту же неточность в журнале "Наука и жизнь").
В 1920 году помещение на Арбате в доме № 7 получила драматическая студия имени А. С. Грибоедова, созданная на базе любительского кружка школьников-энтузиастов (М. Молчановка, кв. А. Н. Васильева, руководитель кружка артист МХАТ Кудрявцев).
Руководителем и режиссером Грибоедовской студии был приглашен народный артист Василий Васильевич Лужский (МХАТ). Преподавателями студии стали артисты МХАТ Н. С. Бутова, Е. С. Телешова, С. М. Волконский и другие. В стенах студии К. С. Станиславский читал лекции о своей системе и проводил практические занятия со студентами Грибоедовской студии и студийцами всех студий МХАТ. Владимир Иванович Немирович-Данченко просматривал работы отрывки студийцев-"грибоедовцев".
В 1920 - 1922 годах в студии были поставлены спектакли: "Сон в летнюю ночь" Шекспира, "Проделки Скапена" Мольера, отрывки из произведений Ф. М. Достоевского "Бесы" и "Братья Карамазовы".
Народный артист СССР - будущий главный режиссер и художественный руководитель МХАТ М. Н. Кедров начал свою артистическую деятельность в Грибоедовской студии (см. книгу: "Михаил Николаевич Кедров").
Цитирую:
"...1920. Осень. Поступает в Московскую студию имени А. С. Грибоедова (руководитель В. В. Лужский).
1920-1921. "Сон в летнюю ночь" Шекспира в Грибоедовской студии (постановка В. В. Лужского).
1921-1922. "Проделки Скапена" Мольера в Грибоедовской студии (постановка В. В. Лужского).
...Среди многих существовавших в Москве в начале 20-х годов театральных студий была так называемая Грибоедовская студия. Руководил этой студией артист МХАТ В. В. Лужский. И вот в 1922 году во вторую студию МХАТ перешло несколько "грибоедовцев", среди которых был и М. Н. Кедров".
Артистка Московской филармонии В. Бальмонт (племянница поэта К. Бальмонта) - тоже "грибоедовка".
М. Ульянов, народный артист СССР, в книге своих воспоминаний тепло и с благодарностью вспоминает своего первого учителя М. Иловайского (тоже "грибоедовец").
Я была занята в спектаклях студии: "Сон в летнюю ночь" Эльфа-паутинка; в "Проделках Скапена" - Гиацинта.
Даты нахождения в студии проверила по своей трудовой книжке.
Какой внутренний вид имело здание Грибоедовской студии?
Вход был с Арбата (д. № 7). Большая, широкая чугунная лестница вела на второй этаж. Налево фойе, 2 тамбура (туалет); вниз вела лестница в большую комнату (2 окна, дверь на улицу закрыта) - для занятий, репетиций, во время спектаклей - курительную. (Вот в этом-то помещении и был потом магазин "Колбасы".)
С площадки по коридору налево - комната администрации, направо касса, прямо зал на 250 мест. Малая лестница вела (справа) в ложу (бывш. помещение для механика кино). Под сценой - место для оркестра с люками (открывались по мере надобности в спектаклях). Оркестр был из МХТа. По бокам сцены - две большие лестницы вниз, к артистическим уборным и прочим помещениям. Выход во двор. На сцене (по бокам) были 2 голландские печи.
Дров в те времена было мало. Зачастую публика в зале сидела в пальто. Но мы не унывали. Была молодость и горение. Многое было сделано своими руками. Декорации писал М. Н. Кедров. Он в те времена учился еще и в Государственных высших художественных мастерских на скульптурном отделении под руководством А. С. Голубкиной. Костюмы шила знаменитая Ламанова. Музыка к спектаклям была написана Е. Вербицким, сыном писательницы Вербицкой ("Ключи счастья" и др.). Голодные были годы, но мы - не замечали! В свободные от спектаклей дни приглашались поэты - В. Брюсов и др. Это много давало для души и самообразования молодежи.
Когда наш руководитель и главный режиссер В. В. Лужский уехал с театром МХТ на гастроли в Америку и студия осталась без руководства, молодой коллектив не смог удержать студию, и осенью она распалась, в 1922 году.
Вот тогда-то здание и все имущество студии передали Н. М. Фореггеру. Первый его спектакль - "Хорошее отношение к лошадям".
Немного обидно, что обошли молчанием наше существование.
А во дворе дома № 7 - был старый дом № 5. Что пишет о нем П. В. Массальский (Изд. ВТО. 1985 г., с. 33)?
Старое запущенное помещение люди привели в порядок и создали там малую студию. Ее они назвали "Наша студия". Руководил ею Лобанов А. М. Вот в ней и начали свою театральную учебу П. В. Массальский и Н. Ларин.
Отняла у Вас время. Может быть, Вам все это и не нужно, что написала.
Я - старая москвичка (с 1919 года). На Арбате прожила более 30 лет. Возраст мой, увы, солидный - 86 лет. Но еще хожу по музеям, много читаю, всей жизнью города интересуюсь. Еще так много "тайн".
Людмила Леонидовна Шмидт (Новикова)".
"АРХИВНЫ ЮНОШИ" И МУЖИ
Бомбы, падавшие в дни войны на Арбате, предназначавшиеся Наркомату обороны, разрушили Театр Вахтангова. Его возродили. Тогда был уничтожен и другой дом, на четной стороне улицы, стоявший под № 14. Но его, к сожалению, не восстановили. Очень интересна история этого арбатского старожила - дома с шестиколонным портиком. В прошлом его часто фотографировали для открыток. Художник М. Гермашев написал ставший популярным городской пейзаж, датируемый 1912 - 1914 годами, под названием "Арбат". В центре его картины расположен именно этот домик, над которым успели подняться многоэтажные громады зданий, вторгшиеся в узкие переулки; видна проложенная посредине улицы трамвайная колея, а по ней трусит одинокая лошадка под одиноким фонарем, стоящим как раз там, где теперь разросся лес фонарей.
В те времена звали его "домом с привидениями", обходя по ночам стороной, сочиняли о нем легенды...
Задолго до того, как этот дом приобрел незавидную славу, многие в Москве знали его как владение князя Оболенского, директора Московского главного архива министерства иностранных дел, где служили воспетые Александром Пушкиным "архивны юноши". На Арбате, в доме № 14, жили выдающиеся русские архивисты: Вукол Ундольский и Михаил Оболенский сотрудники, единомышленники, подвижники.
Библиограф и страстный коллекционер древнерусских рукописей и старопечатных книг, Вукол Михайлович Ундольский прожил менее полувека. Но сделал много: только в одном 1846 году вышли его "Оглавление книг, кто их сложил", "Очерк библиографических трудов в России", "Библиографические разыскания". И четвертая работа, датируемая тем же годом, - "Каталог российским книгам библиотеки Павла Григорьевича Демидова, составленный им самим". Многие сочинения Вукола Ундольского вышли в свет после его кончины, выходят они и в наш век. Так, в 1970 году в Москве издали "Славянорусские рукописи В. М. Ундольского". В этом сочинении библиограф описал свою библиотеку, насчитывавшую почти полторы тысячи рукописных книг и около 90 старопечатных книг, издававшихся кирилловской печатью. Все эти богатства хранились в доме на Арбате, а после кончины собирателя перешли в библиотеку Румянцевского музея и теперь находятся в главной библиотеке Москвы.
В доме № 14 жил и другой русский библиофил, известный археолог, 33 года возглавлявший архив министерства иностранных дел, князь Михаил Андреевич Оболенский. Он был хозяином особняка, другом Вукола Ундольского. Оба они существовали одними интересами, собирали, описывали рукописи и книги. Михаил Оболенский коллекционировал письма и реликвии из истории России средних веков, летописи. И его перу принадлежит много библиографических сочинений. В течение 20 с лишним лет, с 1838 по 1859 год, вышло 12 выпусков "Сборников князя Оболенского", где описаны многие исторические акты, как принадлежащие московскому архиву МИДа, которым до своей кончины руководил князь, так и его личные.
В стенах этого особняка находилась одна драгоценная реликвия, о которой вся Россия узнала в 1860 году, когда Михаил Оболенский разрешил сфотографировать хранящийся у него в доме портрет Александра Пушкина, написанный маслом знаменитым московским живописцем Василием Тропининым.
Портрет датируется январем-февралем 1827 года, тем временем, когда Пушкин после возвращения из ссылки жил, будучи в зените славы, на Арбате, на Собачьей площадке, в доме друга С. А. Соболевского. Он, как и многие знакомые и друзья поэта, состоял в должности переводчика в Московском архиве Министерства иностранных дел, где позднее директорствовал князь Михаил Оболенский. В пушкинские времена вокруг этого архива группировалась плеяда блестяще образованных молодых людей, о которых в поэме "Евгений Онегин" хорошо знавший этот круг автор писал:
"Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собою
Неблагосклонно говорят."
Так вот, один из этих "архивных юношей", С. А.Соболевский, в знак дружбы получил от Пушкина подарок, о котором и не помышлял.
В те годы появилось несколько портретов поэта. Соболевский считал, что все они "приглажены и припомажены". Лучшим портретистом Москвы тогда являлся Василий Тропинин, и ему был заказан портрет. Он, сделав с натуры два эскиза, этюд маслом, создал затем портрет, изобразив поэта в домашнем халате. В книгах о Пушкине можно прочитать, что инициатива создать портрет у лучшего художника исходила от Соболевского. Но сам он оставил такую запись: "Портрет Тропинину заказал сам Пушкин тайком и поднес мне его в виде сюрприза с разными фарсами".
Репродукции с этого изображения украшают ныне десятки книг о поэте. Современники, видавшие работу художника, сочли портрет лучшим. В журнале "Московский телеграф" Николай Полевой отметил: "Сходство портрета с подлинником поразительно". Художнику удалось не только передать внешнее сходство с оригиналом, но и заглянуть в глубь души...
И вот этот портрет, принесенный с Волхонки, из мастерской Тропинина, попал на Арбат, в деревянный домик, стоявший на углу Собачьей площадки с Борисоглебским переулком.
Судьба этого выдающегося произведения сложилась драматически. Уезжавший надолго за границу хозяин оставил портрет и библиотеку одному из "архивных юношей", Ивану Киреевскому. Тот, в свою очередь, передал их поэту и историку Степану Шевыреву, с которым в переписке состояли Вукол Ундольский и Михаил Оболенский...
Однажды к Степану Шевыреву явился некий живописец и упросил доверчивого хозяина на время дать портрет, чтобы скопировать. Ловкий художник сделал удачную копию и вместо оригинала вернул ее Степану Шевыреву, не заметившему подлога. Портрет был таким образом украден.
Появился он неожиданно в лавке антиквара спустя десятилетия. Вот тогда приобрел его Михаил Оболенский и привез на Арбат.
Здравствовавший Василий Тропинин засвидетельствовал, что это именно его портрет. К тому времени холст, который прятали где-то в укромном чулане или на чердаке, попортился. Князь Оболенский просил автора подновить живопись, но художник не решился на это из боязни испортить то, что писалось с натуры и "молодою рукою". Он только почистил живопись.
Из дома Оболенских в 1909 году портрет попал в музей...
Автор известной книги "Старая Москва" М. И. Пыляев приводит любопытный эпизод, связанный с этим портретом и включенный В. Вересаевым в свод свидетельств современников "Пушкин в жизни": "Одно время отличительным признаком всякого масона был длинный ноготь на мизинце. Такой ноготь носил и Пушкин, по этому ногтю узнал, что он масон, художник Тропинин, придя рисовать с него портрет. Тропинин передавал кн. М. А. Оболенскому, у которого этот портрет хранился, что когда он пришел писать и увидел на Пушкине ноготь, то сделал ему знак, на который Пушкин ему не ответил, а погрозил ему пальцем".
...Незадолго до революции 1917 года владелец особняка князь Н. Н. Оболенский продал фамильный дом купцу Гоберману, но последний не успел попользоваться владением, так как оно перешло к новым хозяевам.
На ступеньках этого дома торговал книгами некто Е. З. Баранов, человек любознательный и ценитель фольклора. От его внимания не ускользнуло то обстоятельство, что о доме этом ходит множество слухов и толков, причем самых фантастических и занимательных. Он не поленился их записать от разных лиц: извозчика, картузника, водопроводчика и других. Более того, сделал доклад об этих легендах на заседании научного общества "Старая Москва", членами которого состояли такие уважаемые мастера культуры, как художник А. Васнецов, историк П. Миллер. Общество сочло возможным издать доклад отдельной книжкой, вышедшей в Москве в 1928 году под названием "Московские легенды".
Написавший послесловие к книжке знаток истории улиц Москвы П. Миллер установил, что домом этим на Арбате с конца XVIII века владели князья Шаховские, а с середины XIX - Оболенские, один из которых в его стенах наложил на себя руки. Затем дом на некоторое время опустел. В нем тайком от полиции поселились "лихие" люди. Это и дало повод к сочинительству легенд. Молва наполнила его привидениями и прочей, нечистой силой. Прохожие, извозчики по вечерам старались держаться противоположной стороны улицы.
Дурная слава, впрочем, не мешала таким известным в Москве людям, как железнодорожный магнат В. фон Мекк и князь Лев Голицын, снимать особняк. Автор "Московских легенд" описал дом как одноэтажное каменное "большое строение" с подвальным помещением и обширным двором. "Обращает на себя внимание, - писал Е. З. Баранов, - фасад главного дома с огромным шестиколонным балконом и десятью высокими окнами". Кроме парадного подъезда, имелся дворовый вход, охраняемый бронзовым львом.
На самом деле дом был, как и многие другие арбатские особняки, деревянным, оштукатуренным, а выглядел каменным. Под слоем штукатурки и ампирными украшениями прятались обычные доски и бревна.
Рядом с особняком стояла особо почитаемая приходская церковь Николая Явленного, колокольня которой выходила за линию застройки. Воздвигли ее на месте видном, на изгибе улицы, таким образом, что прохожим бросалась она в глаза с обеих сторон Арбата. Колокольня эта была замечательная. В путеводителе "По Москве", выходившем под редакцией профессора Н. Гейнике, есть такие слова: "Наивысшим изяществом и изысканностью отличается колокольня церкви Николая Явленного на Арбате". На гравюре, иллюстрировавшей очерк историка Ивана Снегирева, описавшего в XIX веке этот памятник, хорошо видно: над двухъярусным, квадратным в плане основанием поднялся дивный шатер. Подобные шатры украшали средневековую Москву, в виде шатров тогда строились башни, колокольни и церкви. У стен Николая Явленного похоронен генерал-майор Василий Вяземский, бывший "во многих баталиях и штурмах". На Арбате, как ни на какой другой московской улице, и в ее переулках стояло особенно много храмов, воздвигнутых в честь Николая, Николы, считавшегося покровителем солдат: жили на древнем Арбате стрелецкие полки.
Что еще очень важно для нас: на том месте, где сейчас над тротуаром высится холм и зеленеет скверик, там, где стоял "дом с привидениями", в земле сохранились фундаменты не только шатровой колокольни, но и дома, где жили родители Александра Васильевича Суворова. Именно в этом доме, на этой земле и улице родился великий полководец, не знавший поражений.
Глядя, как быстро выросли стены двух снесенных особняков в 42-м владении на Арбате, невольно думаешь: столь же быстро можно восстановить и стены уничтоженного бомбой дома с портиком, да и шатровую колокольню. Восстановить этот особняк и колокольню необходимо, чтобы создать музей Александра Суворова. Но прежде всего здесь следует установить памятный знак, чтобы каждый прохожий знал, по какой земле он идет: здесь родился Суворов!
ИЗ РОДА БАРТЕНЕВЫХ
Арбат, 16. В 60-х годах XIX века жил историк, археолог, библиограф П. И. Бартенев, первый биограф А. С. Пушкина...
В. Сорокин. Памятные места старого Арбата
По-видимому, не было случайностью, что три выдающихся московских архивиста Вукол Ундольский, Михаил Оболенский и Петр Бартенев жили по соседству, в домах, стоящих на одной улице, и не исключено, что по утрам, выходя из ворот домов, они встречались и раскланивались, отправляясь на службу. Все они успешно служили, кто долго, кто коротко, в Московском главном архиве Министерства иностранных дел.
Особняк с портиком на Арбате, где жил директор этого архива и хозяин дома Михаил Оболенский, как уже рассказывалось, не сохранился, а стоявший под № 16, по соседству, одноэтажный угловой дом у Серебряного переулка - на своем прежнем месте. Со временем упростился его фасад, внутри изменена планировка, но в основе своей это старинный жилой дом, где обитал замечательный человек, известный некогда не только всем архивистам, библиографам, но всей читающей и пишущей России, всем, кто любил русскую историю и литературу, - Петр Иванович Бартенев. Он прожил долгую жизнь, свыше 80 лет.
Последнее желание, высказанное домашним, состояло в том, чтобы со смертного одра перенесли его поближе к столу, где лежали рукописи, подготовленный к выпуску 600-й по счету номер журнала "Русский архив". Полвека назад молодой русский ученый Петр Бартенев начал выпускать никому тогда не известный "Русский архив".
Довольно быстро его узнали многие в России. Весной 1918 года, когда Ленин поселился в Кремле, управляющий делами Совнаркома Бонч-Бруевич сообщил ему, что среди жителей Кремля находится сын "знаменитого издателя "Русского архива", собирающийся, в связи с тем что Кремль сделался резиденцией правительства, переехать в город на другую квартиру.
- Зачем это, - сказал Владимир Ильич. - Его нужно было бы оставить здесь, в Кремле..."
Кто же этот "знаменитый издатель "Русского архива"?
Среди русских архивистов XIX века Петр Бартенев выделялся одной особенностью: он уделял большое внимание не только письменным источникам, актам, документам, рукописям разных времен, но и устным рассказам, воспоминаниям современников, которые, не жалея времени, сам и записывал, превращал в письменные источники, опубликовывал их на страницах журналов. И старался, чтобы эти воспоминания не утрачивали яркости живого слова, чтобы они хранили аромат своего времени. По-видимому, первым среди современников он стал записывать воспоминания очевидцев о горячо любимом им поэте Александре Сергеевиче Пушкине.
Его самого Бартенев ни разу не видел, впервые услышал о нем и пережил при этом глубокое потрясение в детстве, в возрасте восьми лет. Тогда, зимой 1837 года, в провинцию, где жили Бартеневы, дошла скорбная весть о гибели на дуэли великого поэта. В семье наступил траур. Мать плакала, как плачут по самым родным и близким людям. Ее девичья фамилия была Бурцева. Аполлинария Бурцева являлась родной сестрой гусарского офицера А. П. Бурцева, которого воспел Денис Давыдов, чье стихотворение процитировал в "Игроках" Гоголь, упомянул Пушкин.
Поступив в Московский университет, Петр Бартенев слушал лекции таких выдающихся профессоров, как Грановский, Буслаев, Шевырев... В студенческие годы написал первую работу, посвященную поэту, - "Отрывки из писем Пушкина к П. В. Нащокину". Позднее познакомился еще с одним близким другом поэта, жившим с Александром Пушкиным на Собачьей площадке, на Арбате, - С. А. Соболевским. Тот многое рассказал о прошлом, о жизни поэта в Москве.
Когда известный граф М. С. Воронцов пригласил историка издать семейный архив Воронцовых, Петр Бартенев познакомился с его женой, Елизаветой Ксаверьевной, услышал от нее много интересных рассказов о Пушкине. Перед отъездом к Воронцовым Сергей Александрович Соболевский напутствовал его такими словами: "Купайтесь в Черном море и чернильных морях и расспрашивайте княгиню, как она жила с Пушкиным". Но при всем своем желании молодой Петр Бартенев не рискнул тогда последовать этому совету и впоследствии не мог себе простить, что постеснялся говорить на эту тему. Не решился даже попросить у княгини письма Пушкина, которые она хранила и которые впоследствии исчезли из поля зрения биографов. В "Отечественных записках" Петр Бартенев опубликовал статью "Род и детство Пушкина", затем появились "Материалы для биографии Пушкина". Таким образом, были заложены краеугольные камни в фундамент исследований поколений пушкинистов, биографов, краеведов, изучавших его творчество. Петр Бартенев служил в Архиве Министерства иностранных дел пять лет, затем год учился в университетах Европы, побывал в Берлине, Париже, Лондоне. Вернувшись в Москву, поступил на службу в лучшую в то время в городе Чертковскую библиотеку, основанную историком Г. А. Чертковым, предоставившим в общественное пользование 17 тысяч книг, собранных семьей.
Занимаясь описанием библиотек, архивов, Петр Бартенев постоянно разрабатывал дорогую сердцу тему - Пушкин. После бесед с друзьями поэта появилась работа "Пушкин в Южной России".
Не прекращая службы в библиотеке, он приступил к главному делу жизни изданию "Русского архива", чьи номера и по сей день служат историкам и литературоведам. Его журнал называли "живой картиной былого". Петр Бартенев поражал современников глубочайшей эрудицией, феноменальной памятью, его сведения отличались точностью, глубиной мысли, а ко всем этим достоинствам прибавлялась живость изложения, образность, любовь к родному слову, русской литературе.
Образ Петра Бартенева остался бы для потомков во многом тусклым, если бы не очерк, написанный о нем Валерием Брюсовым, служившим несколько лет под началом редактора "Русского архива". Брюсов имел возможность видеть близко этого человека, по возрасту, воспитанию, образованию бывшего для поэта представителем другого поколения, другой эпохи. Брюсов называл его "осколком старых песнопений", но воздал должное подвижничеству, бескорыстию, объективности. Какой пример для живущих: Петр Бартенев успевал сделать сам то, что теперь выполняют многолюдные институты и редакции. Издатель "Русского архива" выступал в разных лицах: автором, составителем, редактором, корректором, плановиком, бухгалтером и директором... Много сделал один человек для всего народа.
Из древнего рода Бартеневых с А. С. Пушкиным был знаком другой его представитель...
В пушкинские времена наезжал в Москву служивший в Костроме на поприще народного образования Юрий Никитич Бартенев, пламенный почитатель таланта поэта, один из тех, кто знал ему истинную цену. Юрий Бартенев оставил "Записки" - жизнеописание поэта Хераскова. Он предстает человеком, преданным литературе. Вот почему, вероятно, произошел в его жизни эпизод, отмеченный многими пушкинистами. В августе 1830 года, вскоре после женитьбы, Александр Сергеевич, заехав к Юрию Никитичу (возможно, что в гостиницу, точное место неизвестно), взял у него и увез с собой альбом, из тех, что заводились тогда во многих семьях. И вскоре вернул хозяину, вписав собственноручно задолго до публикации стихотворение, ныне всем известное под названием "Мадонна", посвященное юной жене поэта Наталье Гончаровой. Оно оканчивалось словами: "...Чистейшей прелести чистейший образец".
Под стихами автор сделал приписку: "30 августа, 1830. Москва. В память любезному Юрию Никитичу Бартеневу".
Хочется вспомнить еще одного Бартенева. Известный биографический словарь С.А.Венгерова сообщает: "Бартенев Сергей Петрович, преподаватель музыки, чиновник по особым поручениям при Московском дворцовом управлении, составитель описания Московского Кремля 1912 года". Все это действительно так, но не говорится здесь, что Сергей Бартенев - сын известного издателя "Русского архива".
Об этом упоминает Валерий Брюсов, добавив: Сергей Петрович был замечательным пианистом.
Вторым любимым делом, как у отца, была история. Сергей Петрович написал двухтомное фундаментальное сочинение под названием "Московский Кремль в старину и теперь". Первый том вышел в 1912 году, второй в разгар мировой войны - в 1916-м. Кроме того, он автор небольшого, но ценного путеводителя по Большому Кремлевскому дворцу и примыкающим к нему палатам и церквам.
По обилию информации, глубине проникновения в тему, оформлению это непревзойденные издания. Особенно замечательно описание стен и башен Кремля, составившее первый том, где каждая глава сопровождается многими фотографиями, рисунками, планами, выписками из старинных источников.
Став жителем Кремля, как свидетельствует Бонч-Бруевич, Ленин попросил дать ему почитать литературу о его достопримечательностях. Вот тогда и появилось на столе главы правительства двухтомное сочинение Сергея Бартенева. Изучив его, сделав пометки на полях, Ленин три дня, несмотря на занятость, совершал путешествие по Кремлю: осмотрел строения разных эпох, а в заключение дважды прошел по стенам и башням Кремля, по дороге длиной свыше 2 километров, что пролегла под зубцами.
"Владимир Ильич, - пишет Бонч-Бруевич, - прочитав в книге С. П. Бартенева, что одно крыло собора, находившегося близ Ивана Великого, застроено кирпичом во времена Николая I и превращено в сарай для фуража, с негодованием сказал:
- Вот ведь эпоха была - настоящая аракчеевщина... Все обращали в сараи и казармы: им была безразлична история нашей страны. Надо сейчас же, немедленно, это крыло открыть..."
Что и было сделано. Когда Бартенев переезжал на другую квартиру, к его подъезду неожиданно подали грузовик: красноармейцы бережно перенесли рояль, чем тронули музыканта и ученого до слез. Ленин подписал Бартеневу "охранную грамоту" на его имущество, состоявшее из книг и картин...
Вот какие Бартеневы жили в Москве, оставив о себе неизгладимую память.
КВАРТИРА ПУШКИНА
Никогда еще старый Арбат не привлекал к себе столько внимания, как теперь. Каждый его дом, каждый двор, буквально каждый квадратный метр пространства изучается специалистами - историками, искусствоведами, архитекторами, инженерами, экономистами... О будущем Арбата думают в проектных институтах и мастерских.
...Но все это не только планы и слова, начинаются и дела. Оказавшись на старой улице, видишь, что воплощение проектов в жизнь практически началось. Узкая старая улица выглядит просторнее и светлее: ее покинули троллейбусы, уступив место горнопроходчикам. А те, вскрыв асфальт, углубились в недра в центре Арбата. Когда они работали, я видел в земле проем глубиной метров в 8, а на дне его монтировался тоннель. Железобетонные детали образовали круглую трубу диаметром 4 м. В ней укладывали инженерные коммуникации, дающие путь теплу, горячей воде, телефонным, телевизионным кабелям, электричеству... Вот для чего работал горнопроходческий щит под землей, с каждым днем удаляясь все дальше от шахты. Возле нее я видел горку желтого песка - арбатского грунта, объясняющего старые названия арбатских переулков - Спасопесковского, Николопесковского, Спасопесковской площадки...
Труба коллектора останется в земле на много лет, доживет до XXI века и послужит нам и потомкам. Этот арбатский коллектор - главная новостройка улицы, предвещающая преобразование старинного района. Без него немыслимо осуществление всех интересных проектов обновления улицы, переулков, домов. По этой трубе в Арбат влита энергия, которая дает новую жизнь всем старым домам.
Их тут много: только тех, что выходят фасадами на улицу, около 60. Расположены они на земле 57 бывших владений и сохраняют старую нумерацию вот уже много лет. За каждым домом, войдя во двор, видишь еще по нескольку строений. Вот и выходит, что ждут своего часа сотни домов!
Есть среди них совсем крошечные, одноэтажные, с тремя окошками по фасаду, так что стоящий рядом с ними особнячок под № 43 с семью окошками выглядит уже большим. Есть и двухэтажные дома, сохранившиеся с начала XIX века, когда город застраивался ампирными особняками. Такой типично арбатский дом, окрашенный в традиционный желтый цвет, с побеленными архитектурными деталями, расположен посередине Арбата (№ 37). В пушкинские времена им недолго владела Екатерина Семенова, знаменитая актриса, воспетая в "Евгении Онегине"... Есть на Арбате и шестиэтажные дома, и даже восьмиэтажный. А самый высокий, действительно небоскреб, появился в конце улицы в 50-х годах нашего века. Это всем известный высотный дом на Смоленской площади.
Деревянный Арбат весь выгорел в великий пожар 1812 г., но быстро отстроился. В его переулках, да и на самой улице, на Арбатской и Смоленской площадях из поколения в поколение селилась русская знать. Но в конце концов Арбат превратился в сплошь торговую магистраль, одну из важнейших в старой Москве. Длина улицы 850 м. И за небольшим исключением на всем протяжении улицы первые этажи по обеим сторонам - это линия магазинов, ателье, кафе, ресторанов.
Самый знаменитый среди них - "Прага". Не счесть, сколько памятных событий связано с ней в жизни поколений москвичей, приходивших сюда по разным случаям - кто на свадьбу, кто на юбилей, кто на встречу с друзьями.
Каждый арбатский дом имеет нечто такое в своей биографии, что заслуживает право на долгую жизнь и наше внимание. Вот рядом с "Прагой", например, двухэтажный дом - на первый взгляд ничего особенного в нем, такой, как многие другие на старых улицах. Но как раз в нем жил в молодые годы Иван Бунин.
На нечетной стороне улицы - что ни дом, то достопримечательность. Рядом с кафе "Литературный особняк", где Сергей Есенин впервые публично прочел поэму о Пугачеве, в соседнем доме, № 9, покосившемся от старости, было другое литературное кафе - "Арбатский подвальчик", куда захаживали и Сергей Есенин, и Владимир Маяковский, и многие другие поэты и современники. На другом конце улицы в большом доходном доме (№ 51) в свой последний приезд останавливался Александр Блок, хорошо знавший Арбат. В нескольких десятках метров от этого дома, в трехэтажном доме с аптекой, в семье математика Н. Бугаева родился сын, вошедший в русскую литературу под именем Андрея Белого, автор романов "Москва" и "Петербург", автор очерка "Арбат"... Дом этот повидал многих знаменитостей, приходивших сюда на заседания кружка, членами которого состояли Валерий Брюсов, Александр Блок, Константин Бальмонт, Сергей Танеев, Виктор Борисов-Мусатов... А между этими домами стоит свежеоштукатуренный двухэтажный дом, привлекающий внимание всех прохожих. Каждый знает: в нем жил Александр Сергеевич Пушкин, жил после свадьбы в 1831 г., провел под его крышей несколько счастливых месяцев.
Я бывал в этом доме, когда в нем еще жили в коммунальных квартирах люди, гордившиеся "соседством" с Пушкиным. Видел в комнате с высоким потолком портрет Пушкина, нарисованный семидесятилетним бухгалтером.
Десятки людей перебрались отсюда в разные концы Москвы, чтобы на месте двух арбатских домов появился музей Александра Пушкина. С дома № 53 началась реализация той части плана "Старый Арбат", по которому решено вернуть былой облик и другим старинным домам, украшавшим некогда пушкинскую Москву. В проекте намечено также восстановить по старым чертежам утраченный ампирный дом и создать в нем музей Арбата. Музей-квартиру А. С. Пушкина дополнят Пушкинский концертный зал, клуб, книжная лавка, библиотека...
НА ПЕСКАХ
Даже когда на Арбате сохранялись еще строения допетровского времени, и тогда московские краеведы уделяли улице не много внимания, полагая, что особых достопримечательностей на ней нет. Здесь действительно мало зданий, которые бы числились в списке памятников архитектуры. И однако, улица объявлена заповедной, потому что, как никакая другая, она типично московская: по ее стенам читается история Москвы и градостроительства, какой она писалась после пожара Москвы 1812 г. до середины нашего века, когда поднялся высотный дом Министерства иностранных дел. Почти каждый арбатский дом хранит память о великих сынах отечества - художниках, ученых, поэтах, писателях, воспевших Арбат. Нет москвича, который бы его не любил. Любят Арбат не столько за красоту, сколько за московский характер, уют, человечность, доступность, досягаемость: почти весь первый этаж улицы по обеим ее сторонам открыт с утра до вечера для каждого прохожего.
В обе стороны от Арбата отходят переулки, каждый из которых дополняет его славу собственной историей, прошлым и настоящим. И хотя у каждого переулка свое название, все вместе они, как и улица, называются одним словом - Арбат, поскольку именно им выражается сущность, для которой вот уже почти десять лет найдено понятие - заповедная зона.
И все эти годы, как никогда прежде, происходит усиленное проникновение в прошлое Арбата, поскольку без него оказалось невозможным представить будущее этой улицы, создать проект ее обновления. Выяснилось, что, хотя вроде бы у всех Арбат на виду, многого мы о нем не знали, а кое-что позабыли.
А он в памяти Москвы давно. Археолог И. М. Снегирев относит появление урочища Арбат к XIV-XV векам. Считается, что слово "арбат" восточного происхождения, хотя единого мнения о его значении нет. Одни полагают, что имя местности дали арабские купцы, приезжавшие сюда в древности, - они назвали ее "рабад", что значит "пригород", "предместье"; такой и была эта земля в ту пору, когда Москва ограничивалась размерами кремлевских стен. Другие полагают, что название улицы происходит от восточного слова "арба", что означает "телега"; на их изготовлении специализировались жившие тут мастера. Есть и другое толкование этого слова - жертвоприношение (они происходили здесь во время татарского владычества).
Так или иначе, название Арбат навечно закрепилось за улицей и местностью и встречается в летописях уже под 1493 г., когда согласно пословице Москва от копеечной свечи сгорела. Горела эта свеча в церкви Николы на Песках, что располагалась вблизи улицы. Называлась эта церковь также Никола на Желтых песках. Именно на таком песке, который я увидел во время прокладки подземного арбатского коллектора, стоит весь Арбат.
С Арбата начиналась старинная Смоленская дорога. После того как Смоленск в начале XVI века вернулся под власть Москвы, улица усиленно застраивается, но, как и вся Москва, часто опустошается пожарами. В XVII веке местность эту после пожара даже называли Полем, Вспольем и Поляною. На этом поле не раз москвичи сходились с врагами, подходившими к стенам города.
Видел Арбат в 1612 г. ополчение Минина и Пожарского, вступившее в сражение с интервентами. Видел армии Кутузова и Наполеона в 1812 г. Грохот орудий разорвал тишину арбатских переулков в декабре 1905 г., когда царская артиллерия пыталась расчистить путь войскам к восставшей Пресне. В 1917-м Арбат вновь арена боев. И последняя война оставила след на его камнях: фугасная бомба разорвалась в здании Театра имени Евг. Вахтангова, выбила стекла в прилегающих домах... Так что у мирного Арбата долгая ратная история.
Учитывая стратегическое значение местности, московское правительство в XVII веке расквартировало здесь три стрелецких полка. Из-за песчаного грунта здесь не могли селиться земледельцы, поэтому на Песках по соседству со стрельцами появились слободы плотников, денежников, мастеров серебряного дела, они-то и дали жизнь будущим переулкам - Плотникову, Серебряному, Денежному...
Обосновавшись на Арбате, стрельцы на свои деньги построили небольшую церковь Николы на Песках в кирпиче, а также храм Николы Явленного, "что на Арбате", славившийся своей шатровой колокольней. На этом месте сейчас зеленеет за оградой разросшийся сквер. Еще один Никола - "что в Плотниках" - располагался на улице у Плотникова переулка, прежде называвшегося Никольским. Такое пристрастие к образу Николы (Николая) объясняется тем, что на Руси он особенно почитался в народе, был персонажем многих сказок; вчерашние крестьяне, стрельцы чтили его как участника их дел и забот, покровителя воинов, попавших в плен...
Стрелецкие дворы опустели после казней и упразднения стрелецкого войска. На месте стрелецких домов стали появляться дворянские гнезда. По преданию, "дщерь Петра", Елизавета Петровна, будучи в Москве, часто приезжала на Арбат к "Николе Явленному". Рядом с ним тогда находился дом, отданный в приданое девице, вышедшей замуж за поручика Преображенского полка В. И. Суворова.
К концу XVIII века почти вся улица уже была застроена домами знати, дворян, чиновников, а кое-где купцов.
А вскоре Арбат запылал вместе с Москвой и выгорел весь: его большие и малые дома были деревянными.
Как и вся Москва, улица возродилась вновь, застроилась новыми домами. И по сей день на Арбате насчитывается десятка два двух- и несколько одноэтажных зданий послепожарной Москвы. Но все они утратили колонны, портики, лепнину, поменяли наряд на более модный во второй половине прошлого и начале нашего века. Часть старинных домов надстроена.
Чтобы понять современный Арбат, нужно также представить и исчезнувшие крепостные ворота по концам улицы. На их месте образовались площади Арбатская и Смоленская, где располагались многолюдные шумные рынки. Ворот и рынков давно нет, а магазины сохранились.
В конце 20-х годов на Арбате появилась телефонная станция в модном тогда конструктивистском стиле - без всяких деталей, с голыми стенами, потерявшимися среди прочих строений, богатых архитектурной отделкой. В начале 30-х годов на Арбате был построен Дом общества пролетарского туризма, о чем напоминают на его фасаде барельефы бегунов, велосипедистов, напротив выросла туристская гостиница с большим гастрономом внизу. На месте Николы в Плотниках появился в 1935 г. большой жилой дом (в нем находится магазин "Диета"), построенный по проекту известного архитектора Л. Полякова. Одним из его жильцов оказался архитектор В. Гельфрейх, по проекту которого сооружено в 1952 году высотное здание, возвышающееся над Арбатом.
Большинство так называемых доходных домов появилось на Арбате во время строительной лихорадки начала XX века. Тогда многоэтажные здания вытеснили старинные усадьбы с садами, встали, плотно прижавшись друг к другу, слившись в одну каменную массу.
Самым крупным и интересным арбатским доходным домом является тот, что появился в 1913 г. на углу Калошина переулка. На его фасадах архитектор В. Е. Дубовский поставил в нишах двух рыцарей, закованных в латы. Мимо них, как известно из романа "Мастер и Маргарита", пролетела на метле героиня этого романа.
Бурный рост Москвы в начале нашего века затронул Арбат, как никакую другую соседнюю с ним улицу: надстраивались и ломались старые дома, покрывались строительными лесами; вместо патриархальной конки загрохотал трамвай; прибавилось народу на улицах, в лавках колониальных товаров появились экзотические гранаты и бананы. Владельцы земельных участков один за другим обращались к городским властям за разрешением о строительстве новых зданий. Спустя много лет после этой строительной горячки писатель Андрей Белый написал очерк "Старый Арбат", рассказав о многих запомнившихся ему с детства на всю жизнь старых домах.
У "ПРАГИ"
Арбат, как и многие старинные московские улицы, поражает своим постоянством: несмотря на происходящие в нем перемены, сегодня он выглядит примерно так, как полвека назад. Поменял фасад разрушенный в дни войны Театр имени Евг. Вахтангова, снесли пару домов в начале нечетной стороны улицы. Однако своим видом и характером Арбат резко отличается от своих соседей. В вышедших в 1842 г. "Очерках московской жизни" литератора Петра Федоровича Вистенгофа (однокашник Михаила Лермонтова по Московскому университету), оставившего отличное описание современной ему Москвы, заслужившее похвалу самого В. Г. Белинского за "замечательную наблюдательность", не забыт, конечно, и Арбат. Описывая московские улицы, литератор ставит его в ряд с соседней Пречистенкой. Тогда они были похожи друг на друга и внешним видом, и образом жизни обитателей. "Житель Замоскворечья (разумеется, исключая несколько домов, где живут дворяне) уже встает, когда на Арбате и Пречистенке только что ложатся спать, и ложится спать тогда, как по другую сторону реки только что начинается вечер".
Виссарион Белинский мог оценить наблюдательность автора "Очерков московской жизни", потому что сам написал о ней несколько очерков. Об Арбате он также упоминает среди других московских улиц: "...Тверская, Арбатская, Поварская, Никитская... состоят преимущественно из "господских" (московское слово!) домов. И тут вы видите больше удобства, чем огромности или изящества. Во всем и на всем печать семейственности: и удобный дом, обширный, но тем не менее для одного семейства, широкий двор..."
Дома на одну семью - это сохранившиеся еще кое-где на Арбате особняки, чьи некогда просторные усадьбы тесно застроены: войдя под арку дома, можно попасть во двор, где стоят рядом два или три многоэтажных дома, окна которых смотрят друг на друга с расстояния в несколько метров. Таким Арбат стал, когда владельцы "дворянских гнезд" распрощались со своими фамильными особняками и садами, продав их купцам и фабрикантам. Если Арбат в первой половине прошлого века, как и соседние дворянские улицы, не терпел у себя коммерсантов, не заводил магазинов и трактиров, то во второй половине века нарушил эту вековую традицию и стал улицей торговой, какой является и поныне.
Арбатские магазины всегда славились, всегда привлекали к себе людей. Не стало их меньше даже после того, как на Новом Арбате открылись большие современные магазины. И сейчас на Арбате тесно, как прежде. В 1923 г. Владимир Маяковский описал в стихотворении свою езду по Арбату на извозчике, а начиналось оно словами: "Арбат толкучкою давил и сбоку и с хвоста..." Спустя год мимо поэта не прошло событие, отмеченное тогда всеми газетами: в доме № 2 знаменитый в те годы процветающий Моссельпром (губернское объединение предприятий по переработке продуктов сельскохозяйственной промышленности) открыл крупную общедоступную столовую. Поэт писал:
"Здоровье и радость
высшие блага
в столовой "Моссельпрома"
(бывшая "Прага").
Там весело, чисто,
светло, уютно,
обеды вкусны,
пиво не мутно."
Похожий на корабль, с палубой и надстройкой, ресторан "Прага" и поныне рассекает своим овальным корпусом людские потоки и плывет, ведя за собой все другие арбатские кафе и магазины.
Появление этого дома относят к концу XVIII века, когда на пересекающихся под острым углом московских улицах строились дома вот с такими овальными стенами. Дом был тогда двухэтажным. Когда спустя век первый этаж улицы заняла торговля, здесь открылся трактир под названием "Прага", облюбованный московскими извозчиками (между собой они называли его запросто "Брагой"). В конце века купивший владение купец Семен Тарарыкин закрыл трактир, а вместо него оборудовал первоклассный ресторан под тем же именем, входивший в десятку лучших московских ресторанов. Новый облик зданию придал крупнейший московский архитектор того времени Лев Кекушев.
"Прага" славилась универсальной кухней. Ее охотно посещали профессора соседнего университета, консерватории, музыканты, художники. В историю этого ресторана вошли "рубинштейновские обеды". Они устраивались ежегодно музыкантами в память основателя Московской консерватории Николая Рубинштейна. В залах "Праги" состоялся банкет в честь Ильи Репина, когда была завершена реставрация его картины "Иван Грозный и сын его Иван", как известно, порезанной душевнобольным. Московские писатели пригласили сюда своего заграничного гостя - популярного поэта Эмиля Верхарна.
Ресторан стал тесен, и над двумя его этажами в годы первой мировой войны поднялась надстройка, придавшая ему вид корабля. В годы гражданской войны, разрухи и голода ресторан разделил участь всех подобных заведений, а в годы новой экономической политики вновь был открыт, но уже как столовая, что и отметил Владимир Маяковский в упомянутых стихах.
Эта столовая навсегда запомнится по тому описанию, какое дали ей в романе "Двенадцать стульев" Илья Ильф и Евгений Петров, отдававшие должное ее кухне, как, впрочем, и многие московские писатели того времени. Как раз в залы "Праги" подгулявший предводитель дворянства привел изголодавшуюся от вегетарианской пищи Лизу Калачеву, поскольку его компаньон Остап Бендер считал именно это заведение "лучшим местом в Москве". Образцовая столовая Моссельпрома и тогда выглядела как ресторан: в ней играл оркестр, обслуживали официанты. Как пишут авторы "Двенадцати стульев", "Прага" поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков", как, впрочем, и ценами.
В просторном здании, кроме ресторана, долгое время помещались также кинотеатр, одно время называвшийся "Прагой", городская библиотека...
Вторая жизнь "Праги" началась в 50-е годы. Тогда было решено закрыть все, что не относится к ресторану, освободившееся здание переоборудовать под новый ресторан, причем залы его оформить в соответствии с историческим названием. Проект новой "Праги" разработал московский архитектор Б. Соболевский с группой архитекторов и художников. Интерьеры помогали оформлять чехословацкие мастера. Тогда-то и появились залы, стены которых украшены видами Праги, Братиславы...
Реконструкцию поручили Московскому метрострою, что было вполне оправданно. Поскольку дом надстраивался пятым этажом, требовалось укрепить фундамент, провести сложные земляные работы вблизи подземного зала станции метро "Арбатская". Отделочники Метростроя украсили залы "Праги" с такой же тщательностью, как и подземные дворцы - станция метро. Засверкали хрусталь, люстры, зеркала...
Об истории "Праги" последних тридцати лет мне рассказал заместитель директора С. Л. Окунь. В годы войны он был на фронте, воевал в тылу врага, а мирную службу начал здесь, когда шла реконструкция ресторана. Тогда сюда часто наведывался на строительную площадку начальник Метростроя Василий Дементьевич Полежаев, получивший задание - обновить "Прагу" на высшем уровне.
Что же собой представляет она сегодня? На вид "Прага", как и прежде, не бросается в глаза размерами. А между тем ресторан принимает в своих залах одновременно 1000 посетителей. Причем почти столько же человек занято обслуживанием: в штате "Праги" 170 поваров и 170 официантов. Шеф-повар "Праги" Валентина Николаевна Рыбушкина также начинала тут, когда ресторан открылся к десятилетию освобождения Праги - 9 мая 1955 г.; тогда она была ученицей. Повара этого ресторана - универсалы: ведь в меню сотни наименований блюд русской, чехословацкой и европейской кухни. "Прага" может предложить днем в выходной семейный обед, она же способна обслужить дипломатический прием. Под названием "Прага" подразумевается целый комплекс общественного питания - кафе, закусочная, магазин кулинарии и ресторан. Собственно, он начинается со второго этажа, на котором расположена анфилада из семи залов: Чешский, Купольный, Бирюзовый, Ново-Пражский, Музыкальный, Белый, Ореховый. На третьем этаже работают кондитерский цех и некоторые другие службы, на четвертом - семь кабинетов и три зала: два зимних сада и Ротонда. Еще выше находится банкетный Зеркальный зал, появившийся вместе с пятым этажом в 1955 г. (Такой была "Прага" до недавней перестройки 1997 года. - Л. К.)
Соседний двухэтажный дом на Арбате, где теперь магазины, а прежде находилась средней руки гостиница "Столица", обосновавшаяся в бывшем барском особняке секунд-майора Загряжского. Тогда это был дом в ампирном стиле, с шестиколонным портиком; позднее, когда вкусы изменились, этот портик, как и другие, исчез.
Подобно соседней "Праге", этот арбатский дом также породнился с русской литературой, поскольку в номерах гостиницы в молодости жил Иван Бунин (номера располагались на втором этаже).
"...Усядусь, огня не зажигая, возле окон, облитых лунным светом, и смотрю на сад, на звезды редкие", - писал Бунин в стихотворении "В Москве"; в нем же поэт отметил, что "здесь в старых переулках за Арбатом совсем особый город". Историю юношеской любви, начавшейся как раз в номерах "Столицы", Иван Бунин описал в рассказе "Муза"; "Жил я на Арбате, рядом с рестораном "Прага", в номерах "Столица". Здесь произошла романтическая встреча поэта с девушкой - студенткой консерватории, которую звали Муза...
Арбат в бунинские годы облюбовали многие наши поэты, писатели и художники.
БАРРИКАДЫ УЛИЦЫ
Когда в дни первой русской революции 1905 г. московские улицы покрылись баррикадами, Арбат перегородили телеграфными столбами, подпиленными и поваленными на мостовую, бочками, старой мебелью, санями, колясками, всем, что попадало под руки жителям арбатских дворов. О строительстве такой баррикады на Арбате рассказал в книге мемуаров "Мой век" замечательный скульптор Сергей Тимофеевич Коненков. А вот о том, что он был начальником боевой дружины, охранявшей в те дни улицу, до выхода в свет книги мало кто знал. Об арбатских баррикадах упоминают герои первой русской революции - Зиновий Литвин-Седой, начальник штаба боевых дружин на Пресне, и Михаил Николаев, начальник боевой дружины мебельной фабрики Шмита. Эта дружина пошла на подкрепление на Арбат, узнав, что дела там плоховаты. "Вышли через проходной двор со стороны Смоленского бульвара на Арбат, где увидели налево к Арбатской площади солдат, разбиравших баррикаду. Открыли по ним прицельный огонь", - писал впоследствии Михаил Николаев. В том бою его ранило, одного дружинника убило, но баррикаду тогда удалось отстоять.
Картину баррикад на улицах Москвы в дни революции 1905 года нарисовал на страницах романа "Жизнь Клима Самгина" М. Горький, который был очевидцем уличных боев. На Арбатской площади на глазах главного героя произошел расстрел безоружных людей. Отсюда Клим Самгин пошел по Арбату на конспиративную квартиру, где неожиданно для себя получил задание и, как связной, поспешил на баррикаду...
Где находились баррикады Арбата? На этот вопрос помогают ответить фотографии, помещенные в ежегодном иллюстрированном приложении к газете "Московский листок" за 1910 год; среди фотографий московских улиц, перегороженных баррикадами, три сделаны на Арбате. Глядя на снимки, видишь, как сильно изменилась улица; трудно определить сразу, где делались снимки, так как поменялись ориентиры. Но все же удалось это установить. Первая баррикада у церкви Николы в Плотниках была там, где теперь магазин "Диета" в Плотниковом переулке. Другая появилась примерно в середине улицы и закупорила Калошин переулок. Из попавших в кадр зданий сохранилось только одно трехэтажное на углу переулка (Арбат, 33); по нему я и определил местонахождение баррикады - она располагалась вблизи Театра имени Вахтангова. Место третьей баррикады пришлось поискать, потому что все снятые на переднем плане дома уже увидеть нельзя: они снесены или видоизменились. Стал сличать строения заднего плана с натурой и увидел, что сохранился дом с закругленными стенами на углу Большого Афанасьевского переулка, но только он вырос на два этажа, хотя и сохранил свои архитектурные детали. Следующий за ним по Арбату одноэтажный дом снесен, и на его месте теперь построено большое здание, причем оно слилось со стоявшим рядом трехэтажным домом, который также подрос на несколько этажей. Изменился и облик дома, остались лишь стены и глазницы окон. Если слева от входа в дом № 17 вы отсчитаете пять окон, то увидите как раз место, где под окнами располагалась баррикада. Именно эту баррикаду защищала дружина Сергея Коненкова, и он видел из окна мастерской, как сжигали ее после поражения восстания. Огонь был настолько силен, что освещал даже лицо натурщицы, позировавшей в те часы скульптору...
На страницах книги "Мой век" Сергей Тимофеевич подробно описал те незабываемые дни, рассказал о своих боевых друзьях - молодых рабочих и студентах, собиравшихся у него в мастерской, ставшей, по сути, штабом дружины.
"С приездом в Москву я поселился на Арбате, сняв мастерскую на верхнем этаже доходного дома", - пишет скульптор. Приехал он в древнюю столицу после окончания Петербургской академии художеств с намерением обосноваться здесь постоянно. Тогда вошли в силу архитекторы - художники нового направления (главой их считался Федор Шехтель), строившие на центральных улицах многоэтажные дома в пять - семь этажей. В каком из них поселился художник? На Арбате Сергей Коненков сделал первые широкие шаги в искусстве и здесь же принял боевое крещение на баррикадах революции с браунингом в руке.
В те дни он оформлял интерьер булочной Филиппова на Тверской и стал очевидцем исторического события - сражения рабочих с казаками. С трудом вырвавшись из окружения войск, он встретил на пути художника Василия Ивановича Сурикова, и тот, окликнув молодого Коненкова, спросил:
- Революция началась?
- Да, революция! - подтвердил Коненков и поспешил к себе на Арбат, где уже было приготовлено оружие в его мастерской на чердаке.
Ночью засевшие на чердаках полицейские и жандармы обстреливали патрули дружинников. "Десять дней держали мы в своих руках Арбат, и все это время в самых опасных и трудных делах впереди всех была отважная Таня Коняева. Она стреляла и перевязывала раны, ходила в разведку", - рассказывает С. Т. Коненков.
Под окнами мастерской еще продолжали догорать разгромленные баррикады, а художник, спрятав браунинг, принялся лепить образ победоносной Нике. Позировала ему Таня Коняева, ставшая вскоре не только натурщицей, но и женой скульптора, матерью двух его сыновей. Образ ее запечатлен в таких известных произведениях Коненкова, как "Лада", "Коленопреклоненная". Татьяну Коняеву мастер считал "гением искусства позирования".
Описывая мастерскую на Арбате, Сергей Коненков упоминал, что в ней было большое круглое окно, выходившее на улицу. Еще одна подробность находилась мастерская на верхнем этаже доходного дома, а дверь из нее вела прямо на чердак. Имея эти данные, а также помня, что доходный дом появился на Арбате до 1905 г., я решил "вычислить", где именно жил наш выдающийся скульптор.
Пошел по улице от Смоленской площади. По четной стороне вскоре показались стены доходных домов. Но они здесь появились позднее 1905 г. А вот на фасаде пятиэтажного дома, где находится зоомагазин, под карнизом большими цифрами значится дата - 1904. Не здесь ли? Смотрю - на стене мемориальная доска с мужским профилем и надпись: "Здесь жил русский художник Сергей Васильевич Иванов". Кстати, Коненков в своей книге пишет о нем, подчеркивая тот факт, что "Иванов - тоже участник революции". Неожиданное упоминание о Сергее Иванове я нашел в вышедшем к 20-летию восстания сборнике "Декабрь 1905 года на Красной Пресне", где профессор Московского университета В. Костицын, бывший начальник боевой дружины, вспоминает: "Далее отправился я на Арбат, где надеялся через художника С. В. Иванова, постоянно оказывавшего нам большие услуги, найти члена МК "Павла Ивановича" (Первухина)..."
Студенты поручили художнику обеспечить охрану зданий Московского университета в день похорон Николая Баумана. На глазах Иванова произошел расстрел молодежи, возвращавшейся с политической демонстрации. Под пулями переносил он раненых в аудитории университета. Как это было, мы, потомки, можем увидеть на картинах Иванова, посвященных первой русской революции. Одна так и называется "Аудитория Московского университета, превращенная в лазарет в ночь с 20 на 21 октября", а другая, которая особенно нравилась С. Т. Коненкову, - "Расстрел". Скульптор считал это полотно самым сильным живописным произведением о событиях 1905 г. и подробно описал его, подчеркивая, что трагическое событие передано художником-очевидцем с огромным эмоциональным напряжением: "В правом углу картины демонстранты с красным флагом. Слева солдаты. Над ними поднимается серое облачко. Это залп..."
Хорошо знал Сергей Васильевич Иванов Москву, ее прошлое. Он создал известные полотна на исторические темы: "В московском приказе", "На сторожевой границе Московского государства", "Поход москвитян"... Последний исторический цикл картин создавался им после 1905 года.
Дом, где жил автор "Расстрела", - бывший доходный, с лифтом, с парадным и черным ходами, как было принято тогда. Но без круглых окон... Похожие виднеются наверху башни соседнего здания, но оно появилось после тех дней. Пройдя еще метров триста, напротив сквера, где стоял прежде "Никола Явленный", вижу четырехэтажный доходный дом. А наверху его круглые большие окна мансард, предназначавшихся как раз для художников.
На мансарды лифт не поднимается, туда ведут два высоких лестничных марша. На площадке сразу три двери. Открылась одна из них, и я попал в квартиру, где некогда жил живописец; стены квартиры увешаны полотнами. Имя Коненкова, конечно, хорошо здесь знают, но в том, что он жил именно в этом доме, пытаются меня разубедить. Когда же я говорю, что дверь из мастерской вела на чердак, вдруг слышу: "Ну, тогда это, наверное, здесь!" И через минуту ключом открывается соседняя дверь, а за ней возникает темный просторный чердак, где в стене есть еще одна дверь - в мастерскую.
Как раз на этом чердаке хранили дружинники свои браунинги, а после поражения революции закопали их в песок. Сюда поднимались друзья скульптора и отважная Татьяна Коняева, прекрасная Нике, запечатленная скульптором в его творениях, хранимых ныне в музеях.
А за какой из трех дверей жил Коненков? Да как раз за той, куда я попал, в мансарде, хорошо известной по акварели и картине нашего выдающегося живописца Павла Корина, которые хранятся в Третьяковской галерее.
В МАНСАРДЕ
Проектируя четырехэтажный комфортабельный доходный дом на Арбате, архитектор Никита Лазарев встроил в его чердак три мансарды без удобств, имея в виду, что снимать их будут художники. Большие круглые окна, выходящие на улицу, пропускают много света, а кроме того, на крыше архитектор предусмотрел еще одно окно, дающее "верхний" свет, так необходимый живописцам и скульпторам для работы.
Лазарев, как многие зодчие того времени, был и архитектором, и художником. На углу Арбатского Староконюшенного переулка сохранилось его творение в формах классической архитектуры - так называемый особняк Миндовского, вошедший в историю русской архитектуры. Создавался он в начале XX века с оглядкой на XIX век. Тогда же Никита Лазарев построил здание на Арбате, 23, в стиле новом, модерн. В нем еще раз проявился талант художника. На всем облике постройки и на каждой ее детали лежит печать художника, формировавшего каждую деталь дома. Архитектор нарисовал светильники, лестницы, их ограждения, балконы, ручки дверей и сами двери, рамы, прорисовал даже оконные и дверные стекла... Единство построек этого стиля достигалось индивидуальностью не только каждого здания, но и каждой его части.
Прошло восемьдесят лет с момента появления на Арбате дома № 23, и теперь такие здания воспринимаются как памятники архитектуры, достойные охраны и мемориальных досок, как дома предшествующих стилей, подготовивших появление модерна. Пожалуй, первыми оценили дом кинематографисты.
- Я снимал на лестнице этого дома три художественных фильма, - сказал мне кинооператор Петр Николаевич Терпсихоров, - а кроме меня еще многие снимали тут эпизоды.
Мы прощаемся с ним на лестничной площадке, поражающей парадностью и интимностью, великолепным окном, лепниной, люстрой, высоко парящей над вестибюлем. Роспись вот, жаль, не удалось сберечь, но она была здесь.
Принимал меня Петр Терпсихоров в квартире на втором этаже, где много лет назад, вернувшись после окончания гражданской войны домой, молодой художник, организатор первых маскировочных рот Красной Армии Николай Терпсихоров, полный планов и надежд, начинал мирную жизнь. До ухода на фронт он занимал мансарду, которую передал своему знакомому - Павлу Корину, окончившему Московское училище живописи, ваяния и зодчества, реорганизованное к тому времени в свободные художественные мастерские, куда Корина пригласили преподавать.
В другой мансарде, рядом с Кориным, поселился молодой художник Вольдемар Андерсон, бывший боец Красной Армии, латышский стрелок. Будучи жильцами одного дома, Терпсихоров и Андерсон объединились, как тогда практиковалось, и поместили на Арбате вывеску, хранимую по сей день. На жестяном листе нарисовали паяца, который предлагал услуги мастера под фамилией Терсон (под этим псевдонимом выступали Терпсихоров и Андерсон), бравшегося за изготовление афиш, плакатов, росписей и "прочих художественных работ". Но то была только одна сторона медали, оборотная.
В то же время Николай Терпсихоров с единомышленниками создает новую художественную организацию под названием АХРР - Ассоциация художников революционной России. Она задалась целью "создания революционной сюжетной картины". Одной из них и стала картина "Первый лозунг" Николая Терпсихорова, которую можно увидеть в Третьяковской галерее. Изображена на ней мастерская - как раз та, что находится в мансарде дома № 23, изображен на ней и художник Павел Корин в тот момент, когда он пишет революционный лозунг.
Эту же арбатскую мастерскую дважды изобразил и Павел Корин, поэтому мы с документальной точностью можем представить ее обстановку. Она состояла из двух комнат. На акварели "В мастерской художника" показана та ее часть, что освещалась "верхним светом", из чердачного окна. Обстановку составляли стильный стол, простая табуретка и спасавшая в холодные годы москвичей печь буржуйка... А кругом - гипсовые слепки античных статуй и масок. На картине "Моя мастерская" Павла Корина показана та ее часть, где было большое круглое окно, хорошо видное с Арбата. На переднем плане - античная статуя, стопка книг, старинная русская икона, символизировавшие связь творчества художника с античным и древнерусским искусством.
Тяжелые статуи Венеры, Боргезского бойца, Софокла и другие слепки знаменитых произведений древности Павел Корин и брат его Александр подняли в мансарду на себе, привезя их на подводе из художественных мастерских в те дни, когда взбудораженные студенты выбросили из классов на свалку все эти слепки за ненадобностью. Павел Корин так не считал.
А начал он учиться рисовать в семье, где отец, деды и прадеды рождались на свет, чтобы стать иконописцами. То было потомственное ремесло не только семьи Кориных, но и многих односельчан, потому что родился будущий мастер в знаменитом Палехе. Из иконописной мастерской села волею случая попал крестьянский мальчик в Москву, в мастерскую Донского монастыря. Заметивший его художник Михаил Нестеров посоветовал поступить в Училище живописи, ваяния и зодчества. Корин закончил его за год до революции. Константин Коровин напутствовал его словами: "Вам дан дивный дар рисования". Павел Корин после окончания училища еще долго занимался самостоятельно и решился начать работать только с 1925 года. Тогда появилась небольшая картина "Моя мастерская", купленная Третьяковской галереей, что было знаком признания мастерства. Несколько лет Павел Корин писал акварель, тоже сравнительно небольшую, - "Москва с Ленинских гор", где с документальной точностью изобразил силуэт Москвы, какой она была до начала 30-х годов.
Почувствовав в себе силы, Павел Корин задумал работу, сделавшую его известным. Он решает запечатлеть на полотне тех, кого хорошо знал с детства, - крестьян, странников, калик перехожих, монахов, отцов церкви, представителей уходящей Руси. Свою будущую грандиозную картину, действие которой должно было происходить в Успенском соборе Кремля, он назвал "Реквием". Он принимается за создание этюдов-портретов своих героев персонажей картины. Творил тогда Павел Корин неистово. Однажды втащил в мансарду чуть ли не на себе бездомного калеку, немытого и оборванного. Пришлось его тогда на несколько дней - пока шла работа - к ужасу молодой жены, оставить ночевать в мастерской, где была тогда и квартира Павла Корина...
Прослышав о работах Павла Корина, поселившегося в Москве, Максим Горький решил на них взглянуть. Говорили тогда в Москве и о шедевре Александра Корина - его копии с картины Леонардо да Винчи. Максим Горький пожаловал к Кориным в памятный день 3 сентября 1931 г. Дело это было не простым для больного Горького, потому что лифт в доме со времен революции не действовал, а мансарда находилась на чердаке, довольно высоко. Но Максим Горький, несмотря на одышку, поднялся на чердак и не пожалел об этом.
Свидетельница этой встречи жена художника Прасковья Тихоновна Корина всю жизнь помнила в мельчайших деталях, помнила и слова, сказанные писателем:
- Отлично! Вы большой художник, вам есть что сказать...
Максим Горький пригласил братьев Кориных поехать вместе с ним в Италию, посмотреть великих мастеров. То была для Павла Корина встреча, круто повернувшая его жизнь. Из Италии он привез в арбатскую мастерскую портрет Максима Горького в рост, исполненный на фоне Неаполитанского залива. С него началась новая тема в творчестве художника, создавшего галерею портретов наших современников, вошедшую в золотой фонд советского искусства. С Арбата Павел Корин переехал в феврале 1934-го в новую мастерскую - на Малой Пироговской, которую ему помог получить Максим Горький, в ту самую, где теперь открыт музей Павла Корина.
Появились мансарды на чердаке дома № 23 на Арбате не случайно, потому что в соседнем доме располагались классы известной в Москве частной художественной школы, одним из руководителей которой был Константин Юон.
В СТУДИИ ЮОНА
Размышляя об истории Арбата, я не сразу сумел понять, почему именно на этой улице, расположенной в центре, считавшемся московским "сен-жерменским предместьем", где жили представители родовой знати, вдруг в дни революции 1905 г. сооружаются сразу три баррикады, тогда как на соседних улицах их не было.
В угловом доме, где сходятся Арбат и Староконюшенный переулок, располагалась известная в свое время художественная школа К. Ф. Юона. Этот трехэтажный дом № 25 сооружен был в 1871 г. на средства Общества русских врачей, которое для своих членов открыло в нем библиотеку, а кроме того, учредило здесь же небольшую поликлинику и аптеку, существующую, кстати, поныне.
Именно этот дом в 1900 г. облюбовал молодой художник, незадолго перед тем окончивший Московское училище живописи, ваяния и зодчества, Константин Юон. Вместе с товарищем, тоже художником и талантливым педагогом Иваном Дудиным он решил открыть свою частную художественную студию и арендовал для этих целей у хозяина дома - Общества русских врачей - часть помещений. Художники задумали создать студию нового типа, применить для обучения все лучшее, что почерпнули в училище, а также то, что практиковалось в модных тогда парижских художественных студиях. Занятия проводились без единой программы; не было деления на годичные курсы, не было экзаменов. Упор делался на самостоятельную работу, студийцев приучали писать с любой натуры, в том числе обнаженной, что не разрешалось в училище. Занятия сопровождались диспутами, обсуждениями; часто организовывались выставки, издавался журнал. Все здесь зависело от дара и трудолюбия. С начинающими преимущественно занимался Иван Дудин, с более подготовленными - Константин Юон. Он обладал редким даром не только учить других, но и при этом учиться самому, заражал всех своей энергией, жаждой служения искусству, не навязывая никому своих тем и манеры письма.
Молва о новой студии разошлась по всей Москве и другим городам, сюда приходило на занятия до 200 человек. Вот они-то и стали порохом, который разгорелся, как только Москва забурлила в дни революции 1905-го, они-то и соорудили баррикады на Арбате, сражались на них...
"А там дружинники уже засновали по Арбату - и в папахах, и в фуражках; дворники, мальчишки помогают выворачивать столбы фонарные - для баррикад" так описывал те дни в своем очерке об Арбате его житель, писатель Борис Зайцев.
После поражения восстания Константину Юону пришлось приложить много сил, чтобы защитить студию от властей, которые намеревались закрыть ее. Студия выжила тогда и просуществовала еще двенадцать лет; через нее прошло примерно 4 тыс. студийцев. Не все из них стали профессиональными художниками, но сохранили навсегда память о ней и учителе.
"Наивным, ничего не знающим в вопросах искусства пришел я к вам в школу. Вы первый сказали мне свое веское слово о сути искусства", - с такими словами обращался к Юону спустя много лет, вспоминая о студии на Арбате, известный художник-анималист В. А. Ватагин. Он признавался своему первому учителю, что если в нем есть художник, то этим он обязан ему.
Дни, проведенные в студии на Арбате, считала "незабываемо дорогими", а Юона называла "первым учителем" Вера Мухина, прославившая советскую скульптуру. И она брала здесь уроки искусства. Юон по первым ученическим работам сразу мог сказать, есть ли талант у того, кто пришел к нему. Взглянув на работы Веры Мухиной, он сказал:
- Приносите бумагу, карандаши, резинку, папку для рисунков. Место вам будет!
Вот с этими словами Мухина и вышла на путь искусства, который привел ее к вершинам.
В разное время порог школы с надеждой переступили такие не похожие друг на друга художники, как пейзажист А. В. Куприн, график В. А. Фаворский, живописец Р. Р. Фальк, архитекторы-художники А. А. и В. А. Веснины, поэт С. М. Городецкий, поэт и художник Д. Д. Бурлюк, друг юности Владимира Маяковского... Все они и многие другие мастера обязаны арбатской студии К. Ф. Юона и И. О. Дудина, с благодарностью вспоминают о ней в автобиографиях, мемуарах. В студии царил дух творчества и товарищества, можно было спорить с мэтром, и воспоминания донесли до нас отрывки этих яростных споров, в которых рождалась истина.
Почти у каждого из тех, кто вышел из стен студии на Арбате, есть работы, посвященные Москве. Виды города писал Фаворский, "Вид на Кремль" есть у Куприна, рисунки, акварели, картины Москвы созданы и другими мастерами; все они дополняют огромную великолепную панораму Москвы, созданную Константином Юоном.
Юон родился в доме на Мещанских улицах, провел отрочество в старинном Лефортове, где сохранились многие памятники времен Петра I - Яузские дворцы и парки, помнившие музыку его ассамблей, Анненгофская роща и громадный дворец с колоннадой Дж. Кваренги, это и многое другое навсегда запало в детскую душу, а за тем перешло на бумагу и холст.
Константин Юон начинал с пейзажей, пытался искать вдохновение на лоне экзотической природы Кавказа, но его неудержимо тянуло в родной город, где он нашел свой путь, свою тему, своих героев. Одна за другой на художественных выставках появляются красочные картины с изображениями Москвы, Кремля, Красной площади, старинных улиц, народных гуляний... И если современник Юона Аполлинарий Васнецов создавал картины Москвы прошлых веков, то Константин Федорович вдохновлялся современной ему Москвой, стал ее зорким летописцем.
Основав студию на Арбате, он снял в этом же доме квартиру и прожил в ней несколько лет. И хотя студия отнимала много времени и сил, Константин Юон успевал создавать свои картины, которые, кроме Москвы и Подмосковья, запечатлели и другие старые русские города.
Если бы этот арбатский дом стал музеем Юона, то, пожалуй, в нем бы не хватило места для всех работ художника. Самыми блистательными среди них были бы картины, посвященные Красной площади. Никто не создал столько картин, посвященных ей, как Юон. Художник видел ее еще в те времена, когда она знавала весенние вербные базары и кормление голубей у храма Василия Блаженного, когда по заснеженной площади ездили только на лошадях. Он запомнил ее и в дни 1917 г., когда в кремлевские ворота устремились войска большевиков. Художник не раз приходил сюда в майские и ноябрьские дни, в часы парадов и демонстраций, чтобы запечатлеть эти новые праздники, с каждым годом становившиеся все ярче и масштабнее. Зная каждый камень на Красной площади, Константин Юон, как никто другой, ощутил ее величие в день легендарного парада 7 ноября 1941-го и создал свою знаменитую картину. И победный салют над Кремлем зарисовал Константин Юон, а первые наброски Москвы сделаны в конце XIX века.
"В Москве началась моя живопись. Москва вскормила во мне основные интересы и увлечения", - писал художник в книге "Москва в моем творчестве". Она создана художником на закате жизни, в конце 50-х годов.
Многие улицы, площади города попали в поле зрения художника, а вот перед Арбатом он остался в долгу: быть может, ему не хватило расстояния, необходимого для того, чтобы увидеть большое... В начале 1910-х годов Юон с Арбата переехал неподалеку - в Трубниковский переулок, воспетый "Московским двориком", знаменитым пейзажем В. Поленова, жившего здесь. В этом же переулке находился дом художника и собирателя картин И. С. Остроухова. Так что и этот арбатский переулок, как и Арбат, незабываем.
АРБАТСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
На Арбат к бело-розовому дому с аптекой (№ 25) я пришел на этот раз, держа в руках старую, прекрасного качества фотографию, сделанную в начале нашего века, когда еще по булыжной мостовой не громыхали трамваи. Тогда фотограф, установив свой треножник, мог не волноваться за судьбу громоздкой аппаратуры. На противоположном углу - со Староконюшенным переулком - ему "позировала" лошадь, запряженная в телегу. С любопытством смотрели в объектив сидящие на ступеньках крыльца продавцы в белых халатах, ожидавшие покупателей у входа в лавку. Тогда здесь располагалась "Мясоторговля", а над окнами виднелись вывески с фамилией хозяина - Данилова. Мостовая выглядела пустынной, посредине ее, глядя в аппарат, застыл полицейский, дозволивший эту съемку, которая производилась для издания книги, посвященной полувековому юбилею Общества русских врачей.
Какая связь между "Мясоторговлей" и этим обществом? Такая же, как между ним и располагавшейся за другой дверью еще одной лавкой - "Рамки и картины". Дело в том, что нижние помещения этого дома на Арбате, принадлежавшего Обществу русских врачей, арендовали торговцы. Но не только они. На фотографии с помощью лупы читаю над окном второго этажа еще одну надпись - "Классы рисования и живописи". Художникам было тесно: занимали-то они всего небольшую часть второго этажа, но и на этом маленьком пространстве развили бурную деятельность: учились, обсуждали работы, устраивали собрания, выставки, издавали журнал... Верхний, третий, этаж сдавался под квартиры. И только парадный ход с Арбата вел в Общество русских врачей и его аптеку. Их знали многие в Москве.
Много раз менялись вывески на фасаде дома, но одна из них - аптеки на своем месте вот уже второй век... История ее восходит к теперь уже далекому прошлому.
Построил этот кирпичный дом с окнами разной формы по проекту архитектора Р. А. Гедике, отошедшего от привычного для Арбата классицизма, бывший гвардейский офицер А. А. Пороховщиков, прославившийся строительным размахом. На его средства сооружались здание "Славянского базара", известной гостиницы и ресторана, большие жилые дома. По тем временам трехэтажный дом Пороховщикова на Арбате выглядел среди соседних с ним особняков внушительным зданием. Этот новый дом в 1870 году сняло в аренду Общество русских врачей, ставшее широко известным в городе за пять лет до этого, когда оно впервые обосновалось на Арбате, открыв общедоступную лечебницу и аптеку.
Сначала они появились в 200 саженях от дома Пороховщикова, в другом, тоже трехэтажном, частном доме, где внизу фармацевты оборудовали по последнему слову того времени аптеку, а на втором этаже отделали зал. По вечерам в нем собирались для научных заседаний члены Общества русских врачей. Этот зал днем принимал "приходящих больных". Отсюда они расходились по кабинетам врачей разных специальностей. Открытие лечебницы и аптеки было широко отмечено в прессе, отпраздновано по всем канонам тогдашнего этикета: с молебном, окроплением помещений "святой водой" и угощением. То было событие, важное не только для Москвы, но и всей России.
Появлению этого общества предшествовало создание в Белокаменной Общества немецких врачей, имевших тогда в городе свою влиятельную корпорацию. Выходцам из Германии принадлежало и большинство аптек. Возникновение отечественной ассоциации врачей, и особенно ее аптеки, было встречено в штыки влиятельными иностранными врачами и аптекарями. Учредителям Общества русских врачей потребовался не один год усилий, мужество, настойчивость, чтобы доказать свою правоту, разработать и утвердить устав.
В новой лечебнице доктора брали "за совет" небольшую, сравнительно с обычными гонорарами, плату - 20 копеек. Те, кто не имел этих копеек, мог получить помощь бесплатно. Точно так же и аптека выдавала бедным лекарства без денег. Вскоре лечебницу, завоевавшую признание, стали называть Арбатской.
Однако из-за разногласий с хозяином дома врачам пришлось искать себе другое помещение. Причем обязательно нужно было найти помещение для аптеки поблизости, чтобы не возбудить ярость конкурентов, воспринимавших такой переезд как посягательство на свои устоявшиеся доходы.
Несмотря на такое противодействие, Общество русских врачей перевело аптеку и само перебралось в другой дом, а еще через несколько лет, окрепнув финансово, с помощью полученного кредита купило у испытывавшего финансовые трудности Пороховщикова дом и земельный участок на Арбате. Новое здание стоило дорого, его застраховали от огня на 200 тысяч рублей!
Так среди многих строений по Арбату, принадлежавших, как писали в справочниках, "двор", "п. двор", что значило дворянам и почетным дворянам, купцам разных гильдий, здешним храмам, появился собственный дом у Общества русских врачей.
Его устав был утвержден в памятном 1861 году, когда страна искала пути к обновлению, дождавшись освобождения крестьян и отмены крепостного права. Вот тогда московские врачи решили объединиться, чтобы не только сообща решать свои проблемы, но и помогать малоимущим.
У истоков общества стоял известный и чтимый многими московский хирург профессор Федор Иванович Иноземцев. Он первым произвел операцию под эфирным наркозом, основал "Московскую медицинскую газету", первую поликлинику, свершил много других важных в истории отечественной медицины деяний. Вторым основателем общества называют бальнеолога Семена Алексеевича Смирнова, чье имя носит целебная "Смирновская" вода, открытая им среди источников Железноводска. Вокруг них объединились многие врачи.
В Арбатской лечебнице безвозмездно работали врачи разных специальностей. Так, консультантом по хирургии почти 40 лет являлся Эраст Эрастович Клин, работавший главным доктором городской больницы. В его честь был оборудован отличный хирургический кабинет, носивший имя этого врача. В Арбатской лечебнице впервые появилось отделение "для лечения электричеством", ставшее прародителем нынешних физиотерапевтических отделений. В отчете 1909 года, для которого выполнялась упомянутая фотография дома на Арбате, сообщается, что лечебница за годы существования оказала помощь 1 300 000 с лишним больным, причем свыше 50 тысячам из них сделали операции.
Арбат стал колыбелью московской медицинской науки. Общество издавало свою газету, труды, в его среде возникла идея созывать всероссийские съезды врачей и естествоиспытателей, сыгравшие важную роль в развитии отечественной науки. На Арбат приходили с первыми научными докладами молодые врачи, ставшие в будущем гордостью медицины. Здесь начинали путь в науке А. И. Абрикосов, П. А. Герцен и многие другие. За каждым таким именем - школа, ученики, новые методы лечения, тысячи спасенных жизней.
На Арбате стремились расположиться и другие, возникшие позднее, врачебные общества. На углу с Калошиным переулком, в небольшом, сохранившемся до наших дней доме № 33 открылся бесплатный городской родильный приют, появились частные лечебницы и кабинеты. И здесь выявляется интересная, никем еще не отмеченная деталь: Арбат поставил рекорд по числу проживающих в его домах врачей. В 1913 году их насчитывалось 74, а спустя три года, как свидетельствует справочник "Вся Москва", стало 87. Еще больше проживало врачей в арбатских переулках. В то же время художников насчитывалось на этом же пространстве всего человек 15! Вот и выходит, что Арбат к началу XX века стал в первую очередь улицей медиков, а уж потом поэтов и художников, так его прославивших.
В дни первой мировой войны по Арбату шли с музыкой полки, направлявшиеся для погрузки в вагоны на Брянский (Киевский) вокзал. Обратно те, кому повезло, возвращались ранеными. Трамваи их везли на Арбат; на улице и в переулках возникали тогда госпитали, новые лечебницы. И сейчас они встречаются здесь.
Интересно, сохранился ли тот дом, где Общество русских врачей начало свою деятельность на Арбате? Да. Пройдя от аптеки "двести сажен", как отмечал старый справочник, я подошел к началу улицы, к дому, расположенному недалеко от "Праги", под № 4. Он сохранился, как был. В конце прошлого века его купил генерал-майор А. Шанявский и благодаря этому дому сыграл свою роль в истории народного просвещения. Он был завещан городу, что позволило основать народный университет.
УНИВЕРСИТЕТ ШАНЯВСКОГО
Давно уже я заметил, что даже самый обычный и ничем не выделяющийся дом на Арбате непременно хранит память или о замечательных людях, или о поразительных событиях. Не являются исключением из этого правила и стоящие под одним № 4, рядом с "Прагой", два двухэтажных, одинаковых на первый взгляд дома с длинным рядом окон. Только побывав в городском историко-архитектурном архиве и просмотрев там папки с планами и фасадами старых московских домов, я понял, что они появились на улице в разное время и архитектура их прежде была различной. Сначала рядом с угловым домом, где теперь ресторан, построили двухэтажный особняк с шестиколонным портиком в классическом стиле. А рядом, как значится на планах, располагались "каменная двухэтажная лавка" и "каменная двухэтажная ретирада". Принадлежали они одному хозяину, владевшему большим участком земли между Арбатом и Молчановкой.
Когда на месте лавки и ретирады новый владелец соорудил изогнутое, как и улица в этом месте, трехэтажное каменное жилое строение с проездными воротами, его стены сомкнулись со старым особняком, а тот при этом подрос на этаж и сменил классический костюм на практичную городскую одежду, пригодную для повседневности, т. е. для сдачи внаем. В общем-то это было обычным во второй половине XIX века, такие превращения происходили со многими старыми московскими дворцами, усадьбами, приспосабливавшимися к новым временам. Точно так же ничего особенного не было в том, что жена губернского секретаря Авдотья Александровна Лазарик за солидную сумму продала свое владение на Арбате; в деле появляется имя другого владельца жены статского советника Александры Дмитриевны Софоновой. И вот она в один прекрасный день вместе со свидетелями направляется на Тверскую, в контору нотариуса, и в это же время сюда же идет со своими свидетелями генерал-майор в отставке золотопромышленник Альфонс Леонович Шанявский. В конторе была подписана купчая крепость, и Шанявский "был введен во владение" домом на Арбате; это случилось "1887 ноября 16 дня".
С тех пор в течение без малого двадцати лет в деле стали подшиваться прошения к городским властям за подписью А. Л. Шанявского. К тому моменту, когда генерал стал арбатским домовладельцем, у него уже был в Москве собственный дом неподалеку - как записано при составлении купчей крепости, "в Арбатской части, первый участок".
Однако Шанявский, подобно другим вышедшим в отставку военным, не занимался вложением капиталов в недвижимость. Покупал он дом не ради прибыли, не ради приумножения своего состояния. У него была иная цель, известная пока лишь узкому кругу друзей, - создать нового типа университет для народов России.
Достижению этой цели он посвятил всю жизнь, отдал ей все способности, которые проявились у него с ранних лет. Где бы ни занимался Шанявский, он всегда был первым учеником - и в кадетском корпусе, и в Константиновском училище, по случаю окончания которого был награжден серебряным кубком. Выйдя отсюда гвардейским офицером, он снова пошел учиться - в академию Генерального штаба, после чего ему открылась дорога для продвижения по служебной лестнице в Петербурге. Однако из-за климата он был вынужден покинуть берега Невы и отправился служить в Амурский край.
Болезнь заставила Шанявского выйти в отставку в тридцать восемь лет. Он снова отправился в далекий край, но теперь как золотопромышленник. И на этом поприще ему все удавалось. Преуспевающим золотопромышленником поселился генерал в Москве вместе с женой Лидией Алексеевной. Она разделяла его взгляды, как и муж, с молодых лет стремилась сделать все возможное, чтобы содействовать народному просвещению. Так, еще в молодости она пожертвовала 50 тыс. руб. на создание женского врачебного института при военном ведомстве в Петербурге (впоследствии он был закрыт). Шанявский и его жена полагали, что главная причина отсталости страны в невежестве народа, в недостатке образованных людей. Переехав в Москву, они пожертвовали на нужды просвещения 300 тыс. руб., которые были переданы Петербургскому женскому институту. Была у генерала заветная мечта - создать в Москве вольный университет, куда мог бы поступить каждый, независимо от образования, пола, национальности, вероисповедания. Это была смелая и прекрасная идея.
Просматривая дело, где хранятся "планы и фасады" арбатского дома Шанявского, я увидел рисунки неосуществленного проекта. Став хозяином трехэтажных домов на Арбате, генерал решил было их надстроить четвертым этажом и изменить фасады, придав большую выразительность. Мне думается, что предполагалось сделать это не для расширения меблированных комнат, располагавшихся в домах, а для того, чтобы разместить здесь университет.
До открытия университета Шанявскнй не дожил, но сделал для этого все. Страдающий неизлечимым недугом, генерал ведет обширную деловую переписку, проводит совещания, переговоры с Московской думой, желая ей передать свой дом с тем, чтобы на доходы от него был основан "свободный народный университет" с высоким уровнем преподавания. Так Москве был сделан крупный дар. Зная медлительность царской государственной машины и желая, чтобы его цель осуществилась как можно быстрее, Шанявский поставил условие: если первая лекция в университете не будет прочитана в течение трех лет со дня подписания завещания, то капитал должен перейти Петербургскому женскому институту.
И вот я на Арбате у дома Шанявского. Это два средних по размерам здания. Недоумеваю, как могло хватить на содержание университета доходов от них? Войдя под арку дома № 4, вижу еще несколько каменных жилых зданий, а пройдя под вторую дворовую арку - третий ряд бывших домов Шанявского. На плане в этом владении насчитывалось 23 строения, и среди них - свыше десяти жилых зданий в три-четыре этажа. Это было большое владение, как и то, что переходило Москве после кончины жены Шанявского Лидии Алексеевны.
Городская дума благоприятно отнеслась к дару Шанявского. Однако прошение об организации университета чрезвычайно медленно продвигалось по канцеляриям Москвы и Петербурга. Почти три года ушло на преодоление сопротивления министерства просвещения. Только месяц остался организаторам на то, чтобы набрать слушателей и первых преподавателей. Первую лекцию в университете прочел известный филолог профессор Ф. Фортунатов. Это произошло осенью 1908 г., за три дня до истечения срока, установленного в завещании Шанявского. А спустя несколько лет на Миусской площади для университета было сооружено большое здание с вместительными аудиториями, множеством классов для занятий.
Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского стремительно рос. За несколько лет число слушателей в нем сравнялось с числом студентов в Московском университете; в 1915 г. их было 5643! Здесь преподавали лучшие московские профессора.
В 1918 году он слился с Московским университетом.
ДОМ "АРГОНАВТОВ"
Литературная биография Арбата, так блистательно начатая Александром Пушкиным, была продолжена на этой улице многими другими писателями. Рядом с пушкинским домом, ныне возвратившим себе утраченный облик, столь милый сердцу поэта, стоит строение иного вида и масштаба. Такими начала заполняться бурно растущая Москва во второй половине XIX века. По проекту архитектора М. А. Арсеньева владелец участка надстроил старый арбатский особняк, превратив его в многоквартирный дом для сдачи состоятельным жильцам. То было в 1878 году. А через два года у поселившегося здесь профессора Московского университета известного математика Николая Бугаева родился сын, которого назвали Борисом. Он было пошел по стопам отца, поступил, к его радости, в университет на математический факультет.
Впоследствии математические методы Борис Бугаев применил совсем не в той области, где его учили профессора, а разрабатывая теорию ритма стиха и прозы, заложив основы формальной поэтики. Сделано это было впервые. Но прославился не этим.
Оканчивая университет, Борис Бугаев стоял на перепутье, мучительно решая, кем быть: композитором, философом, биологом, литератором, критиком... Стал в начале века Андреем Белым - известным русским поэтом, автором мастерских стихов, поэм, ритмической прозы, автором классического романа "Петербург", написанного в канун первой мировой войны и в 1978 году переизданного с послесловием поэта Павла Антокольского. Он был в числе многих современников Андрея Белого, испытавших на себе сильное потрясение от "замечательного романа". Александр Блок много сделал для того, чтобы этот роман, расшатывавший устои империи, появился в свет. В "Петербурге" Андрей Белый поэтически предсказал грядущую революцию, он был среди тех мастеров русской литературы, кто приветствовал Октябрь.
Хотя Андрей Белый проживал и в Петербурге, уезжал на годы в далекие зарубежные путешествия, он неизменно возвращался в Москву, без которой не мог жить. Созданной после революции дилогии писатель дал название "Москва". Картины жизни города разворачиваются и в его трех томах мемуаров, в автобиографических произведениях. Место их действия Москва, Арбат...
О своем доме на Арбате писатель помнил всю жизнь и не раз о нем писал: здесь родился, вырос, стал поэтом, главой литературного кружка "Аргонавты", собиравшегося в арбатской квартире Андрея Белого. Сюда к нему приходили известные композиторы С. Танеев, Н. Метнер, художники, поэты, критики.
Так же хорошо, как свой дом, знал Андрей Белый всю улицу, владельцев разных заведений, располагавшихся в первых этажах домов, каждый из которых он помнил и по виду и цвету стен, и, конечно же, по событиям, свидетелем которых являлся. Родной улице Андрей Белый посвятил очерк "Старый Арбат", ставший главой книги мемуаров "Начало века", вышедшей в 1934 году, в год его кончины:
"Помнится прежний Арбат: Арбат прошлого, он от Смоленской аптеки вставал полосой двухэтажных домов, то высоких, то низких; у Денежного - дом Рахманова, белый балконный, украшенный лепкой карнизов, приподнятый круглым подобием башенки: три этажа.
В нем родился: в нем двадцать шесть лет проживал..."
Если подойдем к углу Арбата, то увидим на своем месте этот дом № 55. Известен он многим аптекой, она здесь была и в прошлом веке, при Андрее Белом, который описал аптекаря, некоего Иогихеса, готовившего и отпускавшего лекарства за витриной, украшенной разноцветными шарами.
Дом Андрея Белого за минувшие годы подрос на этаж, лишился башни. Сейчас нависают над углом здания три балкона, а прежде, как видно по рисунку фасада 1877 года, был всего один - на втором этаже. (Этот рисунок хранится в городском историко-архитектурном архиве.) Как раз в этой квартире с балконом и жила семья профессора Бугаева. Его сын, почувствовав вдохновенье, летней ночью пододвигал к балкону письменный стол, зажигал свечи и записывал на листы рождавшиеся в ночной тишине поэтические строки.
В квартиру профессора Бугаева приходили многие крупные ученые, профессора Московского университета. Бывал здесь в гостях и Лев Николаевич Толстой. Брал к себе на колени маленького Бориса профессор Андрей Николаевич Бекетов, дедушка Александра Блока...
Сам великий поэт пришел сюда в январе 1904 года с молодой женой. "В морозный пылающий день, - пишет А. Белый, - раздается звонок: меня спрашивают, выхожу я и вижу...
- Блоки".
На другой день поэта принимали члены кружка "Аргонавты". Пришли в этот день на Арбат знаменитые московские поэты Валерий Брюсов и Константин Бальмонт. В тот вечер много было прочитано стихов, много сказано восторженных слов Блоку. Об этом вечере он писал матери: "Кучка людей в черных сюртуках ахают, вскакивают со столов, кричат, что я первый поэт России. Мы уходим в 3-м часу ночи". Если учесть, что среди этой "кучки людей" находились первоклассные поэты Москвы того времени, то такое признание многое значило для молодого поэта.
Александр Блок еще не раз заходил сюда, пришел прощаться, увозя много хороших воспоминаний о Москве, Андрее Белом, относя знакомство с ним к событиям, "особенно сильно повлиявшим" на него.
Квартира профессора Бугаева выходила окнами на Арбат. Напротив располагался дом генерала Старицкого. Как описывает его писатель: "...двухэтажный, оранжево-розовый с кремовым карнизом бордюров и с колониальным магазином..." Дом этот, только без магазина, на своем прежнем месте. Его нынешний номер - 48. Под этим номером - и стоящий рядом угловой особняк, также принадлежавший генералу, надстроившему его в 1878 году третьим этажом. Когда однажды годовалого ребенка, будущего поэта, поднесли к окнам на закате дня, то он, на удивление родителям, неожиданно произнес свое первое слово: "Огонь!" - увидев свет огня, зажигавшегося в колониальной лавке.
Точно так же и другие дома Арбата, расположенные рядом, оставили у писателя в душе след на всю жизнь. О них он мог с полным основанием сказать: "Знавал все!" Память Андрея Белого поразительна. Особенно на цвета, образы. Многим домам дал подробные описания, которые могут пригодиться архитекторам, предполагающим вернуть старинным зданиям их прежний облик.
По этим описаниям, побывав в архиве, я начал отыскивать дома, упомянутые в "Старом Арбате", Это оказалось делом трудным: за век многое изменилось. "Дом Нейдгардта... кисельный и после фисташковый; окна зеркальные; барокко..." - писал Андрей Белый. Дом, принадлежавший Нейдгардту, сохранился под № 44. Долгое время в начале XIX века этот особняк значился на старых планах "обгорелым". С тех пор не раз менял "одежду", стиль, но неизменными оставались его объем, высота. Сравнивая рисунки фасада, хранящиеся в архиве, я увидел, что вместо двух ниш, где прежде красовались скульптуры, появилось два окна, не стало скульптурной группы и над крышей, но дом, как писал Белый, по сей день хранит следы барокко.
Рядом под одним № 42 сохранились два упоминавшихся одноэтажных дома. И они старожилы Арбата: значатся на планах улицы 1822 года во дворе "капитанши Елены Хвощинской". Один из них, очевидно, самый малый на Арбате, всего в три окошка. Соседний с ним более крупный, но тоже одноэтажный особнячок имел прежде выступающий вперед четырехколонный портик. В 80-е годы появилось крыльцо с крышей, тогда же владелица "купеческого брата жена Клавдия Ивановна Усачева" пожелала иметь фасад с пилонами, дошедший до наших дней. (Сейчас оба эти особнячка заняты торгово-выставочным комплексом Грузии.)
В 1880-е годы неподалеку от дома Андрея Белого, на месте, где располагалась камнетесная мастерская, выросло восьмиэтажное, самое высокое на улице здание, большой доходный дом (№ 51). На этот дом красногвардейцы в октябрьские дни 1917 года подняли пулемет, расчищая путь революционным войскам по Арбату к Кремлю. "Единственный дом-большевик победил весь район", - констатировал в очерке "Старый Арбат" писатель, воспев улицу и в прозе, и в стихах, дав яркую картину жизни Арбата, которая длилась четверть века на его глазах.
Но это не единственный очерк об Арбате в русской литературе. В многоэтажном "доме-большевике" получил жилье молодой советский поэт и писатель Николай Зарудин, ставший жителем Москвы после окончания гражданской войны и демобилизации из Красной Армии. В его комнате на паркетном полу навсегда остались следы, прожженные печкой, которой отогревался красногвардейский отряд. Талант Николая Зарудина, замеченный Максимом Горьким, особенно ценил Михаил Пришвин: молодой писатель глубоко знал жизнь леса. Николай Зарудин продолжил традицию, начатую Б. Зайцевым и А. Белым, он также написал очерк, посвященный улице, создав литературную картину Арбата, относящуюся к концу 20-х - началу 30-х годов. Зарудин еще застал в стенах "Праги" аукцион, застал шумный ресторанчик "Арбатский подвальчик", славившийся кутежами прожигателей жизни времен нэпа. На его глазах на месте домишек времен Наполеона выстроили почту (ныне Арбатская АТС) - "простую и трезвую, как геометрический чертеж". Она поднялась там, где Андрей Белый еще видел дом лихого гусара Мишеля Комарова, катавшего по Арбату на лихачах красавицу жену, где-то им похищенную.
Зарудин был свидетелем, как с Арбата исчезли частные магазины и лавки, как перестроили здание Театра Вахтангова, булыжную мостовую сменил асфальт, под землей пошли поезда метро, поверху - автобусы. Появились и новые жильцы - рабфаковцы, студенты, молодые инженеры, окончившие советские институты... "И сама улица, как будто вровень с людьми, стала строже, просторнее, с каждым днем все осмысленней, чище и светлее течет ее жизнь", - заключил Н. Зарудин. Арбат стал таким, каким мы его запомнили до превращения в пешеходную улицу.
ПИСАТЕЛЬ БОРИС ЗАЙЦЕВ
Бурный рост Москвы в начале нашего века затронул Арбат, как никакую другую соседнюю с ним улицу. Надстраивались и ломались старые дома, покрываясь строительными лесами; вместо патриархальной конки загрохотал трамвай; прибавилось народу на улицах, в лавках колониальных товаров появились экзотические гранаты и бананы. Владельцы земельных участков один за другим обращались к городским властям за разрешением о строительстве новых зданий. Так, арбатский купец Чулков в 1901 году построил высотой в четыре этажа кирпичный большой дом бесхитростной архитектуры, протянувшийся тридцатью окнами вдоль Спасопесковского переулка. Потом под эту же высоту и точно под такую же архитектуру подогнал купец стоявший рядом со вновь выстроенным лицом к Арбату свой двухэтажный дом, сдав его новым жильцам.
В очерке "Старый Арбат", написанном много лет спустя после этой строительной горячки, писатель и поэт Андрей Белый среди хорошо ему запомнившихся с детства домов улицы упоминает "дом угловой, двухэтажный, кирпичный, здесь жил доктор Добров; тут сиживал я, разговаривая с Леонидом Андреевым, с Борисом Зайцевым: даже не знали, что можем на воздух взлететь, бомбы делали под полом. Это открылось позднее уже..."
Где все происходило? Сохранился ли "угловой дом"?
Установить место жительства врача в старой Москве проще, чем кого бы то ни было, потому что выходивший в те годы справочник "Вся Москва" содержал раздел, где приводились фамилии и адреса всех частно практикующих врачей. И хотя Андрей Белый не назвал имени и отчества доктора Доброва, найти дом, где он жил, оказалось делом несложным. "Вся Москва" за 1905 год (когда писатели вели свои беседы, располагаясь над конспиративной квартирой, где боевики изготавливали самодельные бомбы, вскоре прогремевшие на баррикадах) подтверждает точность воспоминания Андрея Белого. Оказывается, доктор Филипп Александрович Добров проживал действительно в доме, располагавшемся на углу Арбата и Спасопесковского переулка, принадлежавшем купцу Чулкову.
В памяти Андрея Белого - образы домов, какие виделись они ему в детстве, когда по улице водили его за руку. К тому же времени, как он стал писателем и хаживал в "угловой дом" к доктору Доброву, двухэтажный кирпичный особняк превратился в четырехэтажный дом, образовав вместе с соседним жилым строением, выходившим фасадом в переулок, единое целое, в плане напоминая букву Г. Сюда в те годы знали дорогу многие литераторы. В доме купца Чулкова поселился Борис Зайцев, друг Леонида Андреева, с которым они в то время были неразлучны.
Оба писателя учились в Московском университете, оба начали печататься в московской газете "Курьер". Помощник присяжного поверенного Леонид Андреев выступал на страницах "Курьера" вначале как репортер, затем как автор рассказов. Их заметил Максим Горький, и в один из своих приездов в Москву привел на заседание литературного кружка "Среда" молодого человека с красивым лицом, тихого и молчаливого, одетого в пиджак табачного цвета. То был Леонид Андреев.
А вскоре уже сам Леонид Андреев, как свидетельствует в "Записках писателя" Н. Телешов, привел на заседание "Среды" новичка в форменной студенческой тужурке с золочеными пуговицами.
"Юноша талантливый, - говорил про него Андреев. - Напечатал в "Курьере" хотя всего два рассказа, но ясно, что из него выйдет толк". Этот же эпизод другой участник "Сред", оставивший интересные воспоминания, И. А. Белоусов, описывает несколько иначе, называя в качестве первооткрывателя таланта Бориса Зайцева другого писателя - Александра Серафимовича, автора "Железного потока". Но как бы то ни было, одним членом "Среды" стало больше. В московскую писательскую семью вслед за Леонидом Андреевым вошел Борис Зайцев, поселившись на Арбате неподалеку от дома Андрея Белого. Оба "арбатских" писателя в своих воспоминаниях обрисовали друг друга, причем не сговариваясь, на фоне улицы.
Вот слова Андрея Белого:
"Борис Константинович Зайцев был и мягок, и добр: в его первых рассказах мне виделся дар: студент "Боря", отпустивший себе чеховскую бородку, по окончании курса надел широкополую шляпу, наморщил брови и с крючковатой палкой в руке зашагал по Арбату; и все стали спрашивать:
- Кто?
- Борис Зайцев, писатель..."
А в это же время будущий автор "Петербурга" и "Москвы" виделся Борису Зайцеву в таком виде:
"На московском Арбате, где мы тогда с женой жили, вижу его студентом, в тужурке серой с золотыми пуговицами и фуражке с синим околышем. ...Что-то в революции ему давно нравилось. Он ее предчувствовал, ждал. По Арбату поэт не ходил, а летал, всегда спешил. В баррикадные дни пришлось, однако, ходить с опаской, что вот выскочит из-за угла какой-нибудь черносотенец..."
"Улица: темь, слепые окна на витринах, да бараний тулуп, ставший уже при воротах и озлобленно провожавший глазами прохожего с поднятым воротником.
- Студента - избить!
Таков Арбат; одинокий прохожий - я". Это уже чеканные слова Андрея Белого из его книги "Между двух революций".
Сегодня на углу Арбата и Спасопесковского видишь дом, поменявший свою окраску, но все такой же, какой был в дни революции 1905 года. Тогда квартира молодого писателя стала известна не только литераторам, но и подпольщикам-революционерам. Она служила им явкой, куда они приходили для конспиративных встреч. Как выяснилось позднее, явочная эта квартира находилась под пристальным наблюдением полиции, внедрившей в нее осведомителя. Описывая те бурные дни, Борис Зайцев уточнял, что жил он с женой "в переулке у Арбата в четвертом этаже нового красно-кирпичного дома, довольно просторного и бестолкового. Большая квартира с фонарем, выходившим на улицу, открывала вид на переулок и церковь, купола которой как раз рядом".
Вот по этим словам можно установить, что писатель имел в виду квартиру в крайнем подъезде, что находится дальше от Арбата. На месте и фонарь квартиры, на фасаде дома образующий выступ. Отсюда виден поэтичный Спас на Песках со своей шатровой колокольней и гроздью куполов.
Среди произведений Бориса Зайцева - романов, рассказов, исследований о творчестве Жуковского, Пушкина, Тургенева, Чехова есть и яркий очерк, целиком посвященный Арбату. В нем показана улица с начала века, когда свершились три революции, прогремели мировая и гражданская войны. На глазах писателя впервые на Арбате начали строить дома с сотнями квартир, с газом и электричеством, появились новые магазины, новые мостовые. Вот тогда вырос на углу Арбата и Калошина переулка дом, в чьих нишах "встали" два рыцаря, закованные в латы, охраняя старинную улицу. С образом Арбата в очерке связаны образы двух знаменитых русских поэтов. Один из них "поэт бирюзовоглазый", проносившийся, точно облако, по нечетной стороне Арбата это Андрей Белый. По другой стороне улицы ходил, прихрамывая, "поэт златовласый", приветствуя весну. То был Константин Бальмонт.
Оба они бывали в квартире с фонарем у Зайцева, оба были начинены поэзией. Бальмонт в боковом кармане всегда имел в запасе новые стихи, и, чтобы их услышать, приходилось порой гостям забираться под обеденный стол, крышка которого в глазах капризного поэта в эти минуты превращалась в раскидистую пальму, а ножки стола - в рощи Полинезии. Случалось забираться под стол и тучному Максимилиану Волошину, приходившему вместе с Бальмонтом. Появлялся в стенах этого дома и Павел Муратов, будущий автор трехтомной монографии "Образы Италии", один из тех, кто совершил переворот во взглядах общества на древнее русское живописное искусство. С хозяином квартиры вел беседы знаток античности и русской литературы поэт Вячеслав Иванов, устраивая за чайным столом "симпозион", дружески разбирая первые рассказы Бориса Зайцева.
Такова одна из страниц биографии углового дома с фонарем - дома с явкой на Арбате. И она не последняя...
АТЕЛЬЕ ФОТОХУДОЖНИКА
По адресу Арбат, 40, между двумя кафе расположилась скромная фотография. Дверь стеклянная и тамбур стеклянный, как водится, витрина с портретами. Ничего на первый взгляд примечательного. Быстро выписывается квитанция, еще быстрее делается снимок, кому какой требуется, на разные документы. За день перед массивным треножником, на котором установлен громоздкий аппарат с большим объективом и камерой, похожей на гармошку, проходит тысяча человек. Фотографируются в передней комнате, именуемой съемочным залом. А те немногие, кто желает заказать художественный портрет, проходят в смежную комнату, где господствует капитальный штатив, обремененный еще большим деревянным аппаратом, похожим уже не на гармошку, а на баян, регулируемый по высоте колесом.
Странные на вид аппараты эти - современные, делают их в наши дни в Харькове в ретроспективном стиле. Только прислонившееся к стене высокое напольное зеркало напоминает о том, что студия на Арбате существует давным-давно, после того как появился на улице еще один пятиэтажный доходный дом, где часть первого этажа и просторный подвал в годы первой мировой войны заняло фотоателье. Здесь обосновалась одна из студий "Идеал" преуспевавшего тогда мастера Георгия Биргана. По счету она стала четвертой на Арбате и самой долговечной. Все другие со временем закрылись, а эта действует по сей день.
Известный историк отечественной фотографии Леонид Филиппович Волков-Ланнит сказал мне о фотостудии на Арбате, 40:
- Здесь я бывал у Наппельбаума...
- Да, он работал в этой арбатской фотографии, - подтвердил его слова старейший московский мастер О. Л. Беленький, заведовавший первоклассным фотосалоном на Новом Арбате, где в мраморных хоромах выставлены большие, как картины, насыщенные яркими цветами снимки: портреты, пейзажи, жанровые сцены... Под рукой у мастеров, работающих в этом салоне, современная оптика, море света.
Наппельбаум снимал старой фотокамерой, подсвечивая лампой, даже для его времени - самыми скромными средствами.
Однако именно ему 31 января 1918 года предложили сделать портрет Председателя Ленина. В то время его мало кто знал в лицо. Как пишет Н. К. Крупская: "Вечером мы обыкновенно выходили из Смольного, и никогда никто его не узнавал, потому что тогда портретов не было".
Первый портрет и предстояло создать известному фотохудожнику М. С. Наппельбауму. За 30 лет работы перед объективом его камеры прошли самые известные люди старой России. Идя на съемку с дорожной камерой (размер ее был 24х30, объектив невысокой светосилы 1:7), мастер представлял, что увидит человека, похожего на одного из известных ему героев французской революции, в черном длинном сюртуке, опоясанном красным шарфом, и с кобурой...
Каково же было его удивление, когда к нему вышел поразивший скромностью и доброжелательностью человек. По профессиональной привычке фотограф мысленно начал делать снимки, фиксируя внимание на особенностях внешности и характера. "С первого же мгновения, - писал позднее Наппельбаум, - меня поразила его простота. Ни малейшей позы, ни одного движения, бьющего на эффект. Невысокого роста, широкоплечий, в люстриновом пиджаке, из нагрудного кармана которого торчало "вечное перо", быстрый и четкий в движениях, красиво посаженная голова с большим открытым лбом".
Снимать было чрезвычайно трудно: к Ленину то и дело подходили с вопросами, он подписывал бумаги. Не хватало света. На счастье фотографа, в окна Смольного на короткое время, прорвав облака, заглянули лучи зимнего солнца. Мастер, рискуя недодержкой, поспешил сделать снимки, приподняв руками камеру, чтобы подчеркнуть поразившие его очертания головы. Сумел передать он и ширину плеч, "взяв пластинку по ширине". Одним словом, мастер сделал свое дело, унося с собой несколько пластинок с образом Ленина. В мастерской он выполнил в присущей ему манере два портрета, в двух разных по композиции вариантах. На одном из них Ленин оставил свой автограф, а также сделал приписку: "Очень благодарю товарища Наппельбаума. Ленин".
Утвержденный таким образом снимок был издан как официальный портрет главы правительства. Его размножили массовым тиражом. Так, с помощью фото Россия узнала Ленина в лицо. То был первый камень, уложенный в основание пирамиды - культа вождя.
Хотя после этого Ленина снимали неоднократно, он обычно, когда к нему обращались с просьбой подарить фото, давал портрет, выполненный Наппельбаумом. Председатель ВЦИК Яков Свердлов помог мастеру основать студию в Москве в "Метрополе", где тогда заседал ВЦИК. Здесь, в гостинице, он и жил на одной лестничной площадке с наркомом иностранных дел Г. В. Чичериным.
В студии на Арбате Наппельбаум работал на закате своей долгой жизни, после окончания Отечественной войны. На пенсию ушел в 80 лет. Пока снимал был верен старой камере и лампе в 500 ватт, для которой сделал отражатель. Он говорил детям (а у него четыре дочери и сын): "Все, что делается в жизни, - не пропадет даром". Не счесть, сколько снимков сделал он за 88 лет жизни. Как мне рассказал его сын, отпусков не признавал, жил долгое время в мастерской, работал днем и ночью. Этот титанический труд не пропал даром.
Старый мастер успел увидеть гранки вышедшей в 1958 году своей книги-завещания "От ремесла к искусству", ставшей настольной книгой многих профессионалов и любителей фотографии. В издательстве "Планета" вышла монография о фотохудожнике. В этой книге публикуется 200 лучших портретов М. С. Наппельбаума. В разные годы ему позировали Федор Шаляпин, Александр Блок, Сергей Есенин и многие другие писатели, артисты, ученые...
* * *
После публикации этого очерка в газете я получил письмо москвички Лидии Александровны Шумихиной, которое предлагаю читателям. Оно публикуется с сокращениями.
"...Очерк в "Московской правде" - "Ателье" подтолкнул меня взяться за перо и поведать Вам об одном из эпизодов в моей жизни.
Моему мужу необходимо было сфотографироваться для какого-то документа с выданным ему холодным оружием - саблей, и вот 23 февраля 1949 года (в выходной для военных день) мы отправились с двухлетним сынишкой на Арбат, 40, чтобы сфотографироваться.
Мы заказали три фотоснимка. Один - для документа мужа, один - семейный и один - сына. К нам вышел чернобородый мужчина с удивительно огненными глазами и пригласил пройти в свое помещение. Сделал портрет мужа для документа, сфотографировал нашу семейку, причем прочитал нам лекцию, почему надо усаживаться именно так, а не эдак. Сфотографировал сына. Потом попросил мужа сфотографироваться в такой позе, как тому хотелось, муж не возражал.
Через несколько дней, когда фотографии еще не были готовы, муж заболел, его увезли в госпиталь.
Мне дважды пришлось приезжать в фотостудию, так как снимок сына не получился. Когда снимали сынишку повторно, то на него прикрикнули, и он очень обиделся. Однако снимок получили, был он блестящий, но это я забежала несколько вперед. А тогда, после съемки, долгое время я не интересовалась фотографиями. Но вот однажды мне позвонили по телефону знакомые и сказали, что в витрине фотоателье на Арбате красуется портрет моего мужа. Зная его болезненную скромность, я позвонила в ателье и просила портрет с витрины убрать. Прошло какое-то время, и уже другие друзья сообщили мне, что портрет на месте...
Когда муж вернулся из госпиталя, прошло еще около двух месяцев, наконец мы поехали на Арбат. Портрета в витрине на улице не было, но он красовался внутри помещения. Когда муж попросил убрать его портрет, нам восторженно сказали: "Ведь это же работа самого Наппельбаума!"
Сознаюсь, мы тогда не знали, кто такой Наппельбаум и что он большой мастер. Нам предложили приобрести портрет. Что мы и сделали.
Уже нет на свете мужа, нет Наппельбаума, а портрет с личной подписью мастера украшает мою скромную комнату и восхищает всех, кто его видит.
Очаровательный портрет сына и наше семейное фото также не дают забыть Арбат, 40.
С уважением
Лидия Александровна Шумихина".
"ОДНО ЛИШЬ СЛОВО НУЖНО МНЕ
МОСКВА!"
"Я ею жил и ей живу.
Люблю, как лучший звук, Москву!"
К. Бальмонт
Когда в 1905 году на московских улицах одна за другой росли баррикады, среди рабочих и студентов - тех, кто их воздвигал, можно было видеть уже немолодого, безукоризненно одетого, романтического вида человека с длинными светлыми волосами и рыжеватой бородкой. Его хорошо знали посетители литературных вечеров, любители поэзии. То был поэт Константин Бальмонт. Он казался неутомимым: появлялся на возникавших тогда стихийно уличных митингах, на собраниях, выступал с импровизированных трибун; во дворе университета полицейские не дали ему говорить, стащили с трибуны. От ближайшей баррикады до его квартиры насчитывалось несколько сот метров.
Сутками поэт пропадал на улицах, встречался с Максимом Горьким, достал где-то пистолет и, зарядив его, носил постоянно с собой. ("Позже мама уговорила его подарить это оружие одному дружиннику М. Горького", прокомментировала этот эпизод дочь писателя Н. К. Бальмонт-Бруни, читая очерк.) Многие знакомые поэта поражались, видя известного эпикурейца и эстета в роли бесстрашного революционера. Но это были дни, которых Константин Бальмонт ждал всю свою жизнь.
Началась она в 1867 году в небольшой усадьбе в маленькой деревне Гумнищи, продолжалась в городе Шуе, где Константин Бальмонт учился в гимназии. Из седьмого, выпускного класса его неожиданно, к ужасу семьи, исключили за участие в революционном кружке. С трудом благодаря хлопотам его матери ему удалось закончить гимназический курс. Занимался на юридическом факультете Демидовского лицея, но большую часть времени изучал литературу, историю Великой Французской революции. Виденный им однажды в детстве деревенский обоз родил в нем мечту о братстве людей, "возможности и неизбежности всемирного счастья".
Около года проучился Бальмонт в лицее, и вновь все повторилось: за участие в студенческих беспорядках его арестовали и посадили в Москве в камеру Бутырской тюрьмы, после чего исключили из числа студентов. (Правда, ему удалось на следующий год восстановиться в Московском университете, но учеба уже не пошла.) Так и остался Константин Бальмонт без законченного высшего образования, но это не помешало ему стать одним из образованнейших людей своего времени, человеком, постигшим вершины русской и мировой культуры, для чего он один за другим изучал иностранные языки. Его друг поэт Марина Цветаева заметила, что, владея шестнадцатью языками, он писал на семнадцатом языке - "бальмонтовском".
Постижение науки происходило медленно, в жестокой борьбе с бедностью. "Родная Москва... Здесь, - как вспоминал поэт, - знал я месяцы настоящего голода и годы битвы с переменным успехом". Не сразу стал Константин Бальмонт жителем респектабельного арбатского Большого Толстовского переулка (ныне Карманицкий). Страницы московской газеты "Русские ведомости" за 1890 год сохранили для нас репортерскую заметку под названием "Выбросившийся из окна", рассказывающую, как в порыве отчаяния со второго этажа меблированных комнат "Мадрид", располагавшихся на углу Тверской и Леонтьевского переулка, ринулся вниз с высоты 15 аршин студент Константин Дмитриевич Бальмонт...
Из этого испытания, хотя и пришлось проваляться год на больничной койке, он вышел переродившимся, окрепшим духом. Спасла его поэзия. Первый сборник стихов был сожжен по указанию цензуры. Шаг за шагом Константин Бальмонт завоевывал место под солнцем русской литературы, обратив на себя сначала внимание знатоков, а потом и всей читающей России. Доброе напутствие, укрепившее его веру, дал писатель В. Короленко, поддержал профессор университета Н. Стороженко, доверили переводы известные книгоиздатели Сабашниковы. Молодой поэт обладал поразительной работоспособностью, позволявшей ему не только каждый день творить самому, но и читать других писателей, поэтов, ученых, причем, как правило, на языке оригинала. Вышедшие в начале века в Москве его поэтические сборники "Будем как солнце", "Только любовь" сделали их автора известным. Еще до этого недоучившийся студент получил приглашение прочитать курс лекций о русской литературе в Оксфорде.
В ту пору, когда дела поэта шли в гору, владелица участка земли между Арбатом и Большим Толстовским переулком обратилась к городским властям с просьбой разрешить ей выстроить новый четырехэтажный жилой дом в этом переулке. Вскоре новые кирпичные высокие стены поднялись над переулком, а на фасаде каменщики выложили дату постройки - 1901 год. В этот дом на четвертый этаж и въехал Константин Бальмонт.
Появление такой колоритной фигуры, как Бальмонт, не осталось незамеченным для коренных арбатцев. Андрей Белый отмечает: "Бальмонт, появясь, запорхал по Арбату". Живший поблизости студент университета будущий писатель Борис Зайцев в своих мемуарах сообщает, что проживал поэт в Большом Толстовском переулке, под прямым углом к Спасопесковскому, так что из окон Бальмонта были видны окна квартиры Зайцева.
Придя на описанное место, вижу: оба дома сохранились, но между ними появились другие строения. А когда их не было, то, видимо, тогда Бальмонт говорил, обращаясь к Борису Зайцеву и его жене:
- Хотите, поэт придет к вам, минуя скучные земные тропы, прямо от себя в комнату Бориса по воздуху?..
На всю Москву он прославился своими чудачествами, хождением в пальто и шляпе по лунной дорожке на море, лазанием на деревья для чтения своих "лепестковых стихов"... В то же время каждый день с утра Бальмонт самозабвенно, часами работал. "Я в вечном творческом огне", - писал он. И читал запоем библиотеки, потрясая современников эрудицией, любознательностью, жаждой путешествий. Как никто из русских поэтов, любил дальнюю дорогу.
К моменту поселения на Арбате побывал уже во многих странах Европы, успел съездить в Мексику, увлеченный красотой космогонических мифов ацтеков и майя, которые перевел на русский язык. Очевидно, никто в русской литературе не занимался столь широко переводами, как Бальмонт, пораженный красотой поэзии народов России, стран Европы, Азии, Америки...
Бальмонт с таким же увлечением, как стихи, мог написать "Анализ иероглифической письменности китайцев", он мог анализировать корневой состав китайского языка...
Поэт побывал на всех континентах, кроме Антарктиды, да и то только потому, что при нем туда не было еще дороги, совершил кругосветное путешествие...
Находясь в продолжительных поездках, Бальмонт, по-видимому, не успевал давать о себе сведения в выходивший ежегодно адресный справочник "Вся Москва". Однако книга за 1905 год содержит указание и о нем: "Бальмонт Конст. Дм. Б. Толстовский, д. Нейдгардта, сотрудник журнала "Весы". Следом за ним упоминается "Балтрушайтис Георг. Каз. прапорщ. зап. Остоженка. Дом Общества поощрения трудолюбия. Сотрудник журн. "Весы".
Так, по случайному совпадению на страницах справочника оказались рядом два поэта, два друга: Константин Бальмонт и Юргис (он же Георг) Балтрушайтис, писавший на русском и на литовском языках. В этом же справочнике указаны члены редколлегии журнала "Весы": "Бальмонт К., Брюсов В., Иванов В., Белый Анд., Балтрушайтис Юр.".
Все эти поэты бывали на квартире К. Бальмонта на Арбате. К тому времени поэт находился в центре общественной жизни Москвы. В число его друзей, приятелей, знакомых входили самые известные деятели культуры России. Вместе с Чеховым, Горьким он посетил в Крыму Льва Толстого. Чехов и Горький тепло относились к поэту. Так, Антон Павлович признавался: "Я люблю ваш талант". А Максим Горький, отлично разбиравшийся в людях, характеризовал его такими словами: "Дьявольски интересен и талантлив..."
Однажды имя Бальмонта прогремело на всю Россию. Будучи человеком смелым до безрассудства, он прочел экспромтом обличительное стихотворение "Маленький султан" на вечере в зале коммерческого училища (в Петербурге), имея в виду Николая II, за что подвергся полицейским преследованиям. Эти стихи в прокламациях, изданных социал-демократами, обошли многие города России. "Маленького султана" намеревался опубликовать в "Искре" Ленин, предпослав стихам редакторское примечание.
Вот почему, когда в Москве началась революция 1905 года, вернувшийся из очередного путешествия Бальмонт с головой окунулся в борьбу. Его стихи начали публиковать на страницах большевистской газеты "Новая жизнь". Он писал стихи, воспевая "сознательных, смелых рабочих", их борьбу.
Когда исход восстания стал ясен, опасаясь ареста, Бальмонт эмигрирует из России. За границей выходят его сборники, запрещенные цензурой. Бальмонт в открытую назвал Николая II "висельником", поэтому путь на родину был ему закрыт до объявления всеобщей амнистии в 1913 году. На родине 25-летие его поэтической работы отметили широко. Бальмонт дал интервью многим газетам, где сказал во всеуслышание о своей любви к Москве. Спустя годы, вновь оказавшись на чужбине, он напишет строки, которые являются одним из шедевров русской лирики, посвященных Москве:
Ни Рим, где слава дней еще жива;
Ни имена, чей самый звук - услада,
Песнь Мекки, и Дамаска, и Багдада
Мне не поют заветные слова,
И мне в Париже ничего не надо,
Одно лишь слово нужно мне: Москва!
Поэзия Бальмонта пережила забвение. Интерес к ней пробудился вновь. В Москве вышло "Избранное", большой том стихов и переводов. Составила его племянница - Вера Дмитриевна Бальмонт.
Дочь поэта рассказала мне, что запомнила дом на Арбате, в Большом Толстовском переулке. Сюда, в квартиру на четвертом этаже, приходил Валентин Серов, писавший портрет ее знаменитого отца. В те дни рядом с роялем в гостиной стоял мольберт. Маленькая дочь поэта как-то спряталась под круглым столом, покрытым тяжелой скатертью, чтобы увидеть, как работает художник, но ей не удалось остаться незамеченной, и ее вернули в детскую.
И еще один дом Константина Бальмонта в Москве на Арбате. В годы гражданской войны, разрухи и голода он жил в Большом Николопесковском переулке. Тут сохранился одноэтажный особняк № 15, спрятавшийся за высокой стеной многоэтажного дома на проспекте.
...Когда читаешь лучшие стихи поэта, то будто слышишь мелодию - так музыкальны его строки. На них написано 500 романсов. Их авторы - Танеев, Рахманинов, Гречанинов, Стравинский, Прокофьев, Василенко и многие другие...
"СОВСЕМ ОСОБЫЙ ГОРОД"
"...Здесь в старых переулках за
Арбатом совсем особый город..."
И. Бунин. В Москве
Свернуть с Арбата - значит попасть в лабиринт переулков, откуда быстро не выбраться. Да и стоит ли спешить? Ведь это заповедная зона, где живут москвичи, привыкшие давным-давно к тому, что их соседями были Герцен, Аксаков, Лев Толстой...
Перечислять великие имена можно долго; так вышло, что в этих переулках жили многие писатели, ученые, художники, артисты - гордость русской культуры. Первым от Арбата сворачивает Малый Афанасьевский переулок, с ним в паре - Большой Афанасьевский. Сохранилась церковь Афанасия и Кирилла, которая является памятником русской архитектуры. Впервые она упоминается в середине XVI века, после пожара 1812 года ее перестроили в классическом стиле...
Вблизи - постройка 30-х годов XVIII века, каменные палаты.
Это редчайший памятник. Подобные типовые, или, как тогда говорили, образцовые, дома сооружались в то время в новой столице. Как известно, Петр I запретил везде, кроме Петербурга, строить из камня. После его смерти этот запрет, как видим, в Москве был нарушен... Палаты красят желтой краской, а кирпичные детали - белой. Такими они были в прошлом: следы желто-белой краски найдены на стенах... Кстати, построены они на основании еще более древнем - XVII века.
Многие здания в арбатских переулках стоят тут полтора-два века, есть и более старые. Одно из них датируется точно - 1688 годом. Это крохотная приходская церковь Филиппа-митрополита. Даже колокольня у нее приземистая, и заметить ее можно, лишь когда оказываешься рядом. На ее древних стенах установлена мемориальная доска: "Охраняется государством".
Писатель Сергей Тимофеевич Аксаков летом с семьей жил за городом, а на зиму возвращался в Москву. Многие аксаковские адреса - в районе Арбата, в Большом Афанасьевском его дом № 12, типичный московский особняк с мезонином. Сюда к Аксакову в 1832 году привезли для знакомства "безвестного и не доверяющего себе автора". Так характеризовал себя двадцатитрехлетний творец "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Отсюда Аксаков и Гоголь прошли в другой арбатский переулок - к М. Н. Загоскину, директору московских театров. Гоголь уже тогда мечтал написать пьесу. По дороге Аксаков заметил в разговоре, что "у нас писать не о чем".
"Гоголь посмотрел на меня как-то значительно, - вспоминал потом Аксаков, - и сказал, что неправда, что комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим". Он его видел и написал "Ревизора"...
Гостеприимный аксаковский дом долгое время был центром притяжения артистов, писателей, ученых... Другой такой центр - дом № 8. Это домик с мезонином, только в два окна. Тут собирался замечательный "кружок Станкевича", описанный Герценом в "Былом и думах", Тургеневым - в "Рудине"...
Николай Станкевич прожил всего 27 лет и угас от чахотки. Он не оставил ни одного законченного философского сочинения, однако имя его стоит в ряду выдающихся мыслителей России начала XIX века. Он воздействовал на В. Г. Белинского, М. А. Бакунина и многих других... "Его влияние на нас было бесконечно и благотворно" - так определил роль Станкевича в формировании своего мировоззрения историк Т. Н. Граневский. Молодой философ обладал способностью находить и притягивать к себе талантливых людей. Мы обязаны ему тем, что он открыл в безвестном прасоле прекрасного поэта А. В. Кольцова, выпустил первую книгу его стихов...
"В кружке Станкевича, - как писал Герцен, - одни забывали свое богатство, другие - свою бедность и шли, не останавливаясь, к разрешению теоретических вопросов... До рассвета длились беседы, споры, чаепития за большим самоваром, до утра горели свечи в окнах дома, где превыше всего был "интерес истины, интерес науки, интерес искусства".
Подхожу к подъезду. Нажимаю кнопку звонка. "Простите, не в этом ли доме жил Станкевич?" Вопрос не застает врасплох. "Здесь, в мезонине", отвечает хозяин квартиры и приглашает в дом. В комнате отлично сохранился художественной работы потолок, сделанный из папье-маше. Выглядит так, будто это резьба по камню.
- Добронравов, актер кино. Снимался давно, в "Зигмунде Колосовском", "Много шума из ничего" и многих других картинах. Родился еще в прошлом веке.
Я было подумал, что артист больше не выступает, но ошибся. Он пригласил меня в Театр-студию киноактера на премьеру пьесы Метерлинка "Чудо св. Антония", где Добронравов играл роль незрячего старика. С радостью принял приглашение артиста. Такие, как он, из века в век проносят эстафету русского искусства.
За школой, в глубине двора в окружении деревьев стоит старинная каменная постройка. "Вышедший в люди" бывший крепостной Андрей Андреев соорудил этот дом и мастерские для двух сыновей и двух дочерей. Все они учились в Строгановском училище, все предпочли искусство профессии отца, как это не раз бывало в московских купеческих семьях. Один из Андреевых, Николай, здесь, в мастерской, создавал свою знаменитую Лениниану.
Николай Андреев не считал, что века должны дорисовать портрет Ленина. Скульптор всюду искал встреч с ним, не пропускал собраний, где выступал Ильич, и рисовал его. А потом добился разрешения работать в кремлевском кабинете. "Никакому другому художнику не было дано столь близко и долго изучать Владимира Ильича", - писал мастер. Он проложил дорогу Меркулову, Манзеру, Томскому, Кербелю, всем, кто творил культ Ленина.
В этой мастерской скульптор работал, как гласит мемориальная доска, с 1900 по 1932 год. До дня кончины. В этой же мастерской выполнены и памятники Гоголю, Островскому, Герцену, Огареву, доктору Гаазу - они теперь украшают Москву.
В мастерских Андреевых работают скульпторы. Андрей Древин создал здесь для Москвы памятник баснописцу И. А. Крылову: его установили на Патриарших прудах... Захожу в светлую комнату, где работают скульпторы Глеб-Никита Лавинский и Августина Петрова. Руки мастеров в глине. Вижу, как создается бюст академика, дважды Героя Виктора Ивановича Кузнецова. Его установят на родине героя, в Москве. Как сообщает Большая советская энциклопедия, этот выдающийся ученый "в области прикладной механики и автоматического управления разработал теорию и создал ряд уникальных приборов и систем".
Стоит скульптура Владимира Маяковского в рост. В детстве Лавинский часто видел Владимира Владимировича у себя в доме, в гостях у родителей.
Застаю в мастерской мальчика, родственника художников. Он учится, копирует голову античной работы. Так из поколения в поколение передается эстафета культуры, традиций, мастерства.
МАЛАЯ МОЛЧАНОВКА, 2
Когда проходишь по проспекту - Новый Арбат - рядом с Домом книги, то в промежутке между ним и высотным зданием на мгновение показывается фасад крохотного дома с мезонином. На его уличном фонаре надпись: "Малая Молчановка, 2". Под окошками мезонина установлена красного порфира мемориальная доска, а на ней надпись: "В этом доме Михаил Юрьевич Лермонтов прожил с 1830 по 1832 год".
Родился Михаил Юрьевич Лермонтов в доме на вершине одного из московских холмов - там, где сейчас высотный дом на площади, носящей имя поэта. Неподалеку в сквере установлен памятник великому поэту, который любил Москву, считал ее своей родиной. От лермонтовских времен на площади ничего не осталось: ни Красных ворот, ни маленьких домов; даже стоявший напротив Запасной дворец надстроен и стал частью комплекса зданий Министерства путей сообщения. У Красных ворот семья Лермонтова жила недолго.
Почувствовал себя москвичом Лермонтов на Молчановке. Вот почему местность эта считается лермонтовской. Не так давно еще можно было увидеть на Большой Молчановке в перестроенном виде дома начала XIX века, где жили друзья поэта, куда он часто наведывался. Этих строений больше нет. Сохранился только единственный лермонтовский дом - № 2, который расстался со своими последними хозяевами. После их отъезда начались реставрационные работы. А после этого здесь поселился навечно Лермонтов...
На первом этаже под мезонином 11 окон. Если мысленно отбросить два из них (те, что слева), а кроме того, боковую дверь справа, то строение будет выглядеть примерно таким, каким оно было прежде, когда его сняла Е. А. Арсеньева - бабушка поэта. В доме было шесть комнат на первом этаже и две в мезонине. Как установила архитектор М. В. Фехнер, постройка относится к 1816-1817 годам; была она типичным маленьким особняком, дощатым, неоштукатуренным...
Дом с мезонином исправно послужил москвичам. После революции в нем находился детский дом "Перекоп", потом въехали жильцы. Я побывал здесь, когда в мезонине еще была на двери табличка с надписью: "Квартира № 16". Над крышей торчало несколько телевизионных антенн. На верхних окнах еще были не сняты занавески.
...Нажимаю звонок, тотчас распахивается форточка, и в ней появляется лицо юноши. От неожиданности становится не по себе: вот так, наверное, выглядывал из маленького окошка студент Лермонтов...
По скрипучей деревянной лестнице поднимаюсь осторожно в мезонин и попадаю в комнату, залитую светом. Так оказываюсь гостем готовящейся к переезду семьи. Хозяйка - Надежда Борисовна Крюкова - усаживает за старинный столик и рассказывает, что на Молчановке прожила свыше полувека. Она и ее муж, композитор Владимир Крюков, получили тут квартиру в 1922 году. С тех пор выросли дети, внуки...
Сюда не раз приходили ученые, лермонтоведы, бывал Ираклий Андроников. А теперь вот после выселения жильцов будет организован музей, и скоро смогут прийти все, кто любит Лермонтова.
Что сохранилось в доме? Хозяйка проводит на первый этаж. В одной комнате вижу очаровательный камин в оправе из черно-синего камня. Есть еще старинная заслонка художественной работы - чугунная, литая. На ней фигурки двух крестьянских ребят в лаптях. Один другого везет на санках. Заслонка как раз на той печи, что обогревала мезонин, комнату Лермонтова.
В мезонин ведет лестница. Сохранились, не все правда, деревянные ножки перил. Вот и все, что осталось от далекого прошлого в пустом доме. Теперь он наполнился картинами, книгами, предметами исчезнувшего быта, как это произошло на Сивцевом Вражке - в доме Герцена, на Никитском бульваре - в комнатах Гоголя. Они недавно тоже были пустыми.
На мемориальной доске первая дата - 1830 год. Тогда весной Лермонтов ушел из пансиона, по приказу Николая I преобразованного в обычную гимназию, где учеников могли наказывать розгами... Кончилось детство, началась быстротечная юность, пришла большая любовь к загадочной Н. Ф. И.
В комнате Лермонтова, как пишут исследователи, стояли деревянная кровать, письменный стол, шкаф с книгами, глобус, висела географическая карта, гравюры. Обстановка - обычная для студенческой комнаты. Лермонтов в те годы становится студентом университета. На полке стояло много книг, и среди них - Пушкин, Байрон, Шекспир, Шиллер... А на столе - конспекты лекций, чернильница-песочница, гусиное перо и тетради, куда записывал поэт стихи. Свыше 100 из них написаны в те годы.
Из окон маленького мезонина на улице, утопающей в садах, поэт видел всю Россию. Глядя на заснеженную Москву из этих окон, он писал в новогоднее утро:
Как солнце зимнее прекрасно,
Когда, бродя меж серых туч,
На белые снеги напрасно
Оно кидает слабый луч!..
О чем думал и мечтал жилец этой комнаты - все запечатлелось в прозаических и стихотворных строчках тетрадей, заполненных в те дни, когда поэт жил в Москве. "Там жизнь скучна, когда боренья нет", - восклицал он в пятнадцать лет.
Сюда в мезонин прилетал в минуты вдохновения Демон, сюда являлся Мцыри: "Написать записки молодого монаха 17 лет", - решает Лермонтов летом 1831 года. Первые строчки - "Печальный Демон, дух изгнанья..." - появились на белом листе бумаги в начале 1830 года...
В комнате стояло пианино. Над Молчановкой разносились звуки, вырывавшиеся из окон. Лермонтов любил петь, играть на пианино, скрипке, рисовать...
Известно двенадцать его картин. Четыре из них - с видами Кавказа - в зале Литературного музея. Тут можно увидеть немногие книги и журналы с произведениями поэта, которые успели выйти при жизни Михаила Юрьевича. Их дополняют списки его стихов, сделанные современниками. Трудно оторваться от акварельных рисунков Лермонтова. В овале - автопортрет. На нас смотрит одетый в мохнатую бурку молодой офицер, такой молодой, что выглядит мальчиком...
Все эти реликвии получили новый адрес - Малая Молчановка, 2, где создан музей поэта. В комнатах дома хватило места и для картин, рисунков, где изображены мать, отец, бабушка, друзья...
Кто любит Лермонтова, кто хранит вещи, связанные с его именем, не раз придут сюда, чтобы принести их в дар поэту.
"ДОМИК МАЛЫЙ"
В истории русской культуры маленький отрезок московской земли Гагаринский переулок - можно считать проспектом: по нему проходили Пушкин, Лев Толстой, Бунин... И каждый оставил об этом незабываемые слова.
Сначала об архитектуре. Угловой дом № 2 украшен белокаменными резными колоннами той же формы, что у Большого Кремлевского дворца в Кремле. Далее виднеется нащокинский дом. На его фасаде - мемориальная доска: здесь у П. В. Нащокина Александр Сергеевич Пушкин останавливался в 1831 - 1832 годах.
Приехав тогда в Москву, поэт не застал друга на старой квартире, насилу отыскал его у "Пречистенских ворот в доме Ильинской". То был как раз этот дом. К Нащокину, который часто менял квартиры и справлял новоселье, и к его дому можно отнести строки А. С. Пушкина:
"Ты счастлив: ты свой домик малый,
Обычай мудрости храня,
От злых забот и лени вялой
Застраховал, как от огня."
Обстановку дома Нащокина поэт подробно обрисовал в письме к жене: "С утра до вечера у него разные народы: игроки, цыгане, отставные гусары, студенты, стряпчие, шпионы, особенно заимодавцы. Всем вольный ход. Всем до него нужда..."
Другой замечательный арбатский "домик малый" - на углу Хрущевского переулка. В этом месте несколько особняков, которые являются пушкинскими современниками. Одноэтажный дощатый дом № 10 - это бывший пансион, где учился Иван Сергеевич Тургенев. А жил он одно время напротив - в доме № 15. Стены дома № 10 украшают медальоны, виньетка, непременный портик, колонны. Особняк появился в переулке в 1814 году, когда местность эта бурно застраивалась после пожара 1812 года.
Построил дом барон Владимир Иванович Штейнгель, декабрист, ополченец в дни Отечественной войны, участник заграничного похода русской армии. Вернувшись после окончания войны в Москву, он стал служить в канцелярии губернатора. В его обязанности входило рассматривать проекты застройки столицы. Москва обязана ему, в частности, тем, что были сохранены от сноса многие бесценные памятники Кремля. "...Сколько сделано бароном Штейнгелем по сохранению и обновлению столицы нашей, сколько сберег он древности, преследуемый дерзостными, насмешливыми, обуянными злом людьми, не чтущими того, что сохранить надобно для Отечества", - так писал о Штейнгеле, когда тот впал в немилость и был отстранен от должности, знавший его по службе архитектор Ф. К. Соколов. Восстание на Сенатской площади барон Штейнгель встретил, когда ему было свыше 40 лет.
Почти век спустя особняк этот волновал душу Ивана Бунина, который, как и многие другие писатели, ученые, часто бывал здесь в гостях у Елизаветы Лопатиной, дочери хозяина дома, где проходили известные лопатинские "среды". В зале этого дома впервые состоялось исполнение пьесы "Плоды просвещения" Льва Толстого. Он также часто бывал здесь. Бунин написал об этом особняке поразительные слова: "Мне нравился переулок, дом, где они жили, приятно было бывать в доме. Но это было не то, что влюбляются в дом от того, что в нем живет любимая девушка, и как это часто бывает, а наоборот. Она мне нравилась, потому что нравился дом". Наверное, поэтому Бунин поселился в соседнем, Хрущевском переулке, в доме № 5, в меблированных комнатах. Узнал я обо всем этом у жившего здесь около 60 лет краеведа Юрия Борисовича Шмарова, написавшего исследование о доме Штейнгеля - Лопатина...
Есть в переулке еще один деревянный одноэтажный "домик малый" - № 25. Насколько он мал, настолько велика его биография. После многих лет каторги и ссылки в нем жил бывший корнет кавалергардского полка декабрист Петр Николаевич Свистунов. Член Северного и Южного обществ декабристов, он был приговорен к двадцати годам каторжных работ. Ему суждено было прожить долгую жизнь и уйти из нее последним из декабристов...
Петр Николаевич прекрасно играл на виолончели и устраивал музыкальные вечера, которые посещали Чайковский и другие известные музыканты. Бывал тут и Лев Толстой в ту пору, когда собирал материалы для романа о декабристах. "Поехал к Свистунову... и просидел с ним четыре часа, - писал Л. Н. Толстой, - слушая прелестные рассказы его и другого декабриста - Беляева". После этих встреч между писателем и декабристами завязалась переписка. Лев Толстой признался Свистунову, что беседы с декабристами поднимали его "на такую высоту чувства, которая очень редко встречается в жизни и всегда глубоко его трогает".
Этот "домик малый" вместил столько истории, что ее хватило бы на многих. В его стенах свыше 30 лет жил Алексей Викторович Щусев, строитель Мавзолея Ленина,Казанского вокзала, станции метро "Комсомольская"-кольцевая, гостиницы "Москва". Архитектор поселился здесь в 1913 году, приехав в "первопрестольную" для строительства "ворот на Восток" - крупнейшего Казанского вокзала, проект которого он разработал. К этому времени Щусев уже был известным мастером. Особняк его стал притягательным центром для многих; сюда приходили не только архитекторы, но и художники, артисты, писатели, ученые. Ночи напролет просиживали здесь зодчий и его друзья, обсуждая пути развития архитектуры, планы строительства новой Москвы.
После смерти Ленина в полночь Щусева вызвали в Колонный зал Дома союзов и поручили срочное задание - спроектировать временный деревянный мавзолей. В лютую январскую стужу долго ходил он тогда по притихшей заснеженной Красной площади, где ему суждено было воздвигнуть величайшее архитектурное сооружение. В 11 часов утра Алексей Викторович мог сказать:
- У нас в зодчестве вечен куб. От куба идет все многообразие архитектурного творчества. Позвольте и мавзолей, который мы будем сейчас воздвигать в память Владимира Ильича, сделать производным с куба. Я представляю себе нечто подобное, - и он быстро, как вспоминал Бонч-Бруевич, набросал карандашом тот проект мавзолея, который в разработанном виде был утвержден...
Архитектор работал не только в мастерской, но и дома. Здесь создавались многие щусевские проекты для Москвы, Тбилиси, Ташкента и других городов.
Зодчий жил в стенах, хранящих фрагменты классических деталей. Резные двери. Анфилада комнат. Высокие окна выходят в тихий переулок.
ГАГАРИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 4
Как подсчитали специалисты, Александр Сергеевич Пушкин после возвращения из ссылки приезжал в Москву шестнадцать раз. Своя квартира несколько месяцев была у него однажды на Арбате, обычно же он останавливался в гостиницах или у друзей. Последние годы жизни пристанищем для него был дом Павла Воиновича Нащокина.
Пушкин мог часами слушать лучшего друга, "забалтывался" с ним до глубокой ночи, смеялся шуткам и рассказам Павла Воиновича. Они оставили след в русской литературе. Один из рассказов Нащокина о том, как он, влюбившись в актрису Асенкову, поступил к ней в горничные, переодевшись для этого в женское платье, был использован Пушкиным, как известно, в "Домике в Коломне". А другой устный рассказ Павла Воиновича о помещике Островском, ставшем разбойником, каждому теперь знаком по пушкинской повести "Дубровский"...
У Пушкина было в Москве множество знакомых, но "любит меня один Нащокин", считал поэт. У гостеприимного Нащокина он прожил много дней. Нащокинский дом - это, по сути, пушкинский дом. Вот почему на двух особняках, занимаемых Нащокиным, установлены мемориальные доски. Одна из них - на доме в Воротниковском переулке. Отсюда Пушкин уехал в последний раз из Москвы. Другая - на доме у Сивцева Вражка, в Гагаринском переулке.
Одно время дом так обветшал, что, казалось, стенам не под силу удерживать даже камень мемориальной доски. Угол постройки подпирало бревно, осыпалась штукатурка. Теперь солнце освещает новенькие стены, отражается в зеркале оцинкованной крыши, пытаясь заглянуть внутрь комнат. Весь дом покоится на железной раме из балок: она предохранит постройку от трещин, а если придется расширять улицу, то по ней дом-памятник передвинут в глубь двора.
Вначале свою работу мне показал каменщик-реставратор Петр Сазонов. Провел по анфиладе комнат первого этажа, потом по второму этажу - такой же анфиладе комнат, только более высоких. Дом кажется небольшим, когда смотришь на него с улицы, где высятся многоэтажные здания. На самом деле особняк не так уж и мал. По фасаду протянулись в два ряда 11 окон. На каждом этаже с десяток помещений. Даже хватило места, чтобы устроить конференц-зал. Нынешний хозяин нащокинского дома - Общество охраны памятников истории и культуры.
До реставрации верхний этаж был деревянным, а теперь его выложили из кирпича. Фасад оштукатурен, покрашен желтой краской и внешне снова стал таким, каким был 150 лет назад. Встали по сторонам дверей деревянные колонны. Их сделали по образцу тех, что нашли в доме.
Галина Быкова, руководитель группы архитекторов, возвративших дому его прежний облик, показала рисунки дверей. На наше счастье, сохранилась одна из них, точнее, две ее половины. По сторонам дверей стояли маленькие колонны, а вверху - застекленная арка. Такой красивый вход вел и в светлую, уютную боковую юго-восточную комнату. Она отводилась желанному гостю Пушкину.
"Очень теплый дом" - так говорят жильцы, прожившие в нем десятки лет.
Пушкину тут было хорошо. В морозные дни друзья вели задушевные беседы, согреваясь теплом кафельных печей. Их выложили из белого кафеля, частично сохранившегося.
Какими были комнаты, можно представить по случайно дошедшим до нас фрагментам. Сохранилась и полная, развернутая картина со множеством мельчайших подробностей, созданная самим хозяином дома.
Павел Воинович был увлекающимся человеком: он увлекался Английским клубом, алхимией, цыганским пением... То он швырял деньгами, то нуждался, и тогда ему приходилось топить печи мебелью красного дерева... Среди прочих его странностей особенно выделяли одну: Нащокин, как сказано в одной из старых книг, "затратил десятки тысяч рублей, чтобы соорудить двухаршинную игрушку - нащокинский домик...".
Игрушка эта воспроизводила комнаты со всей обстановкой, какими они были в дни жизни Александра Сергеевича Пушкина. Эта, как казалось многим, "барская причуда" обернулась изумительным памятником пушкинской поры, объемной картиной, выполненной с научной точностью.
В домике этом все так, как было в 30-е годы XIX века, только в уменьшенном виде. По комнатам расставлена мебель, развешаны картины. Стоит рояль, видна посуда, подсвечники. На серебряном самоваре, чайнике обозначены даты - 1831-1834 годы...
"...Что за подсвечники, что за сервиз! - восхищался Пушкин, описывая домик Нащокина в письме к жене, - он заказал фортепьяно, на котором можно будет играть пауку..."
Длина инструмента 50 сантиметров, высота 18.
В другом письме Александр Сергеевич отмечал: "Домик Нащокина доведен до совершенства - недостает только живых человечков!"
Затем появились и они - для друга Нащокину было ничего не жалко. Петербургский фарфоровый завод по заказу Павла Воиновича создал миниатюрные статуэтки Пушкина, Гоголя, Нащокина...
У этого игрушечного домика судьба такова. Однажды Павел Воинович заложил его и не смог выкупить. Домик надолго исчез и обнаружился лишь в начале XX века. Купили реликвию художники братья Галяшкины, которые отреставрировали его и выставили для всеобщего обозрения. В конце концов нащокинский домик попал в музей в бывшее Царское Село - город Пушкин.
А в Москве у Сивцева Вражка восстановлен подлинный нащокинский дом. Появилась еще одна возможность по оставленной нам Нащокиным модели воссоздать обстановку пушкинской поры в стенах этого дома...
Об этом мечтал Павел Воинович Нащокин, когда не жалел десятки тысяч рублей на обстановку игрушечного дома. Да был ли он игрушкой?
ГОЛИЦЫНСКИЙ ПОДВАЛ
По сторонам Арбата петляет множество переулков, их такое обилие, что даже старожилы не помнят все. Дюжина улочек находится между старым и новым Арбатом. А прежде, до появления Нового Арбата, этот арбатский лабиринт был еще запутаннее. Не стало Собачьей площадки и Собачьего переулка, где когда-то стоял "псаренный двор". Совсем недавно исчез Большой Каковинский переулок... Для тех, кто пишет об Арбате, сложность не столько в том, что переулков много. В конце концов их обойти можно - если не за день, то за неделю. Трудность другого рода, возникающая всегда, когда касаешься общеизвестного, всем близкого места.
До последнего времени в обилии песен, поэтических признаний в любви к старому Арбату не было недостатка. Не хватало другого - реальной, прозаической заботы о старых переулках. А ведь старое - будь то человек или дом - требует всегда больше внимания. Хирургическая операция, произведенная здесь в начале 60-х годов, когда переулки оказались разрезаны новой магистралью, по всей видимости была неизбежна. Москве требовался новый широкий путь к новостройкам на западных окраинах столицы.
Сегодня на Арбате не прокладывают новых трасс, не возводят высоких домов, хотя реконструкция продолжается. На каждом шагу встречаешь стройку. Однако теперь архитекторы и строители, к радости москвичей, не оперируют. Они заняты терапией, кропотливым, длительным лечением старинных зданий.
В маленьких переулках уместились сотни зданий. Одни из них появились до пожара Москвы 1812 года, другие - в конце XIX, в начале XX века. Шестиэтажных жилых строений тут, оказывается, очень много. У них толстые стены, высокие потолки, просторные комнаты... До революции они считались доходными домами, так как сооружались владельцами для сдачи внаем. Теперь эти здания называют опорными. Сносить их не собираются, они послужат еще долго, но для этого надо нынешние коммунальные квартиры перепланировать, переделать так, чтобы в них со всеми удобствами могли жить отдельные семьи.
Однако, как ни внушительны, добротны опорные дома (из них, например, состоят весь Малый Каковинский, Карманицкий, Трубниковский переулки), не они придали арбатским улочкам очарование. Исходит оно совсем от других строений, порой одноэтажных, тех, что появились тут после победы над Наполеоном. На сожженной грандиозным московским пожаром, посыпанной пеплом земле, как в сказке, вырос тогда новый город. Вернувшийся из народного ополчения архитектор Осип Бове поступил в Комиссию строений и двадцать лет занимался тем, что отстраивал Москву в неоклассическом стиле. Его называют также стилем позднего классицизма, или ампиром. Это стиль, рожденный победой 1812 года.
Произошло тогда удивительное. Простой бревенчатый сруб, покрытый дранкой и штукатуркой, под рукой Осипа Бове и его помощников превращался в архитектурный шедевр. К срубу часто прибавляли крыльцо с колоннами и фронтоном, оштукатуренные стены украшали лепниной. Все эти постройки, кем бы они ни осуществлялись, проводились под контролем комиссии, жестко определившей многие требования: типы зданий, этажность и многое другое. Так типовое, породнившись с индивидуальным, дало Москве множество прекрасных зданий.
Вот такой двухэтажный дом в стиле ампир стоит пока одиноко на углу Рещикова переулка и Садового кольца.
Переулки вливаются в маленькую площадь, куда, попав однажды, хочется прийти много раз. Называется она по-арбатски - площадка. Тихая, обстроенная особняками и домами, с крохотным сквером, где уютно и старым и малым. Это московская реликвия - Снасопесковская площадка.
Каждый, кто видел картину "Московский дворик" художника Василия Дмитриевича Поленова, запомнил изображенный на ней храм Спаса на Песках с шатровой колокольней, арочную колоннаду стоящего рядом с ним особняка. Они и по сей день украшают площадку, чьи постройки, как подтверждают специалисты, действительно возводились на песчаной земле. Отсюда и название здешних переулков - Спасопесковский, Николопесковский.
Дом № 6, который изображен художником, - начала XIX века. Вблизи него стоят редкостные белокаменные ворота, они на век старше. Их сосед прелестный, палевого цвета шестиколонный особняк с портиком. Рядом желтого цвета дом классической архитектуры. Оттеняет их красоту каким-то образом сохранившийся простой дощатый одноэтажный домик, покрашенный масляной краской.
Кроме ампирных особняков и доходных домов, которые толщью стен соперничают с палатами допетровских времен, в арбатских переулках и множество бесформенных строений. Среди запутанных дворов громоздятся кирпичные пожарные стены брандмауэров. Крохотные пятачки земли с доморощенной оградой вокруг одиноких деревьев представляют остатки росших тут некогда пышных садов...
В Трубниковском переулке встречаешь и маленькие дома с мезонином, и массивные доходные дома, облицованные бетонной крошкой. На фасаде одного из них - орлы и львиные морды. Беломраморная доска сообщает, что дом № 19 построил в 1912 году архитектор Павел Петрович Малиновский. В тесных арбатских переулках зодчий сумел построить большой каменный дом так, что даже во внутренний двор попадает солнце. Свет проникает и в боковые проезды, для этого архитектор устроил проемы, улавливающие свет. В замкнутом пространстве двора часто проходят киносъемки. Вестибюль дома украшен мраморными колоннами, люстрами.
Под домом великолепные сводчатые подвалы, высокие, просторные, где поддерживается постоянная температура. Здесь хранятся 90 бутов - больших деревянных дубовых винных бочек, на 8 тысяч литров каждая. Побывать здесь сегодня - значит увидеть классическое, традиционное русское виноделие. С давних времен везут сюда вина из Массандры, Абрау-Дюрсо. Строились подвалы, как и дом, для удельного ведомства, где в свое время управлением виноделия руководил князь Лев Сергеевич Голицын, человек легендарный. Был он магистр римского права, окончил Сорбонну и Московский университет. Ходил в мужицком армяке. Рядом с титулом "князь" писал: "Винодел". Он основал отечественное виноделие, прорубил для него окно в мир. Главным виноделом в подвалах дома в Трубниковском переулке работал его ученик Иван Михайлович Андрущенко, поэт виноделия, спасший в годы гражданской войны массандровские подвалы. Бережно хранят тут его фотографию, где он снят за столом с подсвечниками. Огонь свечи помогал дегустатору определять прозрачность вина.
Давно уже в подвале горит электрический свет, появились различные новшества, но дубовые бочки не заменяют бетонными, металлическими.
- Этот цех мы бережем как реликвию, - говорил мне известный винодел Владимир Шелудяков. - Это наша история, тут можно увидеть прошлое виноделия. Если мы прекратим тут работу (а надо сказать, что качество вина в дубовых бочках отличное), то и тогда сохраним эти подвалы как музей.
В Трубниковском переулке жил художник Василий Дмитриевич Поленов. Отсюда близко до Спасопесковской площадки, чей вид вдохновил его на создание "Московского дворика". Среди учеников Поленова был Левитан. "Ты, конечно, имел наибольшее значение в деле моего художественного воспитания", - писал Поленову другой его ученик, пейзажист Илья Семенович Остроухов, собиратель и знаток древнерусского искусства, много сделавший для процветания Третьяковской галереи. И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Г. Перов и многие другие художники проводили часто вечера в гостях у Остроухова, который жил во владении № 17.
В том же направлении, что и Трубниковский, спускается к Арбату милый Борисоглебский переулок, до недавних пор носивший имя писателя Алексея Феофилактовича Писемского. "Это большой, большой талант!" - так характеризовал его Чехов. Писемский, переехав в Москву в 1863 году, как писали современники, купил в этом переулке клочок земли, застроил его домами и "с замечательным расчетом пространства и воздуха отвел себе на дворе особый флигель с садиком..." Дома носили названия романов писателя: "Взбаламученное море", "В водовороте", "Люди сороковых годов". У Писемского собирались писатели, ученые, артисты, бывали тут И. С. Тургенев, А. Н. Островский, П. И. Мельников-Печерский...
Большая Молчановка не зря называется большой. Длина ее равнялась 783,1 метра (почти таков новый отрезок Нового Арбата). Трудно теперь разобраться, где начинается и кончается Молчановка - Большая и Малая, много здесь порушено, когда строили большие дома Нового Арбата.
Хотя 24-этажные жилые здания возводились на проспекте, своей северной стороной они повисают над арбатскими переулками. Один корпус стал даже посреди Большой Молчановки, и она обогнула его. В каждом высотном доме 176 квартир. Девять высотных зданий по обеим сторонам проспекта обслуживают 670 специалистов. В каждом доме множество сложнейших инженерных устройств, а квартплата - обычная, как везде. Доходы от нее не покрывают расходов. От жилищных работников такой высокий дом, стоящий на семи ветрах, требует больших забот.
Как живется москвичам на высоте? Сажусь в скоростной лифт, поднимаюсь наверх и получаю ответ у спешащей на двадцатый этаж домохозяйки. Ей здесь правится: ни высота, ни давление ее не беспокоят. Отсюда открывается несравненный вид на Москву. Балкон дома - прекрасная смотровая площадка. Весенний город, сбросивший зимнее платье, выглядит просторнее, стоит, омываемый весенними ветрами. Даже скупое солнце зажигает радугу на земле. Художники подобрали для улиц самые радостные краски: зеленые, синие, голубые, красные, желтые - неописуемое число оттенков этих цветов! Разноцветные мазки на стенах домов сливаются в живописное полотно Москвы города, самого красочного на земле.
Кругом море крыш, стены и купола. Только на юго-западе темнеет лес у Лужников, блестит вода Москвы-реки, да на западе желтеют холмы Крылатского. Со всех других сторон - улицы, кварталы; границы города нигде не видно, даже с двадцатого этажа.
По узким старым улочкам Арбата осторожно, притормаживая, двигаются одинокие машины. На проспекте - людские толпы, потоки автомобилей всех цветов. Тут другие скорости, другие ритмы и масштабы. Все это в двух шагах от арбатских переулков.
СТАРАЯ КОНЮШЕННАЯ
Длинный Староконюшенный переулок стягивает, как обруч, оси арбатских улочек. Называется он так по бывшей на его месте триста лет назад Старой Конюшенной слободе. Позднее эти земли заселили самые родовитые и не всегда самые богатые дворяне. Дома они имели, как правило, деревянные. Пожар 1812 года свирепствовал здесь особенно жестоко. Из 427 домов, стоявших между Арбатом и Москвой-рекой, не сгорело всего восемь!
В Старой Конюшенной прошло детство Герцена и Кропоткина, двух революционеров и писателей. Оба они оставили интереснейшие мемуары. И тот и другой не забыли упомянуть улицы своего детства. Петр Кропоткин в "Записках революционера" рассказывал: "В этих тихих улицах, лежащих в стороне от шума и суеты торговой Москвы, все дома были очень похожи друг на друга. Большей частью они были деревянные, с ярко-зелеными железными крышами, у всех фасад с колоннами, все выкрашены, поштукатурены в веселые цвета. Почти все дома строились в один этаж с выходящими на улицу семью и девятью большими светлыми окнами".
Десятки таких домов встречаются в арбатских переулках, да и в Староконюшенном их можно встретить в самом начале, где они сгрудились и стоят один к одному, образуя редкостный уголок. Фасады их, правда, не раз обновлялись, несмотря на это, домики не утратили своей прелести и обаяния. Напротив старинных домов гражданский инженер Н. Лазарев построил особняк в стиле неоампир. Это известный в архитектуре "Дом Миндовского" (под № 1). Фасад его украшен орнаментом и барельефами. Этот дворец строился под явным влиянием арбатских особняков и хорошо уживается с ними.
Большая часть переулка была застроена в начале века доходными домами. Недавно здесь поднялись кирпичные, бетонные башни.
Староконюшенный сегодня - это жилые дома, посольства, институты, учреждения. На самом большом здании с полуколоннами, занявшем треть переулка, появилась бронзовая мемориальная доска. На ней барельеф человека, который до недавних пор приезжал сюда домой. Это генеральный конструктор вертолетов Михаил Леонтьевич Миль. Его имя внесут над землей тысячи вертолетов марки "Ми". В этом же доме на пенсии жил Хрущев, после войны получил квартиру Михаил Шолохов.
На противоположной стороне переулка останавливаешься в недоумении перед бревенчатым домом. Что за роскошная изба с резными окнами, крыльцом, как в тереме? По всему видно, что к строению этому приложил руку опытный архитектор. Судьба дома интересная, хотя история его не слишком давняя.
...У ВДНХ в недавнем времени появился павильон, который вначале демонстрировался на выставке в Монреале, а затем был привезен в разобранном виде в Москву и вновь собран. Примерно такая же история и у бревенчатого дома. В конце прошлого века он был показан на выставке в Париже, получил там награду за архитектуру в "русском стиле", а потом вновь вернулся в Москву, где его установили на белокаменный фундамент, как все старинные московские дома.
Общество русских врачей, владевшее на углу с Арбатом зданием, где теперь аптека, поручило архитектору А. Л. Гуну спроектировать этот дом. На плане 1885 года значится "деревянное одноэтажное здание на каменном полуэтаже". Прошло свыше ста лет с тех пор, как плотники сложили этот дом, а сейчас он ждет капитального ремонта...
Какие еще достопримечательности в Староконюшенном? В "веселом", зеленого цвета особняке № 4 останавливался Александр Грибоедов, когда его срочно под охраной везли в Петербург на допрос по делу декабристов. Грибоедов пробыл в Старой Конюшенной всего несколько часов, зато многие писатели не только жили здесь, не только упоминали эту местность в мемуарах, но и поселяли в этих переулках героев своих произведений. Вот строки из "Войны и мира": "Поздно вечером четыре возка Ростовых въехали во двор Марьи Дмитриевны в Старой Конюшенной..." В этом дворе, как известно, произошли драматические события в жизни Наташи Ростовой. Сюда по Арбату мчалась тройка, чтобы похитить влюбленную девушку. Лихой кучер остановил лошадей у "перекрестка Старой Конюшенной...".
Можно ли увидеть дом, где жила Наташа Ростова? Прообразом Марьи Дмитриевны Ахросимовой, "дамы знаменитой не богатством, не почестями, но прямотой ума и откровенной простотой обращения", как характеризовал ее Лев Толстой, была известная всей тогдашней Москве вдова чиновника Настасья Дмитриевна Офросимова. Увековечена она и Грибоедовым в "Горе от ума". Под именем Хлестовой. Владение ее находилось в Старой Конюшенной. Это дом № 5 в нынешнем Чистом переулке. Тут по сей день стоит под этим номером несколько ампирных особняков во дворе, куда въехали возки Ростовых...
Жила на Арбате и героиня известного современного романа. "Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата. Очаровательное место! Всякий может в этом убедиться, если пожелает направиться в этот сад. Пусть обратится ко мне, я скажу ему адрес, укажу дорогу, особняк цел еще до сих пор", - писал Михаил Булгаков в "Мастере и Маргарите".
Писатель не забыл упомянуть, что особняк этот в готическом стиле, с башней, с трехстворчатым окном. Его без особого труда можно найти в Староконюшенном переулке. Это дом № 14, так не похожий на все арбатские постройки. Его прежний хозяин решил построить нечто вроде замка. На фасаде над входом львы держат щит с вензелем из инициалов, заменяющий герб, разбогатевший хозяин, как считают специалисты, не имел родового герба. Внутри особняка сохранились следы пышной отделки, каменная лестница, лепнина, модная в предреволюционные годы; тогда же был в моде и этот псевдоготический архитектурный стиль. За домом зеленеют остатки сада. А вход сюда ведет через ворота с аркой. Через нее-то и перелетела Маргарита, когда устремилась на метле по своему переулку. Из него она попала в другой переулок, "пересекавший первый под прямым углом". То был "кривой и длинный" Сивцев Вражек. О нем читайте дальше.
СИВЦЕВ ВРАЖЕК
Среди старомосковских названий, которые вспоминают москвичи, когда судьба заносит их далеко от дома, встречается Сивцев Вражек. Представьте на его месте засыпанный давно овражек и речку Сивку, текущую теперь под ногами, в трубе. Именно они дали ему странное на первый взгляд название.
На Сивцевом Вражке множество разных домов: в них живут, служат, ведут научные исследования.
Одноэтажный дом № 27 выкрашен в палевый цвет. Под его мезонином блестит на солнце бронзовая бляха. На ней дата - 1827 год, и слова, удостоверяющие, что дом этот застрахован от пожара.
Жил в доме, как гласит мемориальная доска, Александр Герцен, поселившийся в нем после приезда из второй ссылки. Детство основателя первой вольной типографии прошло в арбатских переулках, сначала в "старом доме" в Большом Власьевском переулке, потом - в "большом доме" на Сивцевом Вражке (он на прежнем месте под № 25).
В доме с мезонином проходила самая "возмужалая и деятельная полоса" московской жизни Герцена. Поэтому именно в этих стенах открылся в 1976 году музей. Тут собирался кружок единомышленников, друзей Герцена. Автор "Былого и дум" описал, как протекали их вечера: "Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний; каждый передавал прочтенное и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было значительного явления, которое не попалось бы кому-нибудь из нас и не было бы тотчас сообщено всем".
В этом доме Герцен жил до весны 1846 года. В том году Россия читала повести "Сороку-воровку", "Доктора Крупова", роман "Кто виноват?". Знаменитые статьи "Дилетантизм в науке" и "Письма об изучении природы" также относятся ко времени жизни Герцена здесь. После смерти отца писатель переехал ненадолго в "большой дом". Отсюда Александр Иванович с семьей, провожаемый друзьями, уехал за границу. Домой ему не суждено было вернуться. Только в мыслях всю жизнь возвращался он на Сивцев Вражек.
Двери дома № 27 открыты теперь для каждого, кто любит Герцена, Москву. На стенах комнат - гравюры, картины, панорама города, каким он был полтора века назад. Комнаты выглядят, как прежде, когда в них звучали голоса А. И. Герцена, Н. П. Огарева, В. Г. Белинского, Т. Н. Грановского...
Из окон дома-музея виден стоящий напротив на углу переулка внешне ничем не примечательный особняк. Он ждет мемориальную доску...
В конце 1850 года тут снял квартиру начинающий литератор. "Моя квартира очень хороша, - описывал он свое жилище на Сивцевом Вражке, - она состоит из четырех комнат: столовая, где у меня есть маленький рояль, который я взял напрокат, гостиная с диванами, шестью стульями, столами орехового дерева, накрытыми красным сукном, и тремя большими зеркалами, кабинет, где мой письменный стол, бюро и диван..."
Здесь литератор задумывает и пишет повесть из цыганского быта, затем "Историю вчерашнего дня", наконец, роман "Четыре эпохи развития". Названия эти многим ничего не говорят. Первая повесть затерялась. Но две другие рукописи в конечном итоге переплавились в известную всем трилогию "Детство", "Отрочество" и "Юность". Ею вошел в литературу Лев Толстой, бывший жилец дома на Сивцевом Вражке. К этому дому у него на всю жизнь сохранилась привязанность. О нем он не раз вспоминал. И сюда, к этому берегу в эпилоге романа "Война и мир", пристал Николай Ростов, который, "сняв любимый им мундир, поселился с матерью и Соней в маленькой квартире, на Сивцевом Вражке".
Лев Толстой хорошо знал арбатские переулки; позднее он жил в Малом Левшинском, в доме № 3, недавно снесенном. Отрочество его прошло в Большом Каковинском (дом также не сохранился).
Живя в Хамовниках, уже став всемирно известным писателем, Лев Толстой часто приходил пешком в арбатские переулки. Об этом сохранилось одно живописное воспоминание:
"Серым осенним утром на усталой кляче ночного извозчика-старика, в ободранной пролетке я тащился по безлюдным переулкам между Пречистенкой и Арбатом. Был девятый час утра... На перекрестке, против овощной лавки, стояла лошадь и телега на трех колесах: четвертое подкатывал к ней старичок-огородник в белом фартуке; другой, плотный, бородатый мужчина в поношенном пальто, высоких сапогах и круглой драповой шапке, поднимал угол телеги. Дело, однако, не клеилось... Я спрыгнул с пролетки, подбежал, подхватил ось, а старателя в драповой шапке слегка отодвинул в сторону:
- Пусти, старик, я помоложе!
Я поднял угол телеги, огородник ловко закатил колесо на ось и воткнул чеку. Я прыгнул обратно в пролетку. Поехали.
Мой извозчик, погоняя клячу, смеялся беззубым ртом и шамкал, указывая кнутом назад:
- Граф-то как старается!.. И чего только ему надо? К нам в Дорогомилово приходил надысь работать..."
Так описал свою мимолетную встречу с Львом Толстым "король репортеров", журналист и писатель Владимир Гиляровский.
На Сивцевом Вражке в доме с мезонином жил однофамилец и родственник Льва Толстого, вошедший в историю как Толстой-Американец - человек буйного, неукротимого нрава. В молодости он участвовал в кругосветной экспедиции знаменитого Крузенштерна, в наказание был высажен с корабля на одном из Алеутских островов вблизи Америки. Толстой выжил, а вернувшись домой, получил прозвище Американец. Дважды разжаловали его в солдаты, но безумной отвагой он искупал вину. В дни Отечественной войны заслужил Георгиевский крест и офицерское звание. Одиннадцать раз убивал на дуэлях своих противников. "Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом, и крепко на руку нечист..." Так описал Американца в "Горе от ума" Грибоедов. Ему посвящена эпиграмма Пушкина: "В жизни мрачной и презренной был он долго погружен, долго все концы вселенной осквернял развратом он". Федор Толстой не остался в долгу и тоже ответил эпиграммой. Дело чуть было не дошло до пистолетов. Но драться с Пушкиным Толстой не стал: они помирились и остались приятелями.
Толстой-Американец сыграл важную роль в жизни Пушкина - сосватал за него Наталью Гончарову. Так что и этот арбатский переулок связан с жизнью поэта, который не раз бывал тут.
С пушкинских времен сохранилось с десяток деревянных домов. На одном из них установлена мемориальная доска с барельефом С. Т. Аксакова. Мемориальные доски есть основание повесить почти на каждом из сохранившихся после 1812 года арбатских домов, чтобы их сгоряча не сломали за ветхостью.
У больших многоэтажных зданий, выросших в переулке в XX веке, своя история. Один из них хорошо знаком многим фронтовикам, журналистам. Сюда нас приглашал для беседы Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский, рассказывавший о незабываемых днях обороны Москвы, о том, как зарождался грандиозный план разгрома фашистов под Сталинградом...
В той войне советских солдат осеняли образы наших великих предков. О них хранит память и Сивцев Вражек.
БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ ВЛАСЬЕВСКИЕ
Старые московские переулки часто живут в паре - большой с малым. В Сивцев Вражек "впадают" Большой Власьевский и соседний Малый Власьевский. По обеим их сторонам поднялись высокие дома, кирпичные и бетонные башни. Построек далекого прошлого осталось меньше, чем в других арбатских закоулках, - всего девять. Из них две церкви: Успения в Могильцах, построенная архитектором Н. Н. Леграном в 1790 году, и Власия - XVII-XIX веков; она-то и дала название переулкам. В "Записках революционера" П. Кропоткин отмечал их живописный вид: "Одни из этих церквей раскрашены в красный цвет, другие в желтый, третьи в белый или коричневый..."
Полвека назад авторы одного из московских справочников сокрушались по поводу состояния дома № 5 в Малом Власьевском переулке: "Домик очень обветшал. Лепные украшения постепенно осыпаются, исчез венок с фронтона, гниют деревянные фальшивые русты..." Однако дом этот стоит и в наши дни и выглядит очень неплохо. Выданная на него в свое время государством охранная грамота сохранила для потомков этот арбатский уникум.
Много есть на Арбате небольших строений, но столь малого, пожалуй, больше нигде не встретишь. Строил его явно небогатый хозяин. Денег хватило у него лишь на крохотный домик. Он не больше деревенской избы и похож на нее. Это впечатление усиливают ставни на окнах, тоже единственные в своем роде. "Этот типичный ампирный домик 1820-х годов, как отмечается в справочнике "Пушкинская Москва", при своих миниатюрных размерах не избежал присущего эпохе стремления к торжественной монументальности и величию".
Талантливого архитектора не смущало дерево. Все сделано будто из камня. Доски навешаны как каменные плиты. Львиные маски, барельефы, изображающие античных богинь и амуров. Все как на фасаде дворца.
В Малом Власьевском есть еще один особняк, не упоминаемый пока ни в одном путеводителе. У его двери висела табличка: "Заслуженный пилот СССР Борис Иллиодорович Россинский". В стенах этого дома прошла жизнь одного из первых русских летчиков. В этом доме в 1918 году начала работу "Летучая лаборатория" - первое научное авиационное учреждение страны. Портреты научного руководители лаборатории, "отца русской авиации" профессора Н. Е. Жуковского и его молодого друга, основателя этой организации пилота Россинского, украшают первые страницы уникального издания научных трудов, изданных в том же году.
...Висят большие деревянные пропеллеры, стоят моторы первых аэропланов мира. На них летал с 1910 года хозяин дома, проживший долгую интересную жизнь. Рабочие завода и механики аэродрома преподнесли ему украшенный летными эмблемами портрет. На этом портрете молодой летчик с мушкетерской бородкой и усами стоит возле самолета, который совершил полет Москва Тверь - Москва без спуска. Это было в 1915 году! Спустя восемь лет Калинин подписал Грамоту ВЦИК, гласящую: "Трудовой подвиг Россинского выразился в том, что он произвел исключительно энергичную и преданную работу по созданию красного воздушного флота". Пилот был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Автографы многих великих людей хранятся здесь. На одной фотографии подпись Блерио, великого француза, учителя Россинского. На другой - Юрий Гагарин крепко пожимает руку старому авиатору. Это рукопожатие пионеров.
"Храню я триста метров киноленты, где снят великий летчик Нестеров. Мне ее подарил он сам. Храню чертежи старинных самолетов, старые снимки", рассказал мне Борис Иллиодорович Россинский незадолго до кончины.
Еще один особняк на углу в конце переулка, придет время, тоже станет музеем - композитора Сергея Танеева. Любимый ученик Чайковского и Николая Рубинштейна, первый выпускник Московской консерватории, удостоенный золотой медали, он оправдал надежды своих учителей, хотя они и не дожили до его триумфа. Композитор-мудрец, композитор-философ, Танеев жил в Малом Власьевском последние одиннадцать лет своей жизни - до июня 1916 года. Он так и не провел в доме электричества и водопровода, остерегаясь новшеств техники, отдавая дань привычкам прошлого. Музыка его, однако, не отставала от времени, она опережала его. В XX веке продолжается постижение этого композитора, его произведений. В дом Танеева стремился Рахманинов, сюда считали за честь прийти Скрябин, Метнер, Ляпунов, Глиэр - его ученики. На "вторники" Танеева на огонек керосиновых ламп шли писатели и ученые, друзья этого прекрасного человека.
Сохранились воспоминания, где описывается скромная обстановка дома: книжные шкафы, унаследованные от Николая Рубинштейна, фисгармония, пианино, рояль "Беккер", ходивший ходуном, когда мастер на нем играл, нотные этажерки и конторка. За ней стоя работал Сергей Иванович.
Когда Москва провожала в последний путь Танеева, от консерватории процессия прошла сюда, во двор дома. Композитор А. Т. Гречанинов заметил тогда, что хорошо бы сохранить этот домик.
"Бывало вечерком подойдешь к нему и видишь в окне, что Сергей Иванович пьет чай. Значит, можно войти не потревожа, посоветоваться, а то просто отвести душу в беседе. Ну а если за пюпитром или за инструментом, то просто постоишь и порадуешься, что он тут, за делом, и уже довольный этим, уйдешь утешенный и ободренный".
Это утешение и ободрение приносит и нам музыка Танеева...
Знаменитых Танеевых было два. Один из них - композитор Сергей Иванович, другой - Владимир Иванович, старший брат музыканта. Он жил неподалеку в Чистом переулке... О нем - в следующем очерке.
ТИХИЕ УЛОЧКИ
Овраг и протекавший по нему ручей Черторый дали давным-давно название местности - как говаривали прежде, урочищу Чертолье. От него название перешло к Чертольскому переулку, впадающему в улицу Пречистенку. Он мал, чист, тих. Точно так же коротки, хранят тишину, столь же аккуратны и зелены все другие, параллельно идущие ему Хрущевский, Чистый, Малый Левшинский и Штатный переулки. Триста лет назад называли его Стадным, потому что жили тут "стадные" конюхи - табунщики конюшенного двора. Потом стали говорить Статный, а затем Штатный. А с 1922 года переулок стал Кропоткинским, потому что именно в нем родился Петр Алексеевич Кропоткин, память которого чтила советская Москва.
Человек легендарной судьбы, безмерно одаренный от природы, князь Петр Кропоткин был воспитанником аристократического Пажеского корпуса, камер-пажом императора Александра II. Учителя пророчили ему будущее великого ученого. Частично он оправдал эти надежды, написав "Исследования о ледниковом периоде" - классическое произведение, вошедшее в историю географии. Арестованный на второй день после своего блестящего доклада в Русском географическом обществе, он писал это сочинение в одиночной камере Петропавловской крепости, куда был посажен как государственный преступник. К тому времени у Кропоткина созрело решение отдать жизнь борьбе за освобождение народа. Бежав из тюрьмы, Кропоткин уехал за границу. Там он прожил 40 лет и вернулся па родину лишь после Февральской революции...
А начиналась эта большая жизнь в ампирном особняке с портиком и шестью колоннами в тихом Штатном переулке. "Из всех московских частей, - писал П. А. Кропоткин в мемуарах, - ни одна так не типична, как лабиринт чистых спокойных извилистых улиц и переулков, раскинувшийся за Кремлем между Арбатом и Пречистенкой..." Здесь прошло 15 лет жизни. На доме № 26, где родился революционер, теперь установлена мемориальная доска.
В тихих переулках, в барских особняках жили не только крепостники, аристократы, но и те немногие из них, кто в результате глубоких раздумий, изучения истории, общественных наук приходил к идее революции, к социализму. В Чистом переулке, на доме № 7, укреплена мемориальная доска, гласящая, что здесь жил Владимир Иванович Танеев, старший брат известного композитора, ученый, адвокат, социалист.
Владимир Танеев, человек необычайного ума и таланта, был мужественным и смелым. Он выступал защитником на процессах над революционерами.
"Г-н Танеев... которого я с давних пор уважаю, как преданного друга освобождения народа, может быть единственный адвокат в Москве, который возьмется за такое неблагодарное дело", - писал Карл Маркс о В. И. Танееве в одном из писем, прося его взять на себя защиту одного дела, по которому подсудимому грозила ссылка в Сибирь. А задолго до этого письма, в 1871 году, Маркс подарил Танееву свою фотографию с автографом. Ленин подписал "Охранную грамоту Гражданину Владимиру Ивановичу Танееву". Она давала ему, в частности, право посещать библиотеку Совнаркома. Для Танеева то было радостью: это был ученый-библиофил, влюбленный в книги.
В одиннадцать лет он собрал первую библиотеку - в основном "из детских" изданий; затем, уже в училище, стал собирать библиотеку русских беллетристов. Впоследствии Танеев составил третью библиотеку, которой посвятил свою жизнь. Он покупал книги в магазинах, на Сухаревском рынке, у букинистов за границей. В Париже Владимир Иванович приобрел 150 запрещенных книг по социологии, Французской революции и прислал их в... адрес Академии наук, не имея там никого знакомых, так как при этом книги не проходили цензуру... Его прекрасно подобранная библиотека содержала 20 тысяч томов. Вначале она была в доме в Чистом переулке, и с каждым годом книги вытесняли все вещи из комнат. Собрание было перевезено в загородный дом, под Москву. Танеев и его семья впоследствии подарили эту библиотеку государству.
Танеев всю жизнь писал; его перу принадлежат блестящие мемуары "Детство и школа", сочинения по истории, экономике, социологии, педагогике. При его жизни ни одно из них не увидело свет; произведения Танеева были опубликованы Академией наук СССР в 1959 году. Владимир Иванович, друг Тимирязева, был центром притяжения для многих русских ученых. Он организовал известные "танеевские обеды" в ресторане "Эрмитаж"; по сути, то был клуб, где обсуждались многие общественные вопросы. Владимир Иванович оказал огромное влияние и на своего младшего брата Сергея Танеева: не случайно последний посвятил хоровой цикл хору Пречистенских курсов для рабочих.
На стене дома № 12 в тихом зеленом Пречистенском переулке висит мемориальная доска, рассказывающая, что здесь Николай Алексеевич Островский написал первую часть романа "Как закалялась сталь". В дом № 12 по Мертвому переулку получил весной 1930 года ордер новый житель Москвы - Николай Островский. Его привезли сюда на носилках из больницы в карете "скорой помощи", в тяжелейшем состоянии, "стопроцентнонетрудоспособным".
"Ломаные и путаные переулки, прилегающие к Арбату, своей беспорядочностью способны запутать приезжего человека. В одном из таких переулков, в бывшем барском особняке со стенами полуметровой толщины мы и поселились", - вспоминает Раиса Островская, жена писателя.
Поселились в "полукомнате", наспех отгороженной от соседей досками. В комнате - старая железная кровать, старый ломберный столик, стул, еще одна кровать, сооруженная из ящиков и досок, и еще два стула из чурок. В этой комнате, уезжая на работу, жена оставляла неподвижного мужа одного на 12 часов. Он не мог ходить, но мог малоподвижными руками писать, мог видеть. Еще он мог мечтать.
"Всех своих мечтаний я не выразил бы в десяти томах", - сказал Островский как-то. Однажды вернувшуюся поздно жену он попросил переписать несколько страниц. Она думала, что это обычное письмо друзьям. Оказалось рукопись романа "Как закалялась сталь". Островский самозабвенно работал. Сначала отказала рука. Потом сдали глаза. Он начал диктовать. Работал так два года - наперекор судьбе, болезням, смерти. Сюда пришла к нему слава.
Его имя стало символом борьбы за жизнь.
МАСТЕРА
В зеленом дворе притаился двухэтажный дом со стеклянной стеной и стеклянной крышей (строение под № 5а). В залитом светом зале на дощатом полу - поворотный круг, как в театре, только небольшой, а под потолком балкончик. С него обозревала свои творения Вера Игнатьевна Мухина. Тут в 1947 году ей была предоставлена прекрасная мастерская; в этом же доме в Пречистенском переулке была ее последняя квартира.
У Мухиной не всегда была такая мастерская. Вначале она жила и работала в доме в Гагаринском переулке, потом у Красных ворот. Здесь она занимала второй этаж, куда приходилось поднимать глину и камни. Именно там появились всемирно известные "Рабочий и колхозница" созданные для павильона СССР на Всемирной выставке в Париже. Эта скульптурная композиция создана по замыслу и эскизу архитектора Бориса Иофана - автора павильона. Она стала символом не только советского раздела выставки, но и СССР. Из Парижа статую перевезли в Москву и установили перед входом на Выставку достижений Советского Союза, где она пребывает по сей день.
В тихом арбатском переулке создавался памятник Чайковскому - он установлен перед консерваторией. Тут появились ее последние аллегорические скульптуры: "Земля и Вода" (в Лужниках), "Хлеб и Плодородие" (в парке Дружбы). Тогда же появилась композиция "Требуем мира". Она воплощена в бронзе и находится у проспекта Мира... Много творений Мухиной украшает Москву.
Гигантская скульптура высотой 24,5 метра, весом около 75 тонн впервые в мире выполнена из хромоникелевой стали. Все сделано в Москве. Вместе с помощниками Мухина более двух месяцев провела среди грохота и пыли сборочного цеха опытного завода. Никто из рабочих, инженеров не считался со временем. Многие дневали и ночевали на заводе. Сталь подчинилась умелым рукам.
Много сказано об этом шедевре Мухиной. Лучшие слова - Ромена Роллана: "...На берегах Сены два молодых советских гиганта возносят серп и молот, и мы слышим, как из груди льется героический гимн, который зовет народы к свободе, к единству и поведет их к победе".
В соседнем. Большом Могильцевском переулке, 8, жил Виктор Александрович Веснин, один из трех братьев-архитекторов. Они оставили в городе неизгладимый след своими творениями.
Многое создавал Виктор Веснин один; особенно преуспел в проектировании заводов, оказал значительное влияние на отечественную промышленную архитектуру. Апофеозом творчества Виктора Веснина стал Днепрогэс, воплощенный в бетоне. В нем зодчий видел "здание социализма". Мастер искал формы для выражения идей эпохи не в лепке или в нагромождении колонн, не в прошлом и даже не в сочетании прошлого и настоящего, а в будущем. Виктор Веснин, как и его братья, был лидером новой архитектуры - стиля конструктивизма.
Их современник Константин Мельников не считал себя конструктивистом. Он писал: "Все мои постройки и проекты оригинальной архитектуры, то есть архитектуры первородного стиля..." Что понимал под этими словами архитектор, понимаешь в Кривоарбатском переулке, где с 1927 года стоит невысокая башня. Гладкую ее стену украшают слова: "Константин Мельников. Архитектор". Дом уникальный. Два цилиндра, один входит в другой на треть. На переднем фасаде - стена-окно. На заднем - множество ромбовидных око: стена точно сито. Впрочем, описывать этот дом можно по-разному, как кому подсказывает воображение. Мельникова считали фантастом в архитектуре.
В этом доме мастер прожил до последних дней. Еще в молодости он стал знаменитостью. По его проекту был создан саркофаг в Мавзолее Ленина, в 1925 году - павильон СССР на выставке в Париже. То было новое слово в архитектуре. Тогда же французские власти заказали ему два проекта многоэтажных гаражей. Один из них конструкцией своей предвосхитил то, что стали строить много лет спустя.
Дом Мельникова, как и другие постройки архитектора, было время, приводили как пример формализма, а теперь историки архитектуры пишут, что "это смелый эксперимент большого мастера". В числе двенадцати мастеров земного шара московский зодчий был приглашен на пятую триенале декоративных искусств в Милане. В годы, когда расцветало украшательство, мастера лишали заказов, права работать, но он не поступился своими принципами. Творчество его и сейчас во многом современно, оно изучается и продолжает служить архитектуре.
...Звоню в дверь дома № 10. Открывает Виктор Константинович Мельников, художник, сын зодчего. Тут привыкли к посетителям. Следом за мной приходят студенты-архитекторы из Эстонии. Они ни о чем не спрашивают, слышно лишь, как щелкают фотоаппараты. Всех интересует, как простейшей в архитектуре формой - цилиндром - достигается красота и целесообразность. Мельников это умел делать, как никто другой.
Комнаты залиты светом, уютны. Ни одна не похожа на другую. В годы войны упавшая неподалеку бомба вышибла взрывной волной стекла, пришлось тогда архитектору сложить кирпичную печь. Она стоит как доказательство того, что самое простое дело можно выполнить талантливо.
На стенах - картины живописца Мельникова. Зодчий окончил два факультета - художественный и архитектурный... Все произошло по воле случая. К известному русскому инженеру-теплотехнику В. Чаплину попал письмоносцем подросток Костя Мельников. Чаплин стал вторым отцом мальчика, заметил в нем, как он говорил, "искру Божью" и помог раздуть ее в огонь, подготовил к поступлению в училище, настоял, чтобы Константин окончил не только живописный, но и архитектурный факультет...
В молодости Мельников проектировал завод АМО. Его почерк виден в облике старого административного здания ЗИЛа, нескольких цехов, из которых лучше всего сохранился литейный.
- Где можно увидеть работы Мельникова? - спрашиваю сына мастера.
- В Сокольниках - это известный клуб имени Русакова. Использованный здесь впервые новаторский прием - нависающие над фасадом три выступа балкона зрительного зала - когда-то даже высмеивался. А теперь этот прием применяется повсеместно. Отец построил шесть клубов: имени Фрунзе - на набережной у Новодевичьего монастыря, "Каучук" - у Девичьего поля, фабрики "Свобода" (ныне Дворец культуры имени Горького), клуб "Буревестник" и клуб для Дулевского фарфорового завода под Москвой. Все они разные, в каждом множество оригинальных архитектурно-инженерных решений.
В 20-е годы в теме "клуб" Мельников видел одно из важнейших для архитектора дел. "Здания клубов проектировались мною не просто как здания: я составлял проект грядущего счастья".
За кинотеатром "Форум" сохранилось служебное здание существовавшего здесь прежде Сухаревского рынка. Это - тоже Мельников. Он блестяще строил гаражи. В Москве их четыре (один - на нынешней улице Образцова). Архитектор предложил также новую расстановку автобусов - в ряд с уступами, и это определило форму здания.
Построено Мельниковым сравнительно немного, но его проекты реальность. То, что делал мастер, в свое время вызывало яростные споры. Как написано в вышедшей недавно капитальной монографии по советскому зодчеству, "Мельников... повлиял на развитие современной архитектуры не только в нашей стране, но и за рубежом".
Он много проектировал для любимой им Москвы, где родился и прожил долгую жизнь, до конца дней не переставая восхищаться тем, что она "полна сказочных загадок".
ТРИ ВЕСНИНА
Переулок, протянувшийся от Арбата параллельно Садовому кольцу назвали Денежным: в XVII веке здесь жили мастера Денежного двора.
Три брата, три зодчих - Леонид, Виктор и Александр Веснины образовали уникальный архитектурный триумвират. Братья работали и порознь, и вместе в 1923-1932 годах, были в числе лидеров советской архитектуры.
Веснины поселились в Денежном переулке в типичном доходном доме (№ 12). На последнем его этаже при строительстве была предусмотрена мастерская для скульптора: высокую просторную комнату, выходящую на запад, через большое окно заливают потоки света.
Сюда знали дорогу многие московские архитекторы: и известные мастера, и только начинающие свой путь в архитектуре. Вот как описывает свой первый приход сюда профессор Г. М. Орлов, позвонивший в заветную дверь квартиры Весниных осенью 1923 года.
На звонок в переднюю вышли сразу три брата Весниных, как три богатыря, любезно приглашая зайти в мастерскую. Растерявшийся студент забыл снять свой полушубок, так и вошел в этот храм творчества, где в это время братья работали над очередным конкурсным проектом - зданием "Аркос", получившим в 1924 году первую премию и оказавшим влияние на архитектуру того времени.
Веснины были разносторонне образованными людьми - архитекторами и художниками. Александр Веснин, например, оформлял постановки московских театров, в частности Камерного. В спектакле "Человек, который был четвергом" Александр Веснин создал на сцене образ современного города. На театральных подмостках ему удалось до конца воплотить свои архитектурные мечтания. Город Веснина представал перед зрителем во всей красоте обнаженных конструкций - каркасов, ферм, консолей, лифтов, движущихся тротуаров, вращающихся колес... Декорации Веснина образно и зримо демонстрировали новую архитектурную систему, которую воплощали на практике проекты братьев Весниных.
"Темп современности быстрый и динамичный, ритм ясный, прямолинейный, математический, материал и целесообразность определяют строй создаваемой современным художником вещи". Под этими словами Весниных, словно написанными вчера, могли бы подписаться современные зодчие. Веснины поставили под этим кредо подпись в 1922 году.
Братья жили в Москве и многие проекты сделали для нее. Широко известный Дворец культуры автозавода имени Лихачева, Театр-студия киноактера на Поварской, Краснопресненский универмаг - все это воплощенные в бетон и стекло работы мастеров, сохранивших на всю жизнь верность новой архитектуре - конструктивизму. Веснины были поборниками этой архитектуры, рожденной нашим веком. Они порой ошибались, как бывает с пионерами, полагая, например, что то, "что хорошо функционирует, хорошо и выглядит". Но они имели мужество не только признавать ошибки, но и отстаивать новую архитектуру, когда ее захлестнула волна украшательства, подражания стилям прошлого.
В переулке, где жили братья, сохранились здания разных стилей. В начале переулка охраняется как памятник архитектуры бывший дом дворцового ведомства (№ 1), начала XIX века. Его фасад украшен пилястрами. Неподалеку располагается другой памятник - дом Поливанова: это деревянный особняк с шестью колоннами и мезонином, в духе классицизма (№ 9/6). Есть тут особняки более поздние - в стиле модерн, эклектики. На одном крохотном домике архитектор поместил четыре кариатиды в полный рост, подпирающие щиты с вензелем хозяина, заказавшего всю эту "музыку".
Веснины прекрасно знали и любили архитектуру прошлого, но были убеждены, что современные мастера не должны заимствовать ни греческих колонн, ни кариатид, ни портиков. Веснины призывали искать новые ритмы и пропорции, использовать новые материалы и конструкции, характерные для нового времени.
В тихом Денежном переулке произошли события, описанные во всех учебниках истории. В большой роскошный особняк (ныне дом № 5), занятый тогда германским посольством, вошел незнакомый посетитель, попросивший, чтобы его принял посол граф В. Мирбах. Что произошло дальше, известно теперь по страницам истории и литературы. Пришедший (им оказался левый эсер) бросил в посла бомбу, чтобы спровоцировать войну с Германией.
Вскоре после этого сюда прибыли Дзержинский, а затем Ленин и Свердлов. В парадной комнате особняка они выразили соболезнование по поводу случившегося и обещали принять меры к розыску и строгому наказанию виновных. Затем Ленин и его соратники прошли во внутренний двор, чтобы посовещаться. В это время им сообщили о мятеже левых эсеров. То было 6 июля 1918 года... Денежный, как и многие арбатские переулки, стал в наши дни улицей дипломатов. Тут находятся здания посольств, МИДа, в одном из особняков работает Информационный центр Организации Объединенных Наций.
Первый нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский поселился в 20-е годы в большом пятиэтажном доме № 5/9, принадлежавшем до революции адвокату. Свою квартиру прежний владелец соорудил на самом верху: в два этажа, с антресолями. Был в ней и тихий маленький кабинет, и большой зал для приемов.
Теперь здесь музей, где особенно много книг: и тех, что выходили при жизни автора, и тех, что изданы недавно. Значит, Луначарский - наш современник, значит, сбылись его слова: "Кто был хорошим современником своей эпохи, тот имел наибольшие шансы остаться современником многих эпох грядущего".
Самая важная пора жизни Луначарского началась в ноябре 1917 года, когда он получил мандат, удостоверяющий, что Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов назначил его наркомом просвещения. Под мандатом - подпись Ленина. Рядом роспись Анатолия Васильевича в том, что "подлинник получил". Этот документ среди многих других можно увидеть в музее.
Высокая светлая гостиная с зеленым камином видела многих выдающихся людей.
...В февральские дни 1922 года в дом № 12 в переулке было доставлено письмо наркома просвещения. Оно было адресовано режиссеру Евгению Багратионовичу Вахтангову, прожившему лучшие годы жизни в арбатских переулках... Об этом - следующий рассказ.
ТЕАТР НА АРБАТЕ
Так случалось не раз: в арбатских переулках, в стенах маленьких домов и особняков начиналась жизнь поэм, симфоний, спектаклей. Тут впервые звучали строки "Демона", аккорды "Прометея", сцены "Плодов просвещения". Тут возникли Институт имени Гнесиных и Театр Вахтангова...
Его можно по праву назвать театром на Арбате. Первый его спектакль состоялся на этой улице в полуразрушенном, брошенном особняке, пустовавшем до тех пор, пока его после революции не передали артистам студии, руководимой Евгением Вахтанговым. Жизнь этой блистательной театральной студии началась поблизости - в двухэтажном жилом доме (№ 3) в тихом Мансуровском переулке.
Там тайно от всех группа студентов-любителей после провала своего первого выступления на сцене сняла квартиру и под руководством Вахтангова начала серьезнейшие занятия. В комнатах рядом с кухней - общежитие, в комнатах ближе к выходу - сцена и зрительный зал. В него удалось втиснуть 34 стула. Через площадку в соседней квартире поселился Вахтангов с семьей.
Через шесть лет, когда студия перебралась из Мансуровского переулка на Арбат, 26, студенты-любители стали уже профессиональными актерами, овладевшими вершинами искусства под руководством замечательного режиссера. Родился новый театр - оптимистический, жизнеутверждающий.
27 февраля 1922 года на сцену вышли артисты в масках, и началось веселое представление "Принцессы Турандот". Москва увидела Бориса Щукина, Рубена Симонова, Юрия Завадского и многих других артистов, чьи имена стали гордостью театра.
В день триумфа актеры плакали не только от радости: их любимый учитель лежал в это время тяжело больной у окна, выходящего в Денежный переулок. В эту комнату на первом этаже с улицы доносилось пение птиц, звуки шагов. Сюда в антракте пришел взволнованный Станиславский, чтобы поздравить с триумфом своего любимого ученика. Его он считал "единственным преемником". Отсюда вскоре артисты проводили великого режиссера в последний путь.
В театре по сей день идет неумирающая "Принцесса Турандот". Архитекторы по просьбе вахтанговцев разработали проект нового зала студии (тоже на Арбате).
Создавая новый театр, Вахтангов жаждал новых актеров. "Они должны появиться или из среды самого народа, или это должны были быть люди "услыхавшие Бога" народа", - писал Евгений Багратионович.
Один из таких актеров пришел в Мансуровский переулок. Ему было 26 лет. Малоразговорчивый, чуть насмешливый молодой человек с круглой, наголо бритой головой, в красноармейской форме, с обмотками на ногах... Вся его внешность противоречила привычному актерскому облику. За плечами бойца была большая жизнь. Сын официанта московского ресторана "Эрмитаж", а затем буфетчика станции Кашира, он учился в московском реальном училище, три года занимался в МВТУ, затем в военном училище, откуда младшим офицером попал на фронт, в окопы первой мировой войны. Работал слесарем, помощником машиниста паровоза. Но страстью его был театр. Любовь к нему привела Бориса Щукина в студию Вахтангова.
Поэт Павел Антокольский, знавший артиста в молодости, так рисует его портрет: "Был он гол как сокол, ночевал где-то в помещении театра. Все его имущество состояло из суконной серой блузы да чайника... Ничто в жизни не смогло смутить или сбить с толку этого привыкшего к жизненным передрягам пролетария..."
Мысль о портретном сходстве Щукина с Лениным возникла впервые у Максима Горького, когда он увидел актера в театре на репетициях пьесы "Егор Булычев", где тот играл заглавную роль.
- Но ведь это же Владимир Ильич, - сказал тогда изумленный Горький.
В 20-ю годовщину революции в Москве, в Большом театре был продемонстрирован впервые фильм "Ленин в Октябре". На этой же сцене в тот вечер Театр Вахтангова показал отрывок из пьесы "Человек с ружьем". Роль Ленина играл Борис Щукин. Этой работой он прославился.
Щукин готовил роль и репетировал не щадя себя. Ему было отпущено на это всего три месяца. Когда он выходил из дома, то его сосед и друг Рубен Симонов видел из окна, что Борис Васильевич уже на пути начинал репетировать, искать походку Ленина. Дорога начиналась от дома № 8 по Большому Левшинскому переулку (ныне на доме - мемориальные доски с портретами Б. Щукина и Р. Симонова) и вела к Арбату, 26. В тот звездный час своей жизни Щукин мог себе позволить лишь один вид отдыха - прогулки по арбатским переулкам, где свершалось - в который раз! - великое таинство искусства...
В арбатском Большом Левшинском переулке на доме № 12 укреплена белая мемориальная доска с барельефом Анны Голубкиной. Под ее одухотворенным профилем - молоток и резец - орудие скульптора. Мастерская находилась в глубине двора, на втором этаже. Теперь, после долгого перерыва, тут снова открылся музей, где можно увидеть десятки прекрасных, поэтичных произведений большого художника.
В глубине мастерской, в комнате, которая своей аскетичной обстановкой напоминает жилище студента, среди документов А. Голубкиной - удостоверение профессора и "главного мастера по скульптуре", дело, заведенное на нее губернским жандармским управлением и Московской судебной палатой уголовного департамента... Анну Голубкину подвергали допросам и судили за участие в первой русской революции.
Она создала "Идущего" - фигуру человека-труженика, что стал для современников символом свободы.
У входа в музей посетителей встречает стоящая под порывами ветра поэтичная "Березка". Это последняя работа...
Большим Левшинским, где сохранились ампирные домики и большой особняк (в нем в свое время жил В. Белинский, бывал Лев Толстой), выхожу к месту, где зеленеет сквер - еще одна крохотная арбатская площадка. Над ней высится церковь Успения на Могильцах с двумя колокольнями. Вокруг нее-то и кружил кучер, когда лошади везли по ночной Москве Сергея Есенина и Айседору Дункан в день их первой встречи...
Быстро опускается осенний вечер. Стал неразличим текст на мемориальных досках. У каждого угла дома начинается новая улочка, их сходится в один узел сразу шесть... Да рядом еще двадцать других... Тут, как в трех соснах, можно заблудиться. Стоишь посередине площадки, вокруг шуршат шинами машины и разбегаются в разные стороны переулки...
УРОН НА ПОВАРСКОЙ
Соседка Арбата улица Поварская отстоит от него всего на несколько сот метров, а совсем на него не похожа. На ней меньше многоэтажных "доходных домов", выстроенных на месте бывших городских усадеб, практически нет магазинов и ресторанов и кафе. Причина тому есть. Арбат служил магистралью, которая вела некогда на рыночную площадь на Садовом кольце, она же вела на Брянский, позднее Киевский вокзал. Первые этажи домов этой улицы попали в руки предпринимателей, купцов, содержателей заведений, где можно было поесть и попить, на этой же улице открылись две аптеки, располагались врачебные кабинеты, парикмахерские, ломбард и многое другое, необходимое для города, пешеходов и пассажиров. По Арбату провели трамвайную линию, что сделало его шумным и еще более многолюдным.
Почти все пятьдесят девять владений на Арбате перед революцией принадлежали главным образом купцам, потомственным почетным гражданам, то есть выходцам из купцов, церквам, военно-окружному суду (в этом здании и сегодня располагается судебный орган Московского военного округа), некоторыми домами владели инородцы, среди которых, например, был купец второй гильдии Гоберман Вульф Хаимович, купивший два дома: на четной стороне № 14 и на нечетной стороне № 21. И так далее.
На Поварской некоторые строения также перешли в руки состоятельных купцов, но большая часть оставалась в руках титулованных особ, среди которых были князья, графы, бароны, на этой улице находился особняк Управления Государственного коннозаводства, дом призрения московского дворянства имени Казакова... Зубовы, Гагарины, Шуваловы и такие, как они, владели домами на Поварской. Они-то и не позволяли вторгаться на эту улицу питейным заведениям, лавкам, прокладывать по ней линию трамвая...
Поварская, как и Арбат, понесла урон, когда строили проспект Калинина; она лишилась части Большой Молчановки, начала Мерзляковского переулка. Исчез фасад известного многим в Москве дома с аптекой на первом этаже. На его верхнем этаже в старой Москве располагался театральный зал. Во всех советских путеводителях его непременно поминали, потому что в этом театральном зале собрался на свое первое учредительное заседание в дни русской революции 1905 года Московский Совет рабочих депутатов. То есть этот дом с ротондой, где помещалась упомянутая аптека, был тем местом, откуда пошла в Москве советская власть. Казалось бы, реликвия. Достопримечательность. Но такая то была власть, что в шестидесятые годы XX века она не придавала особого значения охране памятников истории, тогда во главе этой власти возвышался Никита Сергеевич Хрущев, на совести которого много порушенных замечательных зданий в Москве. Их ломали и в годы его молодости, когда он возглавлял Московский горком партии и претворял в жизнь "Сталинский план реконструкции Москвы", предполагавший тотальный снос исторических пластов города. Их ломали и спустя тридцать лет, когда дорогой Никита Сергеевич возглавлял государство и партию. Порубленный Арбат - как раз вина Хрущева, санкционировавшего проект проспекта Калинина, предполагавший тотальный снос десятков зданий.
"Правая сторона улицы после сноса в 1960-х годах в связи с прокладкой Нового Арбата стоявших здесь старых строений начинается с бывших доходных домов № 8 (угловую его ротонду с аптекой снесли) и 10, малоинтересных в художественном отношении", - пишет ничтоже сумняшеся автор очерков об улицах центра "Москва в кольце Садовых" Юрий Федосюк. В очерке "Улица Воровского", а именно так до недавних пор называлась древняя Поварская, он вслед за процитированными выше строчками пишет:
"Малоэтажные особнячки № 12-16 снесли в 1950-х годах, открыв вид на построенное в те же годы в глубине участка белое школьное здание - это экспериментальная школа Академии педагогических наук СССР".
Как видно из приведенных мною цитат, у Никиты Сергеевича были в прошлом, есть и по сей день люди, оправдывающие его варварство. У дома с аптекой и театральным залом не было архитектурных достоинств, раз он "малоинтересен в художественном отношении", а снесенные "особнячки" открыли вид чуть ли не на некий шедевр.
На самом же деле снесенные здания представляли собой добротные, выразительные постройки, каждая из которых имела свое лицо. Эти здания были воротами улицы, ее опознавательными знаками. Сегодня Поварская в своем истоке представляет бесформенное, неорганизованное пространство. На месте особняков появилось типовое школьное строение, грубо вписанное в строй зданий старинной улицы, сломавшее ее прямую линию. В книге Федосюка приводится выписка из путеводителя 1831 года, где как раз отмечается прямизна этой московской улицы:
"Нет улицы, которая была бы так пряма и ровна, как она. На ней нет величественных зданий, но она очень красива". Эту красоту как раз и придавали ей малоэтажные особнячки. Два из них сломали в начале восьмидесятых годов в середине улицы, на ее углу с Большим Ржевским переулком, где сегодня виднеются глухие торцы зданий, перед которыми растет старый вяз, несколько деревьев, некогда росших во дворах сломанных зданий. Рядом с ними появилась детская площадка. История сноса этих двух домов мне хорошо известна, их не позволила сломать работавшая несколько лет так называемая "несносная" комиссия, созданная по воле МГК партии для решения вопроса о судьбе исторических зданий. Появилась эта комиссия после шумных протестов общественности, известных художников, в частности Ильи Глазунова, после представления самому Леониду Ильичу альбома фотографий уничтоженных зданий. Этот альбом мне показывали в комендатуре Кремля. Альбом сыграл свою важную роль. Он произвел впечатление на правителей. Ознакомившись с этим альбомом, Брежнев, Косыгин и другие вожди решили больше, как прежде, старую Москву не ломать. Действительно, в начале восьмидесятых годов необоснованный снос практически прекратился.
Я был в числе тех членов "несносной" комиссии, которые настаивали на том, чтобы здания на Поварской не ломали, хотя они были рядовыми строениями, к памятникам архитектуры не относились, но служили для них достойным окружением.
На месте этих зданий, на углу Поварской и Большого Ржевского, предлагалось выстроить жилое здание для турецкого посольства. По межправительственному соглашению Москва обязана была это сделать. Лучшего места для турок прежнее руководство архитектурным управлением найти не могло и настаивало на своем.
Дома снесли, до начала строительства устроили временный сквер, понравившийся жильцам соседних домов. Им не было дела до того, что обнажившиеся глухие стены уродуют улицу, что образовался провал между домами, никто из жителей не брал в расчет и такую категорию, как стоимость московской земли, особенно в ее центре, той земли, где сотни лет стояли здания.
Вокруг вяза и нескольких деревьев развернулся бой, в результате которого отцы города вынуждены были отступить перед шумной, хорошо организованной общественностью, поддержанной новоявленными депутатами, желавшими показать свою власть, свой демократизм:
"Живописный сквер между Большим Ржевским переулком и улицей Писемского - недавнего происхождения, - пишет в очерке "Улица Воровского" Юрий Федосюк. - Он образовался после сноса двух старых особняков. Здесь ныне господствует патриарх улицы - двухсотлетний вяз, взятый под охрану после того, как этот участок задумали застроить восьмиэтажным зданием. В 1987 году местная общественность дружными усилиями побудила Мосгорисполком отказаться от строительства, а древний вяз, ныне бережно огражденный цепями, объявить памятником природы. Новый сквер с вязом стал украшением района и памятником успешной борьбы москвичей за сохранение родного города".
На мой взгляд, этот сквер стал действительно памятником, но не таким, каким он представляется Юрию Федосюку. Это памятник торжествующего популизма, грубого вмешательства в вопросы градостроительства непрофессионалов, примером неправильного использования городской ценнейшей земли. Это памятник пресловутой "перестройки", когда сначала ломают, а потом начинают думать, что нужно делать. Точно такая же "успешная борьба москвичей" закончилась торможением, приостановлением на несколько лет строительства на Поклонной горе, "третьего транспортного кольца". Северной тепловой станции, а это торможение принесло Москве на сотни миллионов рублей убытков.
Конечно, я не призываю пилить вяз, пусть он распускается весной, пока еще жив. Но земля, где были здания, должна быть застроена, улица должна быть в этом месте восстановлена.
Оказавшись на Поварской, кажется, что она не познала в общем-то более значительных потерь, не считая тех нескольких строений, о которых выше шла речь. На ней нет пустырей, дома стоят, теснясь друг к другу. Но это только так кажется. Поварская не стала исключением из правила. И по ней прошли с катком разрушители, сокрушив несколько замечательных сооружений средневековой Москвы.
Когда Марина Цветаева поселилась в районе Поварской, в доме по Борисоглебскому переулку, то, сворачивая с улицы к себе домой, она крестилась, глядя на встававшую на ее пути старинную церковь Бориса и Глеба на Поварской улице. На улицу выходила колоннада портика в классическом стиле, над ней возвышался однокупольный храм, к которому примыкала колокольня с островерхим шпилем, увенчанная крестом. Когда-то в первой половине семнадцатого века она была деревянной, позднее в том же веке прихожане после очередного пожара на месте деревянной выстроили каменную церковь. Последний раз она переделывалась, укрупнялась в конце XVIII века, в год рождения Пушкина, 1799-м, началось возведение храма, который радовал сердце Марины Цветаевой. Он служил приходской церковью для жителей соседних домов, в том числе для статского советника Сергея Киселева, друга поэта. Вместе с ним Киселев наведывался часто на Пресню к сестрам Ушаковым, Елизавете и Екатерине. Два друга женились почти в одно и то же время, весной 1830 года. Киселев взял в жены Елизавету, венчался с ней в церкви Бориса и Глеба, а с его стороны поручителем выступал "10 класса Александр Сергеев Пушкин", женившийся месяц спустя. Жил Киселев в двухэтажном доме, сохранившемся до наших дней, под № 27, ныне восстанавливаемом. Сюда Пушкин наезжал часто и, как отмечается пушкинистами, первый раз в Москве читал публично поэму "Полтава"...
Сломали Бориса и Глеба на Поварской в 1936 году, спустя три года после решения Моссовета о закрытии храма. На его земле находится здание музыкального института имени Гнесиных, где располагалась также квартира основательницы этого, второго по значению после консерватории, центра музыкальной культуры в Москве Елены Гнесиной, начавшей вместе с сестрами дело в маленьком особнячке на Арбате. Она дожила до строительства нового концертного зала, пристроенного к институту, на его открытие ее привезли в коляске. Она же добилась, что рядом с институтом появилось высотное здание для ее любимого детища - музыкального училища. В нем этажей двенадцать, оно умело поставлено, вписалось в ансамбль улицы, ничего и никого не подавляет, лишний раз доказывая, что, когда за дело берутся умелые люди, оно только от этого выигрывает, высокая новостройка не причинила ущерба старинной улице и ее приземистым зданиям. Наконец, недавно восстановлен особняк, принадлежавший некогда Марине Александровне Шуваловой, стоявший рядом с церковью Бориса и Глеба. Этот особняк передан музыкальному Гнесинскому центру, в нем располагается еще один концертный зал. И я, рассказывая об утратах, не могу не упомянуть о таком событии последних лет, внушающем надежду на то, что больше никогда в Москве не будут уничтожать ее памятники.
Церковь Бориса и Глеба стояла во владении под № 32, а на нечетной стороне улицы, неподалеку, под № 15 располагалась другая церковь - Ржевской Божьей Матери на Поварской. Ее выстроили впервые прихожане Поварской слободы. Я еще не упомянул, что в этом районе Москвы жили повара, хлебники, квасники и другие ремесленники, обслуживавшие потребности государева стола. В память о них сохранились названия трех поварских переулков - Столового, Скатертного, Хлебного. Между Хлебным переулком и Поварской находился маленький Чашников переулок, не сохранившийся, как и еще один здешний Ножовый переулок, который состоял всего из трех строений и тянулся между Столовым переулком и Большой Никитской улицей.
Упоминавшаяся впервые в документах в 1653 году церковь Ржевской Божьей Матери перестраивалась в XIX веке, у нее была большая трапезная, одноглавый храм и колокольня. Крушить ее начали перед войной, доломали после ее окончания. На ее месте выстроено большое здание для Верховного суда СССР, сейчас тут находится Верховный суд Российской Федерации.
И это еще не последняя церковь, уничтоженная на Поварской. В конце улицы в одной из стрелецких слобод выстроили храм Святой Софии, было это в первой половине XVII века. Позднее рядом с деревянным ее строением появился каменный храм Рождества Христова, позже обросший приделами Казанской Божьей Матери и Тихвинской Божьей Матери. На место, занимаемое храмом Рождества в Кудрине, положили глаз политкаторжане, чье общество, бывшее влиятельным в первые годы советской власти, вознамерилось построить клуб. Проект этого клуба поручили знаменитым архитекторам, братьям Весниным. Они исполнили заказ, и по их проекту соорудили здание с большим зрительным залом и другими клубными помещениями.
Но воспользоваться комфортом нового клуба политкаторжане не успели. Общество состояло из старых большевиков, а также недобитых во время гражданской войны революционеров других партий, при товарище Сталине ставших неугодными восторжествовавшей диктатуре. Несмотря на всем известные заслуги перед революцией, политкаторжане и бывшие "ссыльнопоселенцы" вынуждены были прикрыть свое общество, многие из них снова оказались в тюрьме, но уже не царской, а советской, многие были отправлены в лагеря, расстреляны.
В клубе открыли кинотеатр, а позднее в нем обосновался Театр киноактера.
Таким образом, подводя итог, можно констатировать, что на Поварской из четырех церквей сохранилась только одна, церковь Симеона Столпника, которая ныне воспринимается как строение на Новом Арбате.
Проходя у Никитских ворот, хорошо видно, что восстанавливается небольшая древняя церковь, последние годы стоявшая без снесенной главы и без колокольни. В ней предлагалось создать музей генералиссимуса Александра Суворова, поскольку, по преданию, полководец, большой любитель церковного пения, не раз пел на клиросе этой церкви. Дом его отца, генерала, находится рядом, на Большой Никитской, за оградой дома № 42, где обитает заморское посольство. Несколько лет тому назад ревнители старины не могли предложить нечто более радикальное, не могли предугадать, что настанет время, когда эту церковь начнут восстанавливать не под музей, а для исполнения той функции, ради которой она появилась в Москве по воле патриарха Филарета. Восемь лет он пробыл в польском плену, с великим почетом вернулся в столицу, где его сына Михаила избрали на царство. Сын и повелел в 1626 году у Никитских ворот воздвигнуть храм Феодора Студитского, как сказано в указе, "по обещанию отца нашего", то есть храм был обетный, в память о возвращении из плена, в благодарность Богу за счастливый исход, возвращение Смоленска. Поэтому главный престол церкви был во имя иконы Смоленской Божьей Матери. Церковь расписал известный мастер Назарий Истомин.
И вот на наших глазах второй раз поднимается над землей колокольня, вскоре откроется возрожденная церковь, а не музей.
Вернули верующим возвышающийся над площадью Никитских ворот храм Большое Вознесение, известный тем, что в его трапезной венчался Александр Пушкин. Лет десять тому назад в "Московской правде" я опубликовал статью "Гром под куполом", где рассказал, как под сводами этого замечательного здания гремят разряды высоковольтных пушек, и поставил вопрос о выдворении отсюда энергетической лаборатории. Для испытаний ей требовалось сооружение с высоким, как у храма, потолком. Казалось, что никакой силой электрификаторов - а именно их деяния (электрификация) вкупе с советской властью по известной ленинской формуле должны были в сумме своей дать нашей стране коммунизм, - не сдвинуть с насиженного места.
Однако лед тронулся. Помог этому не кто иной, как всем известный азербайджанский лидер Гейдар Алиев, о чем я хотел бы публично заявить. Как раз в то время, когда появилась моя статья, он работал в Москве, руководил как первый заместитель главы правительства культурой. Ему доложили о выступлении газеты, и он, обладая громадной тогда властью, будучи членом всесильного Политбюро ЦК КПСС, распорядился вывести лабораторию из храма. Что это было именно так, а не иначе, мне рассказывали сотрудники исполкома Моссовета, ведавшие "нежилыми помещениями", готовившие проект решения по этому вопросу. Так что никакой высокопоставленный митрополит здесь ни при чем, как мне приходилось читать, спасибо нужно сказать товарищу Алиеву.
И не концертный "Пушкинский зал" открылся под сводами Большого Вознесения. А храм. И Малое Вознесение на той же Большой Никитской открыло двери для молящихся. Этот маленький храм располагается напротив консерватории. И в нем не будет, как намечалось, выставки музыкальных инструментов. Будет звучать под его сводами другая музыка.
ДВА ТОПОЛЯ МАРИНЫ
В наши дни экскурсионные автобусы, путешествующие по маршруту жизни Марины Цветаевой, попадают в Борисоглебский переулок. Располагавшийся в нем особняк маститого писателя Алексея Писемского не устоял, к сожалению. Теперь на его месте дорожка и сквер перед выстроенным в глубине владения посольским зданием. Среди деревьев у торцевой стены дома № 9 растет пара вековых тополей, сгорбившихся от времени, резко выделяющихся своим величием от молодого окружения. Эту пару тополей описывала не раз Марина Цветаева:
"Два дерева хотят друг к другу.
Два дерева. Напротив дом мой.
Деревья старые. Дом старый..."
Поворачиваешься и видишь: напротив двух тополей сохранился на своем месте двухэтажный домик с истертым каменным крыльцом, где проживала до лета 1922 года автор этих и многих других прекрасных стихотворений, поэм, пьес, только в наши дни получивших широкое признание. Она любила сиживать на этом крылечке... .
В этом доме на втором этаже в квартире № 3 жила Марина Цветаева.
Цветаевский дом не числится памятником архитектуры, при последнем ремонте его скромный фасад вообще лишился архитектурных украшений. В справочнике "Вся Москва" за 1913 год он за № 6 значится как владение "Балашовой Глафиры Ал.", представляя из себя двухэтажное строение, каких много появилось в этом районе после пожара 1812 года. Не похож этот ныне коробчатый дом на особняк в Трехпрудном переулке. Расставаясь с ним, сестры пригласили профессионального фотографа, чтобы сохранить о нем не только память в сердце, но и документальные снимки интерьеров. Однако при всем своем внешнем несходстве трехпрудный и арбатский дома внутри напоминали друг друга. Марина Цветаева подбирала новую квартиру с оглядкой на старую, с примерно такой же планировкой комнат, внутренней лестницей, антресолями... И это сходство сразу же подметила посещавшая дом в Борисоглебском младшая сестра.
"Странное, как во сне, чувство, - пишет она в "Воспоминаниях", меньше и ниже, но это гостиная Трехпрудного: так же, как там, она проходная - дверь в кабинет и дверь в залу, направо, между двух (меньше) печей, гостиная мебель, ковер; налево два окна..."
К моменту своего появления на Арбате Марина Цветаева успела издать в Москве два поэтических сборника - "Вечерний альбом" и "Волшебный фонарь", а также книжку, составленную из этих сборников. За восемь лет жизни в Борисоглебском переулке голос Марины Цветаевой окреп и зазвучал в полную силу.
В этом доме была Марина Цветаева и счастливой, и глубоко несчастной. Здесь у нее родилась вторая дочь - Ирина. Юный муж - Сергей Эфрон экстерном сдал экзамен за выпускной класс гимназии, поступил в университет. Дом был полной чашей, несмотря на то, что шла мировая война, долго не испытывал нужды... А потом начались испытания. Сергей Эфрон ушел добровольцем на фронт, братом милосердия, не желая больше пользоваться отсрочкой от армии в то время, когда шла война. Потом поступил в Александровское училище, стал офицером. Когда началась гражданская война, вести от него перестали поступать: четыре года Цветаева не знала, что с ним, жив он или мертв.
Свой дом и переулок в автобиографической прозе Марина Цветаева описывала неоднократно, причем в мельчайших подробностях.
"Сворачиваем в переулок, - рисует она возвращение в Москву из Крыма осенью 1917 года, с зачерствевшими хлебами, успевшими подзасохнуть во время длительного и опасного пути в те самые дни, когда в Москве шли уличные бои. - Наш Борисоглебский. Белый дом Епархиального училища, сквозная галерея и детские голоса. А налево тот зеленый старинный навытяжку. (Градоначальник жил и городовой стоял.) И еще один. И наш". Указан и любимый ориентир - два дерева против крыльца. Номер квартиры помнила всегда, даже много лет спустя...
Когда в Москве стало голодно, Марина Цветаева получила командировку в отделе изобразительных искусств "для изучения кустарных вышивок" и отправилась в опасный путь в "вольном поезде", битком наполненном безбилетными пассажирами, "мешочниками". Она решилась на такой отчаянный шаг, как поездка в Тамбовскую область, чтобы обменять ситец, спички на пшено и хлеб. В ее багаже хранилась книжка о Москве. Такие книжки она не раз дарила.
- Вы не смотрите, что маленькая, - говорила при этом, - в ней весь малиновый звон!
Цветаева характеризует книгу такими словами: "Москва, издание универсальной библиотеки. Летописцы, чужестранцы, писатели о Москве. Сокровищница!" И по этим данным я быстро нашел в библиотеке объемистый свыше 500 страниц, изданный в 1916 году акционерным обществом "Универсальная библиотека" малоформатный сборник, составленный Михаилом Коваленским. Его название - "Москва в истории и литературе", в нем содержатся отрывки из летописей, описания Москвы средневековых путешественников, поэтов и писателей России и зарубежных стран, видевших город в XVIII - XX веках. Сборник, между прочим, непревзойденный до сих пор по подбору авторов, обилию информации, ценимый всеми, кто собирает книги о Москве.
Вернувшись домой, решила пойти служить. По утрам спешила из Борисоглебского переулка на Поварскую улицу, в бывший дворец графов Соллогуб. (В нем помещается Союз писателей.)
С этим дворцом связан особый период в жизни Марины Цветаевой: в нем она не только неоднократно бывала, выступала, но и работала.
В начале революции здесь располагался некоторое время дом Чрезвычайной комиссии. Потом помещение передали Наркомату по делам национальностей. Работу подыскал Цветаевой квартировавший у нее, как она пишет, "икс, коммунист кротчайший и жарчайший". Он рекомендовал в информационный отдел наркомата, где приходилось заниматься составлением обзоров, сделанных на материале московских газет.
Стол Цветаевой располагался в "розовой зале". К столу, заваленному кипами газет, она приходила, успев выстоять по нескольку очередей: за молоком на Кудринской площади, за конопляным маслом на Арбате и за воблой на Поварской. За время службы, а продолжалась она почти полгода, с 11 ноября 1918 года по 25 апреля 1919 года, успела изучить весь особняк, все комнаты, мебель, обстановку, картины, статуи, даже посуду запомнила, сосчитала и число ступенек - 22. Ее волновал портик с колоннами, она испытывала робость перед такими замечательными домами.
Служила бы Цветаева и дальше, хотя работа доставляла ей мало радости, если бы не предложили однажды ей составить некую "классификацию", ставшую камнем преткновения. Эта классификация не давалась, как в свое время арифметика и алгебра. И не далась. Попросила расчет, сочинив товарищам, что уходит "на хороших условиях" в другое учреждение.
Нашла работу поблизости от дома, на Смоленском бульваре, в "Монпленбеже", ведавшем делами бывших пленных и беженцев, тут служба оказалась совсем техническая. Цветаевой следовало в день рассортировать 200 карточек. Но это было ей не под силу. Она уволилась и больше никогда в жизни не служила.
Недолго пребывал особняк на Поварской в ведении учреждений. В 1919 году в нем открылся Дворец Искусств. К радости Марины Цветаевой, на прежнее место вернулась старинная мебель, снова засияла хрустальная люстра, занавешенная было чехлами, открылись портреты на стенах.
7 июля Марина Цветаева шла во дворец, получив приглашение как поэт. В той самой "розовой зале", где служила, она читала свыше 45 минут пьесу "Фортуна". Среди слушателей находился нарком просвещения Луначарский. Цветаева увидела на его лице "невозможность зла". Луначарскому пьеса понравилась, он даже с неодобрением шикал, когда кто-нибудь из публики двигался и мешал слушать.
Трудным годом для Марины Цветаевой, как и для всего народа, оказался тот 1919-й, запомнившийся "самым черным, самым чумным, самым смертным". К тому времени относится такая запись в дневнике: "Живу с Алей и Ириной (Але 6 лет, Ирине 2 г. 7 мес.) в Борисоглебском пер., против двух деревьев, в чердачной комнате, бывшей Сережиной. Муки нет, хлеба нет, под письменным столом фунтов 12 картофеля, остаток от пуда, отложенного соседями, - весь запас".
И немного ниже: "Живу даровыми обедами (детскими)".
В этом отрывке, столь трагическом, видишь и ту силу, которая не дала погибнуть. В одном случае то была хоть и малая, но помощь государства, в другом - помощь знавших ее людей. Одна соседка - жена сапожника - подарила карточку на обеды, другая присылала на верхний этаж в комнату, где жила мать с двумя дочерьми, супы, делая это тайно от мужа, невзлюбившего Марину...
И она делилась последним: поленом дров, например. Рубила и пилила сама, иногда кто-нибудь из знакомых мужчин помогал в особо трудных случаях, когда требовалось одолеть массивные балки на чердаке.
Днем совершала пешие пробеги по соседним улицам и переулкам, чтобы занести чистую посуду в детский сад, позднее забрать ее с обедом, сходить в Староконюшенный переулок за "усиленным питанием", оттуда на Арбат, в столовую, а затем в хлебный магазин.
Чтобы согреть очаг, в печку пошла мебель из красного дерева; чтобы прокормить двух дочерей, ничего не оставалось, как отнести на Смоленский рынок почти все, что имелось в доме. Не стало рояля: его выменяла на хлеб. Болели дети. Младшую дочь пришлось отдать в интернат, где она скончалась, не дожив до трех лет. Но старшую - Ариадну - мать спасла.
Квартиру никто не убирал. Жизнь концентрировалась в одной комнате, где стояла печь-"буржуйка" и стол, Цветаева, несмотря ни на что, творила.
О, скромный мой кров! Нищий дым!
Ничто не сравнится с родным!
С окошком, где вместе горюем,
С вечерним простым поцелуем
Куда-то в щеку, мимо губ...
День кончен, заложен засов,
О, ночь без любви и без снов!
Ночь всех натрудившихся жниц,
Чтобы завтра до света, до птиц
В упорстве души и костей
Работать во имя детей.
О, знать, что и в пору снегов
Не будет мой холм без цветов...
Когда дом засыпал, она садилась, чтобы записать то ли строчки стихов, то ли дневника - между ними сама не делала особого различия. "Мои стихи дневник, моя поэзия - поэзия собственных имен".
Вела дневник уже в шесть лет Ариадна. И его Марина ценила и берегла не менее, чем свой. Она даже мечтала издать два дневника в одной книге. Бывают дети, поражающие с ранних лет удивительными музыкальными способностями: исполнительскими или композиторскими. Ариадну Эфрон природа наделила редким литературным даром, который открылся необычно рано. Записи, сделанные ребенком, представляют талантливую прозу.
Так, например, из описания Ариадны Эфрон, сделанного в конце 1920 года, можно увидеть картину выступления поэтов и Марины Цветаевой в Большом зале Московской консерватории.
"Темная ночь. Идем по Никитской в Большой зал консерватории. Там будет читать Марина Цветаева и еще много поэтов, - писала семилетняя девочка. Она читала стихи про Стеньку Разина. Она читала ясно, без всяких иностранных слов. Она стояла как ангел. Весь народ в зале так смотрел на читающую, как ястреб или сова на беззащитную птицу".
Выступала Марина Цветаева и в другой крупной аудитории Политехнического музея, в частности на вечере поэтесс, который вел, как и в консерватории, Валерий Брюсов, часто председательствовавший на поэтических собраниях тех лет.
Цветаева выходила на эстраду в платье, неумело сшитом из зеленого сукна, которое ей казалось подрясником, перетянутая ремнем, с офицерской сумкой через плечо и в валенках.
В дневнике девочка описывала гостей, запоминала, а потом заносила на страницы дневника их высказывания, характеристики людей.
В этом дневнике - "портрет Марины", каким его сочинил Илья Эренбург: "Маленький узкий переулок, два больших дерева напротив подъезда, маленькая лесенка с шаткими перилами. Много ненужных вещей, как у "тетушек" или антиквара. Она похожа на школьницу",
К тому времени, когда пришла пора уезжать за границу для встречи с мужем, Марина Цветаева и дочь занимали три комнаты; проходную со стеклянным фонарем в потолке и проломанными стеклами, маленькую комнату с окном во двор, где находился кабинет, и светлую, просторную - детскую.
Как и другие московские писатели, Марина Цветаева переписывала свои стихи от руки, брошюровала листы, сшивала и относила самодельные книжки в "Лавку писателей". Эти книги находили читателей, из которых не все, конечно, понимали, какие бесценные автографы приобретали они. По поводу этих рукописных книг ходила невеселая шутка Бориса Зайцева: "Преодолевать Гутенберга".
Кончилась гражданская война, а с нею голод, разруха. Не нужно было больше изготавливать рукописные книги. Марина Цветаева получила так называемый "академический паек", как поэт.
Перед отъездом из Москвы за короткий срок она, за десять лет не выпустившая ни одного сборника, издала одну за другой четыре книги: "Версты" (два выпуска), а также "Царь-девицу" и "Конец Казановы", за которыми теперь охотятся библиофилы: одну такую маленькую книжечку видел я в "Пушкинской лавке" букинистов...
Еще при жизни Цветаевой квартира стала коммунальной, где, как мне сказали, проживали в иные годы 23 человека. Поднявшись по невысокой лестнице на второй этаж, останавливаюсь перед тяжелой, из хорошего дерева (под краской не определишь - из какого) резной дверью. В глазах рябит от кнопок звонков. Среди них поблескивает хромировкой старинный механический звонок с призывом: "Прошу повернуть". Им пользовалась Марина Цветаева и ее гости. Повернул и я ручку звонка. Как ни странно, он глухо зазвучал. Но никто не откликнулся. Долго никто не отзывался и на электрические звонки. Оказалось, что за исключением одной семьи все уже выехали из квартиры, а те, кто остался, ждут ордера. С их разрешения и вошел в бывшую цветаевскую квартиру, ища глазами то, что должно обязательно сохраниться, - лестницу, антресоли, комнату с потолочным окном.
В нее попадаю сразу же - она недалеко от порога. Комната редкостная где увидишь, чтобы окно располагалось не в стене, а в потолке над головой? Как раз в той комнате, непродуваемой, самой теплой в холодные московские зимы, и жила Марина Цветаева.
Побывавший однажды в доме слесарь, чинивший водопровод, говоривший по-украински, увидел среди вещей ободранное чучело лисы и, приняв ее за петуха, удивился, что, мол, за "петухив" развели в квартире... С тех пор стали гостиную называть "петухивной". Она описана в мемуарах.
Марина Цветаева дружила с артистами театральной студии, руководимой Евгением Вахтанговым, сюда к ней приходили "памятнейший из всех" Юрий Завадский и "пылкий" Павел Антокольский...
Павел Антокольский запомнил Цветаеву такой: "Марина Цветаева статная, широкоплечая женщина, с широко расставленными серо-зелеными глазами..."
Как Анна Ахматова своей поэзией, всем своим духовным настроем принадлежит великому городу на Неве, замечает Павел Антокольский, так и Марина Цветаева неразрывно связана с Москвой. Для театра Марина Цветаева написала шесть стихотворных пьес, не нашедших режиссера. В музее Вахтанговского театра хранятся два автографа стихов поэта, посвященных Евгению Багратионовичу Вахтангову, помеченные 1918 годом. В наши дни они опубликованы с предисловием Рубена Симонова.
Часто бывал в доме поэт Константин Бальмонт, чьими стихами зачитывалась в начале века вся Россия. С ним она, бывало, не раз раскуривала трубку, набитую общим пайковым табаком.
Александра Блока видела, слышала, как он читал стихи, но не подошла, не познакомилась. Не решилась.
По-иному сложились отношения с Владимиром Маяковским. Цветаева была среди тех немногих, кто еще в начале 20-х годов считал его крупнейшим поэтом современности.
Накануне отъезда из России, 22 апреля 1922 года, как писала Марина Цветаева, рано утром на совершенно безлюдном Кузнецком мосту она встретила Владимира Маяковского.
Рассказала ему, что едет за границу, к мужу, а потом, прощаясь, спросила:
- Ну-с, Маяковский, что же передать от Вас Европе?
- Что правда здесь.
С этими словами они попрощались, пожав друг другу руки, и разошлись в разные стороны.
Спустя шесть лет Маяковский выступал в Париже в одном из кафе, Марина Цветаева служила ему переводчиком. После окончания вечера поэты вышли на улицу вместе, и Маяковский, не забыв их разговор на Кузнецком мосту, в свою очередь, обратился к Цветаевой с вопросом:
- Что же скажете о России после чтения Маяковского?
И она, не задумываясь, ответила:
- Что сила там.
Столь же высоко, как Владимира Маяковского, ценила Цветаева Бориса Пастернака. В Москве они однажды шли рядом, неподалеку от этого дома, в день похорон жены композитора Скрябина. Но тогда им не пришлось познакомиться. Пастернак, как и другие современники, не обратил внимания на вышедший цветаевский сборник "Версты", хотя и видел его в книжной лавке. А прочел, когда уже Марина Цветаева находилась за границей.
Как пишет Ариадна Эфрон, Борис Пастернак "любил ее, понимал, никогда не судил, хвалил...". Он первый прислал ей письмо, дав восторженную оценку стихотворения Марины Цветаевой. Между ними завязалась переписка, длившаяся много лет - с 1922 по 1936 год, имевшая большое значение для творчества обоих поэтов. Пастернак обращался к Максиму Горькому с просьбой: "...вырвать это огромное дарование... из тисков ложной и невыносимой судьбы и вернуть его в Россию".
Когда Марина Цветаева в 1939 году вернулась из эмиграции, она виделась с Пастернаком редко, он был среди немногих, кто провожал ее в эвакуацию из Москвы, не сумев отговорить от этого рокового шага.
Проводы состоялись на Северном речном вокзале в Химках. Пароход увозил Марину Цветаеву с сыном в Елабугу. Вместе с Пастернаком пришел на пристань тогда молодой поэт Виктор Боков...
Позднее в письме к Ариадне Эфрон Борис Пастернак признавался: "Я для вас писал "Девятьсот пятый год" и для мамы - "Лейтенанта Шмидта". Больше в жизни это уже никогда не повторится".
Заочная любовь и дружба позволила, по словам Пастернака, находиться в "счастливой приподнятости". Они вдохновляли друг друга, писали друг для друга, а в результате русская современная поэзия обогатилась множеством замечательных лирических стихотворений и поэм.
Пастернак, как и Цветаева, любил район Арбата, жил в нем, селил своих героев в арбатских переулках. Но в Борисоглебском, в "Маринином доме", - не побывал.
...В опустевшем двухэтажном доме, в квартире № 3 не осталось ничего из старых вещей, сгодившихся на Смоленском рынке. Узкая скрипучая лестница, как прежде, ведет на антресоли, так любимые Мариной Цветаевой, где в мирные годы находилась ее святая святых, рабочий кабинет, о котором она позднее писала:
"Чердачный дворец мой, дворцовый чердак.
Взойдите. Гора рукописных бумаг.
Так. Руку! - держите направо,
Здесь лужа от крыши дырявой."
На антресолях свет падает в маленькие окошки, хорошо видимые со двора, они довольно высоко от земли, на уровне третьего этажа. И хотя света пропускают немного, зато из них видна ей была Москва, ее небо, и тогда в тетрадь заносились строки: "Глядите от края до края! Вот наша Москва голубая!"
Марина Цветаева хорошо знала и любила Москву - "пушкинскую", "грибоедовскую", "лермонтовскую", знала дома, где жили и бывали поэты. Про Арбат она писала: "А Арбат велик..." Есть теперь и Москва - "цветаевская", улицы и переулки, где она жила, училась в гимназиях, выступала с чтением своих стихов, встречалась с поэтами, слушала Александра Блока... И на этой дороге жизни главной станцией Марины Цветаевой остался дом в Борисоглебском.
ХЛЕБНЫЙ ПЕРЕУЛОК
Этот переулок никогда не знал общественного транспорта, не стремятся в него и громоздкие экскурсионные автобусы, петляющие по соседним улицам и переулкам. Но если бы сюда они попали, то экскурсантам ехать бы и не пришлось, потому что следовало останавливаться почти у каждого дома. Хлебный переулок расположен в том районе старой Москвы, какой называют душой города: в нем концентрировалась некогда духовная жизнь, жили те, без кого нельзя представить отечественную культуру, - писатели, композиторы, артисты, ученые, врачи...
В допетровские времена здесь располагалась слобода, где жили хлебопеки государева Хлебного двора, служившие в Кремле. Рядом с ними проживали повара, скатертники, давшие названия возникшим на их землях улицам, переулкам - Поварской, Скатертному. Прежде и Хлебный имел права улицы, располагаясь параллельно Поварской. И так же как по этой улице, достаточно пройти несколько сот метров по старому переулку, чтобы представить, как развивалась русская архитектура и искусство градостроения Москвы последние три века. Видишь, как классицизм сменила эклектика, как началось увлечение неоклассикой, появился модерн, далее конструктивизм. Есть в Хлебном переулке и классическая усадьба, и ампирные особняки, есть дворцы и доходные дома эклектики и модерна, сохранились прижавшиеся к земле флигеля и взметнувшаяся ввысь железобетонная громада. Это переулок посольств. В самом конце 50-х годов здесь появился концертный зал института имени Гнесиных, а в 70-е - поднялось рядом 13-этажное здание музыкального училища, единственное столь высокое среди здешних домов. Современная архитектура оставила свой великолепный след в особняке, выстроенном для постпредства Грузинской ССР. По проекту московского архитектора Георгия Чичуа создан дом, дающий представление, как в зодчестве могут проявляться национальные и интернациональные черты, новаторство и традиции. Отделанные золотистым камнем стены не отяжелены, богаты декоративными деталями только оконные проемы, балкон и флагшток, две входные арки. Но этими скупыми средствами создается образ монументальный и узнаваемый - это дом Грузии, теперь ее посольство.
Застраивается и украшается переулок сотни лет. Возможно, что в стенах зданий сохранились остатки средневековых палат, и они ждут своих исследователей и реставраторов. Но вот московскую усадьбу середины XVIII века, причем хорошо сохранившуюся, видишь сразу. Она стоит в начале переулка - главный дом и два симметрично поставленных флигеля. Это редкий памятник старой Москвы, потому что рассказывает не только об одном строении, но и о том, какими дворцами застраивался город до 1812 года. После пожара даже оставшиеся здания обычно перестраивали, а вот этот сохранил свой вид. У главного дома настолько высокие этажи, что соседние, тоже двухэтажные, флигеля выглядят намного ниже. По фасаду - четыре полуколонны коринфского стиля. Флигеля совсем скромные, тем не менее весь ансамбль производит сильное впечатление, что свойственно истинным произведениям классицизма, главенствовавшего во второй половине века в Москве. Дому этому - ныне в нем Институт США и Канады - предстоит научная реставрация, предполагается выяснить и его родословную, и тогда, возможно, о нем можно будет еще раз рассказать.
Рядом в Хлебном переулке стоит дом, о котором можно сообщить кое-что новое. Это один из немногих деревянных домов, появившихся в переулке после пожара 1812 года. По планам, хранящимся в историко-архитектурном архиве, видно, что появился он в первой трети XIX века, состоял в третьем квартале Арбатской части и принадлежал тогда "купцу Лариону Кириллову сыну Сельского", то есть Лариону Кирилловичу Сельскому. На плане начертан фасад с пятью окнами, никаких украшений - ни портика, ни лепнины, модной тогда, стены гладкие, как у нынешних домов. Таким и сохранился до наших дней этот особнячок. Никогда его и не штукатурили, стены обшили тесом, тонкими досками. В восставшей из пепла Москве таких домиков было множество, а теперь - единицы. И выглядит этот старожил Хлебного переулка по-московски: это типичный дом с антресолями. Он пока не попал в поле зрения краеведов, собирались его даже снести как не представляющий якобы никакой ценности. Но это не так.
Стоит дом на кирпичном подвальном этаже, опустившись куда, видишь большие клейменые кирпичи, скрепленные беловатым известковым раствором, настолько прочным, что не видно нигде изъянов, и за полтора века окаменевшим настолько, что между кирпичами трудно вогнать гвоздь. Столь же хорошо сохранился бревенчатый накат. Тонкие стволы местами рассохлись, но прочности не потеряли, а большие несущие бревна поражают монолитностью: они без сучка и задоринки, нигде не подгнило. Бревна наверняка пропитывались специальным составом, придавшим им такую долговечность. И так дерево выдержало испытание московских зим и лет. Бревна еще хранят янтарный сок. Старое дерево пахнет по-особому приятно, и, попадая в такие стены, понимаешь, почему наши предки так держались за дерево, предпочитая жить в деревянных домах.
Вот и выходит, что деревянный этот дом с антресолями - памятник строительного искусства, редкий теперь пример рядовой застройки Москвы первой трети XIX века. Так считал один из последних жильцов этого дома, академик Николай Николаевич Некрасов, кстати, много сделавший, чтобы сохранить постройку.
У дома - своя история. При последнем ремонте удалось сохранить старый паркет в гостиной, самой большой и светлой комнате. Потому, что красив и прочен, и потому, что по нему ходили многие интересные люди. В 1902 году поселился здесь профессор Московской консерватории, музыкант, дирижер, критик Николай Разумникович Кочетов, чьим мнением дорожили многие его современники. В частности, он дирижировал оперой Римского-Корсакова "Сервилья", и о нем композитор тепло отзывается в "Летописи моей жизни". С гимназических лет, как рассказала мне дочь Кочетова Александра Николаевна, ее отец дружил с Петром Лебедевым, ставшим великим физиком, и Александром Эйхенвальдом, также выдающимся физиком-экспериментатором. Оба они часто бывали в Хлебном переулке в доме друга. Николай Кочетов увлекался живописью, изобрел даже средство, фиксирующее пастельные краски, чтобы они не осыпались. Этим заинтересовался Валентин Серов. Оба они, Серов и Кочетов, запомнились дочери композитора за испытанием нового средства лежащими на полу вместе, над рисунками. Позже бывали здесь художники Евгений Лансере, Игорь Грабарь, композиторы Арам Хачатурян, Сергей Василенко...
В стоявшем справа от этого дома деревянном, недавно снесенном особняке жили историки академик Роберт Виппер, его сын Борис Виппер, знаток западноевропейской литературы. В прошлом веке жил профессор Московского университета Тимофей Грановский, чьи лекции по истории были событием в жизни Москвы. Предполагают, что Грановский посадил во дворе дома дуб. Каждую весну он зеленеет, храня память о том, кто его посадил.
Хлебный переулок видел многих наших композиторов и ученых. Там, где теперь доходный дом, четырехэтажный, № 26, располагался особняк, где на закате жизни поселился автор "Аскольдовой могилы" композитор А. Н. Верстовский. В самом начале, с нечетной стороны, стоит довольно большой для этого переулка дом, где проживал композитор Скрябин. Как раз в пору жизни здесь он написал все три симфонии, в том числе "Божественную поэму", знаменитую Третью симфонию, мечтая ее музыкой сделать людей могучими.
Двенадцать лет, с 1911 по 1923 г., пока в двухэтажном кирпичном доме № 6 снимал квартиру профессор Московского университета Дмитрий Анучин, место это было центром притяжения географов всей России, потому что он был общепризнанным их главой. Анучин учредил кафедру географии университета, институт антропологии, носящий его имя, внес вклад в этнографию, археологию, будучи энциклопедистом науки. Занимался он геологией и географией Москвы, исследовал причины наводнений, причинявших в прошлом урон городу. Остались его воспоминания о Москве.
В Хлебном переулке перед мировой войной построили многоэтажный по тем временам дом под номером 19. Советский историк П. Лопатин в пропагандистской книге, изданной в 1934 году под названием "От старой Москвы к новой", на примере жильцов этого дома доказывал, что при советской власти рабочие живут гораздо лучше, чем их братья по классу в Европе и Америке. Он назвал поименно бывших обитателей этого комфортабельного дома, где до революции проживали генерал-майор Ф. П. Васильев, по приказу которого артиллерия била по восставшей Пресне, тайный советник фон-Дитрихсон, владевший землей в подмосковном уезде и домом на Пресне, а также горный инженер А. Н. Фенин, миллионер, поставлявший мазут и уголь московской электростанции, к которому запросто приезжал в гости городской голова князь Голицын...
"В их уютных просторных квартирах на Хлебном переулке мраморные колонны, обитые французским шелком диваны, гаванские сигары и заграничные ликеры".
Об их судьбе после 1917 года историк не упоминает, пишет только, что их квартиры заселили новые жильцы, называет их фамилии и инициалы - А. П. Никольский, С. А. Андреев, М. Я. Бубенцов, "ткачи и сталевары, токари и фрезеровщики - действительные хозяева Москвы". Об одном не говорит историк, что эти действительные хозяева получили в доме не по квартире, а по комнате, в лучшем случае - две, где в каждой такой ячейке, с общей кухней и туалетом, ютились десятки жильцов одной коммунальной квартиры. Таким на практике обернулся реальный коммунизм, построенный Лениным.
В этом же доме квартиру номер 24 занимал после революции глава английской миссии Локкарт, переживавший тогда роман с Марией Закревской, баронессой Будберг по первому браку. О ней написана изданная в Москве книга Нины Берберовой под названием "Железная женщина".
В эту квартиру явились подосланные главой ВЧК Дзержинским командир латышских стрелков полковник Берзин с подпоручиком Шмидхеном. Они блестяще разыграли по сценарию "железного Феликса" одну из его гениальных провокаций. Стрелки попросили у англичан и получили письмо для связи с союзниками, а также деньги для подкупа латышей, несших охрану Кремля. Эти "вещдоки" послужили основанием для последовавшего разоблачения "заговора Локкарта", вошедшего в историю, ареста Локкарта, с трудом избежавшего пролетарского суда. Об этой истории проживший долгую жизнь английский дипломат написал в мемуарах, также изданных в наши дни в Москве.
А чекист Берзин мемуаров не оставил, он возглавлял один из островов архипелага ГУЛАГ и был в годы большого террора расстрелян своими.
ИЗ АЛЬБОМОВ КАЗАКОВА
"... - одна из немногих
улиц Москвы, где почти каждый
дом представляет интерес."
Е. Николаев. Классическая Москва, 1975 г.
Большую Никитскую считают музеем классической архитектуры. Если вы поклонник этого великолепного стиля, без которого невозможно представить ни Москвы, ни Петербурга, ни многих других исторических городов, то приходите сюда. Тут можно увидеть и почувствовать искусство лучших мастеров, стремившихся, как писал В. Баженов, к тому, чтобы иметь "главнейшие три предмета: красоту, спокойность и прочность здания".
Многие такие дома, которым уже по 200 лет, мы видим по обеим сторонам улицы, поднимающейся от Кремля вверх по склону большого московского холма, по которому в том же направлении идет и главная улица столицы - Тверская.
Ширина улицы по неписаным правилам, как пишет Е. Николаев, должна была равняться высоте домов. А последние строились в два-три этажа. При таких пропорциях здания хорошо освещались, были сомасштабны человеку, пешеходу. И в то же время улица, которую "чувствуешь локтями", довольно широка. Во всяком случае, по улице и сейчас свободно проезжают громоздкие троллейбусы.
По этой улице лучше всего путешествовать с путеводителем, составленным страстно любившим ее молодым ученым Евгением Николаевым, сотрудником Института фармакологии и химиотерапии, химиком по образованию и знатоком Москвы по призванию, не успевшим завершить эту работу (она вошла в посмертно изданный сборник "Классическая Москва").
А еще перед дорогой стоит раскрыть архитектурные альбомы лучших зданий Москвы, составленные Матвеем Казаковым в конце XVIII столетия. Альбомы эти предназначались для нас, потомков. Вскоре после их создания случился пожар 1812 года, и без них мы не могли бы сейчас представить так зримо, какой была наша Москва.
Название такое: "Альбомы партикулярных строений". Партикулярный значит частный. На Никитской улице за исключением университета дома принадлежали частным лицам, самым известным и состоятельным, естественно. Многие дома попали на страницы альбомов. Помощники зодчего ходили по улицам и, вызывая пристальное внимание прохожих и зевак, обмеряли здания, составляли планы, делали зарисовки...
Первый такой дом (в альбоме М. Казакова изображен его проект) находится на нечетной стороне улицы. Этот дом № 5 занимает издательство Московского университета. Строился он при Екатерине II для графа Владимира Григорьевича Орлова, "екатерининского орла", который, конечно, нанял лучшего зодчего. А кого именно? Крупнейший исследователь Москвы историк И. М. Снегирев называет автором дома Матвея Казакова. Великий мастер на закате жизни в прошении об отставке и о назначении пенсии указывал, что первый из шести альбомов весь "состоит из строений, построенных мною в Москве" и учениками. Но это не исключает, замечает Е. Николаев, что в других альбомах не было работ великого зодчего, полвека застраивавшего Москву. Так или иначе перед нами один из тех домов, какие без малого двести лет назад, до пожара, украшали улицу. Составители альбомов не только зарисовали внешний вид дома, но и его интерьеры. Мы видим даже, какая висела люстра в центральном зале, форму дверей, колонн, барельефы, украшавшие дом снаружи и внутри. А в мезонине неожиданно встречаем великолепный зал с колоннами греко-тосканского ордера. В доме бывали многие великие люди: владелец дома граф В. Г. Орлов возглавлял Академию наук, в его доме устраивались концерты. На них выступал, в частности, известный композитор А. Гурилев, автор романса "Однозвучно гремит колокольчик" и многих других прекрасных песен. Он и жил в этом доме, будучи крепостным графа. А уроки внуку Орлова давал молодой Вильгельм Кюхельбекер, декабрист, друг Пушкина.
Пройдя по улице немного выше, видим, как сказано в альбоме, "дом князя Сергея Александровича Меншикова в Белом городе на Никитской улице".
Это трехэтажный дворец на белокаменном подклете в нежном бело-голубом наряде, так характерном для Москвы. Уличный фасад был видоизменен в стиле позднего классицизма - ампир, царившем после 1812 года; тогда же появился портик из полуколонн с аркадой, изменилась рустовка, прибавилась лепнина. Этим дворцом владели потомки Меншикова, сподвижника Петра.
А вот другому дворцу - Л. К. Разумовского, "генерал-майора, кавалера, графа", стоящему напротив (дом № 9), не повезло. Был он, как видно из рисунка в альбоме, двухэтажным, с двумя воротами и боковыми флигелями, тоже двухэтажными. Все это в течение времени перестраивалось, достраивалось, постройки сливались, и теперь перед нами причудливое строение. Быть может, в будущем удастся вернуть дворцу его прежний облик. Ведь фасад, профиль, генеральный план - все это есть в альбоме М. Казакова.
Четвертый дом из XVIII века (№ 11) ныне занимает юридический факультет университета. Правда, прежде у него были два крыла, ныне слившиеся в одно целое с главным корпусом.
А есть ли на улице дома - творения самого Матвея Казакова? Конечно, есть. В следующем очерке мы расскажем о них.
В первой книге альбомов значится также "дом г-на Безсонова". Он меньше, скромнее других - одноэтажный, с мезонином, с маленькими колонками, очень уютный и чем-то напоминающий арбатские особняки. Где эта постройка? Очевидно, она вошла составной частью в какое-нибудь большое здание на улице.
Матвей Казаков включил в альбом 103 строения. Из них почти пятая часть находится в первой книге. Конечно, все это капля из моря великолепных зданий, уничтоженных пожаром 1812 года. Впрочем, кое-что уцелело, несмотря на огонь и время. Так, например, в большом здании консерватории два этажа с полукруглым входом - часть от располагавшегося тут дворца XVIII века. Стоящий напротив розовый дом № 14 также дошел до нас из прежних веков. Владели им потомки знаменитого Я. Брюса, сподвижника Петра, полководца, ученого и "колдуна", который издал популярный календарь. Сам основатель рода владел приземистыми одноэтажными палатами. Его наследник возвел еще два этажа, и тогда дом стал примерно таким, каким мы его видим. Сделал это московский генерал-губернатор Я. А. Брюс, вошедший в историю Москвы, в частности, тем, что он представил Екатерине II генеральный "прожектированный" план Москвы 1775 года, первый в истории города и изменивший во многом его черты.
СТАРОЕ ЗДАНИЕ
Воротами улицы служат корпуса старых зданий Московского университета. Немного выше - Московская консерватория, находящаяся здесь с первых лет основания. На этой улице жил Александр Суворов, венчался Александр Пушкин, преподавал Петр Чайковский, происходило много разных событий.
На огромную площадь, раскинувшуюся перед Манежем, выходят корпуса университета, образующие редкий по цельности и красоте ансамбль классической архитектуры.
Здание университета, что находится на правой стороне улицы, называют "старым", а то, что на левой, - "новым" (его называют также Аудиторным корпусом), хотя на первый взгляд они одногодки.
Из множества строений университета, появившихся в течение XVIII, XIX и XX веков, то из них, что виднеется за оградой двора, где установлены памятники Герцену и Огареву, является самым знаменитым. От него, как от ствола, пошли во все стороны ветки древа университета, разросшегося так сильно, что для него в наше время пришлось возвести специальный комплекс зданий на Воробьевых горах.
А все началось вскоре после того, как основанный в 1755 году в здании на Красной площади первый российский университет приобрел в начале Никитской улицы трехэтажный дом Репниных, где оборудовали актовый зал и аудиторию, классы, общежития. Дом был не мал, но вскоре он оказался тесен для разраставшегося с каждым годом университета.
Профессора обратились через Сенат к Екатерине II с просьбой "отвести для университета другое способное место, на котором бы расположить вновь построить для оного дом... например, на Воробьевых горах".
Как известно, эта мечта осуществилась только через двести лет, а тогда было решено развивать университет в районе Моховой и Никитской улиц. Обратились к архитектору Баженову за проектом; он его представил, как всегда, прекрасный и необыкновенный. Можно только воображать, какое бы изумительное здание получила Москва, будь этот проект претворен в жизнь. Но богач-самодур П. Демидов, пожертвовавший деньги на строительство, и слышать не хотел о проекте Баженова.
И то, что не удалось осуществить Василию Баженову, пришлось выполнить - в который раз! - его бывшему ученику Матвею Казакову. По его проекту из красного обожженного кирпича и белого камня построено трехэтажное здание на цокольном полуподвальном сводчатом этаже (с конца 1770-х годов постройка затянулась до 1793 года). Этот нижний этаж как прежде, так и теперь используется для служебных и хозяйственных нужд. В нем перед приходом армии Наполеона спрятали книги, богатейшее собрание рукописей, архив, экспонаты музея - все ценное, что не смогли вывезти из университета. Входы замуровали кирпичом и заштукатурили. Но свежая штукатурка привлекла внимание мародеров: вход взломали. Золота там не оказалось, а бумаги вскоре запылали. Огонь перекинулся в коридоры, охватил залы и комнаты, добрался до купола. Московский университет сгорел дотла.
Возрожден он был вместе с Москвой. Архитектор Д. Жилярди сохранил общий план, назначение главных помещений, масштабы здания Казакова, но перестроил парадный фасад, актовый зал, другие залы в стиле ампир, который тогда восторжествовал в архитектуре бурно застраиваемой Москвы. С тех пор и до наших дней сохранился этот облик университета. Белокаменный цоколь опоясывает п-образное здание, величественное и в то же время не подавляющее человека. Оно оштукатурено и выкрашено желтой краской, украшено барельефами, венками, львиными головами, медальонами, как того требовал ампир.
За расположенными в центре восемью колоннами находится актовый зал святая святых университета. В нем прошла реставрация, выполненная с большим мастерством московскими архитекторами и художниками. Сегодня этот великолепный зал, один из самых замечательных в Москве, выглядит таким, каким его увидела пораженная Москва после восстановления университета. Площадь зала 316 квадратных метров, высота около 15 метров (это современный пятиэтажный дом). Зал имеет форму вытянутого полукруга, его украшают семь арочных окон и изогнутая колоннада, поддерживающая хоры-балкон. Словами не передать того чувства, которое охватывает каждого, кто входит под залитые светом хрустальных люстр своды. Купол кажется высоким, как небо, палево-золотистые стены - просторными. Ощущение праздника охватывает вас с первого же мгновения, как вы ступаете на зеркальный паркет. Стены и потолок расписаны на античные сюжеты в технике гризайль. Живопись выполнена двумя красками - серой и белой - на малиновом фоне. Все это придает изображениям объемность.
Видели эти стены всех великих сынов России трех веков. Здесь состоялось свыше 170 выпускных актов и множество заседаний, собраний по разным поводам, связанным с жизнью университета, русской науки и культуры, Москвы, государства. Под гром оваций защитил в актовом зале диссертацию историк Грановский, студенты вынесли его отсюда на руках. Принятый здесь в члены Общества любителей российской словесности Лев Толстой произнес речь о значении русской литературы, а позднее читал неопубликованные главы из "Анны Карениной" и "Смерти Ивана Ильича"...
В январе 1894 года в актовом зале проходил съезд русских естествоиспытателей. На заседании секции статистики побывал молодой Владимир Ульянов. Часть из услышанных здесь докладов и выступлений Ленин потом проанализировал в своей известной работе "Развитие капитализма в России".
Актовый зал - не единственная большая аудитория этого здания. К этому залу примыкают большие комнаты, где в первой трети прошлого века находилась Большая аудитория словесного отделения (в наши дни здесь размещены экспонаты музея антропологии). В ней слушали лекции известные русские писатели - питомцы университета - Лермонтов, Тютчев, Белинский, Герцен, Огарев, Гончаров... Михаил Лермонтов любил слушать лекции, сидя на подоконнике...
Пушкин, как известно, не занимался в университете, но побывал в аудитории словесного отделения 27 сентября 1832 года. Об этом сохранились свидетельства как самого поэта, так и очевидцев, в том числе Ивана Гончарова, тогда студента, восторженного почитателя гения Пушкина. В письме жене Александр Сергеевич писал: "Сегодня еду слушать Давыдова (профессора университета. - Л. К.)... Мое появление произведет шум и соблазн..." Пушкин не ошибся, конечно. Так оно и произошло.
"Однажды, утром, - писал впоследствии в воспоминаниях один из студентов, - в Московском университете читал лекцию профессор И. И. Давыдов... Вдруг входит г-н министр, ведя с собой молодого человека невысокого роста, с чрезвычайно оригинальной, выразительной физиономией, осененной густыми, курчавыми, каштанового цвета волосами, одушевленной живым, быстрым, орлиным взглядом. Указывая на вошедшего с ним молодого человека, г-н министр сказал: "Здесь преподается теория искусства, а я привел вам само искусство". Не надобно было объяснять нам, что это олицетворенное искусство был Пушкин".
Профессор Давыдов читал лекцию о "Слове о полку Игореве". Своей очереди вступить на кафедру дожидался другой профессор литературы - М. Т. Каченовский, литературный противник поэта, с которым он не раз вел полемику. Спор произошел и здесь. Каченовский считал, как и некоторые другие филологи, что древнее "Слово" - поздняя подделка. Пушкин с ним не соглашался.
"Я не припомню подробностей их состязания, - пишет Гончаров, - помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский вонзал в него аналитический нож. Его щеки ярко горели алым румянцем и глаза бросали молнии сквозь очки... Пушкин говорил с увлечением, но, к сожалению, тихо, сдержанным тоном, так, что за толпой трудно было услышать. Впрочем, меня занимал не Игорь, а сам Пушкин".
Как потом отмечал в предисловии к переводу с древнерусского "Слова о полку Игореве" поэт Ап. Н. Майков, "Пушкин угадывал только чутьем то, что уже после него подтвердила новая школа филологии неопровержимыми данными".
Что же касается профессора М. Каченовского, то в грозном 1812 году ученый проявил себя как патриот. Когда все уходили из Москвы, в брошенном здании университета он обнаружил ценнейшую нумизматическую коллекцию. Оставив свои вещи, он с нелегкой ношей пешком отправился из города, чтобы после победы вернуть спасенное сокровище родному университету.
КРУГЛЫЙ ЗАЛ
Старое здание Московского университета спланировано так, что в его боковых овальных крыльях находятся круглые залы. Это большие уютные помещения, из окон которых прекрасно виден Кремль.
Зал на втором этаже назывался прежде бельэтажем. До недавнего времени здесь размещался филологический факультет, а теперь - институт повышения квалификации преподавателей. Этот зал заслуживает особого внимания. Это Круглый зал бывшего словесного отделения университета. В нем читали лекции все без исключения известные профессора отечественной филологии и истории, такие, как М. Погодин, С. Соловьев, Ф. Буслаев, А. Веселовский и многие другие блистательные ученые. А слушали эти лекции студенты, многие из которых впоследствии прославили нашу культуру и науку. В Круглом зале, одно время служившем квартирой директора, читал стихи Василий Жуковский. Позднее, в 1830 - 1832 годах, здесь учился Михаил Лермонтов и, конечно же, писал здесь стихи:
Святое место! Помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры...
Вспоминая позднее об университете, Лермонтов видел перед собой и этот Круглый зал...
Как пишут исследователи истории университета М. Белявский и В. Сорокин, "этот зал связан с историей литературы не только тем, что в нем слушали лекции многие русские писатели. Именно он был центром созданного университетом в 1811 году Общества любителей российской словесности, которое вело большую работу в области языковедения и литературоведения". Этому обществу мы обязаны изданием "Толкового словаря живого великорусского языка" В. И. Даля, собрания русских песен П. И. Киреевского, многих трудов и сборников. Общество обратилось к народу с призывом создать памятники Пушкину и Гоголю; оно организовывало и проводило многие юбилеи корифеев русской литературы, ставшие национальными праздниками.
А будни общества проходили в Круглом зале, где оно устраивало литературные вечера, научные заседания. В эти часы под сводами зала происходило единение науки и искусства. Лекции профессоров, доклады чередовались с выступлениями поэтов и писателей, артистов московских театров. Членами общества состояли многие известные литераторы. Антон Павлович Чехов одно время исполнял обязанности председателя общества. Любила посещать заседания в Круглом зале великая актриса Мария Николаевна Ермолова, многим обязанная университету, как и другие актеры Малого театра, начиная с Михаила Щепкина. Последний писал: "Правда, я не сидел на скамьях студентов, но с гордостью скажу, что я многим обязан Московскому университету в лице его преподавателей: одни научили меня мыслить, другие глубоко понимать искусство". Ермолова не раз читала в Круглом зале стихи любимых ею поэтов, слушала доклады. В столетнюю годовщину общества прославленная актриса провозгласила: "Честь и слава Московскому университету! Честь и слава Обществу любителей российской словесности!"
Другой Круглый зал - на первом этаже противоположного корпуса занимал до последнего времени ректорат. В нем проходили заседания руководства университета. Незадолго перед Октябрьской революцией совет университета вынужден был, из-за отсутствия средств, заложить в банке здания Московского университета... В этом зале, уже в наше время - в 40-е годы, архитектор Л. Руднев докладывал ректору МГУ академику А. Несмеянову проект строительства новых зданий университета на Ленинских горах - на том самом месте, куда обращали свой взор профессора университета еще в XVIII веке. Новые здания университета приняли первых студентов в 1953 году. С тех пор один кабинет ректора находился в высотном здании, а другой оставался здесь, в Круглом зале. Длилось так 20 лет, пока ректором университета был академик Иван Георгиевич Петровский. Он вместе с академиком А. Несмеяновым, ставшим к тому времени президентом Академии наук СССР, перерезал ленточку перед входом в новый дом МГУ. За то время, пока ректором был Петровский, университет бурно разросся. В нем появилось несколько новых факультетов, сотни кафедр, лабораторий. Конечно, это было требованием времени, диктовалось запросами науки. Но, бесспорно, проявился в этом и талант ректора, его способность быстро откликаться на самые сложные проблемы, далекие от родной ему математики. Круглый зал стал мемориальным - в нем открыта библиотека академика, насчитывающая 20 тысяч томов! Собрание бесценное. С юности Иван Георгиевич собирал книги, причем не только по специальности: тут тома по философии и истории, физике и астрономии, работы по психологии и логике, альбомы по искусству и архитектуре, романы, стихи. Причем на разных языках. Эта библиотека изучается, составляется ее каталог. Книги расставлены по полкам в соответствии с общепринятыми нормами. Оказалось, что это собрание по всем областям знаний современной науки. Это библиотека энциклопедиста XX века.
Петровский известен трудами по математике, но следил за развитием всех наук. Поэтому так быстро и откликался он на зов времени. В последние годы жизни ученый овладел английским, по его инициативе выпущен этимологический словарь русского языка. Однажды при встрече со мной ректор заметил, что у математиков обычно в пожилом возрасте пробуждается интерес к языкам... Но у него был такой же неугасимый интерес и к истории. На полках библиотеки - труды известных историков всех времен и народов, редкие книги, такие, как "Подлинные анекдоты о Петре Великом", трехтомное собрание сочинений Екатерины II, мемуары многих государственных деятелей, ученых, писателей; много книг о Москве, начиная с "Описания путешествия в Московию" Адама Олеария и кончая современными путеводителями. Рядом с этим собранием - книги о Петербурге - Ленинграде и русских городах...
По инициативе ректора был реставрирован актовый зал университета, и сейчас он стал, по существу, музеем, где выставлены редкие издания из собрания университетской библиотеки.
Стоят в Круглом ректорском зале у стены напольные часы с тяжелыми гирями и длинным маятником. Они единственная вещь, чудом уцелевшая со времен 1812 года. Их нашли в сгоревшем здании. Эти часы - как символ истории, продолжающейся в этих стенах.
Много замечательных людей работает в университете, который несет эстафету истории с 1755 года...
"РЕКТОРСКИЙ ДОМ"
"Это самое старое здание на территории Московского университета."
М. Белявский, В. Сорокин.Наш первый..., 1970 г.
Старое здание Московского университета, было время, служило не только для занятий. На верхнем его этаже в западном крыле располагалось общежитие на 150 студентов. В комнате № 11 жил в числе других "казеннокоштных" воспитанников Виссарион Белинский. Жил три года, после того как в октябре 1829 года приняли его на "казенный кошт", т. е. на государственное обеспечение. С того времени Белинский проводил большую часть дня и ночи под крышей старого здания.
Виссарион Белинский был очарован Москвой. Первые дни после своего приезда он ходил по городу, жадно впитывая новые картины и впечатления, побывал в Кремле. Эти впечатления отразились в "Журнале моей поездки в Москву и пребывания в оной", который Белинский не предназначал для печати. Теперь этот "Журнал" общеизвестен, мысли из него и сегодня не утратили своего значения: "Изо всех российских городов, - писал студент Белинский, Москва есть истинный русский город, сохранивший свою национальную физиономию, богатый историческими воспоминаниями, ознаменованный печатию священной древности, и за то нигде сердце русское не бьется так сильно, так радостно, как в Москве..."
В общежитии было удобно. Рядом с номерами, стоило только спуститься вниз на этаж, находились библиотека, музей, аудитории. И здесь все нравилось восторженному юноше: "Я был в Музеуме... Московского университета. Что сказать о нем: это есть небольшое царство очарований. Почти все, что есть удивительного и достойного внимания в природе, все там находится... Видел и университетскую библиотеку; она занимает четыре пространные комнаты".
Белинский занимается с упоением. Изучает два древних языка - латинский и греческий, три европейских - французский, немецкий, затем английский и, конечно, русский язык и литературу. Знание иностранных языков вскоре пригодилось: студент стал зарабатывать на жизнь переводами.
Теперь трудно даже вообразить, что в комнатах верхнего этажа ютились 150 студентов да еще сотня бедолаг, которые содержались воспитательным домом и другими благотворителями. Теснота, шум, неустроенность быта. Зимой в комнате общежития замерзала вода. Дуло. Ко всем невзгодам прибавились болезни. Туберкулез, сведший в конце концов в могилу Белинского, берет начало отсюда. Студенческая вольница начинает утомлять Белинского. Заниматься в этих условиях было трудно, питание в студенческой столовой приводило в ужас, казенная одежда износилась...
Единственное, что скрашивало жизнь, - царивший среди студентов дух свободомыслия, творчества. В те дни Белинский написал драму "Дмитрий Калинин" и читал ее под сводами верхнего этажа старого здания. Ее горячо приняли друзья. Но вскоре пришло разочарование: профессора университета, заседавшие в цензурном комитете, запретили драму к печати, усмотрев в ней "многие места, противные религии, нравственности и российским законам". Когда пришла пора сдавать переводные зачеты, Белинского, не явившегося из-за болезни, исключили из университета "по причине болезни и безуспешности к наукам", а также потому, что "поведения неодобрительного".
К тому времени Белинский близко познакомился с профессором Н. И. Надеждиным, у которого слушал курс по эстетике и теории литературы. Это знакомство решило его судьбу. Белинский стал печататься в московских журналах "Телескоп" и "Молва", издаваемых Надеждиным, который был крупнейшим журналистом своего времени, известным литературным критиком.
Вскоре Белинский покинул общежитие в старом здании. В августе 1834 года он вновь поселился на территории университета. Профессор Надеждин, переехавший в то время в "ректорский дом", в казенную квартиру, предоставил в ней комнату своему ближайшему сотруднику, прославившемуся своими "Литературными мечтаниями" - блистательным обзором русской литературы.
"Ректорский дом" находится во дворе университета и представляет собой обычный двухэтажный старый московский дом с вросшими в землю окнами нижнего этажа. Сейчас дом ждет реставрации, и, когда она произойдет, мы увидим возрожденным старейшее здание университета: оно единственное уцелело во время пожара 1812 года. Эта постройка из большемерного кирпича середины XVIII века вобрала в себя стены XVII века. До университета она принадлежала князьям Волконским.
"Ректорским" дом стал в 1802 году. В нем помещалась большая казенная квартира ректора, здесь жили профессора университета. В "ректорском доме" находилась практически редакция известного русского журнала "Телескоп". То был передовой журнал демократического направления.
Белинский жил недолго в "ректорском доме", недолго после знакомства с ним возглавлял журнал и Надеждин. Как известно, в "Телескопе" было опубликовано "Философическое письмо" П. Чаадаева, названное А. Герценом "выстрелом, раздавшимся в темную ночь" (Герцен имел в виду николаевскую реакцию). "Письмо" вызвало гнев Николая I. Автора "Письма" объявили сумасшедшим и запретили ему писать, "Телескоп" закрыли, ректора, позволившего публикацию, отстранили от должности, Надеждина отправили в ссылку. Белинскому пришлось вновь искать пристанище.
"Ректорский дом" славно послужил русской науке. В 1872 году квартиру ректора на втором этаже предоставили великому русскому физику А. Г. Столетову для размещения в ней физической лаборатории, библиотеки и кабинета справочных изданий. С тех пор этот маленький дом вошел в историю русской физики, потому что именно в нем Столетов завершил свои известные работы по исследованию фотоэффекта, сформировал свою школу физиков. В этих стенах работали Н. Е. Жуковский, П. Н. Лебедев, К. А. Тимирязев и многие другие ученые, поднявшие, по словам Тимирязева, преподавание физики в Московском университете на высоту, "может быть, даже превосходившую уровень преподавания в крупнейших научных центрах тогдашней Западной Европы".
В "ректорском доме" физики ютились свыше 30 лет. Столетов с горечью говорил: "В старейшем русском университете под физикой - около 110 сажен". На этих саженях Столетов сумел выкроить место для работы Лебедеву, и тот обессмертил свое имя и русскую науку, измерив давление света на твердые тела, создав первый в истории русской физики коллектив ученых.
Только в 1904 году физики получили большое здание с башней, выстроенное из красного кирпича. Оно рядом с "ректорским домом". Физики работают здесь и по сей день. Тут находится Институт радиотехники и электроники Академии наук. С этого здания началось строительство специальных корпусов для нужд физиков. Здесь в подвале помещалась лаборатория П. Н. Лебедева, где под его руководством работали 25 специалистов - небывалое по тем временам число сотрудников! Здесь измерили давление света на газы, провели классические исследования по изучению электромагнитных волн, земному магнетизму. Из этого подвала вышли на широкую дорогу многие русские физики, ученики Лебедева. А сам он в знак протеста против произвола царских властей покинул университет и свою с таким трудом созданную лабораторию...
В здании института в разное время работали такие корифеи науки, как П. Лазарев, С. Вавилов, И. Тамм и другие... Здесь обосновались после революции курсы подготовки рабочих и крестьян в вузы, ставшие одним из первых рабфаков.
Во дворе университета на месте сада в течение двух веков один за другим стали появляться учебные здания, музеи, лаборатории. Их и сейчас заполняют студенты. Но теперь тут не один хозяин. Отпочковался от университета геологоразведочный институт, 1-й медицинский институт, созданы новые научные институты. Все это там, где прежде находился наш первый университет.
ПАМЯТНИК ЛОМОНОСОВУ
Почти 80 лет после своего основания Московский университет застраивал земли с одной стороны Никитской улицы - за старым зданием, созданным Казаковым и после пожара 1812 года перестроенным Жилярди.
А в 30-е годы XIX века пришла пора нового строительства. Участок на левой стороне улицы - на углу Никитской и Моховой - принадлежал Пашковым. Для одного из них, поручика П. Е. Пашкова, В. И.Баженов в конце XVIII века построил дворец, который современники называли одним из "чудес света". Он вошел в историю как "Пашков дом". Ныне это всем известное старое здание библиотеки. Потомки поручика Пашкова продали университету земельный участок и недостроенный большой дом.
А 400 лет назад земля эта принадлежала Ивану Грозному; здесь находился зловещий Опричный двор, обнесенный стеной с воротами. В глубине двора стоит вросшее в землю на полэтажа кирпичное здание, занимаемое ныне типографией. Оно много раз перестраивалось, но под его штукатуркой находятся стены XVI века. Это одна из древнейших в Москве палат бывшего Опричного двора, где проходили многие бурные сцены во времена Ивана Грозного.
К тому времени, когда, сменив разных владельцев, земля эта перешла в руки университета, он настолько разросся, что нуждался уже в новом здании. Три года архитектор Е. Тюрин приспосабливал недостроенное здание, предназначавшееся некогда Пашковым для балов, под Аудиторный корпус. Открыли его для занятий в 1835 году: он представлял собой трехэтажное здание с шестиколонным коническим портиком. Его архитектура перекликалась с архитектурой старого здания. Оба они как бы стали воротами улицы.
Вдоль улицы протянулся входящий в университетский ансамбль корпус с закругленным фасадом и колоннадой. Это бывший флигель Пашковых. В начале прошлого века они сдавали его под театр. Была в нем тысяча мест. Здесь состоялся дебют Михаила Щепкина. На этих подмостках выступала труппа актеров, чью родословную начал студенческий театр университета на второй год своего основания. Тут и пели, и плясали, и ставили драматические спектакли до тех пор, пока на Театральной площади не появился Малый театр, который не случайно называют "вторым университетом".
Создавая Аудиторный корпус, архитектор Тюрин приспособил флигель под университетскую церковь Св. Татьяны. В ней Москва прощалась с Гоголем, отсюда студенты проводили его в последний путь.
Имя Татьяна вошло в историю университета, многие русские писатели оставили рассказы о том, как здесь отмечался студенческий праздник Татьянин день, 25 января. Истоки этого обычая таковы. Влиятельнейший при дворе Иван Шувалов, сделавший очень многое для того, чтобы претворить в жизнь великую идею Михаила Ломоносова - "об учреждении в Москве университета для дворян и разночинцев по примеру европейских, где всякого звания люди свободно наукою пользуются", - подал императрице Елизавете Петровне на подпись указ об основании университета 12 января - в день именин своей матери Татьяны. Эта дата со временем стала отмечаться как день рождения русской альма-матер.
12 января 1876 года перед Аудиторным корпусом открыли памятник Михаилу Ломоносову. Памятник построили на средства, собранные по подписке; кстати, среди жертвователей не было ни царя, ни губернатора. Бронзовый бюст Ломоносова установили на четырехметровый пьедестал из чугуна. В актовом зале с речью "Воспоминание о Ломоносове" выступил историк С. М. Соловьев, бывший тогда ректором университета. Он сказал: "Народы живые, сильные больше всего боятся потерять память о своем прошлом, то есть о самих себе... Они изучают это прошлое научным образом, они ставят памятники великим людям".
29 октября 1941 года во время налета фашистской авиации во двор Аудиторного корпуса попала фугасная бомба. Все окна и двери в окружающих зданиях вырвало, не стало стеклянного купола... А бронзовый бюст уцелел. Три года простоял он на каменной глыбе, а в 1944 году его перенесли в клуб, где его можно увидеть и сегодня.
На месте этого памятника был установлен другой, скульптора С. Меркурова. Ломоносов в рост; он стоял перед глобусом с листом в руках. Этот памятник хорошо помнят те, кто поступал в университет после Победы. Поскольку фигура была выполнена из тонированного гипса, со временем она стала ветшать. Поэтому в конце 50-х годов на том же месте появился третий памятник - из бронзы и гранита. На круглом гранитном пьедестале установлена скамья, где сидит Ломоносов, размышляя над рукописью...
В начале XX века пришла пора нового строительства. Архитектор К. Быковский перестроил здание Тюрина. Тогда появились прозрачный стеклянный купол, высокие окна, две большие аудитории. Подобно актовому залу старого здания, они вошли в историю университета; в них выступали выдающиеся ученые, проходили многие заседания, сессии, конференции.
Студенты слушали голоса поэтов разных поколений - Маяковского, Светлова, Симонова... В этом зале Михаил Шолохов прочел трагический финал "Поднятой целины". С трибуны он сошел со слезами на глазах. То было 29 декабря 1959 года...
В наши дни весь Аудиторный корпус занимает факультет журналистики, который основан в помещениях одного крыла старого здания. Аудиторный корпус занимали тогда разные факультеты и кафедры. Если старое здание было отдано в основном гуманитарным отделениям, то новое принадлежало естественникам. В этом здании работали математики и механики. На верхний этаж его почти тридцать лет поднимался "отец русской авиации" Н. Е. Жуковский, который руководил кабинетом прикладной математики. На балконе стояла созданная под его руководством первая в России аэродинамическая труба. Было и такое - под куполом здания физик М. Ф. Спасский, автор монографии "О климате Москвы", подвесил маятник Фуко, и каждый мог убедиться, что наша Земля вращается.
Перед перестройкой Аудиторного корпуса в его дворе архитектором К. Быковским построено здание для библиотеки, где она находится и по сей день. Под куполом - главный, круглый читальный зал, заливаемый светом через большие арочные окна. По планировке он напоминает зал Британского музея. Библиотека эта - одна из лучших в стране. История ее полна драматизма: в пожар 1812 года богатейшее собрание книг и рукописей сгорело целиком. Рукописные книги вернуть было нельзя. Но коллекция печатных изданий была воссоздана и приумножена. Многие ученые, писатели, военные и государственные деятели жертвовали библиотеке свои собрания, причем богатейшие. Сюда поступили библиотеки писателя И. Дмитриева, генерала А. Ермолова, историка И. Снегирева... Профессор В. Лунгин, собиравший книги по физике и химии, а также издания русской бесцензурной печати, подарил свою библиотеку с одним условием - чтобы ею могли пользоваться женщины, которым это решительно возбранялось уставом университета... Традиция дарить университету книжные собрания продолжается и в наши дни...
После революции библиотека университета получила право на обязательный экземпляр всех изданий нашей страны, где бы они ни выходили. Фонды ее насчитывают миллионы томов, для них сооружены хранилища на Воробьевых горах. Но и старое здание сохраняется за библиотекой, куда по-прежнему стремятся многие.
ОЧАРОВАННЫЙ МОСКВОЙ
Первые театральные огни зажглись на улице в начале прошлого века. Кареты спешили сюда со всей Москвы в театр, открытый в доме страстного любителя сцены генерал-майора П. А. Позднякова, купившего летом 1812 года, незадолго до начала войны с французами, трехэтажное здание. Построено оно было в 1780 году для "обергофмаршала, действительного камергера и кавалера" Григория Никитича Орлова, известного московского вельможи. Зарисовки этого дома есть в альбоме Матвея Казакова. На них видно, что фасад дома не отличался пышностью, его украшал скромный портик с фронтоном, верхний этаж - антресольный, у нижнего - маленькие окна. Блистательные залы и комнаты тянулись вдоль второго этажа.
Генерал Поздняков, став владельцем дома, пристроил к нему корпус, который протянулся по Леонтьевскому переулку. Ну а бывший дворец можно увидеть и сегодня, остановившись перед домом № 26 на Никитской. Ныне это обычное жилое здание с магазином, для него растесали некогда маленькие окна.
Дворец уцелел в пожар 1812 года. Поэтому во время пребывания в Москве французов в его театральный зал были перенесены выступления труппы артистов, оставшейся без сцены. На ее представления приезжал сам император Франции.
И после изгнания неприятеля в освобожденной Москве на сохранившейся чудом сцене проходили спектакли. Сбор от них шел в пользу раненых солдат, погорельцев. На этой сцене выступал, в частности, Сила Сандунов, известный в свое время актер, чье имя носят Сандуновские бани, построенные им на Неглинной до нашествия французов.
Дворец не стал театром, а с течением времени превратился в жилой дом, надстроенный в наш век двумя этажами. Фасад его изменился, и, конечно, сейчас трудно увидеть в этом здании один из первых театров города, куда по вечерам спешила "вся Москва".
Другим дворцом на этой улице владела в XVIII веке вошедшая в русскую историю основательница Российской академии княгиня Екатерина Романовна Дашкова (она же возглавляла и Петербургскую Академию наук). Затем дворцом владел ее наследник - М. С. Воронцов, впоследствии генерал-фельдмаршал, герой 1812 года.
Под "несчастливым" № 13 на улице находится Московская консерватория, переехавшая сюда в 1870 году. Как и в XVIII веке, дворец тогда был двухэтажным. Консерватория была основана великим музыкантом, пианистом и дирижером Николаем Рубинштейном. Дружба его с Чайковским, молодым тогда преподавателем музыки, началась с первых дней пребывания Петра Ильича в Москве. Первые годы Рубинштейн и Чайковский были неразлучны и жили сначала в одной квартире вблизи Никитской - на Моховой. Здесь же располагались и музыкальные классы.
Потом и классы, и квартира Рубинштейна и Чайковского переместились ближе к Арбатской площади (на месте этого дома ныне сквер). Здесь 1 сентября 1866 года - в день торжественного открытия консерватории Чайковский сел за рояль и исполнил увертюру к опере М. И. Глинки "Руслан и Людмила"... А творить молодому Чайковскому приходилось в ту пору в пустующих по утрам залах трактира "Великобритания", располагавшегося неподалеку от его квартиры, у Манежа.
В те годы впервые в Москве были исполнены произведения Чайковского, принесшие ему известность, а потом славу. С каждым днем росла любовь Чайковского к прекрасному городу. По московским улицам и бульварам он мог ходить часами, ловя "уличные впечатления", любуясь архитектурой, вслушиваясь в речь москвичей, их песни. "Я все более и более привязываюсь к Москве", - писал он.
Когда консерватория переехала на Никитскую улицу, в бывший дворец Дашковой, Чайковский вместе с директором консерватории поселился в доме на Знаменке. Здесь им написана увертюра "Ромео и Джульетта". Затем у него появилась первая "своя" квартира - в доме № 9 на Спиридоновке. Позже композитор поселяется в конце Никитской, там, где она выходит на площадь. До наших дней сохранился обыкновенный, вросший в землю дом, который ныне украшает мемориальная доска. Чайковский писал, что живет "на Кудринской площади, против фонтана в доме Казакова (у мучной лавки)". Таких домов с лавками в Москве были сотни. Лавка располагалась внизу, а на втором этаже за маленькими окнами - квартира музыканта, написавшего тут оперу "Опричник", вторую симфонию, с триумфом исполненную оркестром под управлением друга - Николая Рубинштейна. На Никитской поселился и Николай Григорьевич (там где сейчас дом № 31). В день именин Петр Ильич преподнес ему подарок - "Серенаду".
Шумная площадь у фонтана, где постоянно толпился народ, заставила Чайковского перебраться в более спокойное место - на Малую Никитскую. Во дворе дома № 21 налево стоял флигель. А менее чем через год композитор переезжает в дом № 35 на той же улице, перестроенный позднее архитектором Ф. Шехтелем. Тут-то в милой и прекрасной квартире, как писал Петр Ильич, родился его первый фортепианный концерт - одно из самых популярных в мире произведений - и написаны сцены балета "Лебединое озеро".
Дом был очень холодный, и это заставило композитора снова сменить квартиру - на этот раз он перебрался в дом, который стоял на месте нынешнего входа на станцию метро "Арбатская". Как видим, Чайковский часто менял квартиры и всегда жил поблизости от Никитской. Ведь тут находились Московское отделение Русского музыкального общества и консерватория. Сюда приезжал Лев Толстой, чтобы послушать специально для него исполненный первый квартет; он слушал его, заливаясь слезами... После женитьбы Чайковский ненадолго поселился на самой Никитской, в доме № 24. Недолгое время он жил в правом крыле консерватории, в квартире одного из друзей.
На Никитской в залах консерватории не раз звучала музыка Петра Ильича. А потом она разносилась по всей Москве, России и миру. Куда бы ни ездил Чайковский, где бы он ни жил, он всегда стремился домой. "Один и есть только город в мире, это Москва, да еще, пожалуй, Париж", - признается он в письме брату. Это признание перекликается со словами поэта, сказанными спустя десятилетия: "Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли - Москва".
Живя последние годы в Подмосковье, Чайковский непременно хотел, чтобы "Москва была всегда под рукой". В Москве музыка его звучала и в Колонном зале, и в Большом и Малом театрах. Кантата "Москва" исполнялась в Кремле, в Грановитой палате, финал кантаты "Славься!" звучал на Красной площади в исполнении оркестра и десятитысячного хора. Торжественный марш оглашал Сокольники при стечении толп народа...
Бронзовый памятник Чайковскому - первому из композиторов - поставлен в Москве перед зданием консерватории на той улице, куда он всегда возвращался.
В вестибюле Большого зала консерватории висит огромная картина Ильи Репина "Славянские композиторы". Репин заканчивал это большое четырехметровое полотно весной 1872 года в Москве. Тогда молодой, мало кому известный художник выполнял срочный заказ московского предпринимателя А. А. Пороховщикова. Он был хозяином "Славянского базара", который вошел в историю русского искусства. Помимо гостиницы и ресторана, здесь был великолепный концертный зал, для которого и предназначалась заказанная Репину картина. Теперь этот зал отдан "камерному" музыкальному театру. Программу картины - список славянских композиторов России, Польши и Чехии разработал для художника Николай Рубинштейн. Его, кстати, Репин писал с натуры в здании консерватории. Потом полотно переехало в "Славянский базар". Чайковский видел его после открытия концертного зала, где он побывал в качестве музыкального рецензента московской газеты. Чайковского на полотне нет: когда писалась картина, он был еще молод и мало кому известен.
Слава пришла к Репину, когда Москва увидела "Славянских композиторов"; пришла она и к Чайковскому, когда мир услышал его первый фортепианный концерт...
Теперь картина вернулась на то место, где она создавалась. А консерватория носит имя Петра Ильича Чайковского.
ПУТЕМ ПОЭТОВ
Вынужденный испрашивать у шефа жандармов разрешение на выезд, Александр Пушкин в который раз не посчитался с этим унизительным для него ограничением его свободы и стремительно, как всегда, в марте 1830 года приехал из Петербурга в Москву. Ему вскоре пришлось давать по этому поводу письменное объяснение: благодаря этому стали известны некоторые подробности его жизни в Москве.
Остановился он, как обычно, в гостинице. Обер-полицмейстер тотчас сообщил об этом в Петербург военному генерал-губернатору. А поэт вовсе не замышлял никаких действий против правительства, так его остерегавшегося и державшего под наблюдением каждый его шаг; он думал только об одном - о Наталии Гончаровой.
"Все думали, что Пушкин влюблен в Ушакову, но он ездил, как после сам говорил, всякий день к сей последней, чтобы два раза в день проезжать мимо окон Гончаровой", - писал его современник...
Жили Ушаковы на Пресне. А дорога к ним шла по Большой Никитской. По ней-то и ездил два раза в день влюбленный поэт, на этой улице был дом Гончаровых. Поэт побывал в их доме, сделал еще одно предложение, и оно на этот раз было принято.
"Бросаюсь в карету, скачу - вот их дом - вхожу в переднюю - уже по торопливому приему слуг вижу, что я жених" - так писал Пушкин... Поэт ездил свататься в чужом фраке, который дал ему его друг Нащокин. Этот фрак, перешедший затем к нему, поэт надевал лишь в особых случаях.
Жили Гончаровы на углу Скарятинского и Большой Никитской. Дом их не сохранился (он стоял на месте нынешнего владения № 50). Как писал издатель "Русского архива" П. И. Бартенев, "будучи женихом, из дома невесты своей на Б. Никитской Пушкин глядел на гробовую лавку (помещавшуюся в доме ныне кн. А. А. Щербатова) и написал свою повесть "Гробовщик". А став мужем Гончаровой, Пушкин не раз останавливался в этом доме, приезжая в Москву. Так, в августе 1833 года он заехал сюда из Яропольца и сообщил об этом жене в письме: "Пишу тебе из антресолей нашего Никитского дома". Дом был маленький, деревянный, с тремя окнами на улицу, он был вытянут в глубь двора большой усадьбы, куда выходили и окна антресолей.
Между сватовством и свадьбой прошел не один месяц: была "болдинская осень", случилась эпидемия холеры, отрезавшая жениха от Москвы и невесты... Только в начале декабря 1830 года обер-полицмейстер смог отправить очередное донесение о том, что Пушкин "возвратился в Москву и остановился в Тверской части в гостинице "Англия". Ее здание, кстати, недавно реставрировано, восстановлена сгоревшая часть бывшей гостиницы, украшающей ныне Глинцовский переулок.
Долгожданная свадьба состоялась только в конце зимы. Свершилось это 18 февраля 1831 года у Никитских ворот, в белом храме Большого Вознесения в Сторожах, который стоит теперь на большой, недавно образовавшейся площади. Полиция стояла у дверей храма: на венчание никого, кроме близких, не велено было пускать.
В то время церковь была в строительных лесах, главная и подкупольная часть здания были еще не достроены. Возведение церкви Большого Вознесения, состоявшей из теплой, т. е. отапливаемой, трапезной, двух приделов и холодного большого храма, началось задолго до женитьбы Пушкина, еще в XVIII веке. Вначале соорудили трапезную. В деле о строительстве сказано о ней так: "Трапезная утварью богата и строением боголепна", а "в ней два придела во имя Владимирской Богородицы и Святителя Николая еще освящены в 1816 году, а остается достроить настоящую Вознесенскую холодную церковь..." Таким образом, из этой записи, недавно опубликованной научным сотрудником Музея архитектуры Е. Белецкой, явствует, что венчался Пушкин в одном из приделов, сохранившихся до наших дней.
Достроили "Большое Вознесение" в 1840 году. Этот большой, белый, с двумя портиками храм был запроектирован в классическом стиле, с подчеркнуто геометрическими укрупненными формами. Высота его 40 метров. Много высказывалось предположений о том, кто возвел его. Назывались фамилии разных архитекторов. Но только теперь доказано: это работа архитектора Ф. М. Шестакова. Этот большой мастер известен, в частности, тем, что совместно с В. Г. Стасовым построил в Москве Провиантские склады у Крымской площади... После смерти Шестакова здание достраивалось под наблюдением его родственника, известного зодчего А. Г. Григорьева, которому также приписывали эту постройку.
По "прожектированному" плану Москвы 1775 года храм должен был стать главным зданием на площади Никитских ворот. Тогда, в XVIII веке, ее не удалось создать; она образовалась только недавно, после сноса стоявших за ней разных строений.
В наш век на Никитской жил другой поэт, обращавшийся к Пушкину со словами: "Мечтая о могучем даре того, кто русской стал судьбой, стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с тобой..." Могучим поэтическим даром был наделен Сергей Есенин, живший долгое время в Москве. Со своими друзьями-поэтами он решил открыть книжный магазин. Московский Совет дал Есенину патент на открытие книжной лавки. Помещение для нес нашли на Никитской, 15, - в доме у консерватории. Это одноэтажное, в стиле неоампир здание, как о нем писалось, "торговое, частью с жильем", построено в 1912 году. В конце 1919 года здесь обосновался магазин "Московской трудовой артели художников слова". Эта артель имела также издательство. В витрине на Никитской можно было увидеть книги Сергея Есенина, Анатолия Мариенгофа и других имажинистов, как называли себя члены этого поэтического кружка. В дневные часы москвичи могли увидеть знаменитого поэта за прилавком.
Зимой в лавке царил холод (топить было нечем), Есенин работал в пальто, а читая стихи, снимал его, чтобы удобнее было жестикулировать. Бывало, что здесь он писал.
- Мне он здесь прочел "Песню о хлебе", -рассказывал мне друг поэта Рюрик Александрович Ивнев.
Увлекая за собой по винтовой лестнице на антресоли пришедшего в магазин друга, он, воодушевляясь, говорил:
- Рюрику первому прочту то, что час назад написал...
Большой старинный стол, за которым работали поэты (здесь Есенин записывал свои строки), долго служил аптеке, которая переселилась сюда после закрытия магазина.
Здесь за прилавком у Есенина произошла полемика с профессором истории. Спорил Есенин на ту же тему, что и сто лет назад Пушкин - на этой же улице в здании университета и тоже с профессором - М. Каченовским. О подлинности "Слова о полку Игореве". Как для Пушкина, так и для Есенина было очевидно, что "Слово" - не подделка, а подлинное творение гения. Молодой, элегантный Есенин спорил горячо, размахивал руками и, не прибегая к тексту, цитировал наизусть отрывки из "Слова": "Князь вступает в злат стремень... "Злат стремень!" Вот где точности и красоте языка учиться!"
Делал свое дело Есенин за прилавком умело, о чем свидетельствует поэт Сергей Городецкий, в свое время помогавший молодому рязанцу выйти на поэтическую дорогу.
"Я был у него в магазине на Никитской. Маленький стол был завален пачками бумажных денег. Торговал он недурно".
Еще один есенинский адрес - Большой зал консерватории. Здесь исполнялась не только музыка. Тут нередко проходили литературные вечера, в частности нашумевший "суд" над имажинистами. Председательствовал на нем маститый Валерий Брюсов, а выступали обвинителями, защитниками, обвиняемыми поэты разных направлений, не щадившие в своих выступлениях друг друга. Когда дошла очередь до Есенина, "он встал в непринужденную позу, откинув машинально концы шарфа, звонко, выразительно, отдавая слушателям все свое сердце, прочитал стихотворение "В том краю, где желтая крапива...". В зале. творилось невообразимое: "Браво! Бис!"; каждый из присутствовавших как будто прикоснулся к источнику живой воды. Брюсов ушел в раздумье". Такую запись оставил нам один из слушателей Сергея Есенина.
У ЕСЕНИНА
Когда Сергей Есенин жил на Большой Никитской в Брюсовском переулке, тот выглядел несколько иначе, чем сегодня: был приземистым, без крупных домов, появившихся позднее - в конце 20-х, в 30 - 40-х годах. Их построили для московских артистов, художников, музыкантов, чьи имена теперь читаешь на множестве мемориальных досок, укрепленных на стенах домов.
Но уже тогда, в 1923 г., Есенину приходилось подниматься на седьмой этаж многоквартирного восьмиэтажного дома, появившегося среди небольших домиков в этом переулке, начинающемся от некогда Большой Никитской улицы.
В сохранившихся письмах поэта этот московский адрес обозначен двояко Брюсовский переулок, 2, или Большая Никитская, 14, - что одно и то же, потому что дом угловой. Однако если вы подойдете к углу этих улиц, то не увидите сразу есенинского дома, потому что располагается он в глубине обширного двора, за рядами старинных строений, среди которых есть даже стены XVIII века, правда, во многом изменившиеся. А в глубине двора поднимаются кирпичные, неоштукатуренные жилые корпуса, говоря современными словами, - жилой комплекс, довольно крупный для 20-х годов, состоящий из четырех одинаковых, однообразных зданий, плотно прижатых друг к другу.
Какой из них Есенина? В письмах он называет его то корпусом А, то домом "Правды", поскольку, как мне сказали старожилы, квартиры в нем занимали сотрудники издательства "Правда". Теперь этот корпус обозначается как "строение № 4". Неизменным остался лишь номер квартиры - 27. Железный рельефный номерок на хорошей деревянной двери сохранился также с тех времен, как и цветной кафель - долгожитель на лестничной площадке.
Первая дверь направо от лифта ведет в большую коммунальную квартиру, где есть комната, которую Сергей Есенин с сентября 1923 г. по июнь 1925 г. считал своим домом.
Появлению его здесь предшествовало то обстоятельство, что в начале сентября 1923 г. он вступил в гражданский брак с Галиной Артуровной Бениславской, хозяйкой комнаты, а в конце месяца перевез сюда свои вещи. В одной из записок Есенин тогда писал: "Галя - моя жена". Друг поэта свидетельствует: "Галя стала для него самым близким человеком: возлюбленной, другом, нянькой..." Да и сам Сергей Есенин не скрывал своих чувств: "У меня только один друг и есть в этом мире: Галя. Не знаешь? Вот будешь в Москве, узнаешь! Замечательный друг!" - писал он товарищу, приглашая его в Брюсовский переулок. Сюда и отправился я.
Прошло без малого шестьдесят лет с того времени. В этой квартире сменились поколения жильцов. Все комнаты и кухня на одной стороне. Галина Бениславская занимала среднюю комнату (площадью 17 м2), как сообщил мне нынешний жилец. В комнате одно окно во двор, откуда видны крыши домов, прилегающих к консерватории. Рядом с ней, кстати, находилась книжная лавка поэтов (некоторое время здесь была гомеопатическая аптека), где за прилавком часто стоял поэт.
Галина Бениславская родилась раньше его на два года. Гимназию окончила в Петрограде, а приехала в Москву из Харькова, где училась в университете в годы гражданской войны. Оказавшись в Москве, служила в канцелярии ВЧК, затем в отделе писем редакции газеты "Беднота", получила комнату в "доме "Правды".
Обстановка в комнате вначале была совсем спартанской. Обеденный стол заменял кухонный, а письменным служил ломберный столик. Мебель состояла из железной кровати и тахты с провалившимися пружинами, двух венских стульев, табуретки, двух тумбочек. Чистота в комнате поддерживалась идеальная. Позднее появились шесть венских стульев, стол, шкаф. Чай пили из пузатого самоварчика, за которым однажды Сергей Есенин читал поэму "Анна Снегина" матери, приехавшей в Москву проведать детей. За этим самоваром их и сфотографировали.
В этой комнате стала жить и сестра Есенина Катя, а позднее и вторая, младшая сестра, Шура. Свою любовь к поэту Галина Бениславская перенесла на его сестер.
Александра Есенина подробно описала комнату в Брюсовском переулке, а главное, запомнила, как брат писал стихи: "Часами он сидел за ломберным столиком или за обеденным столом. Устав сидеть, он медленно расхаживал по комнате из конца в конец, положив руки в карманы брюк или положив одну из них на шею. На столе не любил беспорядка и лишних вещей, и если это был обеденный, то на чистой скатерти лежали только лишь бумага, его рукопись, карандаш и пепельница... Того, кто заходил в эти минуты в комнату, он не замечал".
Был еще один постоянный жилец - веселый пес по кличке Сережка, купленный поэтом по случаю на толкучке за 5 рублей как породистая собака, но оказавшийся дворняжкой. Часто приходил сюда и двоюродный брат поэта Илья, привезенный Есениным в Москву учиться.
Как дружно ни жили и как ни боготворили поэта, а своего угла у него здесь быть не могло. Он часто уезжал в деревню, в Питер, на Кавказ. Когда один из знакомых заметил: "Вечно ты шатаешься, Сергей. Когда же ты пишешь?" - последовал ответ: "Всегда!"
Когда Есенин возвращался в Москву, комната в Брюсовском наполнялась многочисленными гостями - писателями, артистами, художниками, издателями. Тогда читались стихи, пелись песни, в чем особенно преуспевали сестры.
Александра Есенина, бывшая тогда ребенком, позднее писала: "Очень трудно было жить в одной комнате. Особенно неудобство доставляла я..." Есенин жаждал получить свою квартиру или хотя бы комнату.
Эта мысль так завладела им, что поэт решил обратиться с ходатайством к "всесоюзному старосте" Калинину, когда тот гостил в своей деревне. К нему Сергей Есенин прикатил на тройке с бубенцами, и не один, а с американским журналистом Альбертом Рисом Вильямсом. Рядом с простой крестьянской избой эта тройка да и сам поэт выглядели так, точно явились из сказки. Калинин любил стихи Есенина, знал их наизусть, но он предложил гостю вернуться в деревню и принять участие в ее борьбе за новую жизнь. Так поэт и не решился тогда обратиться к нему со своей просьбой, укатил на тройке ни с чем.
Несмотря на тесноту, в Брюсовском переулке жили не в обиде. Есенин создавал стихи и поэмы. А Галина Бениславская разыскивала его забытые стихи по журналам... Ее портрет сохранило нам воспоминание одного из современников: "У хорошенькой Гали Бениславской тогда еще были косы галочьего цвета - длинные, пушистые, с бантиками, а крепенькие ноги обуты в черные башмаки с пуговицами". Сергей Есенин писал ей: "Вы - это моя последняя ставка и самая глубокая". То было в марте 1925 г. А спустя три месяца он покинул этот дом.
Нелегко ответить на вопрос, какие стихи родились в Брюсовском переулке. В 1924-м после похорон Ленина пишутся строки, посвященные покойному вождю, - они вошли в поэму "Гуляй-поле". 26 мая создается стихотворение "Пушкину", прочитанное вскоре у памятника поэту перед толпой москвичей. Вернувшись в Москву после поездки в Ленинград, где произошла встреча с бывшим политкаторжанином, узником Шлиссельбургской крепости, поэт за шесть дней написал "Поэму о 36", посвященную борцам с самодержавием. Известно также, что сюда, в Брюсовский переулок, Есенин вернулся с Кавказа и привез много новых произведений, здесь он продолжал работать над ними. Как пишет поэт В. Наседкин, "Анну Снегину" Есенин набело переписывал уже здесь, в Москве, целыми часами просиживая над ее окончательной отделкой. В такие часы по домашнему уговору его оставляли одного, предварительно сняв трубку с телефона.
В пору жизни в Брюсовском переулке Сергей Есенин побывал у артиста Василия Качалова и познакомился с четырехмесячным щенком Джимом. Чудесные строки посвящены "Собаке Качалова": "Дай, Джим, на счастье лапу мне..."
Великий артист также поселился в этом переулке в доме № 17, но произошло это позднее, в 1928 г. Есть еще один дом в бывшем Брюсовском переулке - № 12, на котором среди других укреплена мемориальная доска, посвященная режиссеру Всеволоду Мейерхольду. Вместе с известной актрисой Зинаидой Райх, бывшей женой С. Есенина, он жил на втором этаже этого дома. В этой квартире росли двое детей поэта - Татьяна и Константин. Последний известный московский спортивный журналист Константин Есенин - помогал мне при написании этого очерка.
СЛАВНЫЕ ИМЕНА
Протянувшийся на несколько сот метров между Большой Никитской и Тверской переулок имел прежде несколько названий. Первоначально жили в нем слободой торговцы и ремесленники, выходцы из Новгорода. Земли их перешли позднее в руки знатных фамилий - Толстых, Мещерских, Шереметевых. До середины XVIII века переулок значился Шереметевским. Когда несколькими домами здесь завладел генерал-аншеф М. И. Леонтьев, он стал Леонтьевским.
Под этим названием он и вошел в историю революции 1917 года, потому что в те дни, когда в Москве шел "последний и решительный бой", имел стратегическое значение, так как был кратчайшим путем между позициями белогвардейцев и зданием Московского Совета, которое защищали революционные войска. Если пройти по Леонтьевскому переулку, то, дойдя до середины, попадаешь на бывшую передовую линию - это примерно там, где сейчас находится сквер. Эта линия разделяла силы красных и белых.
Внешне это типичный московский переулок центра: дома разных времен и стилей стоят, тесно прижавшись друг к другу, кое-где их прерывает недавно появившаяся зелень скверов.
В стоявшем на месте нового здания ТАСС угловом доме в дни Октября жил студент Константин Паустовский, будущий писатель. В своей известной книге "Начало неведомого века" он об этом пишет так: "В Москве я поселился в двухэтажном доме у Никитских ворот. Дом этот выходил на три улицы: Тверской бульвар, Большую Никитскую и Леонтьевский переулок".
Константин Паустовский, очевидец событий, оставил описание боев в Москве, они не только ярко художественны, но и документально точны. Шесть дней на глазах жильцов дома происходила одна из самых яростных схваток 1917 г. Причем, как верно подметил писатель, в Леонтьевском переулке огонь был еще сильнее, чем на Тверском бульваре, - переулок для юнкеров, рвавшихся к Моссовету, был прямым путем к цели.
Впервые водоворот революции захватил этот переулок в 1905 г. Там, где сейчас располагается школа, в доме № 19, находилось так называемое Капцовское училище. Построенное архитектором Д. Чичаговым в конце прошлого века, оно выглядело очень эффектно, имело островерхую крышу с башенками. В нем помещалось городское мужское начальное училище имени А. С. Капцова, московского купца, пожертвовавшего деньги на его строительство. Затем к этому зданию пристроили еще одно - городское женское начальное училище имени К. В. Капцовой. В обоих училищах занимались 800 детей.
Училище также вошло в историю Москвы: в его стенах 10 марта 1898 г. на тайном собрании членов московского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" избран первый Московский комитет РСДРП. Здание было известно революционерам; в годы первой русской революции они облюбовали его для проведения митингов и собраний. Когда свершилась Февральская революция, в здании обосновался вышедший из подполья МК РСДРП (б); здесь помещались редакции газеты большевиков "Социал-демократ" и журнала "Спартак". Находились они здесь с марта по июль 1917 г., о чем напоминает на стене перестроенного здания мемориальная доска.
Многие особняки в переулке, прежде принадлежавшие аристократам, перешли в руки фабрикантов и купцов. Хозяевами переулка стали представители купеческих фамилий - Алексеевы, Мамонтовы, Морозовы...
Им по душе был модный тогда архитектурный стиль, когда новые здания внешне напоминали палаты допетровской Руси. Один из таких домов (№ 5) соорудил для типографии родственник Саввы Морозова - А. И. Мамонтов. Рядом с бывшей типографией также красуется здание в русском стиле, напоминающее сказочный терем. Это бывший Кустарный музей, ныне Музей народного искусства. Возник он в 1885 г. после состоявшейся в 1882 г. в Москве на Ходынском поле Художественно-промышленной выставки, где, в частности, демонстрировались изделия крестьян разных областей России. На основе экспонатов той выставки и был создан музей, где хранились коллекции изделий хохломских, дымковских, палехских, великоустюжских и других мастеров художественных промыслов.
Деньги на строительство музея дал легендарный Савва Морозов, который был другом Горького, одним из немногих, с кем писатель был на "ты". Дедом Морозова был бывший крепостной крестьянин, ставший основателем династии фабрикантов. За большие деньги он купил у помещика свободу себе и пятерым сыновьям. Начинал пастухом, был извозчиком, ткачом, а затем в конце XVIII века создал свое шелкоткацкое заведение в нынешнем Орехово-Зуеве, положив, как писали, "начало русскому Манчестеру". Здесь произошла знаменитая Морозовская стачка, привлекшая пристальное внимание Ленина.
Морозовы, однако, прославились не только хваткой, предпринимательством. Внук основателя мануфактуры Савва Тимофеевич, приняв дело после окончания Морозовской стачки, постарался улучшить жизнь рабочих. Он был дружен с К. С. Станиславским и М. Горьким, близко знаком с Н. Э. Бауманом, оказывал денежную помощь РСДРП. Противоречивость общественных позиций привела Морозова к трагедии. В своем завещании он распорядился передать большую сумму партии большевиков. В очерке "Савва Морозов" Максим Горький писал о нем: "Он давал на издание "Искры", кажется, двадцать четыре тысячи в год. Вообще же он был щедр, много давал денег политическому "Красному Кресту", на устройство побегов из ссылки, на литературу для местных организаций и в помощь разным лицам, причастным к партийной работе социал-демократов большевиков". Морозовым принадлежали в переулке дом № 7, где сейчас музей, и дом № 10.
Другой представитель этого семейства, правнук первого Саввы Морозова Николай Шмит, владелец мебельной фабрики на Пресне, пошел еще дальше связал жизнь с большевиками, стал на путь борьбы с царизмом, вооружил рабочих и превратил фабрику в крепость на пути наступавших на Пресню царских гвардейцев.
Еще одним домом в переулке, № 22 (ныне перестроен), владел купец первой гильдии Иосиф Гранат. Вместе с братом Александром, по образованию инженером-механиком, он издавал энциклопедический словарь, которым они оставили по себе вечную память. Издание словаря является уникальным в истории книжного дела. Александр Гранат приобрел право на издание энциклопедического словаря в 1892 г., привлек к делу лучших ученых своего времени. Одним из редакторов был профессор К. А. Тимирязев. В 22-м томе словаря, вышедшем в 1915 г., была напечатана статья "Маркс" с библиографическим обзором литературы по марксизму. Автором ее был Ленин, выступивший под псевдонимом В. Ильин. Седьмое издание словаря, начатое в 1910 г., выходило до 1948 г. По сей день 58 томов энциклопедии пользуются большим спросом. Они содержат ценнейший фактический материал.
В Леонтьевском переулке сохранился дом № 9, где жили купцы Алексеевы. Эта фамилия дала Москве Н. А. Алексеева, городского голову. Был он на этом посту восемь лет, пока не погиб от руки фанатика в 1893 г. Алексеев успел сделать для города многое, насколько это было возможным тогда: были построены канализация, городские бойни, реконструирован старинный Мытищинский водопровод. Глазная больница, ныне Институт имени Г. Гельмгольца, построена на средства В. А. и А. А. Алексеевых. Кстати, недавно институт получил новый многоэтажный корпус.
Но самая громкая слава у другого Алексеева - Константина Сергеевича. Он вошел в историю мировой культуры под своей артистической фамилией Станиславский. Но о нем - в следующем очерке.
ОНЕГИНСКИЙ ЗАЛ
Многие старинные дома Леонтьевского переулка давно потеряли свое первоначальное лицо: одни надстроены, другие сменили фасады. Только некоторые из них сохранились такими, какими были после 1812 г. Один из них - дом № 4 - выходит главным фасадом в некогда большой зеленый двор; это прелестный двухэтажный особняк с непременной колоннадой, портиком и прочими украшениями, свойственными классицизму. В свое время им владела Аграфена Федоровна Закревская, урожденная графиня Толстая, жена генерал-губернатора. Имя ее давно бы, очевидно, забылось, если бы не увековечил эту даму А. С. Пушкин. Поэт посвятил ей свои стихотворения "Портрет" и "Наперсник", воспевавшие пылкую душу и бурные страсти "сей Клеопатры Невы". Как полагают, образ беломраморной красавицы Нины Воронской в VIII главе "Евгения Онегина" также навеян Аграфеной Закревской.
Еще одно имя бывшего обитателя переулка связано с поэтом. Домом № 18 владели Уваровы. Сергей Семенович Уваров удостоился в октябре 1831 г. похвалы поэта за перевод на французский язык известного пушкинского стихотворения "Клеветникам России". Строки уваровского перевода Пушкин назвал "прекрасными, истинно вдохновенными стихами". Граф С. С. Уваров в молодости входил, как и Пушкин, в литературный кружок "Арзамас"; образованнейший человек, он опубликовал работы по древней греческой литературе и археологии. В течение многих лет являлся президентом Академии наук, был министром народного просвещения.
Интерес к археологии Сергей Уваров передал сыну Алексею, чье имя известно каждому археологу. Он один из основателей отечественной археологии, Исторического музея, Московского археологического общества... Алексей Уваров обладал колоссальной работоспособностью. Им вскрыто 7729 курганов во Владимиро-Суздальском крае, открыта первая палеолитическая стоянка у Мурома, обследовано Черноморское побережье от устья Дуная до Тамани, произведены раскопки в Крыму. Страсть к археологии разделяла его жена Прасковья Уварова, ставшая после кончины мужа председателем Московского археологического общества; она была также председателем комиссии по сохранению древних памятников и изучению старой Москвы.
Особняк Уваровых после революции занимал МК партии, где во время собрания в сентябре 1919 г. произошел, взрыв бомбы, подброшенной террористами. Ныне особняк реставрирован, там размещается посольство Украины в Москве.
Другой особняк, сохранивший черты начала XIX века, - двухэтажный дом под №6. Укрепленная на нем мемориальная доска сообщает, что здесь жил и скончался в 1938 г. Константин Сергеевич Станиславский. Родился он в Москве в доме на Большой Алексеевской улице, где находилась до революции принадлежавшая Алексеевым фабрика, национализированная после Октября. Алексеевы имели в Леонтьевском переулке особняк (дом № 9), однако основатель Московского Художественного театра до революции много лет прожил в Каретном ряду. В 1920 г. ему пришлось переехать с насиженного места. Дело в том, что находившейся рядом с домом Станиславского автобазе потребовалась дополнительная площадь, и управляющий делами Совнаркома Бонч-Бруевич вынужден был распорядиться о переселении. Вот тогда нарком просвещения Луначарский обратился с письмом к Ленину: "Дорогой Владимир Ильич, руководитель Художественного театра Станиславский - один из самых великих редких людей как в моральном отношении, так и в качестве несравненного художника. Мне очень хочется всячески облегчить его положение. Я, конечно, добьюсь для него пайка (сейчас он продает брюки на Сухаревке), но меня больше огорчает то, что В. Д. Бонч-Бруевич выселяет его из дома, в котором он жил в течение очень долгого времени и с которым сроднился..."
Несколько раз этот вопрос рассматривал Малый Совнарком. Кончилось тем, что Ленин подписал постановление о предоставлении Станиславскому и его семье особняка в Леонтьевском переулке. Сюда на второй этаж переехала его семья, сюда перевезли книги, витражи, макеты, собираемые великим режиссером.
Особняк в это время еще хранил следы былой роскоши - штофные обои, фигурный паркет, лепнину и многое другое, что не соответствовало привычной обстановке семьи Алексеевых. Вскоре быт наладился. В кабинет Станиславского по-прежнему вела средневекового стиля дверь, перевезенная из Каретного ряда. В свое время эта дверь была выполнена для спектакля "Скупой рыцарь".
В переулке, и вблизи него много лет жила Гликерия Федотова. Из трех домов, где находились ее квартиры, сохранился одноэтажный особняк № 25 в конце улицы.
Гликерия Федотова блистательно сыграла в пьесах А. Островского 29 ролей и в пьесах Шекспира 19 ролей - много, как никто другой из русских актрис за полвека служения сцене. Как писала эта великая актриса Малого театра, "все окружающие с удивительной родственной лаской относились ко мне. Причиной этого были те надежды, которые Михаил Семенович (Щепкин), верховный судья всех театральных дел и мнений, возлагал на мои артистические способности". Эти надежды Щепкина она оправдала всей своей жизнью.
В переулке практически на каждом здании можно было бы установить мемориальную доску. Так, в обычном прежде жилом доме № 24 находилась последняя московская квартира Антона Павловича Чехова. Сюда он приехал тяжело больной в начале мая 1904 г. из Крыма. В конце месяца вышел впервые в переулок. Через несколько дней уехал в последнее путешествие, в Швейцарию...
В этом же доме была квартира Федора Шаляпина. Он занимал ее с начала 1900 г. до конца 1904 г. Именно тогда он сдружился с Максимом Горьким, сказавшим о певце: "Этот человек, скромно говоря, гений..."
Вскоре новый адрес Станиславского стал известен всей театральной Москве. Сюда потянулись ученики, друзья, авторы, художники... В этом доме Станиславский поставил последнюю точку в книге "Моя жизнь в искусстве".
С утра до вечера в доме проводились репетиции, лекции, диспуты... Бальный зал стал театральным. Между колонн появилась сцена с холщовым занавесом. Зал украшала хрустальная люстра, чей свет отражался в зеркале паркета, всегда блестящего. К залу примыкал кабинет Константина Сергеевича. В этот зал Станиславский вошел впервые вместе с учениками. Вот как пишет один из свидетелей этой сцены:
"Запомнился тот момент, когда во главе с Константином Сергеевичем вошли в этот пустой зал. В зале было холодно - дом не отапливался. От недавно вымытого пола веяло сыростью, но яркое зимнее солнце наполняло весь зал блеском, отчего он казался очень нарядным и парадным. Константин Сергеевич был в шубе. Серебряная голова его сверкала на солнце. Мы стояли молча, было тихо, и только подвески люстры слабо вздрагивали от проезжавшего по улице грузовика.
- Вот вам и готовая декорация для "Онегина", - вдруг сказал Константин Сергеевич".
Этот зал стали называть онегинским. Сюда за честь считал прийти каждый - и начинающий актер, и известный драматург. Бывал здесь не раз и писатель Михаил Булгаков, подробно описавший дом, а также свое первое его посещение на страницах "Театрального романа": "Ворота резные, чугунные, дом с колоннами. С улицы входа нету, а поверните за угол во дворе..."
Все так и осталось. Вход в Музей К. С. Станиславского со двора, где прежде был сад. Дом с двумя колоннадами по фасаду. Вообще-то этот милый классический особняк построен на средневековой московской палате, ставшей, как это нередко бывало, его нижним этажом (сохранились толстенные стены, квадратные окна палаты, нависающие почти над землей). На второй этаж, где жил и работал Константин Сергеевич, ведет широкая лестница. Наверху большое зеркало, классические колонны.
В стенах этого дома Станиславский создавал эпопею "Работа актера над собой", творил до последнего вздоха. Чемодан с рукописью всегда был у него под рукой.
"ГРОМ ПОБЕДЫ, РАЗДАВАЙСЯ!"
"Площадь у Никитских ворот - место чрезвычайно оживленное", - писал путеводитель "По Москве" за 1917 год. У этой площади скрещиваются большие людские потоки. Давно на месте средневековой стены Белого города зеленеют бульвары, давно снесены крепостные ворота, через которые проезжал каждый, кто ехал из Новгорода в Москву. До XVI века улица называлась Волоцкой и Новгородской - она вела к великому Новгороду через Волоколамск.
Более позднее название - Никитская - улица получила после того, как в середине XVI века на ней был основан Никитский монастырь, стоявший на месте, где теперь служебное здание метрополитена.
Новгородцы и жители Устюга, переселенные в Москву, обосновались на этой улице слободой. Украшением ее была небольшая церковь Малого Вознесения с шатровой колокольней, построенная в 1584 году, с маленьким приделом Прокопия Устюжского. Перестроенный позднее, в ХVII веке, этот памятник стоит и по сей день напротив консерватории.
А церковь Большого Вознесения находится в нескольких стах метрах отсюда - у Никитских ворот. Это век XIX. Напротив, в глубине двора, виден малозаметный, вросший в землю другой памятник - одноглавая церковь Федора Студита. Она построена в 1626 году патриархом Филаретом, виднейшим деятелем Русского государства.
Филарет был пострижен в монахи не по своей воле. В миру был он боярином, звался Федором Никитичем Романовым, прожил долгую бурную жизнь. Не раз свергал с московского трона царей, воевал под Смоленском, вел там переговоры и за отказ подписать невыгодные для Москвы условия мира увезен был в Польшу, где пробыл в плену восемь лет. А вернулся в Москву патриархом. Сын его стал царем, а сам он - фактическим правителем Руси. За семь лет до конца своей долгой жизни Филарет велел построить эту церковь в честь своего покровителя-тезки Федора Студита, а по сути - в честь победы над врагами.
В этот приходский храм, по московским преданиям, принес крестить своего новорожденного сына прапорщик Преображенского полка Василий Иванович Суворов. Как сообщает "Русский биографический словарь", родился Александр Суворов поблизости, в доме на Арбате. Спустя сорок четыре года здесь, на Никитской, генерал Александр Суворов повенчался с молодой женой. А дом Суворовых с 1768 года находится в нескольких десятках метрах - за оградой. Это дом № 42 по Большой Никитской. На нем в начале века установили одну из первых в Москве мемориальных досок с лаконичной надписью: "Здесь жил Суворов".
В Москве "российский Марс" родился, вырос, начал воинскую службу. Детство его прошло на берегах Яузы; он стоял в карауле в Головинском дворце, дежурил в солдатском госпитале в Лефортове. В доме на Никитской прошел медовый месяц Суворова; сюда, после смерти отца, уже как хозяин дома, он приезжал во время наездов в Москву - отдохнуть от походов и боев. Энергичный, быстрый на подъем, Александр Васильевич в одном из своих распоряжений писал: "Час собираться, другой отправляться... Еду не на шутку, да ведь я же служил дьячком и пел басом, а теперь еду петь Марсом". Не исключено, что Суворов певал басом и под сводами Федора Студита...
О Суворове же пели все российские барды, его победы поражали воображение современников. У Державина вырвались из груди восторженные строки, посвященные полководцу: "Гром победы раздавайся! Веселися храбрый Росс!" Павел I в минуту прозрения дал точную характеристику Суворову и в своем послании к нему по случаю присвоения звания генералиссимуса называл его "первым полководцем нашим и всех веков".
Место у Никитских ворот, где стоит дом Суворовых, связано с русской армией, сынами Марса. Тут размещался полковой двор Преображенского полка. Рядом находился двор шефа этого легендарного гвардейского полка светлейшего князя Григория Потемкина. Он отдал землю своего двора, чтобы на ней возвести новое здание церкви Большого Вознесения высотой 60 метров! Она должна была стать собором Преображенского полка. В деле о постройке есть такая запись: "Начальное же изготовление было с 1775 года князем Потемкиным и им приготовлено до миллиона кирпичей". Рядом с собором, выше его предполагалось соорудить башню-колокольню. Потемкин, как и до него всемогущий князь Меншиков, хотел удивить Москву грандиозной башней. Замысел этот Потемкин не успел осуществить до конца.
Юный Григорий Потемкин учился в Москве в гимназии Московского университета, но был из нее исключен "за леность и нехождение в классы" вместе со своим однокашником Николаем Новиковым. Пути их разошлись. Один стал великим просветителем - наводнил Россию великолепными книгами, печатая их небывалыми для того времени тиражами. Екатерина II объявила Новикова государственным преступником и заточила в крепость. Григория Потемкина Екатерина II, напротив, осыпала милостями, он стал вторым человеком в государстве, фельдмаршалом, губернатором огромных земель империи и, между прочим, начальником Суворова.
Последний, хотя и натерпелся от крутого нрава "светлейшего", тем не менее на смерть Г. Потемкина отозвался так: "Великий человек и человек великий: велик умом, велик и ростом".
Суворов написал даже по этому поводу эпиграмму в свойственной ему шутливой манере:
"Одной рукой он в шахматы играет,
Другой рукою он народы покоряет,
Одной ногой разит он друга и врага,
Другою топчет он вселенны берега."
Да, природа не пожалела для Григория Потемкина ничего - ни силы, ни ума. Как отмечает "Большая советская энциклопедия", Г. Потемкин "реализовал свой проект присоединения Крыма к России, получив за это титул светлейшего князя Тавричевского". Потемкин основал такие города, как Херсон, Николаев, Екатеринослав (Днепропетровск), Севастополь, построил Черноморский военный и торговый флот...
Спустя полвека после кончины Потемкина собор у Никитских ворот, на сооружение которого он завещал деньги, был в конце концов возведен таким, каким мы видим его сегодня...
Суворов, Потемкин... Много ярких людей видывала в "просвещенном" XVIII веке Большая Никитская. В бывшем дворце, который затем занял кинотеатр "Унион", а в наши дни Кинотеатр повторного фильма, в начале прошлого века жил историк Д. Н. Бантыш-Каменский. Он составил "Словарь достопамятных людей земли русской". В этом словаре приведено интересное высказывание о А. В. Суворове фельдмаршала Г. Потемкина: "Суворова никто не пересуворит". Да, это не удавалось никому: ни врагам, ни всесильным царедворцам и самодержцам. Рисуя портрет Суворова, Бантыш-Каменский приводит слова адмирала Нельсона, адресованные генералиссимусу: "Нет в Европе человека, любящего Вас так, как я, не за одни великие подвиги, но и за презрение к богатству. Горжусь тем, что по уверению видавшего Вас в продолжение многих лет, имею сходство с вами ростом, видом и ухватками"...
Жили на Никитской и "птенцы гнезда Петрова", и пришедшие им на смену люди другого поколения - "екатерининские орлы". Давая характеристику этим незаурядным людям, Александр Герцен отмечал их талантливость, размах и широту души: "Аристократы восемнадцатого столетия при всех своих недостатках были одарены какой-то шириной вкуса".
Отпечаток этого вкуса хранят многие здания улицы.
Будучи студентом университета, Герцен часто бывал здесь. Проходил не раз от университета к дому № 23, уже нам известному, где жил не только автор "Словаря достопамятных людей земли русской". Позднее этот дом принадлежал отцу Николая Огарева, друга Александра Герцена. Тогда дом был двухэтажным, в классическом стиле. В дом Огарева, где собирался кружок товарищей, приходила молодежь, мечтавшая о свободе народа, свержении самодержавия.
А бой, который был подготовлен борьбой поколений русских революционеров, прогремел на этой улице дважды - в 1905 и 1917 годах. Но об этом - следующий очерк.
БОЙ НА ПЛОЩАДИ
Глядя на здание Кинотеатра повторного фильма, со всех сторон обвешанное афишами, рекламой, вывесками мастерских, кафе, и не подумаешь, что оно было опорным пунктом яростной борьбы в дни Октября 1917 года. Площадь эта была одной из главных арен сражения.
Кинотеатр "Унион", предшественник Кинотеатра повторного фильма, зажег свои огни давно; он значится в числе первых "электрических театров" Москвы. Здание это единственное, что осталось на площади от прошлого; другие здания, стоявшие на всех углах и на стрелке бульвара, снесены в разное время.
Бой у Никитских ворот прогремел в октябре 1917 года, но революционные события подготавливались здесь раньше. В этом доме, где проходили тайные собрания кружка Герцена и Огарева, висел портрет юного Огарева, написанный маслом. С портрета смотрел юноша, похожий на романтического героя Шиллера. Как писал впоследствии в "Былом и думах" А. И. Герцен, "на холсте виднелась задумчивость, предваряющая сильную мысль; безотчетная грусть и чрезвычайная кротость просвечивала из серых больших глаз, намекая на будущий рост великого духа; таким он и вырос".
Юность Огарева оборвал Николай I, судивший его за "несвойственные духу правительственные мнения революционные и проникнутые пагубным влиянием Сен-Симона".
В этот дом у Никитских ворот за Огаревым явились ночью полицмейстер, квартальный и казаки. Они увезли поэта, его бумаги, книги. За два часа до ареста Огарева из дома ушел Александр Герцен. За ним вскоре тоже приехали и тоже ночью. Это случилось в 1834 году.
В апреле следующего, 1835 года, когда был объявлен приговор, Герцена привезли в дом генерал-губернатора на Тверскую, где в секретной части он простился с родителями и отправился в ссылку по Владимирской дороге.
В этот же дом Герцен, еще будучи на свободе, приезжал к генерал-губернатору с безуспешной просьбой разрешить ему свидание с другом. Сюда же привезли арестованных, чтобы объявить им решение царя.
На первый допрос Герцена и Огарева доставили в дом обер-полицмейстера на Тверском бульваре, стоявший на месте нового здания МХАТа. Здесь бренчали жандармские шпоры, сабли уральских казаков и цепи арестантов.
История так распорядилась, что и дом у Никитских ворот, где арестовали Николая Огарева, и дом генерал-губернатора, и здание на Тверском бульваре, где велось следствие по делу молодежного кружка, вошли в историю русских революций. Когда наступил 1905 год и Москва смогла заговорить свободно, большевики стали открыто издавать газеты и журналы. 27 ноября в Москве впервые вышла легально революционная газета партии "Борьба". На ее издание весь месяц собирались средства, изыскивались бумага, типография. Очень помог тогда известный русский писатель Н. Гарин-Михайловский, автор "Детства Темы" и "Гимназистов", давший на издание газеты 15 тысяч рублей.
Контора редакции расположилась в доме у Никитских ворот, где собирался кружок Герцена и Огарева, тех, кто основал "Колокол", вольную русскую печать. Вот как вспоминает об этих днях 1905 года автор книги "Революционная Москва" С. Мицкевич: "В те боевые революционные дни сотни лиц толпились в конторе редакции (у Никитских ворот), приносили статьи, корреспонденции, известия, приходили узнать новости: здесь был центр революционной информации".
Членами редколлегии, сотрудниками "Борьбы" были Ленин, Марат - В. Шанцер, руководитель московских большевиков, Луначарский, Воровский, Ольминский и другие известные публицисты. Фактически газета была органом Центральною Комитета партии в Москве. Естественно, что царское правительство преследовало газету. После выхода шестого номера арестовали ее редактора, а после девятого номера "Борьбу" закрыли. В этом последнем номере, вышедшем 7 декабря, напечатано воззвание Московского Совета рабочих депутатов и других революционных организаций с призывом ко всеобщей стачке и вооруженному восстанию.
И бой прогремел. У Никитских ворот собираются массы народа. Бьет артиллерия, шрапнелью и пулями разгоняя восставших. В конце улицы, там, где она "впадает" в Кудринскую площадь, за баррикадами встала Пресня. Там пролетариат дал кровавый бой самодержавию.
В октябре 1917 года Никитские ворота стали одним из главных мест сражения. Белые яростно наступали на Московский Совет, располагавшийся в бывшем дворце генерал-губернатора. А опорным пунктом этого наступления стало известное нам здание градоначальства. Здесь засели сотни юнкеров, вооруженные пулеметами. Отсюда рукой подать до Московского Совета. Бой за здание градоначальства решал многое в судьбе восстания. При штурме пали Сергей Барболин и Николай Жебрунов, члены Союза рабочей молодежи "III Интернационал". На бульваре в память о 1917 годе установлен большой камень-куб. После взятия здания градоначальства главным узлом сопротивления белых стала площадь Никитских ворот. Юнкера под руководством офицеров выстроили здесь по всем правилам фортификации блиндаж, установили несколько рядов заграждений из колючей проволоки. На здании кинотеатра "Унион" появились пулеметы и бомбометы. На Никитские ворота наступали по Большой Никитской от Пресни и по Тверскому бульвару, переулками. Никитские ворота стали ключевой позицией всего западного сектора восстания, потому что они прикрывали дорогу к Арбату и Кремлю, где были главные силы белых.
За Никитские ворота бой шел беспрерывно семь суток. 2 ноября некто штабс-капитан Доманский доносил начальству: "За последний день нашим отрядом, занимающим театр "Унион", захвачены дома на углу Малой Никитской и Малой Бронной в общем числе трех. На занятие этих домов израсходовано 30 человек убитыми и ранеными 2... Считаю занятую нами позицию очень важной".
Да, это была важная позиция. Решающий бой произошел здесь в тот же день к вечеру, когда с разных сторон началось продвижение красных войск. Белые стали отступать к Арбату по бульвару...
Бой у Никитских ворот описан в мельчайших подробностях его невольным очевидцем, будущим русским писателем Константином Паустовским, жившим тогда в доме на углу Большой Никитской и Тверского бульвара, где теперь построено новое здание ТАСС. Еще недавно тут находился двухэтажный старый жилой дом. В нем-то и застал студента Костю Паустовского бой, который длился семь дней и ночей. Из-за артиллерийского обстрела загорелся дом с аптекой, стоявший там, где ныне памятник Тимирязеву. Загорелся и другой соседний дом, подожженный юнкерами.
И вот жильцы, наконец, увидели, как по бульвару цепью побежали красногвардейцы с винтовками наперевес, и вскоре в дом ворвались освободители. Бой утих.
"Мы осторожно вышли на Тверской бульвар, - пишет К. Паустовский. - В серой изморози и дыму стояли липы с перебитыми ветками. Вдоль бульвара до самого памятника Пушкину пылали траурные факелы разбитых газовых фонарей. Весь бульвар был густо опутан порванными проводами. Они жалобно звенели, качаясь, и задевали о камни мостовой. На трамвайных рельсах лежала, ощерив желтые зубы, убитая лошадь.
...Все было кончено. С Тверской несся в холодной мгле ликующий кимвальный гром нескольких оркестров".
Они играли "Интернационал".
ТЕАТР БОЛЬШИХ СТРАСТЕЙ
За долгую историю Никитской в разных домах ее размещались разные театры. В клубе университета сейчас выступает самодеятельный студенческий театр, а в начале XIX века в этом здании играла труппа, где дебютировал Михаил Щепкин. Шли спектакли, как уже говорилось, и в здании, ставшем теперь обычным жилым пятиэтажным домом № 26.
Но театром, где каждый вечер загораются огни, стал только один дом, построенный на углу улицы и Малого Кисловского переулка. Хозяйка дворца (ныне в нем Дом культуры медицинских работников) княгиня Е. Шаховская-Глебова-Стрешнева, несмотря на свою тройную аристократическую фамилию, ударилась в коммерцию. Она купила землю по соседству, сломала все находившиеся здесь строения и стала строить театр. Архитектор придал ему внешне черты русского стиля. На довольно малом участке появилось вместительное здание с партером, амфитеатром, бельэтажем и двумя ярусами балконов (в нем 1232 места). Свой дворец княгиня приспособила для концертов и балов, переделала его внутри и снаружи, сменив старую классическую одежду на новую - в модном тогда русском стиле.
"Никитскому театру", как его называли в свое время по имени улицы, свыше ста лет. Он построен в 1885 году. По фамилии антрепренера Г. Парадиза, устраивавшего здесь гастроли, театр стали именовать "Парадиз". Его сцена принимала многие отечественные и иностранные труппы, отчего театр называли "Интернациональным". На его подмостках выступали великолепные зарубежные актеры, и среди них знаменитая Сара Бернар. Видели здесь москвичи украинские труппы, венскую оперетту. Одно время тут давала спектакли Московская комическая опера.
В "Никитском театре" играл Теревсат - Театр революционной сатиры. В 1922 году его преобразовали в Театр Революции. Руководить им пригласили режиссера Всеволода Мейерхольда. Одновременно с Виталием Собиновым он был удостоен звания народного артиста республики.
Было у них еще нечто общее. Собинов, как известно, учился в Московском университете, закончил юридический факультет. Молодой Мейерхольд, приехав в Москву из Пензы, также вначале выбрал себе юридическое поприще - поступил в университет на юридический факультет год спустя после того, как его окончил Собинов. Занимался он здесь всего год и перевелся в театральное училище, руководимое В. И. Немировичем-Данченко. Своим учителем Мейерхольд считал Константина Сергеевича Станиславского. Четыре года он успешно выступал на сцене МХАТа, но потом решил, как и Евгений Вахтангов, также начинавший во МХАТе, идти своим путем и уехал на режиссерскую работу в провинцию.
В Театр Революции В. Э. Мейерхольд пришел в зените славы. В апреле 1923 года Москва чествовала режиссера в Большом театре. Вслед за актерами, поэтами, драматургами, в числе которых был В. Маяковский, на сцену театра вышли красноармейцы. Они вручили режиссеру знамя и сообщили, что избрали его почетным красноармейцем. Так появились у Мейерхольда краснозвездная шапка, гимнастерка и сапоги, которые он нередко носил пока не погиб в застенках Лубянки.
В театре на Никитской В. Э. Мейерхольд работал сравнительно недолго всего два года, но вместе с ним в театре появились молодые блистательные актеры - Мария Бабанова, Николай Охлопков, Дмитрий Орлов, молодые авторы, в том числе драматург Анатолий Файко. Последний в своих мемуарах запечатлел Мейерхольда на репетиции в Театре Революции: "Высокий, немного сутуловатый, уже немолодой, сухопарый человек в сером пиджаке, с жилистой шеей и очень заметной сединой в волосах вдруг превращался в грациознейшее порхающее создание, полное легкости, лукавства и капризного кокетства. Мы смотрели на него разиня рот..." И было отчего.
В Театре Революции на Никитской зрители впервые, в 1922 году, увидели перед собой сцену без занавеса, без рампы. Подмостки не загромождали декорации, бутафория, чтобы актерам ничто не мешало двигаться. Декорации только обозначались контурами и представляли собой архитектурные конструкции...
С того времени выходила на эту сцену Мария Ивановна Бабанова. Она впервые сыграла тут Полиньку в "Доходном месте" А. Островского. Свыше полувека украшала сцену театра Мария Бабанова, народная артистка СССР, чаровавшая всех неповторимым голосом. Когда-то, услышав случайно голос молодой девушки, бывшей тогда инструктором районного отдела народного образования, известная московская актриса сказала ей: "С таким голосом надо идти на сцену". И она пошла... Ей пришлось испытать успех во многих ролях, она запомнилась всем, кто хотя бы раз видел ее на сцене или слышал по радио. В 1935 году Бабанова сыграла Джульетту в трагедии Шекспира. А в 1954 году в другой трагедии Шекспира играла Офелию...
В этом театре блистали многие актерские таланты. 5 ноября 1937 года в Театре Революции состоялась премьера пьесы А. Корнейчука "Правда". В тот вечер зрители впервые увидели на сцене Ленина, чей образ был создан Максимом Штраухом. Через неделю в Театре Вахтангова роль Ленина сыграл Борис Щукин. Сравнивая игру исполнителей, Крупская писала тогда в "Правде": "Надо сказать, что обоим артистам, играющим Ильича... удалось показать Ленина на трибуне, у товарища Штрауха даже в голосе слышались иногда нотки Ильича..."
В этом же московском театре начинал и Николай Охлопков. Он родился на рубеже двух веков, окончил кадетский корпус, учился по классу виолончели в музыкальном училище, занимался рисованием в школе живописи. Но истинным призванием его оказался театр. Молодой богатырь пришел в театр мебельщиком-декоратором, а вскоре стал актером и режиссером. Его первой постановкой было "массовое действо", показанное на главной площади революционного Иркутска с участием не только актеров, но и пехоты, кавалерии, артиллерии, рабочих фабрик и заводов, крестьян окрестных деревень. Вот с каким размахом начал Николай Охлопков...
В театр на Большой Никитской Николай Охлопков пришел главным режиссером в годы войны, когда коллектив вернулся из эвакуации. С тех пор до последних дней жизни он руководил им, воплощая во многих постановках свою идею о "театре больших страстей и эксперимента". Режиссер, как и в годы юности, стремился вывести действие за пределы обычной сцены, переносил его в партер, отказывался от занавеса. По его предложению театр назвали именем Владимира Маяковского, считавшего, что театр - не отражающее зеркало, а увеличительное стекло. На этой сцене Н. Охлопков поставил "Молодую гвардию" по собственной инсценировке, одобренной автором романа А. Фадеевым, а также многие спектакли, вошедшие в историю советского искусства.
Образы, создаваемые Охлопковым-актером, видели миллионы зрителей на экранах кино: он играл былинного Василия Буслая в "Александре Невском", питерского рабочего Василия в картинах "Ленин в Октябре" и "Ленин в 1918 году"...
Мемориальная доска с бронзовым барельефом Николая Охлопкова укреплена на фасаде Академического Театра имени Маяковского, бывшего Театра Революции - "театра больших страстей и эксперимента". По вечерам в нем дают спектакли новые актеры и режиссеры.
СОЗВЕЗДИЕ ИМЕН
Вознесенский, бывший Большой Чернышевский переулок - назывался по имени графа З. Г. Чернышева, построившего на главной улице Москвы здание, которому суждено было войти в историю города. Оно было резиденцией генерал-губернатора, а в 1917 году в нем поселился Московский Совет, ныне мэрия.
На протяжении 631 метра в переулке сохранилось много старых домов, стоящих в линию, как предписывали правила застройки города, утвержденные в конце XVIII века. Только один из домов - № 6 - свободно стоит в глубине двора, отступив от красной линии улицы. Этот дом принадлежал старинному дворянскому роду Сумароковых. В 1716 году тут находился двор "стряпчего с ключом" П. Б. Сумарокова. Спустя год у него родился внук Александр.
Так в роду потомственных дворян появился поэт, которого называют также первым русским драматургом. Он же был и первым директором российского театра. В этом московском доме Александр Сумароков провел детские годы - 16 лет, а затем уехал учиться в новую столицу. Бросив службу, он вернулся в Москву и целиком отдался творчеству.
В дни коронации Екатерины II Сумароков составлял программу маскарада "Торжествующая Минерва". В этом небывалом по масштабу театрализованном действии, кроме актеров, участвовали 4 тысячи москвичей. Длился маскарад несколько дней и проходил по главным улицам. Двести колесниц, запряженных волами, везли ряженых, которые обличали пороки и воспевали добродетель. Для этого маскарада поэт написал хоры "Пьяниц", "Невежества", "Обмана", "Ко гордости".
Выступал Сумароков в разных жанрах, но особенно преуспел в драматургии. Первыми его пьесы ставили в Москве студенты университета. Как писал в прошлом веке автор "Старой Москвы" И. Пыляев, "современники ставили его наравне с Мольером и Расином, плакали от его драм и смеялись до слез, любуясь его комедиями".
Вольтер называл Сумарокова "славой своего отечества". О жизни Сумарокова слагали легенды. Тому причиной - характер этого человека, который о себе лучше всего сказал сам. Обращаясь за помощью в тяжелую годину с письмом к всесильному князю Г. Потемкину, Сумароков писал: "Я человек. У меня пылают страсти. А у гонителей моих ледяные перья приказные. Им любо будет, если я умру с голода или холода".
Сумароков оставил несколько стихотворений, посвященных Москве.
Достояно я хвалю тебя, великий град,
Тебе примера нет в премногом сем народе!
Но хвален больше ты еще причиной сей,
Что ты жилище, град, возлюбленной моей.
В Москву, к ужасу родных, Сумароков вернулся с любимой женщиной крепостной отца; родственники не пожелали жить под одной крышей с "крепостной девкой" и покинули дом.
У Сумарокова было доброе сердце. Однажды, встретив на улице нищего офицера, поэт снял с себя золоченый мундир и отдал ему, а вернувшись домой, тотчас переоделся и поехал просить за этого офицера. В другой раз в свою трагедию он ввел слова, повествующие о бедственном положении сирот - детей русского ученого С. П. Крашенинникова, описавшего Камчатку. Он помог этим детям. Однако себе помочь не смог - дом его был описан за долги.
Хотя сохранились предания о том, что Сумароков в пылу гнева мог обломать палку о спину актера, плохо читавшего его стихи, именно московские артисты пронесли на руках гроб первого русского драматурга и похоронили за свой счет в Донском монастыре. Оказавшись в монастыре, А. С. Пушкин отыскал могилу забытого Сумарокова и отдал долг его памяти, хотя в молодости высказывался о нем пренебрежительно.
В бывшем доме Сумарокова поэт, быть может, сам того не зная, бывал часто: в нем жил его друг поэт Евгений Баратынский.
"Кто тебе говорит, что у Баратынского я не бываю? Я и сегодня провожу у него вечер, и вчера был у него, мы всякий день видимся", - писал Пушкин жене в конце сентября 1832 года.
В этом доме в переулке Е. Баратынский поселился после женитьбы на Анастасии Энгельгардт, дочери хозяина особняка. Пушкин тут бывал, в этих стенах он читал "Повести Белкина". Пушкина и Баратынского в Москве часто видели вместе. Их одновременно избрали в Общество любителей русской поэзии, они совместно издали сборник "Две повести в стихах", где были помещены "Граф Нулин" Пушкина и "Бал" Баратынского. Такими же словами, как позднее Пушкин, сказал о себе после женитьбы Баратынский: "Я женат и счастлив".
Счастье это он испытал, живя в этом доме в Москве, о которой писал: "Как не любить родной Москвы". О себе, как об одном своем герое, Баратынский мог сказать: "Он был вскормлен сей Москвой". Здесь вышло его первое собрание сочинений, восторженно встреченное Пушкиным. Дом Сумарокова и Баратынского много раз переделывался; от прошлого в нем осталась на столбах ворот надпись: "Свободен от постоя". С давних пор существовал обычай размещать солдат на зимние квартиры в частные дома, и, чтобы освободиться от постоя, нужно было заплатить изрядную сумму казне. Есть и другая надпись на воротах, относящаяся к одному из поздних владельцев - А. В. Станкевичу, родному брату Николая Станкевича, философа, властителя дум московской молодежи. Его именем назывался проезд в наше время.
Отсюда достаточно пройти сто шагов, перейти на другую сторону проезда, чтобы очутиться у дома поэта Петра Вяземского. Двухэтажный флигель этого дома, выходящий в переулок маленькими окнами двух этажей, украшен мемориальной доской: "Здесь в 1826 - 1832 годах А. С. Пушкин бывал у поэта П. А. Вяземского".
Судьба оказалась добра к этому поэту, родившемуся на семь лет раньше своего гениального друга и пережившему его на сорок с лишним лет. Вяземский, как и Пушкин, родился в Москве. Он принимал участие в Бородинском бою, где под ним убило двух лошадей. Он дожил до выхода в свет романа Льва Толстого "Война и мир", был его критиком. Прочитав лицейские строки Пушкина, Вяземский увидел в нем "будущего гиганта, который всех нас перерастет", и всячески стремился помочь ему.
Дом Вяземского вошел в историю не только из-за того, что тут бывал Пушкин, читавший два раза "Бориса Годунова". Сюда приходили многие писатели, тут родилась идея издавать журнал "Московский телеграф", в котором печатались лучшие писатели России.
Дружеские отношения связывали Вяземского и с А. Грибоедовым, вместе они написали водевиль "Кто брат, кто сестра", переложенный на музыку А. Верстовским. "Скоро после приезда в Москву Грибоедов читал у меня и про одного меня комедию свою", - вспоминал поэт. То было "Горе от ума".
Хотя Вяземский с 30-х годов переехал на службу в Петербург, а потом жил за границей, он говорил о себе: "Я родом и сердцем москвич. В ней родился я, в ней протекло лучшее время моей жизни..."
Петр Вяземский оставил неизгладимый след в русской литературе и своими стихами, и своими критическими статьями. Кто не знает этих строк, ставших народной песней: "Тройка мчится, тройка скачет, вьется пыль из-под копыт..."
Строки Вяземского, как и Баратынского, нередко вплетались в строки Пушкина. Эпиграфом к первой главе "Евгения Онегина" Пушкин взял слова друга: "И жить торопится, и чувствовать спешит".
В бумагах Карла Маркса сохранился специально для него сделанный перевод сатирического стихотворения "Русский бог", где обличается "бог дворовых без сапог, бар в санях при двух лакеях"... Это тоже строки князя Петра Вяземского.
Так в одном маленьком переулке длиной в 631 метр сошлись пути-дороги Вяземского, Баратынского, Пушкина. Задолго до их рождения им прокладывал путь в литературе Александр Сумароков, утверждавший, что "прекрасный наш язык способен ко всему"...
Дому этому суждена долгая жизнь. Недавно его восстановили, и, пройдя по комнатам, видишь прекрасные лепные потолки, резные двери, беломраморные камины. В наш век в нем свыше тридцати лет прожил Иван Жолтовский, автор зданий Центрального ипподрома, дома на Моховой, многих других сооружений. Ему поручили составлять первый советский план новой Москвы и докладывать его в 1918 году Ленину.
"ПЕРЕЙДУТ К ПОТОМСТВУ"
На бывшей Никитской, где дома возводились по проектам самых лучших зодчих, один из дворцов был сооружен по плану его хозяйки, не имевшей никакого архитектурного образования, - Екатерины Романовны Дашковой.
Сохранилась фотография прошлого века, сделанная с той стороны улицы, где стоит по сей день напротив консерватории побеленная церковь Малого Вознесения. В глубине двора на снимке виден двухэтажный особняк-дворец с крыльями, главный вход в который украшают выступающие вперед полукругом колонны. Если встать на то же место, где была сделана фотография, мы увидим эту полуротонду, но теперь на своих плечах старый дворец несет еще три этажа, потому что его перестроили для Московской консерватории.
А в конце XVIII - начале XIX века в "приходе Малого Вознесения" был известный всей Москве дом княгини Екатерины Романовны Дашковой. Княгиню Дашкову знали и в Петербурге, и во многих городах Европы, где она побывала во время своих длительных путешествий. С кем бы она ни встречалась, на каждого производила сильнейшее впечатление, потому что была человеком, о котором говорят: такие рождаются раз в столетие! Так, после встречи с ней Вольтер написал: "Княгиня Дашкова достаточно известная деяниями, которые перейдут к потомству... Эта удивительная княгиня пробыла у меня в Ферне два дня, она совсем не похожа на наших парижских дам..." Это была, безусловно, выдающаяся женщина XVIII века.
Портрет Е. Р. Дашковой сегодня можно увидеть в здании бывшего Нескучного дворца, где теперь заседает президиум Академии наук. Одиннадцать лет в конце XVIII века Академия наук возглавлялась именно ею, она была ее директором. Мало того, Екатерина Дашкова основала также Российскую академию, созданную для развития русского языка, и была ее первым президентом. Таким образом, она руководила одновременно двумя академиями (впоследствии Российская академия слилась с Академией наук).
По инициативе Дашковой вышел шеститомный "Словарь академии Российской". Для него она написала много статей, а также дала толкование многих нравственных понятий. По инициативе Дашковой построено новое главное здание академии, учреждены публичные лекции, "переводческий департамент" для издания зарубежных книг; она издавала разные журналы и сама в них выступала как автор пьес, статей, интереснейших мемуаров. Русская литература обязана ей тем, что она разрешила напечатать свободолюбивую трагедию Я. Б. Княжнина "Вадим Новгородский", запрещенную и изъятую по распоряжению Екатерины II, увидевшей в ней "слишком строгий и горький упрек верховной власти". За издание "Вадима" Екатерина II принудила Дашкову уйти в "долгосрочный отпуск". При Павле I ее отправили в ссылку, и она жила в крестьянской избе, превратив ее в кабинет ученого.
После восшествия на престол Александра I у отстраненной от всех должностей Дашковой вновь появилась возможность заниматься общественной деятельностью; академики единогласно, по своей инициативе предложили ей снова пост директора. Благодаря Екатерине Романовне академия вышла из финансового кризиса, стала располагать доходами...
Мемуары Дашковой впервые на русском языке опубликовал в Лондоне Александр Герцен. Он написал о ней очерк и поместил его в "Полярной звезде". Герцен особенно ценил Дашкову за то, что она была противником самовластия, деспотизма и тирании. Портреты Дашковой оставили многие художники, ее образ запечатлели и писатели. Их дополняют заметки, сделанные жившей долгое время в ее доме подругой, англичанкой Кэтрин Уильмот: "Я не только не видывала никогда такого существа, но и не слышала о таком. Она учит каменщиков класть стены, помогает делать дорожки, ходит кормить коров, сочиняет музыку, пишет статьи для печати, знает до конца церковный чин и поправляет священника, если он не так молится, знает до конца театр и поправляет своих домашних актеров, когда они сбиваются с роли, - она доктор, аптекарь, фельдшер, кузнец, плотник, судья, законник..."
В Екатерине Дашковой Герцен видел нечто от Петра I, Ломоносова. Вот почему очерки о ней по сей день появляются в журналах. Деяния ее, как говорил Вольтер, "перейдут к потомству".
Однажды перед воротами дашковского дома остановился экипаж, запряженный великолепными лошадьми, и к подъезду направился величавый старик - граф Алексей Орлов-Чесменский. Перед кончиной своей он приехал мириться с гордой княгиней, размолвка с которой длилась десятки лет. "Она не простила ему, - писал Герцен, - что сорок два года тому назад он запятнал ее репутацию". Так определил Герцен причину неприязни Дашковой к легендарному человеку времен Екатерины II. Молодой офицер Преображенского полка Алексей Орлов, обладавший колоссальной физической силой, был причастен к смерти свергнутого императора Петра III.
О чем вспоминали эти люди, беседуя на закате дней своих в дашковском дворце? Титул Чесменского Алексей Орлов заслужил в честном, блистательном бою. Во главе русской эскадры в Средиземном море он напал на превосходящий флот турок и разгромил его. Орлов-Чесменский, как и Дашкова, помог Екатерине сесть на престол. Именно он разбудил ее утром в петергофском павильоне "Монплезир" словами: "Пора вставать, все готово, чтоб провозгласить вас" (пятеро братьев Орловых вскоре стали графами). А Екатерина Дашкова в тот день вместе с Екатериной скакала верхом, со шпагой, в гвардейском мундире, впереди полков, чтобы сразиться с противниками новой императрицы. Однако впоследствии коронованная подруга не пожелала видеть Дашкову при дворе, и ей пришлось надолго покинуть столицу.
Храброму Орлову-Чесменскому приходилось не раз выполнять щекотливые задания Екатерины II, в том числе и такую, как поимка так называемой "княжны Таракановой". В Европе тогда появилась самозванка, которая выдавала себя за внучку Петра I, дочь императрицы Елизаветы Петровны. Ее с готовностью принимали во дворцах европейских государей. Самозванцы доставляли много несчастий России, поэтому поимка "княжны" считалась делом государственной важности. Алексей Орлов, будучи с флотом в Италии, заманил на свой корабль "княжну Тараканову" и как пленницу доставил ее в Россию - в Петропавловскую крепость.
Вскоре после заморских побед и приключений Орлову-Чесменскому пришлось отправиться в почетную ссылку в Москву. Жил он в том самом дворце в Нескучном, где теперь находится портрет Е. Дашковой. Отстраненный от государственных и военных дел, Орлов-Чесменский сумел найти занятие по душе. На его конном заводе путем скрещивания выведены две новые великолепные породы лошадей. Эти лошади, верховая и рысистая, вошли в историю коннозаводства и конного спорта под именем Орловских - в честь Алексея Орлова.
В его дворце доживал последние дни "екатерининский орел" Григорий Орлов. И это была яркая фигура XVIII века - командующий артиллерией русской армии и основатель Вольного экономического общества, участник боев и дипломатических переговоров, корреспондент Жан-Жака Руссо и покровитель Ломоносова, Фонвизина... Если прибавить к этому, что он разрабатывал план освобождения Греции от турецкого ига и настоял на том, чтобы послать в Средиземное море эскадру русского флота, то станет ясно, что и он заслужил право на память потомков. Имя Григория Орлова носит знаменитый алмаз "Орлов", выставленный ныне в экспозиции Алмазного фонда в Кремле. Этот алмаз Орлов приобрел за баснословную сумму и преподнес Екатерине II.
Но даже такой царский дар не надолго смягчил ее сердце. Вскоре Григорий Орлов, как это случилось прежде с Дашковой, был вынужден уйти в отставку. Вслед за ним получили отставку и его братья...
Получил отставку и младший Орлов - Владимир, чей дом находится в целости и сохранности, насколько это возможно после стольких лет, на славной улице под № 5, невдалеке от дворца Е. Р. Дашковой. И этот Орлов был незаурядный человек. Младший из пяти братьев, Владимир учился в Лейпцигском университете, увлекался естествознанием. По возвращении из Европы Екатерина II нашла у него "довольные о науках сведения, охоту и наклонность к оным" и в 23 года назначила... директором Академии наук. На этом посту Владимир Орлов пробыл девять лет. Вместе с Екатериной II во время ее поездки по Волге переводил французского писателя Мармонтеля. Остались воспоминания Орлова об этом путешествии. Владимир Орлов содействовал снаряжению научных экспедиций Академии, в том числе знаменитой Оренбургской, которой руководил известный академик П. Паллас. Тогда русские ученые исследовали земли государства от берегов Невы до Каспийского моря, Урал и Сибирь, преодолели тысячи километров без дорог. Заботился Владимир Орлов и о русских студентах, обучавшихся за границей.
ТАСС И "ГУДОК"
Выросший у Никитских ворот светлокаменный, с большими зеркальными окнами дом, где свет не гаснет до утра, всем своим видом говорит, что построен он для дела - важного и непрерывного, такого, как выплавка стали или выпечка хлеба.
Информация - хлеб современной цивилизации, которую важно не только добыть, но и быстро доставить на стол каждому. Этим и занимаются сотни журналистов под крышей нового здания Москвы, украсившего центр. Здесь непрерывно, без выходных и праздничных дней пишется летопись современной жизни всех стран и народов, пишется в телеграфном стиле, лаконично и срочно.
Это одно из пяти крупнейших в мире информационных агентств свою историю ведет от Российского телеграфного агентства (РОСТА), переехавшего из Петрограда в Москву вслед за Советским правительством. Задачи его были четко определены еще в те годы: "Распространение по всему Союзу ССР и за границей политических, экономических, торговых и всяких других имеющих общий интерес сведений, относящихся как к Союзу ССР, так и к иностранным государствам".
Не раз бывало, что в телеграфном отделе агентства раздавался звонок из Кремля и Ленин просил дежурного прочесть ему по телефону последние новости.
Большое здание на Тверском бульваре, занимаемое ТАСС, давно ему стало тесным. Поэтому по соседству у Никитских ворот выстроено новое. Его окна сравнивают и с большими телеэкранами, и с открытыми глазами, глядящими в мир. В одном окне - два этажа. Перед входом арка, напоминающая магнит. А под ним круглый шар - наша Земля.
Под крышей никогда не засыпающего здания находится множество комнат, где работают корреспонденты, редакторы, переводчики; многие большие и малые залы занимают аппаратные.
Появлению таких агентств способствовало изобретение телеграфа. Еще в 1894 году возникло крупное Российское телеграфное агентство.
Новое здание ТАСС проектировалось в расчете не только на телеграф, но и на новейшие средства связи, какими в наш век являются ЭВМ. На третьем этаже здания в большом залитом светом зале находится центр обработки сообщений. Это место - святая святых всего машинного царства агентства. Предназначено оно для сверхмощной электронно-вычислительной машины, способной принимать и передавать с колоссальным быстродействием потоки информации. И также держать ее в памяти.
Куда ни посмотришь - на стены, окна, пол, потолки, мебель - видишь, что в каждый миллиметр этого пространства вложены достижения современной цивилизации, продумано все до последней мелочи, как на космическом корабле. Все материалы, их свойства, цвет, фактура и многое другое подобрано так, чтобы быть на уровне ЭВМ, дать ей возможность безостановочно работать.
Самый ближний к ТАСС потребитель информации находится в 300 метрах от него, в Хлыновском тупике. Здесь издается "Гудок", газета железнодорожников. А типография ее помещается рядом, в Вознесенском. Здесь в доме № 7 в 1886 году начала издаваться большая московская газета "Русские ведомости".
"Наша профессорская газета", - называла ее интеллигенция.
"Крамольники", - шипели черносотенцы.
"Орган революционеров", - определял департамент полиции.
Эти суждения приводит в своем очерке о "Русских ведомостях" ее блистательный сотрудник Владимир Алексеевич Гиляровский, приглашенный в газету "для оживления московского отдела", т. е. информации и репортажа, королем которого он был. Гиляровский на страницах газеты много раз подтвердил свой высочайший класс, "ведя происшествия и командировки". Наборщики звали его "летучим репортером": он прилетал всегда поздно вечером, набитый экстренными новостями. Он неутомимо колесил по Москве, имея, между прочим, привилегию ездить по городу на любом пожарном обозе, и нередко пользовался такой оказией. В то время в "Русских ведомостях" печатались выдающиеся русские журналисты и писатели - М. Е. Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Лев Толстой, А. П. Чехов. За псевдонимом "Андреев" скрывался Н. Г. Чернышевский.
Отсюда, из переулка, Гиляровский вечером направился на Ходынское поле, где должно было состояться большое народное гуляние по случаю коронации... Всю ночь пробыл он на Ходынке, "впаянный в толпу мертвых и полуживых", и вернулся оттуда благодаря своей феноменальной физической силе, которая помогла ему выбраться из давки, в которой погибли сотни людей. И "Русские ведомости" - единственная из газет - смогли напечатать репортаж очевидца о ходынской катастрофе, ознаменовавшей начало царствования последнего Романова. Пришлось после этого Гиляровскому давать интервью многим собратьям-журналистам, как русским, так и иностранным. Они долго щупали его мощные бицепсы, не веря в правдоподобность рассказа.
В здании, прежде занимаемом "Русскими ведомостями", и поныне пахнет типографской краской. На улице слышно, как шумят печатные машины.
В общежитии типографии в 20-е годы нашего века поселился молодой журналист, вскоре прославившийся как писатель. Его соавтор, Евгений Петров, пишет: "Ильфу повезло. Он поступил на службу в газету "Гудок" и получил комнату в общежитии типографии в Чернышевском переулке. Но нужно было иметь большое воображение и большой опыт по части ночевок в коридоре у знакомых, чтобы назвать комнатой это ничтожное количество квадратных сантиметров, ограниченное половинкой окна и тремя перегородками из чистейшей фанеры. Там помещался матрац на четырех кирпичах и стул. Потом, когда Ильф женился, ко всему этому был прибавлен еще и примус. Четырьмя годами позже мы описали это жилье в романе "Двенадцать стульев", в главе "Общежитие имени монаха Бертольда Шварца".
А все начиналось в переулке у Никитских ворот...
С историей "Гудка" связана незабываемая страница советской литературы. В недавно вышедшем автобиографическом романе писатель Валентин Катаев пишет: "По странному стечению обстоятельств в "Гудке" собралась компания молодых литераторов, которые впоследствии стали, смею сказать, знаменитыми писателями, авторами таких произведений, как "Белая гвардия", "Дни Турбиных", "Три толстяка", "Зависть", "Двенадцать стульев"... Эти книги писались по вечерам и по ночам, в то время как днем авторы их сидели за столами в редакционной комнате и быстро строчили на полосках газетного срыва статьи, заметки, маленькие фельетоны, стихи, политические памфлеты, обрабатывали читательские письма..."
Да и сами литераторы оставили воспоминания об этой полосе своей жизни в "Гудке".
Писатель Юрий Олеша, автор "Зависти" и "Трех толстяков", в своем произведении "Ни дня без строчки" писал о том времени: "Одно из самых дорогих для меня воспоминаний моей жизни - это моя работа в "Гудке". Тут соединилось все: и моя молодость, и молодость моей советской родины, и молодость, если можно так выразиться, нашей прессы, нашей журналистики..."
Юрий Олеша поступил в газету по рекомендации Валентина Катаева, и ему, как новичку, поручили надписывать адреса на конвертах и вкладывать в них письма, написанные начальником. Так продолжалось недолго; начальник - им оказался писатель Иван Овчинников - как-то предложил Олеше написать стихотворный фельетон по письму рабкора. К своему удивлению, руководитель отдела получил фельетон через несколько минут. Причем его даже не пришлось править. Подписали его ходовым тогда в редакции псевдонимом "Зубило". Вскоре этот псевдоним прогремел по всем магистралям страны, а Юрий Олеша стал известным журналистом, которого с радостью принимали во всех депо, на всех железных дорогах. На закате жизни писатель с нежностью вспоминал о тех днях, о своем втором я - Зубиле. "От его друзей и собеседников пахло гарью, машинным маслом, они держали в руках большие фонари, и от фонарей падала на снег решетчатая тень. Его обдавало паром от маневрировавших паровозов, оглушало лязгом металла. Бородачи в полушубках наперебой приглашали его к себе в гости. И он был счастлив!"
Валентин Катаев привел в редакцию "Гудка" еще одного своего друга, после чего здесь "произошло чудо". Друг этот, как пишет мемуарист, "среди всех нас, одержимых духом революции, быть может, был наиболее революционно-советским". Он оказался перед столом ответственного секретаря "Гудка".
- А что он умеет? - спросил секретарь редакции Август Потоцкий, политкаторжанин, потомок польских графов Потоцких, променявший титул графа на звание революционера.
- Все и ничего, - ответил за друга Катаев.
- В принципе пишу без грамматических ошибок, - все же нашелся что ответить кандидат в журналисты.
- Тогда мы берем вас правщиком, - решил секретарь.
Вскоре на четвертой полосе газеты стали появляться сатирические миниатюры, которыми зачитывались все. Автором их был журналист, вошедший в литературу под именем Ильи Ильфа. Вслед за ним привел Валентин Катаев в редакцию младшего брата Евгения и познакомил его с Ильфом.
По сюжету, предложенному Валентином Катаевым, стали эти два корреспондента "Гудка" писать сатирический роман. Литературный договор был заключен, как теперь стало известно, на троих. Но под романом "Двенадцать стульев" в конце концов оказалась подпись двоих - Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Еще одним сотрудником "Гудка" был писатель Михаил Булгаков, автор "Дней Турбиных", "Мастера и Маргариты"... Он также много почерпнул во время своей журналистской работы в газете, где писал фельетоны на внутренние и международные темы, как и Валентин Катаев. Их псевдонимы - Старик Саббакин. Крахмальная Манишка, Митрофан Горунца, Оливер Твист - навсегда остались украшением газетных полос. Эта работа давала писателям неповторимую возможность держать руку на пульсе жизни.
- Мы были в курсе всех событий, - пишет Валентин Катаев. - Мы много и усердно работали в газете "Гудок", предназначенной для рабочих-железнодорожников.
Она и по сей день печатается в этом переулке.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ
Дом, над чьим входом вертится, как в песне, шар голубой - глобус Земли, кому только не знаком. Давно стал он местом, где назначают встречи, куда спешат по делам - переговорить по телефону, дать телеграмму, получить долгожданное письмо. Часто по ошибке этот дом называют и главным почтамтом, и главным телеграфом, выражая тем самым свое почтение н признательность к учреждению, чье официальное название - Центральный телеграф.
Стоит он на пригорке, повернувшись тремя протяженными фасадами на три улицы. А построено здание Центрального телеграфа в 1927 году и стало первой новостройкой главной улицы после революции, придало ей новый вид и новый масштаб.
А масштаб этот немалый. Объем здания 266 тысяч кубических метров, площадь 40 тысяч квадратных метров. Высота в среднем 35 метров. А над главным входом возвышается башня в 42 метра. Почувствовать этот масштаб легче всего не визуально (размеры скрадывает ширь улицы и соседство больших домов), а обойдя вокруг здания - пройдя мимо его десяти подъездов. Когда попадаешь в его внутренний двор, то видишь, что здание местами имеет восемь - десять этажей, а планировка его выглядит не столь простой - она многоугольная, с выступами. Верхние этажи двусветные; там за большими окнами расположены телеграфные залы, залитые светом. Перед войной, как значится в справочнике, работало на телеграфе 5575 человек, не считая многих служащих Министерства связи, также занимающего помещения этого здания. Есть здесь и поликлиника, клуб, столовая, мастерские. Вот какой это вместительный дом.
Почему выбор пал на это место? В Газетном переулке на месте телеграфа была университетская типография, где до 1811 года печатали и продавали газету "Московские ведомости". Потом здесь помещался университетский благородный пансион, где учились В. Жуковский, А. Грибоедов, М. Лермонтов...
В этом же переулке находился дом Бабиных (№ 4). В нем в 1858 году расположилась первая Центральная городская телеграфная станция, где работали аппараты Морзе и Юнга и был, между прочим, аппарат, способный передавать фототелеграммы. Спустя десять лет после открытия числилось на станции 128 человек. Стало тесно в старом доме, поэтому телеграф переехал в бывшее здание станции почтовых карет, ставшей к тому времени ненужной, по соседству с нынешним почтамтом. Трехэтажное здание это на углу Чистых прудов и по сей день служит почтовому ведомству. На работу телеграфистами сюда стали впервые принимать женщин, а требовалось для этого ни много ни мало знание двух иностранных языков, законченный курс в гимназии или в институте. На этом месте телеграф пробыл свыше полувека.
Обратно в переулок, откуда началась его история, телеграф вернулся так. Перед первой мировой войной здание благородного пансиона сломали. На его месте задумали строить новое, заложили фундамент. Началась война, потом революция. В недостроенном виде здание простояло до мая 1926 года. Эту строительную площадку и решили передать Центральному телеграфу, когда встал вопрос о его будущем. Придавая особое значение строительству на главной улице Москвы, провели конкурс на проект нового здания. В нем приняли участие многие видные зодчие. Два проекта были заказаны маститым архитекторам - Алексею Викторовичу Щусеву и Ивану Ивановичу Рербергу. Первый разработал блестящий проект в стиле конструктивизма, новаторский по архитектуре. Но предпочтение отдали более спокойному, традиционному и в то же время монументальному зданию Рерберга. Началось строительство в мае 1926 года, а в целом все было закончено в следующем году. Темпы поразительные! Под руководством Ивана Ивановича Рерберга соорудили большое здание с применением новых материалов - железобетона, металлоконструкций. Его отделали камнем - светло-серым украинским гранитом (со стороны главной улицы) и оштукатурили, применив гранитную крошку (с трех других сторон). Это и красиво, и экономично. По фасадам - большие окна. У входа - каменные торшеры со светильниками. А над башней - декоративная решетка. Все в здании рационально, оправданно, безупречно спланировано, удобно и для тех, кто работает, и для тех, кто приходит сюда по своим делам.
Поток людей сюда растет буквально с каждым днем. Насколько неизменен облик телеграфа внешне, настолько он подвержен переменам внутри. Техника связи бурно прогрессирует. Помню, я был на телеграфе в день запуска космического корабля с Юрием Гагариным на борту. Тогда тысячи телеграфных аппаратов передавали на весь мир эту весть. Все пространство верхнего этажа занимали похожие на пишущие машинки телеграфные аппараты, а за ними сидели девушки и женщины. Тысячи телеграфисток. И сегодня наверху работает много людей, но стало их гораздо меньше.
Есть помещения, где на десятки метров протянулись стойки с аппаратурой, которые заменили телеграфистов. Идешь по безлюдным залам и только слышишь, как пощелкивают приборы. За этими звуками - океан информации, которая соединяет миллионы людей на всем земном шаре.
Такое всемирного масштаба мероприятие, как Олимпиада-80, подтолкнуло дело со строительством нового здания телеграфа. Оно видно теперь каждому в Газетном переулке. Строители возвели здание примерно такой же высоты, но меньшее по объему и площади. Своим обликом, отделкой, деталями архитектуры, формой окон оно напоминает постройку И. И. Рерберга. У нового телеграфа окна пяти разных форм - прямоугольные, квадратные, арочные, одно- и двусветные. Двора нет. Это квадрат; одна его, восточная, половина занята отделами телеграфа, а другая, западная, - аппаратурой.
Техника здесь новая: наша, отечественная. Требует она кондиционированного воздуха, вот почему через тонкие отверстия потолка струится прохладный воздух: на крыше оборудована градирня.
В новом здании работает еще меньше народу, почти все операции выполняют машины, которыми управляют техники и инженеры. Этажи заполнены сложной аппаратурой. Здание дало Москве новую международную станцию "Телекс".
Специальная аппаратура нового здания предназначается для передачи факсимильных сообщений. Это фототелеграф, с помощью которого отправляют штриховые изображения (текст от руки и на машинке, чертежи), т. е. практически любую документацию.
Спустя 120 лет после своего возникновения, почти на том же месте телеграф получил новое здание, украсившее не только переулки, но и Тверскую.
СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ
Так было прежде, так и теперь: рядом с консерваторией обычно селились музыканты. В прошлом веке тут жили Петр Ильич Чайковский, Николай Григорьевич Рубинштейн и другие профессора. А в наш век в нескольких минутах ходьбы от Большого зала - Дом композиторов. Союз композиторов и квартиры композиторов.
Брюсовский переулок был последним московским адресом человека, которого при жизни называли великим композитором нашего времени. А дирижер Евгений Мравинский, впервые исполнивший многие его произведения, сказал определенно: "Шостакович, конечно, гениальный композитор".
Бронзовая мемориальная доска на стене большого многоэтажного дома изображает Шостаковича в задумчивости сидящим на скамье. Такой скамьей могла быть та, что виднеется во дворе дома № 8/10. Жильцом этого дома Шостакович стал в 1962 году.
В первую половину жизни, приезжая в Москву по делам, Дмитрий Дмитриевич останавливался в разных местах. Одно время в юности он заведовал музыкальной частью Московского театра имени Вс. Мейерхольда и жил у его руководителя. Кстати, на этой же улице находится дом В. Э. Мейерхольда. Рассказывают: случился однажды пожар, но Всеволод Мейерхольд, вызвав пожарную команду, не бросился спасать вещи, а первым делом снял с полки партитуру Шостаковича.
Когда Ленинград оказался в блокаде, композитор был эвакуирован оттуда с семьей. Первым его домом стала гостиница "Москва". Его видели тогда побледневшим и осунувшимся, но одухотворенным. Из осажденного города он доставил три части симфонии № 7. Работа над ней началась, когда грянула война, в самые тяжкие дни. Писал ее Дмитрий Шостакович под грохот артиллерийской канонады, в перерывах между бомбежками, дежурствами на крыше во время налетов.
Из Москвы в октябре 41-го путь композитора вместе с неоконченной симфонией лежал через Москву в Куйбышев, куда он ехал вместе с Большим театром. Его оркестру выпала честь - первому исполнять музыку, которая потрясла мир.
Композитор еще только ее сочинял, а право первого исполнения уже оспаривали лучшие дирижеры земли. Один из них в письме послу Советского Союза в США свою просьбу аргументировал так: "Успешное исполнение Седьмой симфонии может стать эквивалентом минимум нескольких транспортов с вооружением, с той, однако, разницей, что она могла бы достигнуть своего назначения безопасно и более эффективно". Как видим, тут музыкальные строки приравняли не к штыку, а к арсеналу. Все радиостанции Америки одновременно передали симфонию в исполнении нью-йоркского оркестра под руководством великого Артуро Тосканини. Миллионы слушали музыку, написанную кровью сердца.
Впервые в истории симфонию, названную "Ленинградской" - в честь города, которому она посвящена, сыграл оркестр Большого театра в Куйбышеве под управлением московского дирижера С. Самосуда 5 марта 1942 года.
В том же месяце вернувшийся в Москву оркестр Большого театра совместно с оркестром Всесоюзного радио исполнил ее в столице, отогнавшей от своих стен фашистов. Летом того же года, 9 августа, она прозвучала в осажденном Ленинграде. Играли музыканты, пережившие блокаду, а также те, кто был отозван для репетиций и концерта с фронта. Как сказал тогда один из дирижеров: "Со времен Бетховена еще не было композитора, который мог бы с такой силой внушения разговаривать с массами". Музыка звучала как гимн грядущей Победы.
С тех военных лет Дмитрий Дмитриевич Шостакович стал москвичом. "Была бы крыша над головой", - говорил друзьям Дмитрий Дмитриевич, когда речь заходила о жилье. Таких крыш в Москве у него было несколько. Вначале - на Мясницкой, 21, потом - на Можайском шоссе (ныне Кутузовский проспект), 23. Все это сообщила мне Ирина Антоновна Шостакович. Последний адрес композитора - Брюсовский переулок, 8/10, корпус 2...
Мировая слава пришла к Шостаковичу в 60-е годы, когда он жил здесь. Входишь в дом, переступаешь порог кабинета и попадаешь туда, где все сохраняется для потомков.
Две зарисовки на стене, очевидно, самые ранние. На одной - мальчик в матроске с партитурой Шопена. Подпись под рисунком: "Борис Кустодиев". Автограф: "Моему маленькому другу Мите Шостаковичу от автора". Пожилой художник без всякого преувеличения назвал его своим другом, потому что, несмотря на колоссальную разницу в возрасте, уже тогда их роднила гениальность, рано выявившаяся в композиторе. Шостакович прожил 69 лет, но и на склоне лет помнил, каким был, когда его рисовал Кустодиев, помнил мелодию, сочиненную тогда, в девять лет. Он вплел ее в ткань вокального цикла на слова Микеланджело, написанного перед кончиной...
Рабочий кабинет Шостаковича образовался из двух обычных комнат квартиры. Иначе не разместить два рояля, не исполнить и не прослушать новое произведение... Рядом с инструментами нотные пюпитры. Все произведения, написанные для квартета имени Бетховена, впервые исполнялись здесь. В память об этом на стене четыре дружеских шаржа: каждому артисту квартета Шостакович посвятил свои произведения, как посвящал их и многим друзьям. В дружбе был он верен на всю жизнь. Шостакович в жизни был поразительно точен, никогда не опаздывал, никого не заставлял себя ждать, а если ошибался, то исправлял ошибку, даже самую незначительную. Второй скрипичный концерт он подарил Давиду Ойстраху, ошибочно полагая, что ему исполнилось 60 лет. Прошел год, и Шостакович исправил ошибку. Посвятил новое сочинение - сонату. Друзья платили ему любовью. Давид Ойстрах, например, выходил на эстраду и играл, невзирая на боль в сердце.
Каждый год он дарил миру свои сочинения: 147 опусов пронумерованных, несколько - без номеров, как, например, мелодия "Новороссийских курантов". Гимн Организации Объединенных Наций - это тоже мелодия Шостаковича, всем известная песня из фильма "Встречный".
По вечерам, после триумфальных исполнений своих произведений, как пишет очевидец, "ходил он по темным полночным улицам Москвы, полный доброты и блаженной усталости отдачи".
Да, Шостакович был москвичом. Спешил на стадион, чтобы посмотреть игру футболистов, любил ходить в Театр на Таганке, интересовался всем, что происходит в Москве. Когда начали застраиваться Черемушки, он написал оперетту "Москва, Черемушки"...
Из его окна, перед которым стоит большой письменный стол, виден двор, дома улицы, откуда доносится гул машин. В комнате по углам висят четыре динамика новейшей проигрывающей системы - "квадрофонии". Большие магнитофоны для той же цели - записывать и прослушивать музыку. Шостакович любил ее во всех жанрах, и сам создал произведения разных форм - песни, оперетты, симфонии, оперы, балеты, оратории, фуги.
На стенах висят дипломы музыкальных академий разных стран, хранятся афиши концертов. Шостакович - один из самых исполняемых в мире композиторов.
Что еще смогут в будущем увидеть те, кто придет, очевидно, сюда как в музей? Шкафы, заполненные нотами. "Шведская стенка", лестница для гимнастических упражнений. На потолке люстры в форме канделябров. На шкафу - два подсвечника. Шостакович любил свечи. Но это увлечение свойственно теперь многим. Только музыка делала его необыкновенным. Гениальным. Нашим современником.
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ДОМА
Романов переулок, получивший свое название при недавнем переименовании проездов в пределах Садового кольца, хранит память о "Романовом дворе" боярина И. Романова, располагавшегося здесь в семнадцатом веке.
До революции переулок назывался Шереметевским. Как гласит вышедший в 1917 году, путеводитель "По Москве", "Шереметевский переулок явно получил название от домовладельцев: до сих пор он почти сплошь занят домами гр. Шереметевых". То были потомки одного из "птенцов гнезда Петрова", как писал Пушкин, - "Шереметева благородного", фельдмаршала России, командовавшего во время Полтавской битвы русской пехотой. Его внук Николай купил здешние дома на рубеже веков - в 1800 году.
До того было у переулка еще одно название - Разумовский. Так бывало в старой Москве не раз - менялся хозяин домов, менялось и название улицы. В руки Кирилла Разумовского усадьба в переулке перешла после его женитьбы на богатейшей невесте из семейства Нарышкиных, чья кровь текла в жилах Петра I и его дочери императрицы Елизаветы Петровны. Она-то и выдала замуж за Кирилла Разумовского свою придворную даму, а сама обвенчалась тайным, но законным браком со старшим братом Кирилла - Алексеем Разумовским.
Знать все это нужно, чтобы понять: почему в этом тихом переулке появились здания столь значительные, что упоминают их все без исключения работы по истории московской архитектуры.
Со стороны Моховой между зданиями старого университета проглядывают маковки красно-кирпичной церкви Знамения, украшенной пышным белокаменным узором. К ней можно подойти поближе через переулок; она стоит теперь в глубине двора, застроенного за сотни лет разными домами. Это большая, красивая, мастерски выполненная постройка; год ее рождения 1702-й. Это образец барокко, которое называют "нарышкинским" - по фамилии бывших хозяев усадьбы, живших здесь в XVII-XVIII веках.
Вначале в своей загородной усадьбе в Филях Нарышкины построили в новом стиле церковь Покрова (она настолько хороша, что в ней решено открыть музей), а потом в московском дворе в таком же стиле - церковь Знамения. По ним изучают теперь особенности "нарышкинского" стиля: живописного, декоративного, пышного, с богатой отделкой и скульптурой.
Каким был дом Нарышкиных, неизвестно. На его месте Кирилл Разумовский построил в 1783-1789 годах новый дворец, стоявший, как водилось тогда, в глубине двора. Барокко к тому времени вышло из моды. Восторжествовал классицизм, достигший расцвета.
Описанию этого дома посвящены многие работы искусствоведов. Такой известный специалист, как Игорь Грабарь, приписывает дворец Разумовского архитектору Василию Баженову: "Среди московских зданий конца XVIII в. есть одно, счастливо сочетающее много... признаков баженовской руки, не оставляющих сомнений в принадлежности данной постройки великому зодчему. Это дом - дворец Кирилла Разумовского".
Да, и двести лет назад дворец этот считался выдающимся. Он попал на страницы альбомов М. Казакова, где есть его чертежи, рисунки. И по ним можно определить, что наружность здания хорошо сохранилась, хотя некоторые интерьеры, запечатленные на страницах альбома, не дошли до нас. Хорошо видно, что роскошь архитектуры дополнялась богатством скульптуры.
Кроме дворца в глубине двора К. Разумовский тогда же построил и другое здание. Это нынешний трехэтажный дом № 8, построенный после 1778 года на месте деревянного строения. Приписывают его известному зодчему Н. А. Львову. И этот дворец попал на страницы казаковских альбомов. На углу улицы и переулка под зеленым куполом трехэтажный дворец с полукруглой колоннадой. Теперь он розово-белый, а раньше был зеленоватый.
Удивительна архитектура дворцов, поразительна судьба их первого хозяина - Кирилла Разумовского. Он вошел в историю как последний гетман Украины, президент Академии наук, фельдмаршал, проживший долгую жизнь. До 15 лет он, сын вольного казака, пас отцовский скот. Вызванный ко двору Елизаветы Петровны, был послан с наставником для образования в Европу, где жил в университетских городах, а уроки математики брал у знаменитого Эйлера... После двух лет обучения наукам и манерам в Россию вернулся не прежний хлопец, а светский лев, щеголь, кумир фрейлин, назначенный в восемнадцать лет... президентом Академии наук!
Во всем этом сыграл свою роль "его величество случай". Причиной такого возвышения были... изумительный голос и красота старшего брата - Алексея Разумовского. Его, еще мальчика, сына казака Григория Розума, услышал в церкви проезжавший через деревню полковник из столицы и увез юного певца в Петербург. Там сначала его голосом, а потом и самим заинтересовалась Елизавета Петровна. Как и ее отец, она не особенно считалась с предрассудками, не останавливалась на полпути и, став императрицей, обвенчалась с Алексеем Разумовским.
Описывая братьев Разумовских, даже энциклопедии переходят с академического повествования на беллетристику, настолько не укладывается их жизнь в обычные рамки. "Смышленый, но мало образованный Алексей Разумовский имел прямой характер, большой запас хохлацкой лени и добродушия, которому изменял только во хмелю". Это из "Энциклопедического словаря" бр. Гранат.
"Сам Разумовский и теперь оставался таким... - простым, добрым, хитроватым и насмешливым хохлом, любящим свою родину и своих земляков". Это из энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Между прочим, Алексей Разумовский убедил Елизавету Петровну восстановить гетманство на Украине. Стал же гетманом Кирилл, правивший шумно и не без пользы.
Екатерина II недолго терпела строптивого гетмана, вернула его в столицу, дав в утешение титул фельдмаршала. Здесь он, хотя и был не у дел, но не утратил своего влияния.
Доживать свой век Кирилл Разумовский уехал на родину. Дома свои он продал другому оригиналу XVIII века, под стать себе, - Николаю Шереметеву.
Последний приобрел их незадолго перед женитьбой, которая удивила всю Россию. Много лет не решался Николай Шереметев совершить этот шаг. Решился, наконец, в 1801 году, став хозяином дворцов в Разумовском переулке. Отсюда он повел под венец в стоящую ныне у подножия высотного дома на Новом Арбате церковь Симеона Столпника свою невесту, в которой души не чаял. Это была Прасковья Ивановна, на сцене Жемчугова, в миру Горбунова, Кузнецова, Ковалева, Ковалевская... Была она дочерью горбатого кузнеца (поэтому Горбунова, Кузнецова), по-украински - "коваля", отсюда - Ковалева, по-польски - Ковалевская. Последней "панской" фамилией хотели прикрыть прошлое Параши. Она родилась крепостной крестьянкой Шереметевых. Стала блистательной актрисой. Жила она в угловом доме, том, что под куполом. С ней вместе жила ее подруга - замечательная танцовщица Татьяна Гранатова, также бывшая крепостная. Недолго прожила после свадьбы Прасковья Ивановна всего два года, умерла от чахотки. Гранатовой суждено было воспитывать осиротевшего сына Жемчуговой, дожить до 90 лет!
Потомки Николая Шереметева во второй половине прошлого века сдали дворец Московской городской думе: тогда внутри здание перестроили капитально. После думы помещался в нем известный Охотничий клуб, так красочно описанный Вл. Гиляровским.
Этот клуб зародился вблизи Трубной площади, в трактире "Собачий рынок", где собирались охотники, любители собак; потом клуб занимал другой дом. Как пишет Гиляровский: "Полного расцвета клуб достиг в доме графа Шереметева... роскошно отделав загаженные канцеляриями барские палаты. Пошли маскарады с призами, обеды, выставки и субботние ужины... С Русским охотничьим клубом в его новом помещении не мог спорить ни один другой клуб..."
Не преминул упомянуть Гиляровский и о таком примечательном факте из истории клуба: в его большом зале еженедельно играла любительская труппа, которой суждена была большая жизнь. Руководителем этой труппы был тогда еще любитель-актер и режиссер Константин Сергеевич Алексеев, известный ныне всем под фамилией Станиславский.
В своей книге "Моя жизнь в искусстве" он вспоминал сцену Охотничьего клуба в доме Шереметева. С открытием клуба, писал К. С. Станиславский, возобновились еженедельные спектакли. На этой сцене Станиславский поставил впервые в Москве лирическую трагедию-сказку Гауптмана "Потонувший колокол", имевшую большой успех. Играли в этом спектакле Г. Бурджалов, В. Лужский, А. Санин, М. Андреева, будущие известные артисты.
Вскоре после этой постановки в Москве появился новый театр Московский Художественный.
Произошла революция. У дворца появился новый хозяин.
На фасаде дома красный камень мемориальной доски с барельефом Ленина. На доске надпись: "В этом здании 19 апреля 1919 года Владимир Ильич Ленин выступал с речью перед командирами Красной Армии, отправлявшимися на фронт".
Почему в этом дворце собрались командиры Красной Армии в "незабываемом 1919 году"? На этот вопрос отвечают страницы книги "Академия имени М. Ф. Фрунзе". Здесь тогда находилась Академия Генерального штаба Красной Армии...
...Решение Революционного Совета республики организовать такую академию в Москве было принято в 1918 году. В военные округа и штабы фронтов были разосланы телеграммы, извещающие о наборе слушателей. А здания будущая академия не имела.
И вот, "в конце октября, - как написано в книге, - начальник академии А. К. Климович и комиссар Э. И. Козловский случайно обратили внимание на здание Охотничьего клуба - бывший дворец графа Шереметева... Оно подходило для академии". ...В числе первых слушателей был командир Василий Чапаев. Он ходил на занятия три месяца, а потом вновь уехал на фронт.
Друзья задавали ему вопрос: чему же он научился? Как вспоминает друг героя и сам герой, награжденный тремя орденами боевого Красного Знамени, командир чапаевской дивизии Иван Кутяков, "Чапаев улыбнулся: чему, собственно, можно научиться за три месяца - очень немногому.
- Скажу прямо: топографию усвоил прилично. Я могу, например, из квадратного дюйма десятиверстной карты сделать верстовку и двухверстовку, чего вы, ребята, не сумеете сделать". Отвоевав, Иван Кутяков последовал примеру своего друга - стал слушателем академии...
Первым начальником академии стал бывший генерал-лейтенант старой армии А. К. Климович. Вскоре после открытия академии ему пришлось уехать на фронт; вторым начальником был назначен А. Е. Снесарев. Бывший генерал-лейтенант прибыл в Москву с фронта, участвовал в обороне Царицына, командовал Западной Армией...
Андрей Евгеньевич Снесарев - фигура ярчайшая. Его жизнь не укладывается в привычные рамки. Блестяще закончив механико-математический факультет Московского университета, защитив кандидатскую диссертацию, он тем не менее продолжал искать свой путь в жизни. Отличный голос, музыкальная одаренность, и вот Андрей Снесарев - студент Московской консерватории, солист Большого театра. Третий поворот судьбы: он увлекся военной профессией, закончил военное училище. Академию Генерального штаба с отличием. На фронте командует дивизией, корпусом. А. Е. Снесарев, кроме того, - известный востоковед, знал 14 языков, участвовал в географических экспедициях на Востоке. Писал труды по военным вопросам, географии, педагогике, востоковедению. Центральный Исполнительный Комитет СССР в 1928 году присвоил ему почетное звание Героя Труда "за многолетнюю и полезную деятельность по строительству вооруженных сил". Андрей Снесарев возглавил Институт востоковедения Академии наук СССР...
Третьим начальником академии стал Михаил Тухачевский, выдающийся полководец Красной Армии, будущий Маршал Советского Союза. А в 1924 году начальником академии был назначен Михаил Васильевич Фрунзе, чье имя она теперь и носит.
ЗАМОК НА ХОЛМЕ
С момента своего появления на Ваганьковском холме напротив Боровицких ворот Кремля этот дом вызывает восторженные отзывы всех, кому довелось его увидеть. Проходят века, поколения, меняются стили, вкусы, а отношение к этой постройке остается неизменно восторженным.
Конструктор Останкинской телебашни, приверженец железобетона Николай Никитин, создавший высочайший столп на земле, на мой вопрос, какое из зданий Москвы ему больше всего нравится, не задумываясь ответил - "Пашков дом". Бывало, что, оставив дела, он приходил к нему просто так, чтобы насладиться архитектурой.
На рисунке Делабарта конца XVIII века, где изображен этот дом, перед его оградой толпятся люди; они приходят сюда в праздники, чтобы полюбоваться через ограду великолепным садом с фонтанами, диковинными птицами. Можно было также подняться на крышу, где парит в небе на высоте 35,3 м бельведер, и с него, как со смотровой башни, с высоты птичьего полета, обозреть близлежащий Кремль и всю Москву.
Сохранился еще более ранний рисунок - Антинга, сделанный вскоре после сооружения дома; сад, разбитый перед домом на склоне, еще не успел разрастись, а на крыше бельведера восседал Марс с копьем в руке, взирая на окрестности города. Побывавший тогда в Москве немецкий путешественник И. Рихтер был среди тех, кто поднимался на бельведер. Он оставил нам первое по времени дошедшее до нас описание дома, выдержанное в восторженных тонах: "...на значительном возвышении возносится этот волшебный замок. Сзади из переулка вы входите через великолепный портал в пространный двор, постепенно расширяющийся от ворот. В глубине этого двора вы видите дворец, в который ведут несколько ступенек..."
Эти слова опубликованы в 1799 г. в изданной в Лейпциге книге о Москве. И по сей день во двор входят с переулка, чтобы попасть в старое здание библиотеки на Воздвиженке. Оно-то и вошло в историю архитектуры под названием "Пашков дом".
У него счастливая судьба, несмотря на то, что в дни пожара 1812 г. огонь не пощадил здание, исчезли ограда и расположенный за нею сад, изменилась внутренняя планировка комнат, не раз менявших назначение... Тем не менее рисунки прошлого свидетельствуют о том, что дом в основном сохранился таким же, каким им любовались двести лет назад. Никто из архитекторов, занимавшихся перестройкой здания, не поднял руку на это творение, не отважился изменить его фасад. Это редкий для центра Москвы случай, когда дворец XVIII века внешне не претерпел особых изменений.
Кому же Москва обязана появлением дворца, который относят к шедеврам мирового искусства? Одно имя хорошо известно - Пашков Петр Егорович. По традиции многие исторические здания носят имена прежних владельцев, но среди них встречаются и те, кто не всегда заслуживает людской памяти. Но мне всегда казалось, что человек, решившийся построить ТАКОЕ здание, не пожалевший средств и сил, чтобы воплотить в камне столь дерзновенный проект, сумевший его оценить по достоинству и не исказить своей волею хозяина, достоин внимания потомков. Попытку составить биографию Пашкова предпринимал в прошлом веке историк И. Е. Забелин, констатировавший с грустью, что биография его неизвестна. В пожар 1812 г. архив Пашковых сгорел. До нас дошло, что Петр Егорович был капитан-поручиком лейб-гвардии Семеновского полка, учрежденного Петром I. В свое время Петр щедро одарил землями отца капитан-поручика, служившего губернатором и оставившего сыну много крепостных, денег и земель. За последние Пашкову долго пришлось судиться с соседями-помещиками. Один из них, Андрей Тимофеевич Болотов, оставил для потомков пространные записи - "Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим...". В этих записках "г. Пашков" упоминается с нелестными эпитетами много раз, однако даже Болотов вынужден признать, что его противник имел основания претендовать на ту землю, за которую шел спор. Попутно Болотов описал встречу с Пашковым, случившуюся в 1773 г. Неожиданно для себя автор увидел на окраине хутора "превеликий зеленый шатер". Самого Пашкова он встретил в избе, где тот мылся "из серебра и на серебре", свыше часа совершая туалет. Последовавший за этим обед происходил в шатре под музыку. Подавали все блюда в серебряной посуде. Из описания Болотова можно заключить, что Пашков жил с причудами, отличался предприимчивостью, живостью ума и богатством, которому постоянно искал применения, вкладывал в разные постройки.
Вот ему-то и представил свой проект зодчий, обессмертивший свое имя домом на Ваганьковском холме. Прежде на нем было много разных построек, среди них выделялся дом в голландском стиле, похожий на тот, что сохранился в Кускове. Другие же постройки не радовали глаз, располагались хаотично. В 1775 г. был утвержден первый Генеральный план Москвы, предписывавший строить новые дома в линию. Вот почему городские власти охотно пошли навстречу отставному капитан-поручику, вознамерившемуся скупить дома и земли разных хозяев на холме, чтобы вместо них соорудить дворец, способный украсить город и упорядочить план улицы. Пашков не жалел на это денег, сил, времени. В 1784 г. он стал хозяином большого участка. К этому времени ему было, судя по записи в "Русской родословной книге", 63 года.
И случилось невероятное даже по современным понятиям. За два строительных сезона, за два года, на месте снесенных построек поднялся дворец, где в 1786 г. Пашков уже смог поселиться на зависть соседям. Одна из соседок, некто Татищева, начала с Петром Егоровичем безуспешную тяжбу за шесть аршин земли, разделявшей участки, поскольку на ней Пашков по плану зодчего высадил высокие ели, бросавшие тень на ее двор.
Лет десять служил "Пашков дом" разбитому параличом капитан-поручику. Тяжбы в конце концов доконали его...
Кто же был тот архитектор, кто создал проект и построил здание, которое современники называли "образцом симметричной гармонии"? Документов, дающих ответ на этот вопрос, волнующий историков искусства по сей день, не сохранилось; очевидно, они сгорели вместе с архивом семьи Пашковых. Современники, конечно, хорошо знали имя не только хозяина, но и автора, но мало беспокоились о его пожизненной славе. Первый, кто печатно сообщил о нем, был неутомимый историк И. Снегирев. В своей классической монографии "Памятники московской древности" он назвал имя Василия Баженова как автора нескольких зданий в Москве, и среди них домов Пашковых. Сообщение свое И. Снегирев сделал в 40-е годы XIX века. Тогда еще был жив архитектор Иван Таманский, преклонявшийся перед памятью В. Баженова и М. Казакова, обязанный им многим в своей нелегкой судьбе. С ним И. Снегирев обсуждал и уточнял биографию В. Баженова, готовя ее к изданию. Вот это снегиревское сообщение стало первым доказательством авторства великого зодчего, десятки лет проектировавшего и строившего в Москве.
Другое доказательство привел в 20-е годы нашего века искусствовед В. Згура. Он сравнил "Пашков дом" с моделью непостроенного Кремлевского дворца, созданной Василием Баженовым. Оказалось, что колонны центрального портика "Пашкова дома" повторяют композицию и пропорции колоннады центрального зала Кремлевского дворца, а колонны боковых флигелей похожи на колонны театрального подъезда Кремлевского дворца; есть сходство в гирляндах с овалом; много и других деталей, доказывающих, что у дворцов один автор.
Хранилось у Згуры письмо современника Баженова, который сообщал, что видел зодчего на строительных лесах, распоряжающегося постройкой "Пашкова дома".
* * *
В XIX веке "Пашков дом" разделил судьбу других великолепных московских дворцов, сооруженных в XVIII веке состоятельными и просветленными идеями "века просвещения" вельможами: из частных рук он переходит в казну и служит уже не одной семье, а вначале Дворянскому институту при Московском университете, затем гимназии, а вслед за тем - Румянцевскому музею.
В 1861 г. в "волшебный замок" на холме напротив Кремля из Петербурга были перевезены знаменитая библиотека и коллекция Николая Петровича Румянцева. Привезли также медные и бронзовые буквы, составившие на фасаде дома надпись: "От государственного канцлера графа Румянцева на благое просвещение", а также графский девиз: "Не только оружием", начертанный, как водилось, по латыни. Девизу этому Николай Румянцев свято следовал и на государственной службе, и всю свою жизнь: все силы и состояние положил он "на благое просвещение", создав национальный музей и подав тем самым прекрасный пример другим патриотам. Вслед за этим были основаны и другие великолепные музеи, ставшие нашей гордостью.
На лестнице старого здания главной библиотеки России в нише стены установлен барельеф фельдмаршала Петра Румянцева, за свои блистательные ратные победы получившего титул Задунайский. Одной рукой он опирается на меч, в другой держит свиток договора о мире. Это отец Николая Румянцева. Он получил в Москве домашнее воспитание и только в семнадцать лет был представлен ко двору. В отличие от деда и отца Николай Петрович не стал военным, а начал шагать по государственной лестнице и достиг ее вершины был назначен председателем Государственного совета и канцлером. В 1809 г., после заключения мирного договора со Швецией, он заказал знаменитому скульптору А. Канове статую в память о трех мирных договорах Румянцевых своем, заключенном его отцом историческом Кучук-Кайнарджийском мире и деда, давшем России Абоский договор.
В те годы, когда Москву украсил "Пашков дом", Николай Румянцев начал собирать коллекцию книги рукописей по истории России и сопредельных с нею стран, не ведая, конечно, что этому собранию уготовано великое будущее.
На папке, где хранились рукописи, Николай Румянцев написал: "Беречь, как глаза"; это был еще один девиз его жизни как собирателя. Встреча с Вольтером, лекции университетских профессоров, путешествие по Европе в молодости - все это оставило глубокий след в его душе, сжигаемой желанием служить "благому просвещению" народа. Это дало ему силы пережить крах его собственной внешней политики, направленной на союз с Францией, - война с Наполеоном положила конец его долгой карьере. Выйдя в отставку, разбитый параличом, почти оглохший, как считали современники - "хилый старик", Николай Румянцев нашел в себе силы жить и собрал культурные сокровища такой ценности, что после его кончины вскоре возник в Петербурге Румянцевский музей; в него поступила библиотека из 25 512 книг и рукописей, а также разные коллекции. Среди книг были "Острожская библия" первопечатника Ивана Федорова, свыше 100 инкунабул - книг, изданных в Европе в XV веке, 200 славянских первопечатных книг и многое другое.
Вначале то был как бы музей-памятник, не пополняемый новыми книгами и экспонатами. Особый интерес он представлял для специалистов - историков, филологов... Публика с годами утратила к нему интерес. Поговаривали даже о передаче его собраний другим музеям или о переводе в Москву: Услышав об этом, бывший тогда попечителем Московского учебного округа генерал, участник обороны Севастополя Николай Васильевич Исаков начал хлопоты о переводе музея в Москву; его поддержали в этом директор музея, известный писатель и музыковед В. Одоевский и министр народного просвещения, бывший попечитель Московского учебного округа Е. Ковалевский. Они, по сути, и решили судьбу музея.
Трудно сказать, кому в голову пришла идея передать под музей "Пашков дом", занимаемый тогда 4-й московской гимназией. В отчете музея сказано, что эту мысль подсказала "народная молва", но мне кажется, что Николай Исаков, ставший первым директором музея в Москве, по-видимому, сам и надумал использовать просторный дворец для коллекции Румянцева. За свою долгую жизнь Николай Исаков основывал не раз музеи, библиотеки, училища...
Москва передала под собрание Румянцева свой лучший дом. Городская дума ассигновала на нужды музея 3 тыс. руб. в год. Полился поток пожертвований москвичей. Известный меценат К. Солдатенков не только положил на его счет 3 тыс. руб., но и тридцать шесть лет подряд переводил музею ежегодно по 1000 руб., а также завещал ему свое прекрасное книжное собрание и коллекцию картин. Библиотеке предоставили право получать бесплатно обязательный экземпляр всех печатных изданий на территории государства. Кроме того, на нее посыпался благодатный "дождь" от собирателей книг. В числе первых дарителей значится имя крестьянина Владимира Андреевича Фадейчева из села Поречья под Ростовом-Ярославским. Он отдал библиотеке, очевидно, все свое богатство.
Примеру Николая Румянцева последовали многие его современники: в "Пашков дом" попали библиотеки философа П. Я. Чаадаева, историка М. П. Погодина, министра народного просвещения А. Норова, большого ценителя и знатока книг. Его библиотека насчитывала 19 тыс. томов. В нее входили рукописи и прижизненные издания работ Джордано Бруно, а кроме того, множество других ценнейших изданий. Английский клуб подарил богатую коллекцию старых газет...
Обладатели богатейших собраний считали за честь подарить или завещать в дар библиотеке свои книги. Нередко это были собрания в тысячи томов. От В. Одоевского поступило 6 тыс. книг. Библиотека графа Сергея Румянцева, брата основателя музея, насчитывала 10 тыс. томов. Бывший библиотекарь Е. Корш, служивший музею тридцать лет, оставил свыше 2 тыс. книг по истории и философии. А сын Николая Исакова подарил музею книги отца и свои, всего 7 тыс. Только таким путем музей за полвека получил 300 тыс. книг, не считая тех, что поступали в обязательном порядке.
Библиотека Румянцевского музея стала, как мечтал ее создатель, национальной, одной из лучших в Европе. Она открыла двери для всех - и для профессора, и для курсистки. Не нужно было для записи в нее рекомендательных писем. Сюда не раз спешил Лев Толстой в пору работы над романом "Война и мир"; бывал он здесь до последних дней жизни. Музей располагал коллекцией рукописей масона С. Ланского, состоявшей из посвященных истории масонства документов. И эти рукописи очень пригодились писателю, оставившему в дневниках записи о посещениях музея: "После кофею пошел в Румянцевский музей; сидел там до трех..." После трех часов музей тогда закрывался...
В регистрационной книге библиотеки Румянцевского музея 26 августа 1893 г. оставил свой автограф читатель, имя которого стало известным всему миру, - В. И. Ульянов-Ленин.
А когда Владимир Ульянов в 1897 г., осужденный на ссылку в Сибирь, по дороге остановился в Москве на несколько дней, то опять побывал в библиотеке. Дмитрий Ульянов вспоминал, что в те дни его брат "ходил каждый день с утра в Румянцевский музей, потому что хотел использовать материал для работы "Развитие капитализма в России". Он брал с собою Марию Ильиничну, чтобы она помогала ему делать выписки..."
Тогда читальный зал представлял собой вытянутое помещение, фасад которого выходил на Знаменку. Над двумя длинными рядами широких столов свешивались с потолка лампы под конусообразными абажурами.
"ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ФИЛОСОФ"
В том же году, когда в "Пашков дом" доставили из Петербурга ящики с книгами и коллекциями Николая Румянцева, чтобы открыть музей и библиотеку, впервые приняла читателей Чертковская библиотека. Она размещалась в доме московского историка А. Д. Черткова на Мясницкой улице в просторном особняке, сохранившемся по сей день. Свыше десяти лет двери этой частной библиотеки были открыты для каждого.
В ней насчитывалось 22 тысячи книг. Как и Н. П. Румянцева, А. Д. Черткова особенно интересовала история. Но не только. В 1872 году и это книжное собрание, подаренное собирателем Москве, поместили в библиотеку Румянцевского музея. И здесь оно сохранило свою цельность, имея на новом месте постоянных читателей.
Поэтому на склоне лет, вспоминая о годах, прожитых в юности в Москве, Константин Эдуардович Циолковский писал, что занимался в "Публичной библиотеке (Чертковской)". В ней и прошел он свои университеты, занимаясь в читальном зале три года по собственной программе, из-за глухоты, не имея возможности слушать лекции.
В своих мемуарах никого из московских знакомых Циолковский не назвал по фамилии. Сделал исключение только для одного - Федорова Николая Федоровича, запомнив его на всю жизнь. То был библиотекарь Румянцевского музея, одевавшийся с таким же пренебрежением к одежде, как и юный Константин Циолковский, оба они тогда питались исключительно хлебом и водой. Этот библиотекарь сыграл в жизни основателя космонавтики выдающуюся роль, став его наставником в Москве, заменив в этой роли всех профессоров...
Вот как писал в "Чертах моей жизни" К. Э. Циолковский: "В Чертковской библиотеке я заметил одного служащего с необыкновенно добрым лицом. Никогда я потом не встречал ничего подобного. Видно, правда, что лицо есть зеркало души. Когда усталые и бесприютные люди засыпали в библиотеке, то он не обращал на это никакого внимания, другой же библиотекарь сейчас же сурово их будил.
Он же давал мне запрещенные книги. Потом оказалось, что это известный аскет Федоров - друг Толстого и изумительный философ и скромник..."
Уехав из Москвы Константин Эдуардович вспоминал Федорова, интересуясь его жизнью и учением, подробностями необыкновенной жизни.
А была она удивительна, начиная с дня рождения, поражая воображение современников. И после некоторого забвения личность Федорова вновь начинает привлекать внимание, особенно с тех пор, как человек вышел в космическое пространство.
Все знают пророческие слова К. Э. Циолковского о том, что планета является колыбелью разума, но нельзя вечно жить в колыбели. А впервые нечто подобное Константин Циолковский услышал в тихой комнате библиотеки от Николая Федоровича Федорова, создателя философского учения "Общего дела", которое мыслилось им в масштабах космических.
"Человечество должно быть не праздным пассажиром, а прислугою, экипажем нашего земного - неизвестно еще какою силою приводимого в движение корабля", - считал Федоров, убеждая в этом своих слушателей. Если бы он знал, этот мудрый старец, на какую благодатную почву падали его слова-семена, давшие в начале XX века необыкновенные всходы в трудах его слушателя - глухого, застенчивого юноши, являвшегося в библиотеку, как в университет. Тогда уже, занимаясь в читальном зале, Константин Циолковский пытался решить - нельзя ли применить центробежную силу, чтобы вылететь за атмосферу? Сидя за широким библиотечным столом, мальчик придумывал такую машину с "эластичными маятниками".
Не было тогда в Москве никого - кроме Федорова, кто бы с пониманием и почтением отнесся к этим мечтам Константина Циолковского. Библиотекарь всячески поддерживал мальчика, не только подбирая нужные ему книги, направляя учение, внушая свои идеи освоения космического пространства. Он старался помочь и материально. Как писал Константин Эдуардович: "Федоров раздавал все свое крошечное жалованье беднякам. Теперь я понимаю, что и меня он хотел сделать своим пенсионером, но это ему не удалось - я чересчур дичился..." Однако Циолковский с жадностью внимал словам библиотекаря: "Вопрос об участии Земли приводит нас к убеждению, что человеческая деятельность не должна ограничиваться пределами земной планеты.". В Москве семидесятых годов XIX века, задолго до появления аэропланов, библиотекарь-философ страстно убеждал слушателей, что наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига.
Да, у Федорова оказался гениальный ученик. Если бы не благодарные ученики Федорова, мы не имели бы два тома сочинений философа, изданные после его кончины в начале XX века, один в Верном, нынешней Алма-Ате, другой в Москве. Долго пытался я их заполучить в третьем научном читальном зале той библиотеки, где когда-то десятки лет он трудился. Тома эти значились за читателями других научных залов: Федоров принадлежит к числу мыслителей, чьи идеи опережают время.
При жизни философ в силу своих взглядов избегал издаваться. Один из друзей - Н. П. Петерсон - записывал его мысли. Эти записи Н. П. Петерсон направил Федору Михайловичу Достоевскому, и тот ответил: "Их я прочел как бы за свои". Выполняя просьбу писателя, Н. П. Петерсон изложил подробно учение Федорова, на что у него ушло два года, но прочесть эти записи Достоевский не успел... Слушателем их стал другой великий писатель - Лев Толстой. Случайно он оказался попутчиком Н. П. Петерсона в поезде, и по дороге тот прочитал ему вслух часть ответа Ф. М. Достоевскому.
Случайная эта встрече в поезде запомнилась Толстому. Он, будучи в Румянцевском музее, встретился с Федоровым, побывал у него дома, о чем свидетельствует запись в дневнике: "Николай Федорович - святой! Каморка. Исполнять! - Это само собой разумеется. - Не хочет жаловаться. Нет белья, нет постели".
Льва Толстого потрясла цельность натуры Федорова, его способность к опрощению и любви к ближнему, столь близкая его сердцу, последовательность между словом и делом. Федоров оставлял себе из 33 рублей жалованья только восемь. Их хватало на чай с баранками и на уплату за каморку. Спал он урывками на сундуке, подложив под голову книги, причем на это уходило не более пяти часов в сутки. За счет сна и отдыха читал, сочинял. Первым Николай Федорович приходил в библиотеку, последним уходил, постоянно задерживаясь, чтобы выполнить просьбы читателей.
В отделе рукописей библиотеки мне показали разноформатные листки белой нелинованной бумаги, где мелким неразборчивым почерком Федорова чернеют тысячи строк, посвященные самым разнообразным проблемам не только философии, но и политики, литературы, истории, журналистики... Румянцевский музей он называл "Предкремлевским", придавая особое значение тому, что расположен он у стен священного Кремля. Уже тогда Федоров писал, что библиотека должна занимать весь квартал, как оно и стало после революции.
При этом Федоров всегда производил впечатление человека счастливого, всех поражали его глаза, излучавшие свет. Аскетом он себя не считал. Общался со многими людьми, долгое время встречался с Львом Толстым, с ним вел долгие философские беседы, нередко яростно споря. Даже когда между ними произошел окончательный разрыв, писатель отзывался о Федорове всегда с исключительным почтением. Лев Толстой говорил: "Я горжусь, что живу в одно время с таким человеком". Циолковский рассказывал такой эпизод, относящийся к тому времени, когда в мировоззрении Льва Толстого произошел перелом: "Однажды Л. Толстой, будучи в библиотеке, сказал ему: "Я оставил бы во всей этой библиотеке лишь несколько десятков книг, а остальные выбросил!" Федоров ответил: "Видел я много дураков, но такого еще не видывал".
Быть может, это и легенда, но она ярко выражает неукротимость духа Федорова, его трепетное отношение к книгам. Современники полагали, что библиотекарь знал содержание всех томов Румянцевской библиотеки, а их к тому времени насчитывалось сотни тысяч! Федоров в совершенстве владел основными европейскими языками, разбирался в восточных, усиленно занимался китайским. Незаконнорожденный сын князя Павла Гагарина, после смерти отца изгнанный с матерью из княжеского дома, он не унаследовал богатств, титула, фамилии... Но образование получил - окончил Тамбовскую гимназию и Ришельевский лицей в Одессе. До того как стать библиотекарем в Москве, много лет преподавал историю и географию в маленьких городах среднерусской полосы, в том числе - Боровске, где после него учительствовал и Циолковский, не преминувший отметить этот факт в своей автобиографии.
Друг Льва Толстого художник Леонид Пастернак однажды, расположившись за стопками книг в библиотеке, сделал с натуры рисунок Федорова. Он же изобразил за беседой трех философов: Н. Федорова, В. Соловьева и Л. Толстого... Фотографы же подоспели, когда философ в возрасте 75 лет лежал на смертном одре. Никто не помнит, чтобы когда-нибудь он болел. Быть может, прожил бы еще, но в лютые декабрьские морозы поддался уговорам друзей: надел шубу и сел на извозчика. Закаленный организм дал сбой: последовала простуда...
Философа не стало в 1903 году, как раз в тот год, когда его ученик Константин Циолковский опубликовал бессмертное "Исследование мировых пространств реактивными приборами", впервые на Земле математически доказав реальность философских идей Федорова.
Такие вот люди жили в Москве, осветили нам путь в Космос.
"Изумительный философ" полагал, что ширь русской земли способствует образованию характеров беззаветной отваги, удали, жажды самопожертвования, желания новизны и приключений.
Таким был сам Николай Федоров.
ГЛАВА ВТОРАЯ
МОСКВА В ЛИЦАХ
Мэр Москвы Юрий Лужков в книге "Мы дети твои, Москва" пишет, что профессор Гавриил Попов, предлагая ему тяготившую его должность мэра, назвал имя "хозяйственника" Алексеева, сменившего на посту городского головы профессора Чичерина, ничего не сумевшего для нее сделать.
"На следующий день, - пишет Юрий Лужков, - я нашел на своем столе очерк современника об Алексееве". Это был очерк, который открывает эту главу. В ней я пишу о тех, кого очень уважаю или люблю, чьи имена прославили город.
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВ
Ни в одной из трех "больших" советских энциклопедий (естественно, что и в "малых" - тоже) нет никаких упоминаний о Николае Александровиче Алексееве, бывшем московском городском голове в течение двух сроков, с 1885 по 1893 год. Причина тому лежит на поверхности. Вся земская, думская деятельность, особенно на городском уровне, считалась официальной историографией, не заслуживающей внимания, не представлявшей значения, относилась к неким малым делам. К ним причислялась всякого рода благотворительность в пользу бедных и их семей, инвалидов, устройство ночлежек, бесплатных столовых, основание школ, больниц, музеев... А это несмотря на то, что благодаря дарителям и благотворителям, думской деятельности Москва располагает множеством разных лечебниц, служащих по сей день зданиями театров, училищ, используемых поныне, Театральным музеем, Третьяковской галереей, музеем изобразительных искусств.
Поэтому об Алексееве Н. А. - "русс. сов. писателе", который "род. в бедной крест. семье", сочинявшем всеми забытые стихи, - статьи в энциклопедиях есть. Об Алексееве Н. А. - "деятеле революц. движения", переводчике и издателе, рассказывается подробно, жизненный путь его прослеживается от начала пропагандистской деятельности до получения персональной пенсии. А вот об Алексееве Н. А., родившемся в богатой купеческой семье, крупном земском и думском деятеле, не сказано ничего, хотя он имел отношение не только к купечеству, всю сознательную жизнь произносил речи, вел, так сказать, пропагандистскую работу, не считая разной иной, общественной.
Да, причина полного забвения Алексеева Н. А. в наших энциклопедиях ясна. Но почему о нем нет никаких данных в многотомной энциклопедии "Брокгауза и Ефрона", почему забыл о нем энциклопедический словарь братьев Гранат и все другие дореволюционные дотошные словари? Мне думается, из-за сформировавшегося во второй половине XIX века отрицательного отношения к "купчине толстопузому" в либерально-демократических кругах, отношения, сформулированного в поэтической формуле Некрасова.
К началу 80-х годов XIX века на арену общественной жизни пореформенной России вышло новое, мало известное демократам молодое поколение московского купечества, образованное и инициативное. Однако старое отношение, так ярко выраженное в пьесах Островского, статьях Добролюбова, прочно засело в сознании русской интеллигенции. Наверное, поэтому захлопнули дверь перед Н. А. Алексеевым российские энциклопедии, не написано о нем книг, в беллетризованной энциклопедии "Москва и москвичи", сочиненной знатоком города литератором Владимиром Гиляровским, также нет никаких следов бурной деятельности этого городского головы. Хотя пути "короля репортеров" и главы думы не раз пересекались, в Москве в 80-90-х годах.
Даже странно, о бродягах, полицейских, купчихах, фабрикантах, притеснениях народа - рассказал. Много написал "дядя Гиляй" об артистах, художниках, писателях и журналистах... А про городского голову - начисто забыл, хотя, конечно, знал и помнил разные истории, связанные с именем Николая Алексеева. Дело, по-видимому, в том, что "Москва и москвичи" сочинялись в начале тридцатых годов, когда о "Москве купеческой" хорошего писать было нельзя. В те же самые годы непомерно разросшийся город, куда хлынули, ища спасения, миллионы согнанных с насиженных мест "раскулаченных" крестьян, лечил их в купеческих больницах, возил в переполненных вагонах некогда лучшего в Европе муниципального трамвая, открыл им двери училищ, театров, библиотек, выстроенных Думой на рубеже ХIХ-ХХ веков.
Только свободный Федор Шаляпин, размышляя о судьбах родины и народа, среди тех, кто на его глазах возвысил Россию, первым назвал семейство Алексеевых. Цитирую по книге "Маска и душа", написанной в 1932 году в Париже, вдали от цензуры:
"...И ведь все эти русские мужики Алексеевы, Мамонтовы, Сапожниковы, Сабашниковы, Третьяковы, Морозовы, Щукины - какие все это козыри в игре нации. Ну, а теперь это - кулаки, вредный элемент, подлежащий беспощадному истреблению!"
Тем, кто не знает, в двух словах скажу: помимо фабрик, выпускавших в свое время лучшие в мире изделия (функционирующие поныне на прежнем месте), эти "мужики", точнее, их потомки, получавшие образование у лучших профессоров, обогатили Москву, ее архитектуру, искусство, культуру... Так, Щукины оставили потомкам редкостные коллекции, музеи на Знаменке (бывшая Фрунзе), на Малой Грузинской; Морозовы построили замечательные особняки, нынешний Дом дружбы - на Воздвиженке, дворец на Спиридоновке (бывшая Алексея Толстого), ныне используемый Министерством иностранных дел для приемов, помогли построить МХАТ; о Третьяковых всем известно; Сабашниковы основали замечательное книжное издательство (лучший путеводитель "По Москве" - их работа). Мамонтов построил Ярославский вокзал, "Метрополь" (после недавнего ремонта получил высший разряд "пять звезд"), оставил нам музей в Абрамцеве.
Алексеевы дали миру реформатора сцены Станиславского, наконец, городского голову, поразившего современников многими славными делами.
Замолчать, предать забвению такого человека, как Николай Алексеев, оказалось возможным. Но сокрушить здания и сооружения, появившиеся по его инициативе, нельзя, настолько они значительны.
"Одного сооружения Городской думы, грандиозно задуманного и исполненного, достаточно было бы, чтобы отнести Николаю Александровичу особое место среди всех предшествовавших ему городских голов", - писали "Московские ведомости" в некрологе.
Что действительно эти слова верны, каждый может убедиться, хоть раз увидев здание из красного кирпича, напоминающее громадный терем с большими окнами, выступающим от стен крыльцом и островерхой крышей. Оно стоит напротив Арсенальной башни Кремля, с 1936 года в нем находился Центральный музей В. И. Ленина.
Хотя здание трехэтажное, с полуподвалом, каждый этаж настолько высок, что для посетителей ныне устроили эскалатор. Хочу привести цитату из путеводителя 1913 года, где дается редкое описание несохранившихся интерьеров здания.
"Внутри здание устроено по коридорной системе, и из зал его интересен Большой зал, украшенный статуей императрицы Екатерины Великой и ее же старинным портретом. На стенах помещены портреты государей, московских городских голов и видных общественных деятелей. Из хранящихся здесь достопримечательностей интересны французское знамя, бюсты государя и государыни, подаренные Москве Парижем, и золоченый ларец - подарок городских голов, бывших в Москве на торжественном открытии памятника Александру II. Рядом с Большим залом, в котором происходят торжественные заседания Думы, расположен Малый зал для обычных занятий".
Выстроил это здание архитектор Чичагов, которому Алексеев полностью доверял, поскольку убедился в способностях этого мастера. Лет за десять до строительства Думы, Чичагов в Леонтьевском переулке выстроил двухэтажный дом для городского головы. Это по нынешней нумерации дом 9, двухэтажный, просторный особняк, где сейчас кубинское представительство.
Выскажу предположение, что французское знамя, другие подарки города Парижа появились в связи с Французской выставкой в Москве, состоявшейся, когда городским головой был Н. А. Алексеев, удостоенный ордена Почетного легиона, высшей награды Франции.
Среди картин в Большом зале, о которых упоминает путеводитель, висел портрет Н. А. Алексеева в полный рост, выполненный согласно "приговору" Думы, принятому после трагический гибели городского головы.
Его убили в один из самых счастливых для сорокалетнего Алексеева день, когда гласные собрались в новом здании Думы, чтобы переизбрать городского голову. Им, как мало кто сомневался, должен был в третий раз стать Алексеев. Он приехал в тот день в присутствие, как на бал, одетый безукоризненно. Под воротничком белоснежной рубашки был завязан галстук-бабочка, на нем плотно, облегая крупную фигуру атлета, сидела фрачная пара. Несмотря на выборы, с утра городской голова вел прием посетителей. Принял с прошением даму, проводил в коридор. Тут к нему подошел другой посетитель. Он был невзрачной наружности, плохо одет, держал в руке какой-то предмет, завернутый в бумагу. На имя городского головы, как и других должностных лиц, присылал не раз прошения, требуя обратить внимание на его проекты об искоренении инфлуэнции, о вредном влиянии электричества и магнетизма и т. д., которые убеждали, что у автора есть отклонения в психике. До появления в здании Думы успел пройти курс лечения в доме для умалишенных в Петербурге, в Москве неудачно служил конторщиком.
- Что вам угодно? - спросил городской голова Алексеев.
- А вот что, - ответил мещанин Андрианов и выстрелил почти в упор в живот.
На выстрел подбежал находившийся рядом, как сказано в газетных отчетах, "сторож, успевший схватить убийцу за руку, так что второй выстрел пришелся в косяк двери". Алексеев на несколько мгновений потерял сознание, но затем опомнился, даже прошел в кабинет, не зная, что несет в себе пулю. Прибежавшему помощнику сказал, что ничего особенного не случилось.
Мысль, что человек, стрелявший в него, - сумасшедший, сразу пришла ему в голову и принесла нравственное облегчение: вины за собой ни перед кем не знал.
Только когда Алексеев сел в кресло, почувствовал, что истекает кровью.
Еще одна важная мысль пришла к нему тогда в ясную голову. Он повторял ее разным лицам, в частности генерал-лейтенанту, командующему войсками, приехавшему в Думу, чтобы выразить соболезнование:
- Видите, умираю, как солдат на своем посту. Я служил ему верой и правдой.
Другой раз сказал: "Я умираю, но счастлив, что со мною случилось это на службе и что я верен данной присяге служить до последней возможности".
Врачи решили делать операцию в кабинете. У стола стал известный в Москве профессор Николай Склифосовский. Рана оказалась смертельной: воспаление брюшины лечить тогда не могли. В три часа ночи 11 марта 1893 года в этом же кабинете Алексеев скончался. Дума на несколько дней стала местом прощания. Подтвердились еще раз известные слова: "В новый дом входит смерть..."
Как раз-то о ней он, всегда излучающий жизненную энергию, удачливый в друзьях и в семье (росли три дочери), мало думал, затевая предприятия, затрагивающие интересы массы людей.
Вблизи Думы, по восточной стороне Красной площади, возвышаются белокаменные, основательные, как стены соседнего Кремля, Верхние торговые ряды. Все знают, что автор сооружения, по сути, не одного, а трех протянувшихся на сотни метров линий-улиц под стеклянной крышей, является архитектор Померанцев, чей проект под девизом "Московскому купечеству" победил в честном конкурсе, давшем ему право осуществить проект.
Руководил всем делом, беспримерным по масштабам, от имени "Московского купечества" Николай Алексеев.
До Верхних, торговых рядов стояли на площади ряды, выстроенные после пожара 1812 года. У них был красивый, в классическом стиле, фасад, выполненный по проекту Осипа Бове. Но за ним громоздились десятки разных строений, напоминавшие базары азиатского Востока: столь же щумные, многолюдные и замусоренные. Спустя полвека после сооружения те ряды обветшали. Двадцать лет велись разговоры, что их нужно сломать, построить новые, отвечающие всем требованиям европейской санитарии. Но в этих рядах насчитывалась тысяча лавок, у каждой - строптивый владелец или арендатор. У каждого клочка земли хозяин. Закрыть лавку - лишиться дохода...
Требовалось объединить капиталы тысячи купцов, лавко-владельцев, объединить под одной крышей тысячу торговых предприятий с разным уровнем дохода, с разными участками. А главное - купцам требовалось вместо конкретных, осязаемых участков земли и лавок стать обладателями акций, о которых многие, особенно старые "купчины толстопузые", слыхом не слыхивали, знать ничего не желали, десятки лет торгуя по-дедовски на излюбленном месте...
Неизвестно, сколько бы лет и дальше шли разговоры, сколько бы еще Москва терпела грязь и разруху, сколько бы еще толстопузые артачились, не желая поступаться ветхозаветными принципами, городской голова, собрав тысячу купцов, произнес перед ними страстную речь и первый бросил деньги на бочку, увлек за собой всех, кто еще колебался, не решался стать акционером, вложить капиталы в новое дело.
С того момента, как отслужили молебен по случаю начала строительства и до очередного молебна по случаю открытия крупнейшего магазина не только России, но и, очевидно, Европы, прошло 3 года и 6 месяцев. Нынешнему ГУМу исполнитлось сто лет. В отличие от тех рядов, что сооружались при Осипе Бове, эти, алексеевские, простоят не один век.
Перед революцией 1917 года Верхние торговые ряды стоили 6 миллионов рублей. Вместе с землей (ее цена превышает в этом месте стоимость недвижимости) - около 15 миллионов. Принадлежало несметное богатство Акционерному обществу... Если сегодня заходит речь о возрождении Китай-города, где располагаются десятки пришедших в запустение торговых домов, некогда составлявших славу торговой Москвы, мы обязаны вспомнить собственный опыт. Сто лет назад казна не дала ни копейки на Верхние торговые ряды. Город - также. И сегодня у государства, у Москвы нет средств, чтобы поднять Китай-город из руин. Значит, нужно Акционерное общество Китай-города, капиталы, разрабатывать устав, объединить капиталы, создать распорядительный комитет и комиссию по реализации проекта...
Что поражает: всем делом руководил не стройкомитет, не главк, не управление со штатом-толпой бездельников. Всего-то несколько лиц распоряжались капиталами, надзирали за подрядчиками. Алексеев, как выдающийся управленец, умел подбирать помощников. Правой рукой головы был полицмейстер А. А. Власовский, отличавшийся редкостной работоспособностью. Как свидетельствует мемуарист, "...дружба их, соединявшая две энергии полицейскую и хозяйственную, была фактом, и Алексеева можно было видеть иногда едущим с обер-полицмейстером на его паре с пристяжной". На одном из поступившем на него и на Алексеева доносе, где описывались их некие кутежи, император, как гласит одна из легенд, начертал резолюцию: "Унять жеребцов!"
Как и Алексеев, полицмейстер служил, не глядя на часы.
"Власовский почти ежедневно, во всякое время дня и ночи, появлялся неожиданно как в центре города, так равно и на его окраинах. Никто не знал, когда он спал. Одно время в Москве прошел слух, что Власовский антихрист... поэтому он не спит и будоражит всю Москву..." - сообщает И. А. Слонов, московский купец, издавший в 1914 году книгу воспоминаний "Из жизни торговой Москвы (полвека тому назад)".
Во времена Алексеева полицмейстер не только боролся с уголовниками, но и следил за домовладельцами, дворниками, понуждал их исправно убирать Москву, а извозчиков не нарушать порядок на мостовых, держаться при езде правой стороны, на стоянках с козел не слезать, ездить в чистой одежде... Власовский карал за взятки, ставшие до него чуть ли не нормой. Этим занимался и городской голова. Но искоренял зло не только административными мерами, но и экономическими. До Алексеева в так называемом Сиротском суде служащие, от которых зависел исход сложных дел, получали зарплату меньше сторожей. Без подношения чиновники суда ничего не делали. Алексеев провел решение, по которому зарплату им увеличили в 40 (сорок) раз!
Размышляя над ролью в истории таких личностей, как Алексеев, хочу сказать: полицмейстер, столь удачно работавший в паре с ним, закончил карьеру спустя три года после выстрела в друга самым печальным образом. Я убежден: поживи Алексеев еще, и полицмейстер ушел бы со службы с почетом, не случилась бы ужасная Ходынская катастрофа, произошедшая на том самом поле, где не раз Алексеев успел отличиться по службе, о чем далее пойдет речь. Наверное, Алексеев углядел бы появившиеся на поле ямы, ставшие одной из причин трагедии, распорядился бы их засыпать, принял бы и другие меры, которые бы не допустили ночью громадного скопления людей.
"К сожалению, полезная деятельность Алексеева и Власовского была неожиданно прервана. Первого - убийством, а второго отставкой, за Ходынку", - констатирует И. А. Слонов. Ошибается только этот автор, когда пишет, что Алексеев служил на общественных началах. Это не так. Жалованье получал, и немалое, но все деньги, как стало всем известно в дни похорон из некролога, отдавал на завтраки служащим, получавшим чай и бутерброды бесплатно.
Городской голова возглавлял не только Думу - орган представительный, распорядительный, но и Городскую управу, то есть, по-нынешнему, исполком, чем достигалось единство властей, административная эффективность.
Если бы гласные в 1885 году руководствовались бы положением, которое выработал ныне первый мэр Гавриил Попов, согласно которому мэром Москвы может быть избран гражданин не младше 36 лет, то Николая Алексеева они не могли бы провести на должность головы. Его избрали в 33 года. Он родился в известной тогда всей Москве богатейшей семье, имевшей отношение к товариществу "Владимир Алексеев", объединявшему хлопкоочистительные и шерстобойные заводы. Эта фирма занималась успешно овцеводством и коневодством, естественно, за пределами Москвы. В городе был хорошо известен завод золототканых изделий (ныне "Электропровод"), также принадлежавший Алексеевым, одной из ветвей, разросшихся в XIX веке династии, родоначальником которой был крестьянин Ярославской губернии Алексей Петрович Алексеев, ставший московским купцом в середине ХIV века.
Для любителей родословных: у сына Алексея Петровича Семена Алексеевича родились три сына - Владимир, Петр и Василий. От них пошли три ветви рода. У Василия родился сын Александр, который служил городским головой в 1840-1841 годах...
Таким образом, Николай стал вторым из Алексеевых городским головой, чему, конечно, способствовала безупречная репутация его родственников.
Ему дали домашнее образование: ни в гимназии, ни в университете не занимался. Но после завершения учебы юный Алексеев в совершенстве знал немецкий, французский, овладел английским. Не нуждавшийся в хлебе насущном, Николай Алексеев не спешил браться за дела, довольно долго занимался самообразованием, по-видимому, и поездил, и посмотрел мир, бывал на балах, концертах, в театрах, дружил с блистательным Николаем Рубинштейном, пианистом и директором консерватории, помогал ему в делах. Какие это дела? Московское отделение Русского музыкального общества устраивало симфонические концерты, конкурсы, ведало деятельностью Московской консерватории... Вот в это общество и поступил на 26-м году жизни служить Николай Алексеев.
Итак, в 25 лет Николай Алексеев поступает на службу, которая доставляла ему радость. Он взял на себя финансы, стал казначеем и одним из директоров Московского отделения Русского музыкального общества.
Дальше-больше. Одного искусства оказалось мало, хотя при Николае Рубинштейне музыкальная жизнь била ключом. На симфонических концертах впервые не раз звучала музыка Петра Чайковского...
Земля Алексеевых находилась в Московском уезде в Кучино. Там его избирают гласным. В земстве приходилось заниматься самыми непрестижными делами. Служил Алексеев "санитарным попечителем", значит, приходилось наведываться в места, где совсем иная музыка, чем в Колонном зале... Избрали его сначала земским уездным гласным, затем губернским гласным (по нынешним понятиям - народным депутатом). Много приходилось заниматься делами по устройству начальных школ.
Талант Алексеева-организатора раскрылся, когда его избрали в 1880 году городским гласным, назначили председателем распорядительного комитета по устройству Всероссийской художественно-промышленной выставки, состоявшейся в 1882 году на историческом Ходынском поле. Об этой замечательной выставке напоминает сохранившееся здание Царского павильона в форме сказочного терема, видимое за оградой стадиона Юных пионеров на Ленинградском проспекте, бывшем Петербургском шоссе.
На месте стадиона и всех прочих нынешних строений простиралось поле, где появились десятки разных павильонов. Россия продемонстрировала свои крупные достижения, достигнутые после отмены крепостничества. Среди вместительных павильонов из дерева в центре ансамбля находилось, по словам известного коллекционера купца П. А. Щукина, "превосходное, громадное круглое здание из железа и стекла".
На выставке показывали не только всевозможные машины и механизмы, продукты сельского хозяйства, но картины, книги, изделия народных промыслов.
По выставке, символизируя будущее, курсировали поезда электрической железной дороги, незнакомого тогда трамвая.
Когда Алексеева избрали второй раз городским головой, в этих же павильонах состоялась большая Французская национальная выставка. Тогда и стал Николай Александрович кавалером ордена Почетного легиона, у него были командирский и офицерские кресты. Русское правительство наградило его орденами Станислава, Анны, Владимира...
Он занимался реализацией не только проектов, поражающих воображение, привлекающих внимание прессы, таких, как Верхние торговые ряды или выставки.
"Во время его служения городским головой открыто и преобразовано в Москве тридцать городских училищ (18 мужских, 10 женских и два смешанных) с 2 до 5 лет", - писали "Московские ведомости". Рогожскому женскому училищу Алексеев пожертвовал здание. Многие видели эти училища, капитальные сооружения из кирпича, с просторными залами, рассчитанные на 12, 16 и 24 класса. К началу первой мировой войны город содержал 350 училищ, десятки специальных учебных заведений, в том числе университет имени А. Шанявского на Миусской площади. В бывшем Купеческом клубе находится театр "Ленком", а в доме, общества купеческих приказчиков расположилась Историческая библиотека России...
Что выделяло Николая Алексеева среди других? Он не только горячо брался за разные дела, но и столь же горячо доводил их до конца, а это качество не так часто встречается... Как писала газета "Гражданин", "мог увлечь за собой толпу и не разочаровать ее в увлечении". Алексеев излучал широко вокруг себя мощное силовое поле, в которое втягивались с большой охотой десятки людей. Он умел в нужную минуту помочь в беде друзьям, сослуживцам, никогда не злоупотреблял их доверием. Все это позволило стать в тридцать три года городским головой...
Дума заседала тогда на Воздвиженке, не имела своего здания, арендовала помещение у графа Шереметева, особняк на Воздвиженке, сохранившийся до наших дней, за фасадом Кремлевской больницы, напротив нового здания библиотеки. Заседания Думы происходили раз в неделю. Каждый москвич мог послушать, о чем говорят гласные. Многие приходили, чтобы посмотреть, как ведет заседания молодой глава Думы, как приходят в английский парламент, чтобы насладиться остроумием ораторов, понаблюдать жаркие схватки слуг народа.
Алексеев являлся на заседания во фраке и белом галстуке, в то время как многие гласные - в будничном платье, как пишет очевидец, "в разных костюмах от поддевы и высоких сапогах бураками включительно". В глазах мемуариста Алексеев выглядит так: "Высокий, плечистый, могучего сложения, с быстрыми движениями, с необычайно громким, звонким голосом, изобиловавший бодрыми мажорными нотами. Он был одинаково удивителен и как председатель городской Думы, и как глава исполнительной городской власти". Один в двух ипостасях, в двух лицах.
Голосование выглядело несколько не так, как ныне.
- Согласных прошу сидеть, несогласных встать. Принято!
Если сразу не был ясен результат такого голосования "ногами", за счет брался секретарь.
"Заседания Думы по вторникам, начинавшиеся в седьмом часу, до Алексеева благодаря неумелому и вялому руководству затягивались иногда до глубокой ночи. Алексеев вел заседания с необыкновенной энергией и быстротой. "Объявляю заседание открытым. Прошу выслушать журнал прошлого заседания", - раздавался звонкий сильный голос", - пишет академик М. М. Богословский в воспоминаниях о Москве.
Как видим, сто лет назад Дума заседала еженедельно, по вечерам.
Редко на какое заседание Думы являлись все сто семьдесят гласных, приходила едва ли половина, однако это не служило ни предлогом для отмены заседаний, ни основанием для непринятия решений, даже если они голосовались неполным составом.
Еще об одной особенности Думы и городского головы:
"Говорил он прекрасно, громко, в высшей степени деловито, без всяких риторических прикрас, а за словом в карман не лез, пускал в ход иногда простонародные выражения, например, "запущать дела", приводил сейчас же деловые справки, смело пускал в ход цифры, не всегда, может быть, соответствовавшие действительности, но производившие эффект, и уничтожал противника. К 8 часам заседания кончались".
Таким образом, заседания Думы продолжались не более двух часов. Пример, достойный подражания, возможно, даже идеал, к которому мы вернемся, набравшись опыта в словопрениях.
Когда читаешь "Известия Московской городской думы", поражает: как гласным удавалось управлять таким большим городом, который практически не получал денег из государственного бюджета. Почти все, что появлялось нового: церкви, больницы, школы, музеи, театры, - все возникало на деньги, которые поступали от местных налогов: с недвижимости, доходов, с процентов от вкладов в банке, продажи ценных бумаг, облигаций, наконец, от пожертвований, порой весьма значительных, выражавшихся в тысячах, миллионах рублей.
Это при том, что фунт парной говядины стоил 14 копеек, куры парные 55, фунт севрюги 28 копеек, карпы и судаки шли по 11 копеек... В день мастеровой, кузнец или столяр получали по 110 копеек, поденщик с тележки имел 220...
Если Алексееву приходилось, чтобы добыть деньги, идти на какие-то компромиссы, он ради общего блага шел. Однажды некий "купчина толстопузый" решил покуражиться и сказал, что даст Городской думе миллион, если городской голова при всех станет пред ним на колени. Алексеев не заставил себя долго ждать, исполнил требование к немалому восхищению присутствовавших и самого толстосума, сдержавшего слово. Миллион, как гласит легенда, дал...
В XIX веке переписи проводились нерегулярно, с большими перерывами. По данным 1871 года в Москве проживало 602 тысячи человек. В каком именно году стала первопрестольная городом-миллионером, точно не известно, но случилось это вскоре после Алексеева. По переписи 1897 года москвичей значилось 1 миллион 39 тысяч. Каждый год в город устремлялись тысячи свободных крестьян, решавших порвать с деревней. Таким образом, Алексеев руководил городским хозяйством второй столицы империи, где проживал почти миллион жителей. И вот такой бурно растущий крупный город до его избрания не имел нормального водопровода и канализации, которыми располагали другие столицы Европы.
Вода поступала из старинного, времен Екатерины II, Мытищинского водопровода в бассейны на центральных площадях. Черпали воду из Москвы-реки, других речек, далеко не кристально-чистых. Воду развозили на лошадях в бочках, разносили ведрами по дворам, домам. Водовозы разносили по Москве инфекцию, как и представители другой древнейшей профессии, которых называли "ночными рыцарями", "золоторями". На службу они выходили в ночь, объезжая дворы. В каждом из них копались для нечистот ямы, содержимое которых вывозилось в бочках. Веками Москва поражала приближавшихся к ней путников не только прекрасным видом церквей, но и дурным запахом, о чем не раз писали Салтыков-Щедрин и другие сатирики рангом поменьше. Наконец, еще одним разносчиком заразы служили многочисленные частные бойни, где забивали крупный и мелкий рогатый скот, свиней, лошадей.
Десятки лет шли дискуссии о водопроводе, канализации, единой для всей Москвы бойне. Николай Алексеев от слов перешел к делу. На средства города провел ветку железной дороги к станции "Бойня", рядом с ней выстроили по самому совершенному проекту все, что требовалось. Обратите внимание: 20 июня 1886 года состоялась закладка зданий, а 1 августа 1888 года, как гласит справочник, "бойни уже начали функционировать". На месте, выбранном Н. А. Алексеевым, поныне действует и платформа железной дороги и бойни, нынешний мясокомбинат, носивший имя Микояна. А надо бы - Алексеева...
Вслед за бойнями взялся городской голова за водопровод. Взамен старого, а также нескольких других маломощных систем, в 1892 году появился новый, проект которого разработали инженеры Шухов (автор знаменитой радиобашни), Кнорре и Лембке. Они напоили Москву чистейшей подземной водой. Из Мытищ не в бассейны, а в дома, квартиры подавалось ежедневно полтора миллиона ведер. Другие группы инженеров занимались грандиозным проектом канализации Москвы с учетом ее будущего. Разрабатывалось несколько разных вариантов, так называемой "сплавной раздельной" системы, имея в виду, что сплавляться все будет в юго-восточном направлении, в направлении к Люблино, чему способствовали особенности рельефа. В этом же направлении течет по городу Москва-река. Поэтому до наших дней и располагалось в Люблино так много очистных инженерных сооружений.
Проекты водопровода и канализации отличались не только техническим совершенством, но и демократизмом. Они предназначались для всех жителей, всех районов Москвы, центра и окраин, богатых и бедных.
Исключение из правил городской голова сделал для своего дома: водопровод, как рассказал мне один из потомков Алексеевых, к нему подводить не велел, чтобы никто не заподозрил его в корысти, стремлении воспользоваться технической новинкой, которая обошлась городу в миллионы рублей.
Эти три сооружения: бойня, водопровод и канализация - стали тремя китами Москвы, они резко улучшили санитарное состояние, снизили смертность жителей, изменили быт города, где не стало водовозов, водоносов, "ночных рыцарей". По улицам со станций не гнали больше скот... Все это дало основание академику М. М. Богословскому утверждать, что эти нововведения не только стяжали городскому голове признательность москвичей. "Они преобразовали Москву. С ними она перестала быть большой деревней, какою была, и становилась действительно городом".
Алексеев поощрял искусства. Именно при нем галерея, собранная Павлом и Сергеем Третьяковыми, перешла в собственность города, стала называться их именами. Тем самым Москва не только получила бесценный дар, но и взяла на себя обязательство его хранить и приумножать. До 1918 года музей назывался Московской городской художественной галереей имени П. и С. Третьяковых. Чиновники от искусства лихо распоряжались купеческими коллекциями, закрыли Цветковскую, Остроуховскую и другие галереи, картины иностранных мастеров, собранные Сергеем Третьяковым, перестали экспонировать и на этом основании переиначили историческое название, убрали из него имя Сергея Третьякова. Растворили по музеям известные коллекции Щукиных, Морозовых, Боткина, Востряковых, Гиршмана... Не случись всего этого беззакония, имела бы сегодня Москва художественные музеи не только в Лаврушинском переулке.
Кстати, и Центральные бани в Театральном проезде выстроили при Алексееве.
...Утром 9 марта 1893 года, сев в коляску, поспешил он по Тверской в Думу, где его поджидал убийца...
В этом покушении можно усмотреть некую мистику, рок. Никто столько не уделял внимания призрению душевнобольных, как Алексеев. До него в Москве не существовало ни одной психиатрической лечебницы. Эти больные жили изгоями, как бездомные собаки, подвергаясь всяческим унижениям. В мемуарах писателя Николая Телешова рассказывается, как Алексеев поставил вопрос о лечебнице на заседании губернского земства, членом которого также состоял. Проблема не решалась годами.
- У вас нет коек? - задавал он вопрос нерешительным земцам. - Я дам вам на время городские койки. У вас нет белья? Я дам вам запасное городское белье. Я сделаю все, чтобы приют открылся не далее чем через десять дней.
Все дал и сделал, чтобы первая лечебница смогла принять несчастных. В завещании предусмотрел крупную сумму на сооружение лечебницы, будто чуял, от кого примет смерть. Канатчикова дача появилась на средства Алексеева. Здесь находится известная психиатрическая больница № 1 имени П. П. Кащенко. До 1917 года она носила имя Н. А. Алексеева. Затем, как десятки других лечебниц, лишилась названия под тем предлогом, что пожертвованные купцами на здравоохранение деньги нажиты нечестно и народ вправе забыть о них.
...от порога Думы его пронесли через весь город к Новоспасскому монастырю на руках рабочие завода Алексеевых и крестьяне села Кучино.
На экстренном заседании Дума "приговорила" в память об убитом выделить 200 тысяч рублей на благотворительность. Послали соболезнование жене. Возложили венок. Никаких улиц не переименовывали. Заказали для Большого зала "портрет в рост", как уже об этом упоминалось. Савва Мамонтов снял посмертную маску. Художник Поленов нарисовал зал в минуты прощания.
Похоронили Алексеева рядом с отцом, вблизи ворот монастыря, справа от входа.
"ДУБИНУШКА" ФЕДОРА ШАЛЯПИНА
О своей первой неудавшейся попытке покорить Москву Федор Иванович рассказал на "Страницах из моей жизни", наговорив текст будущей книги стенографистке, чью запись отредактировал и дополнил другими слышанными рассказами Шаляпина такой редактор, как Максим Горький.
...В поезде, проиграв в карты случайным попутчикам 250 рублей, молодой певец вместе с приятелем прибыл на вокзал.
"Москва, конечно, ошеломила нас, провинциалов, своей пестротой, суетой, криком. Как только мы наняли комнату, я бросился смотреть Большой театр. Грандиозное впечатление вызвали у меня его колонны и четверка лошадей на фронтоне. Я почувствовал себя таким ничтожным перед этим храмом".
На следующий день безработный и безденежный бас отправился наниматься в контору императорских театров. В Москву пришло лето, сезон в театрах кончился. Приезжего никто в конторе не ждал. И он ушел отсюда не солоно хлебавши. Случилось это на Большой Дмитровке в милом двухэтажном доме, где теперь располагается известная театральная библиотека, унаследовавшая помещение бывшей конторы.
Повезло приезжему в другом, частном бюро, обитавшем в доме на углу Тверской улицы и Георгиевского переулка.
Здесь прослушал певца сам Лентовский, знаменитый антрепренер, давший щедрый аванс и клавир оперы, после чего, в силу контракта, пришлось отправляться в Петербург.
В первый приезд в Москву, в ожидании пока решится его участь, Шаляпин часто уходил на Воробьевы горы, где уединялся в лесной тиши и "любовался величием Москвы, которая, как все на свете, издали кажется красивее, чем вблизи".
То было в 1894 году.
Как известно, творческая жизнь певца складывалась поначалу трудно и неудачно, пока на пути своем не встретил он легендарного Савву Мамонтова, сыгравшего великую роль в его судьбе.
Не случайно именно об этом человеке Федор Иванович вспомнил 8 марта 1932 года, перед тем как поставить последнюю точку в автобиографической книге "Маска и душа", ставшую творческим завещанием, где великий артист постарался рассказать все так, как было в его жизни.
"И вспоминается мне Мамонтов. Он тоже тратил деньги на театр и умер в бедности, а какое благородство линий, какой просвещенный благородный фанатизм в искусстве! А ведь жил он в "варварской" стране, и сам был татарского рода. Мне не хочется закончить мою книгу итогов нотой грусти и огорченности. Мамонтов напомнил мне о светлом творческом в жизни. Я не создал своего театра. Придут другие - создадут."
Светлое и творческое в жизни молодого певца происходило все на той же Большой Дмитровке, в здании Солодовниковского театра, где давала спектакли Частная опера, вдохновляемая Саввой Мамонтовым. Он был не только ее содержателем, но и творческим руководителем, совмещавшим в одном лице главного режиссера, главного художника и директора. Именно он убедил мало кому известного солиста императорского Мариинского театра разорвать контракт в Петербурге и перейти на подмостки Частной оперы, чья слава в мечтах Саввы Мамонтова должна была затмить славу Большого театра, располагавшегося в нескольких стах метрах от сцены, где дебютировал в Москве Федор Шаляпин.
Спектакли шли до него, как правило, в полупустом зале, а он был большой, почти на две тысячи мест. Только когда заезжали прославленные гастролеры, итальянские певцы, публика набивала театр до отказа.
Дебют певца не остался незамеченным. На следующий день после его выступления театральный критик писал:
"В Солодовниковском театре появился, кажется, очень интересный артист. Его исполнение роли Сусанина было очень ново и своеобразно. Артист имел большой успех у публики, к сожалению, малочисленной".
После выступления певца в роли Мефистофеля тот же театральный критик писал, что "я впредь не пропущу ни одного спектакля с участием этого артиста". С тех пор зал, когда в нем выступал Федор Шаляпин, всегда был полон.
После триумфа в роли Мефистофеля Савва Мамонтов сказал:
- Феденька, вы можете делать в этом театре все, что хотите! Если вам нужны костюмы, скажите, и будут костюмы. Если нужно поставить новую оперу, поставим оперу!
И сдержал слово. По просьбе Шаляпина он поставил одну за другой четыре оперы Римского-Корсакова, "Бориса Годунова" и "Хованщину" Мусоргского. В отличие от всех других преуспевавших премьер оперы молодой певец рвался играть роли в русских операх, казавшихся тогда многим несценичными, затянутыми...
Три сезона в Частной опере навсегда запомнились великому артисту как "чудесный московский период моей работы". Постоянным жителем Москвы Федор Шаляпин стал осенью 1896 года, подписав на три года контракт с Саввой Мамонтовым, предложившим ему петь в Частной опере, положив оклад в 7200 рублей в год. Петь предстояло в театре, построенном московским купцом Гаврилой Солодовниковым на Большой Дмитровке, в наши дни занимаемом театром оперетты, а до него филиалом Большого театра.
Давным-давно пора на стенах театра установить памятную доску с именами Саввы Мамонтова и Федора Шаляпина, поскольку именно здесь первый возвысил русскую оперу, привлек к сцене лучших художников, а второй - покорил вершины искусства и сердца людей. Шаляпин за несколько месяцев жизни в Москве стал знаменитым, его узнавали на улицах, в ресторанах, принимали в первых домах, его талантом восхищались лучшие драматические актеры, в том числе Ермолова, лучшие художники, и среди них Левитан. "Радостью безмерной" назвал появление на сцене певца Стасов.
Где жил певец тогда, осенью, в год дебюта в Частной опере? Не исключено, что его кровом стал на первых порах блистательный и гостеприимный дом Саввы Мамонтова на Садовой Спасской, 6, до разорения хозяина бывший, по сути, художественной академией Москвы конца XIX века, где ставились спектакли, создавались картины. Здесь подолгу жил Врубель, писавший "Демона"... Сохранились отделенные деревом два бывших зала особняка, где звучал голос великого певца.
Первым, точно установленным, шаляпинским, стал флигель на Долгоруковской улице, не сохранившийся до наших дней. Почему именно здесь? Отсюда шла прямая дорога к театру Солодовникова. Но главное, на Долгоруковской жили друзья - Валентин Серов и Константин Коровин. "На Долгоруковской улице в Москве в доме архитектора Червенко у меня мастерская... Для Серова Червенко достроил мастерскую рядом со мной", писал Константин Коровин. Адрес этот нашими краеведами подзабыт. А между тем это и шаляпинский адрес, потому что с Коровиным Шаляпин был в те годы неразлучен, как, впрочем, и с Серовым.
На Долгоруковской певец жил первое время после женитьбы на Иоле Торнаги, балерине Частной оперы. Здесь у него родился первый сын, чему он был несказанно рад. Это событие заставило искать другую, более просторную квартиру.
Но Шаляпин мечтал иметь собственный дом. Для этого жалованья, данного Саввой Ивановичем, было мало. Федор Шаляпин получал намного меньше, чем заезжавшие гастролеры. Он хотел, чтобы его труд оплачивался также.
- Ты скажи, Константин, Мамонтову, что я хочу жить лучше, что у меня, видишь ли, сын, и я хочу купить дом. В сущности, в чем же дело? У всех есть дома. Я тоже хочу иметь дом. Отчего мне не иметь своего дома? - говорил Шаляпин другу и приводил свои доводы:
- Вот я делаю полные сборы, а спектакли без моего участия проходят чуть ли ни при пустом зале. А что я получаю? Это же несправедливо. А говорят, Мамонтов меня любит. Если любишь - плати...
Но Савва Мамонтов не мог себе это позволить, при всем желании: финансовое положение могущественного строителя железных дорог, строителя нового грандиозного театра в Москве, который должен был затмить Большой, заколебалось.
Дом был достроен, но театром не стал, поскольку осенью 1899 года Савву Мамонтова арестовали за нарушение финансовых операций. И хотя был оправдан судом присяжных, вышел на свободу, но разорился. Мамонтовский дом на Садовой со всеми картинами, скульптурами, книгами, мебелью описали и продали на аукционе. А недостроенный театр переоборудовали под ресторан гостиницы "Метрополь". Только грандиозный под стеклянным куполом зал напоминает о несбывшейся мечте великого человека.
В те дни, когда Савва Мамонтов мучился в тюрьме, его любимый Феденька вышел на сцену Большого в роли Мефистофеля, где началась новая страница в истории театра и певца... Теперь его оклад был равен 9000 рублей, а через год возрос до 10000...
Но и при таком жалованье дом заиметь не мог. Новую квартиру снял невдалеке от театра и консерватории, в Большом Чернышевском переулке, застроенном старинными домами. В маленьком доме в этом переулке в февральский день 1900 года родилась первая дочь.
Сюда перевез Шаляпин подаренный ему Мамонтовым рояль, на котором разучивал роли для Большого театра... В этом доме бывал у певца Максим Горький, пожалуй, как никто другой оставивший о нем самые глубокие и полные любви записи, понявший в числе первых, что Федор Шаляпин - гений русского народа. Благодаря Максиму Горькому мы имеем "Страницы из моей жизни", повествующие о жизни артиста.
"Этот человек - скромно говоря - гений... Огромная славная фигура!"
Еще одна горьковская характеристика: "Такие люди, каков он, являются для того, чтобы напомнить всем нам: вот как силен, красив, талантлив русский народ!"
...Семья Шаляпина росла постоянно. Это дало толчок к очередному переезду, в соседний Леонтьевский переулок, в один из престижных в дореволюционной Москве, где дома строились самыми состоятельными лицами города - Мамонтовыми, Алексеевыми, Морозовыми... Здесь Шаляпин снимал квартиру в доме, стоящем на месте, чей № 24. Этот шаляпинский адрес был известен всей Москве, сюда устремлялись многие. В надежде пробиться к певцу, увидеть его, получить контрамарку... У подъезда выстраивалась очередь поклонников, толпа дежурила у подъезда, как теперь дежурит у квартир эстрадных кумиров...
В этом доме родилась дочь Лидия...
Казалось, ничто не предвещало беды. Но она пришла и унесла трехлетнего сына. Семья решает сменить обстановку, где все напоминало об утрате, переезжает на другой конец Москвы, в район Остоженки.
Впервые семья Шаляпина стала жить в особняке. Но и это не был собственный дом, его снимали несколько лет, в 1904-1907 годы. Это типично старомосковский двухэтажный дом, образовавшийся в результате перестроек. Он цел. Его адрес 3-й Зачатьевский переулок, 3.
- Мне приятно было узнать, - говорил в апреле 1988 года побывавший в Москве сын певца Федор, - что дом этот, как памятник, взят под охрану государства. Я знаю, что он был очень дорог отцу: там наконец-то у него родились мальчики. А то были (после смерти первенца. - Л. К.) все девочки... Иола Шаляпина вырастила пятеро детей: трех дочерей, двух сыновей.
В этом доме артист жил в годы первой русской революции, которую восславил исполнением песни, знаменитой "Дубинушки"...
* * *
Мечта Саввы Мамонтова, что несравненный голос Федора Шаляпина зазвучит в стенах нового прекрасного театра, воздвигнутого в стиле модерн наискосок от Малого и Большого, не сбылась...
Задуманный с небывалым размахом и новаторством (опережая время!) культурный центр, где под одной крышей объединялись отделанные по эскизам лучших художников театр, выставочный зал, гостиница, превратился в конце концов (чему посодействовал пожар) в гостиницу "Метрополь". Кроме панно "Принцесса Греза" на фасаде - поражал большой зал ресторана, устремленный ввысь. Его пространство первоначально предусматривалось для партера, лож, балконов... Теперь здесь фонтан, окруженный столами.
В этих несостоявшихся театральных стенах все-таки услышала Москва голос Шаляпина. Выступление его описано Максимом Горьким, неоднократным свидетелем триумфов друга, в романе "Клим Самгин". Его многие сцены запечатлели город в дни революции 1905 года. Ее с нетерпением ждали, и как могли приближали, писатель и певец. Пение "Дубинушки" звучало в те дни гимном, призывом к революции.
"...Углубляя тишину, точно выбросив людей из зала, опустошив его, голос этот с поразительной отчетливостью произносил знакомые слова, угрожающе раскладывая их по знакомому мотиву. Голос звучал все более мощно, вызывая отрезвляющий холодок в спине Самгина, и вдруг весь зал точно обрушился, разломились стены, приподнялся пол и грянул единодушный, разрушающий крик:
Эх, дубинушка, ухнем!
...Снова стало тихо; певец запел следующий куплет: казалось, что голос его стал еще более сильным и уничтожающим. Самгина пошатывало, у него дрожали ноги, судорожно сжималось горло; он ясно видел вокруг себя напряженные ожидающие лица и ни одно из них не казалось ему пьяным, а из угла, от большого человека плыли над их головами гремящие слова:
- На цар-ря, на господ
Он поднимет с р-размаха дубину!
- Э-эх, - рявкнули господа: "Дубинушка - ухнем!"
В тот описываемый в романе день, 18 октября, на улицы вышли толпы людей с красными знаменами. Впервые Москва могла свободно шествовать и митинговать. Фонтан на площади перед "Метрополем" служил трибуной, митинг шел и в зале ресторана, где находился Федор Шаляпин, вспоминавший так:
"Пришлось мне петь однажды "Дубинушку" не потому, что меня об этом просили, а потому, что царь в особом манифесте обещал свободу. Было это в Москве, в огромном ресторанном зале... Ликовала в этот вечер Москва! Я стоял на столе и пел - с каким подъемом, с какой радостью!"
Ни Горький, ни Шаляпин не упоминают, что после пения взял артист шапку и пошел меж столиками собирать деньги. Бросали их не скупясь, как свидетельствует очевидец, писательница Т. Щепкина-Куперник: "Собрал он огромную сумму".
Он пел в концертах, сбор от которых шел на партийные нужды, подготовку восстания.
- Пусть большевики делают революцию, - говорил Шаляпин, как все не знавший, к чему они приведут Москву и Россию.
Пел он и на вечере, выручка от которого пошла на устройство побега из тюрьмы Николая Баумана.
А 20 октября Москва хоронила революционера, убитого из-за угла. После похорон на квартиру Горького, по его просьбе, пришел Шаляпин, чтобы петь. Квартиру охраняла дружина студентов-грузин. В ней таилось оружие, боеприпасы. В одной, самой укромной комнате, изготавливались бомбы. Приди сюда с обыском полиция - и хозяину не миновать каторги. Вот в такой обстановке Максим Горький позировал Валентину Серову, а Федор Шаляпин пел, чем не только радовал слушателей, но и вводил в заблуждение полицию.
В мемуарах "Маска и душа" читаем:
"В день похорон Баумана зашел к Максиму Горькому. Ждали ареста, обыска, квартиру охраняли кавказцы, зашел с Корещенко, аккомпаниатором, попросили петь.
Вечер вышел действительно отличный, несмотря на тревогу, волновавшую дом и собравшихся в нем людей. Через много лет, уже во власти большевиков, мне пришлось быть в Кремле в квартире Демьяна Бедного. Пришел Ленин. Когда, здороваясь с ним, я сказал, что очень рад с ним познакомиться, вождь мирового пролетариата посмотрел на меня пристально и сказал:
- Да, кажется, мы с вами знакомы.
Я смутился. Видя это, Ленин объяснил:
- А помните, в вечер похорон Баумана, мы все сидели у Горького почти целую ночь?
И как-то особенно крепко пожав мне руку, добавил:
- Прекрасный был вечер...
...Исполнил "Дубинушку" певец и на сцене императорского Большого театра. В нарушение всех традиций он вступил в разговор с публикой и сказал, что споет лишь в том случае, если все будут ему подпевать...
- Как, неужели до сих пор не уволили Шаляпина? - узнав об этом происшествии, сказал царь.
Но уволить со службы великого певца в те дни не решились, полагая, что это вызовет взрыв общественного негодования. Федор Шаляпин возвращался к себе в Третий Зачатьевский переулок, видел на дверях автограф черносотенцев - крест, не предвещавший ничего доброго. Певец получал анонимные письма с угрозами, как со стороны правых экстремистов, так и со стороны леваков, угрожавших ему расправой. Одним казалось - он ярый революционер, осмелившийся публично петь "Дубинушку", другим контрреволюционер, поющий в опере "Жизнь за царя", как называлась прежде опера Глинки "Иван Сусанин".
...Наступил год 1906-й. В устоявшейся счастливой семейной жизни артиста, ставшего отцом пяти детей, неожиданно происходит взрыв. Он встречает двадцатилетнюю красавицу Марию Элухен (в браке Петцольд), дочь генерала, мать двух малолетних детей, приехавшую в Москву к сестре после обрушившего на нее горя - внезапной смерти мужа. С тех пор у Шаляпина две семьи. Второй дом - в Петербурге. Начались постоянные гастроли за границей.
В Третьем Зачатьевском переулке у Шаляпина росли три дочери и два сына. Близнецы Федор и Татьяна родились как раз на Остоженке. Отсюда Иола Шаляпина увезла детей в 1907 году к матери в Италию, в городок около Милана, куда приезжал отец...
"Возвратились мы в Москву уже на новую квартиру, - пишет дочь артиста Ирина Шаляпина, - в дом Варгина (позднее в этом доме помещалась Первая студия Московского художественного театра)".
Но и это был не собственный дом, о котором в молодости мечтал Шаляпин. Свои требования он как-то сформулировал в газетном объявлении:
"Нужна квартира-особняк, комнат 10-12. Отопление голландское. Местность по возможности центральная. Желательно бы сад..."
Всем этим требованиям с лихвой соответствовала усадьба на Новинском бульваре, состоявшая из главного дома с двумя флигелями. Со стороны Москвы-реки примыкал сад. Отопление в доме - голландское, Шаляпин считал, что это важно для голоса.
Усадьба стала московским домом певца, когда он приезжал в город, где, согласно контрактам, обязан был петь на сцене Большого театра. По справке реставраторов, построен дом в конце ХVIII века из дерева, с рублеными стенами, оштукатуренными, как принято было, "под каменные". Из двух флигелей сохранился один. Некогда главный фасад украшали колонны и балкон. Но теперь, восстанавливая усадьбу, реставраторы придали ей вид, какой она имела при жизни здесь певца в 1910-1922 гг. Со стороны Садового кольца смотришь - палевый маленький дом выглядит одноэтажным. Со двора предстают два этажа, еще выше антресоли окна. Внизу - подвал, как говорится, дом, полная чаша.
На антресолях таилась комната, куда знали дорогу самые близкие друзья. На втором этаже - комнаты детей.
На первом этаже главенствует Белый зал, где артист разучивал роли, готовился к концертам, тут проводились домашние концерты, шли репетиции с партнерами. Это самая большая и красивая комната. Отсюда дверь ведет в бильярдную. Гримерная комната служила и гардеробной, в ней хранились уникальные театральные костюмы. Столовая с большим столом, где всем гостям хватало места. Ее украшают картины Константина Коровина, одного из ближайших друзей. В комнате Иолы Шаляпиной - ее портрет кисти Валентина Серова, также друга. Кабинет хозяина завершает анфиладу комнат, где находится Зеленая гостиная, принимавшая многих писателей, художников, музыкантов... Ее стены украшают картины Левитана, Поленова... Все эти живописцы, повлиявшие на формирование таланта артиста, придававшего особое внимание творческим контактам с художниками.
Вернуть дому прежний блеск оказалось сложно, потому что пережил он тяжелые времена, превращенный в строение с коммунальными квартирами еще при жизни Шаляпина в Москве. С тех пор не ремонтировался..
Но как ни трудна была задача, с ней, кажется, справились...
* * *
За всю историю театра в Москве не было артиста более популярного, чем Федор Шаляпин. Слава его никем в XX веке не превзойдена. Голос действовал на слушателей магически, певец словно искусный гипнотизер завораживал весь зал, равнодушных не оставалось. О нем при жизни сочиняли легенды.
Когда дом на Новинском бульваре подвергся реквизиции, из него унесли сундук с серебряными кубками и другими "подношениями" публики, сыпавшимися на сцену.
Трудно объяснить сегодня, как это произошло, но факт, всемирно-известный певец, первый народный артист республики, каковым Федор Шаляпин стал после Октябрьской революции, не получил в 1918 году подобно другим выдающимся деятелям отечественной культуры "охранной грамоты" на собственный дом в Москве, коллекцию картин, библиотеку. Сам он, очевидно, из гордости, с такими просьбами не обращался. Районные власти, не делая исключения из правил, отнеслись к шаляпинской усадьбе, как ко всем прочим владениям буржуазии, не только национализировали дом, но и неоднократно подвергали его обыскам, реквизициям "по мандатам и без мандатов", заселили жильцами.
"Как-то ранней весной во время его гастролей зашел к нему в Москве в его прежний особняк. Был дождливый день. Национализированный дом был полон "жильцами", занявшими все комнаты по ордеру. Самого его я нашел наверху, на площадке лестницы мезонина. Площадка старого московского дома была застеклена и представляла что-то вроде сеней или антресолей. Вместо потолка - чердак. Топилась "буржуйка", а на кровати лежал Шаляпин в ночной рубашке.
По железной крыше стучал дождь.
Завидя меня, взбиравшегося к нему по крутой и узкой лестнице черного хода, он весело засмеялся и, протягивая мне руку, великолепно продекламировал стихи Беранже:
"Его не огорчит, что дождь сквозь крышу льется!
Да как еще смеется!
Да ну их! - говорит."
Но то был смех сквозь слезы. Певец глубоко страдал не столько от выпавших на его долю лишений, сколько от нелепых распоряжений большевиков, посягавших на творческую и личную свободу, пытавшихся его "социализировать", поставить в приниженное положение. Прикрываясь ультра-революционными лозунгами, они наносили вред театру и искусству.
Шаляпин, как мог, боролся с ними. Однажды эта борьба привела его в кабинет Ленина в Кремле. Федор Иванович просил не за себя, говорил не об "охранной грамоте".
- Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Я все отлично понимаю, - сказал Ленин, как только Шаляпин взволнованно начал подробно объяснять суть дела, заключавшегося в том, что некие администраторы решили перераспределить имущество Мариинского театра, его богатейшую коллекцию костюмов, декорации, реквизит, поступив с этим достоянием, как с мебелью национализированных особняков.
- Тут я понял, - пишет Шаляпин, - что имею дело с человеком, который привык понимать с двух слов и что разжевывать дел ему не надо. Он меня сразу покорил и стал мне симпатичен. "Это, пожалуй, вождь", - подумал я.
В годы гражданской войны Шаляпин не раз выступал на сцене Большого театра. И вновь исполняет "Дубинушку", подхваченную, как некогда в 1905 году, всем театром, вслед за тем, после грома оваций, запевшим "Интернационал"...
Из дома на Новинском бульваре певец часто ходил в Кремль, подружившись с поэтом Демьяном Бедным, чья квартира служила своеобразным клубом, куда на огонек, на чай, запросто приходил Ленин и другие руководители.
Нельзя не поразиться наблюдательности и глубине характеристик, которые в мемуарах дает им всем певец, особенно когда пишет о Сталине:
"Когда я впервые увидел Сталина, я не подозревал, конечно, что это будущий правитель России, "обожаемый" своим окружением. Но и тогда я почувствовал, что этот человек в некотором смысле особенный. Он говорил мало, с довольно сильным кавказским акцентом. Но все, что он говорил, звучало веско - может быть, потому, что это было коротко."
- Нужно, чтобы они бросили ломать дурака, здэлали то, о чем было уже говорэно много раз.
Из его неясных для меня по смыслу, но энергичных фраз я выносил впечатление, что этот человек шутить не будет. Если нужно, он так же мягко, как мягка его беззвучная поступь лезгина в мягких сапогах, и станцует, и взорвет храм Христа Спасителя, почту или телеграф - что угодно. В жесте, в движениях, языке, глазах - это в нем было. Не то, что злодей - таким он родился".
Когда писались эти строки, громадный храм был повержен. Впереди выстрел в Смольном, репрессии, приближение которых всем сердцем чувствовал такой чуткий к общественным импульсам человек, как Шаляпин. Почти каждый день слушал он по радио голос Москвы, Ленинграда. И писал домой дочери: "Н-нда! Актеры плохи, но зато что за великолепный народ все эти Папанины, Водопьяновы, Шмидт и Ко, я чувствую себя счастливым, что на моей родине есть такие удивительные люди. А как скромны!!! Да здравствует народ российский!!!"
Вот в такой обстановке приходилось народному артисту решать мучительный вопрос - возвращаться или нет домой.
Со второй семьей - женой и пятью детьми - выехал он летом 1922 года за границу.
В Москве оставалась первая жена, дети, за судьбу которых он всегда чувствовал ответственность.
Когда Шаляпин советовался с Горьким, стоит ли ему ехать жить за границу, тот отвечал утвердительно. Да и сам, как известно, писатель жил много лет в Италии. Но после возвращения в Москву Горький стал звать домой. Причем с каждым разом все настойчивее. Надо полагать, такие приглашения делал не только от своего имени, но и от имени того, с кем Федор Шаляпин встречался на квартире Демьяна Бедного, которого, к слову сказать, бывший друг Иосиф Сталин выселил из квартиры в Кремле...
Вернуться домой Федор Иванович не решался. Вот ход его рассуждений:
"Не хочу потому, что не имею веры в возможность для меня так жить и работать, как я понимаю жизнь и работу. И не то, что я боюсь кого-нибудь из правителей или вождей в отдельности. Я боюсь, так сказать, всего уклада отношений, боюсь "аппарата"...
Такова истинная и глубинная причина противоречий (не понятая в свое время многими современниками) между народным артистом и "аппаратом", укладом отношений, ныне получившим научное определение административно-командной системы. Удары ее на себе он испытал, и боль не проходила.
Уезжая, Федор Иванович нанес визит на Лубянку Дзержинскому. Он отправился туда, по его словам, чтобы не подвергать опасности оставшихся в Москве членов семьи. "И поэтому обратился к Дзержинскому с просьбой не делать поспешных заключений из каких бы то ни было сообщений обо мне в иностранной печати...
Дзержинский меня внимательно выслушал и сказал:
- Хорошо".
Будучи за границей, певец не вступал в контакты с контрреволюционными организациями, не оказывал им помощи материальной, не делал враждебных правительству заявлений в печати.
Однажды в Париже Федор Иванович увидел у православной церкви оборванных и голодных русских детей, после чего пожертвовал пять тысяч рублей на их нужды. Однако это событие в прессе, как опасался того Шаляпин, стали толковать превратно. Шаляпина пригласили в посольство СССР во Франции, он все, как было, рассказал послу, написал также объяснение, посланное в Москву. Дважды перепроверил, как расходуется его пожертвование. Но дома верить не захотели...
Состоялись митинги и собрания, участники которых клеймили Шаляпина за содействие контрреволюции, измену родине, требовали лишить его звания народного артиста, гражданства...
В письме Иоле Игнатьевне Шаляпиной 1 июля 1927 года потрясенный всем этим певец писал:
"Последняя история, поднятая в Москве против меня моими "товарищами" артистами и журналистами, не просто удивила меня, а и поразила. Совершенно, конечно, не ожидал я, чтобы мое сердечное движение - помочь несчастным детишкам истолковано было как участие в контрреволюции... Оно, конечно, вовсе не угнетало то обстоятельство, что меня отставят от звания народного артиста. Ты знаешь больше, чем кто-нибудь, как я относился в моей жизни к различным почетным званиями. Ты знаешь, что я совершенно не честолюбив и не тщеславен, но английские корреспонденты, когда я был в середине июня в Англии (Лондон), показали мне депешу от их собственного корреспондента из Москвы, что я "денационализирован"! Исключен из граждан своей страны моей родины. Вот тут, признаться, я приуныл..."
Гражданство тогда Шаляпину сохранили, но звания народного артиста республики Совнарком РСФСР его лишил. Поспешные выводы сделали...
Спустя несколько лет артист опубликовал книгу "Маска и душа" с нелестной характеристикой Сталина. Зная сегодня, какие события последовали, зная судьбу Всеволода Мейерхольда и других артистов, писателей, художников, расстрелянных по личному указанию человека с мягкой походкой, кто упрекнет сегодня великого певца в том, что он не вернулся домой, кто упрекнет его в измене?!
Однако вот до последнего времени упрекали, повторяли выдумки и прямую ложь даже люди, считающие себя тонкими знатоками творчества артиста, составители книг о нем, где можно прочесть, что сознание Ф. И. Шаляпина находилось "под сильной властью мелкобуржуазных привычек. Малое и случайное сугубо личное заслоняло от него огромную важность глубоких революционных преобразований". Договариваются до того, что якобы Максим Горький не простил артисту "измены родине"!
Федору Шаляпину выпал жребий ненадолго пережить старого друга. В июле 1939 года он почтил его память статьей. И в ней подробно рассказал, как и когда Максим Горький обратился к нему сурово:
"- А теперь тебе, Федор, надо ехать в Россию!
Тут не место говорить о том, почему я тогда отказался следовать увещеваниям Горького, - продолжал артист. - Честно скажу, до сих пор не знаю, кто из нас был прав, но я твердо знаю, что это был голос любви и ко мне, и к России. В Горьком говорило глубокое сознание, что все мы принадлежим своей стране, своему народу и что мы должны быть с ними не только морально, как я иногда себя утешаю, но и физически, всеми шрамами, всеми затвердениями и горбами".
Вот оно, истинное отношение к родине, которую артист любил до последнего вздоха, несмотря на все боли и обиды, причиненные "аппаратом".
Родина больше его "изменником" не считает. Свидетельством тому - музей на вершине холма, поднявшегося над Пресней, на Садовом кольце, Новинском бульваре.
КОРОЛЬ РЕПОРТЕРОВ, ДЯДЯ ГИЛЯЙ
Лучшие художники России считали за честь, когда им позировал этот человек-богатырь с казачьими усами. Вы, конечно, видели его в образе запорожского казака на знаменитой картине Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", в той ее части, где сидит могучий, похожий на Тараса Бульбу, хохочущий казак в белой папахе.
В облике Тараса Бульбы он запечатлен на века скульптором Николаем Андреевым на пьедестале памятника Гоголю, стоящего во дворе дома на бульваре.
Александр Куприн писал, что скорее вообразит Москву без Царь-колокола и без Царь-пушки, чем без него.
О нем оставили воспоминания многие писатели, художники, артисты. Друзьями и знакомыми этого необыкновенного человека были Лев Толстой, Антон Чехов, Илья Репин, Федор Шаляпин и множество других знаменитостей и простых людей.
О себе он говорил просто и коротко:
- Я - москвич!
Человек, который на закате жизни писал: "Я - москвич. Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него всего себя. Я москвич!" - родился далеко от столицы, в вологодских северных краях.
Это Владимир Алексеевич Гиляровский. Псевдоним - дядя Гиляй. Так звали его тысячи современников, и среди них Антон Павлович Чехов, друг юности: они вместе начинали журналистскую работу в Москве.
Начинали с нуля, никому не известными. В Москву Гиляровский пришел после многих лет странствий по России. Юность свою он описал в книге "Мои скитания". И эта полная приключений повесть читается как увлекательный роман. Первоначальное воспитание получил дома, в гимназии овладел французским языком. "Физическое" образование дал писателю цирк: мог работать на трапеции, делать сальто-мортале, прыгать на скаку на спину лошади. И с лошади.
В 18 лет, вместо того чтобы сдавать экзамены на аттестат зрелости, написал записку отцу: "Ушел работать простым рабочим на Волгу, как устроюсь, напишу". И простился с домом. "Пошел в народ": тянул лямку с бурлаками на Волге, попал в ватагу разбойников, пережил много разных приключений.
В Москву впервые Гиляровский приехал, чтобы учиться в юнкерском училище. "Помню, шли по Покровке, по Ильинке, попали на Арбат. Все меня занимало, все удивляло. Я в первый раз шел по Москве", - вспоминал многие годы спустя Владимир Алексеевич.
Офицером не стал, бросился опять в странствия и испытал каторжную работу на белильном заводе, жизнь в казарме для рабочих. Эту жизнь мало кто выдерживал.
Гиляровский все выдержал. Природа наградила его богатырским телосложением, тренировки и труд только делали сильнее. Он свободно, без особых усилий мог связать в узел кочергу. А потом ее развязать. (Это отнюдь не легенда. Завязывал узлом кочергу не раз. На глазах отца, когда они мирно беседовали у огня, почти машинально связал железный стержень в узел. Ни слова не говоря, отец, взяв в руки узел, размотал его, превратив опять в кочергу, проворчав лишь: "Не порть отцовского имущества!")
Естественно, что удалого молодца тянуло на Волгу, на простор великой реки. Скитался без документов. Однажды схватили его жандармы. Но не удержали. Скрылся в задонских степях. Потом новое увлечение - театр. С театральных подмостков ушел добровольцем на войну. Сражался на Шипке, освобождал Болгарию. Вернулся героем...
За буйный нрав и силу бурлаки прозвали его - Бешеный. Известному актеру Василию Далматову он впервые представился таким: "Молодой, живой, веселый и счастливый, посвятивший себя сцене со всем пылом юности... Его выходки часто оканчивались протоколами, но всегда проходили безнаказанно..." Будучи литератором, Далматов в одном из рассказов вывел своего юного друга в образе Володи Румянцева, который, "обладая необыкновенной силой и ловкостью, пленял всех окружающих своими атлетическими упражнениями и благородством...".
Более конкретно, уже когда Гиляровский прославился, его описал известный журналист Валентин Амфитеатров. Здесь я позволю себе процитировать отрывок из его очерка в газете "Русское слово", где описывается стычка поэта, то есть Гиляровского, исполнявшего в театре должности актера и распорядителя, с полицейским. В тот момент, когда Гиляровский занимался делами, сидя в кабинете Далматова, произошло следующее:
"Как раз приходит к нему полицейский пристав с какими-то замечаниями относительно афиши и ведет себя очень резко. Поэт бранился с ним, бранился, да вдруг и осенился блестящей идеей. Будучи человеком чудовищной силы, ухватил он пристава, вскочил с ним на стол и повесил его за кушак на крюк люстры.
Пристав ошалел от ужаса, а поэт сел к своим бумагам. Пристав поэту:
- Как вы смеете? В Сибирь угодите! Снимите меня сейчас же, сию же минуту!
А поэт ему:
- Нет, врешь, повиси!
На эту сцену возвращается Далматов. Увидел и ошалел. А потом как схватится за голову...
- Опять твои шуточки, Володька! Да что же мне делать с тобой, погубитель? - Схватил вне себя револьвер со стола... бац, бац! У поэта пуля в ляжке... А он говорит:
- Стреляй еще!
Опомнился, бросил револьвер... Спустил пристава, а он от стрельбы и раны поэта так струсил, что уже не в претензии, что повисеть пришлось, только бы не влететь в уголовщину да замять скандал... Кровь из поэта ручьем льет. Ну, перевязали дырку кое-чем, сели втроем пить вишневку..."
Прежде чем это поведать, Амфитеатров перепроверил "факт" у Далматова.
Так и просится эта сцена на экран многосерийного фильма о Гиляровском. Когда говорят об образе идеального героя, я всегда вспоминаю его.
И вся эта бурная жизнь: бурлачество, служба в полку, завод, цирк и театр, участие в войне, как оказалось, была только разбегом, подготовкой к прыжку. 30 августа 1881 года московский журнал "Будильник" опубликовал стихотворение, подписанное "Вл. Г-ий. Стихи про Волгу. Степана Разина".
Славу Гиляровскому принесли не стихи, не театр, как ему поначалу казалось. "Я закончил театральную карьеру и сделался настоящим репортером", - писал Гиляровский. Поиски цели в жизни завершились. Началась поначалу незаметная работа, которая сделала его имя - довольно скоро легендарным. Под псевдонимом "Театральная крыса" появились первые хроникальные заметки.
Об этой работе мы знаем сравнительно мало.
В журналистике Гиляровский работал свыше полувека. Десятилетия писал каждый день и печатался каждый день. Не помнил даже всех своих псевдонимов, печатался во всех московских газетах и журналах. Его журналистское наследство до сих пор никем не систематизировано, по-настоящему не изучено.
Еще впереди издание книг дяди Гиляя, составленных из его репортерских произведений.
В задуманную им книгу "Трущобные люди" вошли самые первые очерки и рассказы.
Гиляровский-журналист проявлял жгучий интерес к судьбе обездоленных. Он лучше всех знал жизнь московского "дна", трущоб, Хитрова рынка, Трубной улицы. Об этом и писал. Потребовалось четыре года газетной работы, чтобы собрать книгу. Первые его публикации появились, когда автору было 28 лет, довольно поздно. Но начал он так, что сразу привлек внимание таких мастеров слова, как Глеб Успенский и Антон Чехов. Они-то и посоветовали репортеру собрать его газетные опусы в книгу.
Журналист отвез, как это обычно практиковалось тогда и позже, рукопись в типографию на Арбате, там отпечатали 1800 экземпляров книги "Трущобные люди", и вдруг ее запретил цензор. Цензура и решила судьбу первой книжки Гиляровского, приказав ее сжечь на костре. Что и было исполнено в Москве, в Сущевско-Марьинской полицейской части, старинное здание которой с пожарной каланчой до сих пор высится на Селезневской улице, став с недавних пор музеем. "Трущобные люди" увидели свет только в 1957 году.
Участь первой книги так подействовала на молодого Гиляровского, что он бросил писать очерки и думать о новой книге. С головой окунулся в газетную работу, стал непревзойденным мастером информации, хроники, удостоившись среди журналистов Москвы и Петербурга звания "короля репортеров". Никто не мог быстрее его прибыть к месту происшествия, никто не успевал быстрее его сдать материал в газету. В соревнование с Гиляровским вольно или невольно вступали многие газетчики, порой известнейшие журналисты. Но в лучшем случае оставались они вторыми. Первым всегда оказывался дядя Гиляй.
Этот феноменальный успех объяснялся не только способностью Гиляровского с места в карьер рваться к месту события, писать в любой обстановке, но и тем, что у него, как ни у кого, было множество добровольных помощников, сообщавших ему новости. Причем часто делали это бескорыстно. Многие просто любили его и хотели хоть чем-нибудь заслужить внимание этого человека.
Гиляровский, как магнит, притягивал к себе людей. Их тянула к нему его необыкновенная доброта, сочетавшаяся с громадной физической силой, характер богатыря, готового прийти на помощь по первому зову. Прибавьте к этому остроумие, способность в любую минуту пошутить, создать на ходу стихотворные экспромты. Они ходили по всей Москве. Вот, например, что сочинил Гиляровский после премьеры, вызвавшей много разговоров пьесы Льва Толстого "Власть тьмы":
"В России две напасти:
Внизу - власть тьмы. А наверху - тьма власти".
Сотни, даже тысячи людей могли сказать, что они знали Гиляровского.
Антон Павлович Чехов пронес дружбу с Гиляем до последних дней. Он оказался пророком, когда, понаблюдав за первыми шагами в газете недавнего актера и стихотворца, заключил: "Из этого человечины вырабатывается великолепный репортер". В те времена в это понятие вкладывалось иное содержание, чем теперь. Репортер был и тогда, как сейчас, охотником за новостями, но выискивались они не в институтах, цехах заводов и фабрик, одним словом, не там, где их искал я советский репортер, а на местах происшествий, в полицейских участках; катастрофы, преступления, убийства, самоубийства и так далее - вот источник вдохновения газетных репортеров в то время, когда начал карьеру будущий "король репортажа".
Он почувствовал, как никогда: это именно то, для чего рожден. Всей предшествующей, полной приключений жизнью был Гиляровский подготовлен к новому для себя труду:
- Я не знал страха, опасности, усталости. На мой взгляд, для такой работы у человека должно быть особое призвание.
Чехов не раз упоминает о Гиляровском. В письме из Мелихова в апреле 1882 года он рассказывал, как вел себя на даче его желанный гость: "Был у меня Гиляровский. Что он выделывал! Боже мой! Заездил всех моих кляч, лазил по деревьям, пугал собак и, показывая силу, ломал бревна".
Одно из самых интересных воспоминаний оставил о Гиляровском брат Антона Чехова - Михаил Павлович. Впервые он познакомился с журналистом еще будучи гимназистом и привязался к этому силачу и добряку, который вел себя самым удивительным образом, совсем не так, как ведут себя люди в его возрасте и положении.
Действительно, по описаниям Михаила Павловича в его книге "Вокруг Чехова", Владимир Гиляровский обладал феноменальной силой, сгибал копейку в трубочку, сворачивал винтом чайную ложку (а выделывали их тогда не из алюминия), показывал фокусы, сыпал шутками и анекдотами, ублажал всех нюхательным табаком. Гиляровский останавливал за заднее колесо проносившийся экипаж, вырывал с корнем дерево. А однажды в саду "Эрмитаж", где предлагали измерить силу на силомерной машине, так ударил по ней, что выворотил беднягу, как дерево, из земли.
Но не это, на мой взгляд, самое поразительное. Дядя Гиляй обладал необъяснимой способностью проходить всюду и везде тогда, когда его не приглашали и даже не пускали. Так, в театре на глазах у изумленного гимназиста предъявил билетеру... клочки бумаги. И билетер указал на свободные места. В поезде, сев в купе без билета, Гиляровский предъявил на себя и на своего спутника... два клочка от газеты. И обер-кондуктор как ни в чем не бывало прокомпостировал эти "проездные документы". Чем объяснить такие непонятные случаи? Думаю, одним - необычайно развитой силой внушения без гипноза, как теперь называют такое внушение - суггестией. Ею обладал, в частности, знаменитый артист Вольф Мессинг, также однажды предъявивший кондуктору вместо билета клочок бумаги...
За долгую жизнь неутомимый искатель успел много поездить по России и разным странам, много пройти по Москве. Его читала полвека в газетах вся Россия. Главный итог на закате жизни им подведен в книгах "Москва газетная", "Мои скитания", "Друзья и встречи", "Люди театра" и, наконец, знаменитая "Москва и москвичи". Все вместе они составляют энциклопедию московской жизни на рубеже двух веков. Летописцем Москвы и был Владимир Алексеевич Гиляровский.
Есть в Москве еще один памятник, связанный с именем выдающегося репортера, дом в Столешниковом переулке, где он прожил полвека. Московским извозчикам не надо было называть этот переулок. Седоку достаточно было сказать: "К дяде Гиляю" - и лошадей направляли по адресу, который знала вся Москва.
Не сразу, конечно, Владимир Гиляровский стал жителем респектабельного Столешникова переулка, обладателем просторной квартиры. Его ученик и помощник Николай Морозов в книжке "Сорок лет с Гиляровским" рассказывает, со слов Владимира Алексеевича, что жил тот в разных местах: в известной гостинице "Англия" на Тверской; в Брюсовском переулке (бывшая улица Неждановой), в доме Вельтищева, заимевшего свой дом на службе лакеем у князя В. Долгорукова - московского генерал-губернатора; в гостинице "Русь" на Мясницкой (бывшая Кирова). Жил на 2-й Мещанской улице (она теперь носит имя Гиляровского), снимал квартиры на Большой Никитской (бывшая Герцена), в соседнем с ней Хлыновском тупике, пока не переехал в Столешников переулок. Сюда, в "Столешники к Гиляю", приходили и приезжали многие выдающиеся русские писатели, журналисты, артисты и художники.
...Открыв высокую двустворчатую дверь, попадаю в Столешники, к Гиляровскому, в старую квартиру, бережно хранимую его семьей, третьим ее поколением. Старая московская квартира, в каких жили во времена Чехова и Горького московские интеллигенты, зарабатывавшие на жизнь трудом.
Прихожая. Хочу увидеть в ней чугунную подставку для тростей и зонтов, которая нравилась Чехову, но не вижу ее. Ищу взглядом висевшую на печи легендарную кочергу. Ее завязал узлом в минуту удали могучий Гиляй. Стояла в передней и другая кочерга, сначала завязанная, а потом развязанная - по настоянию домашних. И ее нет на прежнем месте, убрали за ненадобностью ведь это не музей, а современная квартира, с центральным отоплением, телевизором и холодильником...
Но этим новым предметам быта не удалось потеснить прошлое. Почти все осталось, как было много лет назад. Гостеприимная хозяйка усаживает меня за массивный стол, стоящий на пути всех, кто входит в квартиру. Стол обеденный. Но за ним создавал Владимир Алексеевич "Москву и москвичей" книгу воспоминаний, одну из самых интересных, написанных о великом городе.
Каждый, кто входил сюда, непременно должен был пройти мимо этого стола. За ним восседал могучий прекрасный старик, писавший в свои 80 лет тонко отточенным черным карандашом почти без правки на больших белых листах. Шум и голоса не особенно мешали тому, кто привык работать для газеты. "С гордостью почти полвека носил я звание репортера, - писал на склоне лет Гиляровский. - Я бесконечно любил это дело и отдавался ему весь, часто не без риска. И никогда ни одно мое сообщение не было отвергнуто. Все было строго проверенной чистой правдой".
Кроме правды, был необыкновенный талант, душевная щедрость, человеческая красота, сила и смелость. Вот почему "Москва и москвичи", как и другие книги Гиляровского, спустя полвека после их выхода в свет читаются с неослабевающим интересом.
Квартира эта стала центром притяжения для множества замечательных людей. Память о них хранит почти каждая вещь квартиры. Стоящий в углу самовар любил Александр Куприн. Старый-престарый деревянный диван, нашедший успокоение на кухне, также музейная вещь. Любил на нем отдыхать Лев Николаевич Толстой, когда нередко захаживал в Столешники.
Другой диван, стоящий спинкой к окнам, заставленным цветами, нравился Антону Павловичу Чехову. Он устраивался на коротком ложе, как-то подогнув ноги, прозвав его "вагончиком". Много лучших часов своей жизни провел на нем в дружеском кругу великий писатель.
В маленькой рамке на стене вижу рисунок, изображающий молодых веселых людей, смешивших всю Россию. За столом собралась редакция сатирического журнала "Будильник". Под изображением стоящего (второй слева) человека подпись - Антоша Чехонте. В раскрытой двери - стремительный Гиляровский. Художник не мог представить его сидящим или стоящим на месте. Он входил, вбегал. И конечно, с новостями.
"Какие новости, Гиляй?" - завидя друга, вместо приветствия говорил Чехов.
Чехов подарил ему деревянную матрешку. Открываешь ее - внутри стеклянная чернильница, очень удобная для кочевой жизни репортера. Другой подарок Чехова - маленькая черная табакерка, чуть побольше спичечной коробки. Откидываю крышку, а на ней выцарапано: "Гиляй".
Дядя Гиляй - так назвал его Чехов. Так звали его друзья. Так, бывало, и подписывался он под своими репортажами. А если взять сплетенную из вологодской бересты тавлинку, где хранил писатель свой знаменитый нюхательный табак, то можно, даже не открывая крышки, почувствовать запах ароматнейшего, крепчайшего табака, не выдохшегося даже спустя десятки лет после кончины хозяина. Он готовил его по своему рецепту из разных табаков и ароматных трав.
На книжных полках - переплетенные, с позолотой комплекты журналов столетней давности. Гиляровский начал литературную деятельность в 80-е годы XIX века, а закончил в 1935 году, будучи принятым в Союз советских писателей. Он успел уже на закате жизни описать московское метро как репортер.
Много в этой квартире хранится старых подшивок газет, тетрадей с записями - литературное наследие Гиляровского. Много книг, фотографий с автографами московских писателей. Но больше всего - живописи: этюды, портреты, рисунки. Нашлось место и для скульптуры. Картины занимают все стены, даже простенки. Два карандашных рисунка - Левитана.
Гиляровский одним из первых увидел его картину "Владимирка". Потрясенный картиной, он еще до того, как ее все увидели, написал стихотворение "Владимирка": "Меж чернеющих под паром плугом поднятых полей лентой тянется дорога изумруда зеленей..." Эти строки так взволновали художника, что тот решил "Владимирку" подарить Гиляровскому... Что и сделал - привез холст в Столешники, оставив в прихожей квартиры. Но Гиляй этого бесценного дара не принял, зная ему цену, и заставил Левитана отвезти картину Павлу Третьякову в его галерею.
Почти все произведения коллекции в Столешниках - подарки от чистого сердца. Вот почему Гиляровский так дорожил своим собранием. Оно - памятник дружбы писателя и художников. "Собственная картинная галерея - вещь довольно легкая, - писал Гиляровский. - Имей деньги, обойди выставки и купи. Собирать этюды - дело мудреное: тут надо многое, кроме денег".
Подарки ему делали лучшие русские художники. Поленов подарил этюд "Христос и грешница". Коровин - два этюда с видами Кавказа. Саврасов - два пейзажа: "Закат" и "Зима"... Многие художники специально для Гиляровского рисовали виды старой Москвы.
На стенах этой квартиры видишь изображения не только Москвы. Пейзажи Подмосковья и Крыма, бескрайние русские степи и море. Города и села. Лошади. Гиляровский был членом-учредителем Общества любителей верховой езды, издавал газету "Листок спорта и объявлений", выходившую в дни бегов и скачек на Московском ипподроме.
Все это художественное богатство до сих пор находится на своем месте, бережно хранится наследниками Гиляровского, публично выражавшими не раз свою готовность передать обстановку, картины, библиотеку Гиляровского Москве, для которой он столько сделал.
Он обошел город вдоль и поперек, поднимался на самые высокие башни и крыши, спускался в подземелья, первый исследовал подземную речку Неглинку и добился того, что после его статей городские власти реконструировали подземное русло Неглинки.
В дни первой русской революции, будучи уже немолодым, совершил героический рейс с дружинниками Пресни, отступившими из Москвы на поезде, который вывел из кольца карателей легендарный машинист Ухтомский. Его, как известно, каратели расстреляли без суда и следствия. На одной из станций тогда Гиляровского тоже чуть было не расстреляли. Об этом эпизоде он писал в своих стихах: "...В 905 на вокзале какой-то бравый генерал//Меня чуть-чуть не расстрелял..."
Когда у Владимира Алексеевича не стало сил ходить и ездить, он, сидя в Столешниках, начал писать книги.
Так появились его документальные классические произведения о Москве. В них отражена та жизнь, свидетелем которой был дядя Гиляй. Он видел многое на своем веку - и конку и метро, мастерски описал улицы и площади старой Москвы, дворцы и рынки, трактиры и рестораны, бани и клубы. Гиляровский писал в дневнике, что прошел вдоль и поперек 500 улиц и тысячи переулков; с балкона колокольни Ивана Великого, из недоступного для публики люка под самым крестом башни главы Храма Спасителя, где для развлечения публики стоял телескоп, изучал Москву. Видел ее с аэростата в 1882 году, а потом с аэроплана. И под землю забирался для рискованных исследований, побывал в разбойничьем притоне "Зеленая барыня" за Крестовской заставой, и в глубоком подземелье заброшенного Екатерининского водопровода, и в клоаках Неглинки, и в артезианских штольнях под Яузским бульваром...
Не упомянул в этом признании Владимир Алексеевич одно место, где он бывал особенно часто, откуда к нему поступали многие новости и известия, где его знали и уважали не только за силу. Хитров рынок - "дно" старой Москвы, описанное многими журналистами и писателями, в том числе Львом Толстым. Сюда приходили понаблюдать за типами актеры Художественного театра в ту пору, когда они готовили к постановке пьесу Максима Горького "На дне". Сюда, на Хитров рынок, они отважились прийти только в сопровождении Гиляровского, друга многих актеров.
Меня не раз спрашивали: где находился Хитров рынок, осталось ли что-нибудь из его окружения? Да, сохранилось, как ни странно, довольно много зданий, видавших некогда пеструю толпу. Когда Подколокольным переулком попадаешь на маленькую по нынешним масштабам площадь, застроенную по периметру старинными домами, то оказываешься как раз там, где и был знаменитый Хитров рынок, куда так стремился дядя Гиляй.
Его как магнитом тянуло сюда, где бурлила и клокотала жизнь, вскипали и охлаждались дикие страсти, нередко завершавшиеся трагическим финалом. Если уж сюда наведывалась полиция, то строем, для облавы.
Гиляровский появлялся здесь обычно в одиночку, захватив на всякий случай кастет, но прибегал к нему в исключительных случаях. Все здесь знали, что никому вреда от него не будет.
Хитров рынок от всех других отличался тем, что на нем не только торговали, но и нанимались к хозяевам безработные, здесь же проживали тысячи московских нищих, бездомных, опустившихся людей.
После посещений Хитрова рынка на страницах московских газет появлялись очерки Гиляровского - "Каторга", "Рвань", "Дом Ромейко", "Час на дне", "Беспризорные". Последний раз писатель побывал здесь в 1923 гору, когда площадь оцепила московская милиция, покончившая окончательно, раз и навсегда, с этим наследием прошлого.
Сорок лет Гиляровский был летописцем этой площади. Вначале она казалась ему туманным местом, таким, как Лондон, причем самым туманным в Москве. Дядя Гиляй многое сделал, чтобы этот туман рассеялся, приложил много сил, чтобы вскрыть эту незаживающую язву общества, излечить которую были бессильны "отцы города". Окончательный приговор Хитрову рынку подписал Московский Совет. Тогда "королю репортажа" уже исполнилось 70 лет. И все же он поспешил сюда, как в молодости, в последний раз, чтобы увидеть это в какой-то степени историческое событие в жизни города.
"Двух- и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось по десять тысяч человек. Эти дома приносили огромный барыш домовладельцам" - так описывает Гиляровский Хитровку в книге "Москва и москвичи". Давно уже центр площади занимает большое школьное здание, построенное в довоенные годы, где теперь электромеханический техникум.
...Есть здесь и четырехэтажный дом, формой напоминающий утюг, построенный в 20-е годы на месте срытого до основания "Утюга". Так звали разбойное логово, располагавшееся как раз здесь, между Астаховым и Петропавловским переулками. Владел "Утюгом" некто Кулаков, сказочно разбогатевший делец, наживший миллионы на сдаче ночлежек. В подвалы его домов многие годы не рисковали спускаться даже наряды полиции. "Утюг" после революции разобрали на дрова, в его развалинах, подвалах жил оголтелый люд до тех пор, пока это гнездо не разворошила окончательно московская милиция. Как свидетельствует Гиляровский: "Главную трущобу "Кулаковку" с ее подземными притонами в "Сухом овраге" по Свиньинскому (Астахову) переулку и огромным "Утюгом" срыли до основания и заново застроили". Остальные здания бывшего Хитрова рынка остались.
"Все те же дома, - описывал их Гиляровский, - но чистые. ...Вот рядом огромные дома Румянцева, в которых два трактира - "Пересыльный" и "Сибирь", а далее в доме Степанова, трактир "Каторга"... И в "Каторге" нет теперь двери, из которой валил, когда она открылась, пар и слышались дикие песни, звон посуды и вопли поножовщины. Рядом с ним дом Бунина - тоже сверкает окнами..."
Сверкающие окна, конечно, больше всего поразили старого репортера, видевшего их совсем другими. И поныне сохранились эти дома: старинной кладки, с метровыми стенами, вечные. Сами по себе они добротны и не по своей вине имели дурную славу.
Где, в каком из них была "Каторга", куда Гиляровский приводил Глеба Успенского, где надворный флигель, куда ходили актеры Художественного театра во главе со Станиславским и Немировичем-Данченко перед тем, как поставить знаменитую горьковскую пьесу "На дне"? В ее первом успехе, конечно, есть заслуга и "короля репортеров", не без риска приведшего сюда друзей.
Встретил я у этих домов старожилов, обитающих здесь по сорок и даже пятьдесят лет, но никто Хитрова рынка не застал, никто показать мне, что где было, не смог. Забыли про него, как обычно быстро забывают плохое.
Обратился в ГИНТА - Городской исторический научно-технический архив. Смотрю планы Москвы 1851 и 1901 года. С "Плана Мясницкой части города Москвы с указанием нумеров владений" переношу в блокнот очертания Хитровской площади и номера окружающих ее владений - 383, 385, 344.
Что они означают?
Дома, раскрыв фолиант уже не раз упоминавшейся мною адресной и справочной книги "Вся Москва" за 1917 год, смотрю описание Подколокольного переулка, где значатся и номера домов, и выписанные мною с плана номера владений, а также фамилии бывших владельцев. Так определяю, что под № 383 находился бывший дом Румянцева, под № 385 - владение, где располагался "Утюг", под № 344 - не что иное, как злополучная "Каторга".
Расшифровав код плана, прихожу вновь на знакомую площадь, становлюсь у дома № 1а, на углу, примерно на то же место, откуда смотрел в последний раз на Хитров рынок В. А. Гиляровский.
Стоя на площади, вижу в глубине двора дома № 16 по Подколокольному переулку темно-зеленый фасад старинного особняка, принадлежавшего некогда московскому дворянину Хитрово, бывшему хозяину этой земли. Рынок получил свое название от него, а не потому, что на нем, как водится, хитрили. В этом особняке теперь медицинское училище, а до революции находился Комитет попечительства о бедных, взявший на себя непосильную заботу о ночлежках. Конечно, с Хитровым рынком боролись. Полиция вылавливала разбойников, закрыли трактиры, открыли чайные, хозяева белили фасады и чистили лежанки. Но покончить с нищетой, ночлежками старая Москва не могла.
На углу Петропавловского переулка высится действительно большой дом. Угловая дверь на месте. А вела она прежде в трактир. Были в этом доме два трактира, один под негласным названием "Пересыльный", другой - "Сибирь". В первом собирались бездомные, нищие и барышники, а во втором, как пишет дядя Гиляй, публика "степенью выше", воры и скупщики краденого.
Ну а самый знатный очаг разудалых и матерых каторжников находился в другом доме, № 9 по Подколокольному переулку. "Бог даст, увидимся в "Каторге" - так прощались арестанты в пересыльной тюрьме. Сюда они стремились, очутившись на кратковременной свободе. Трактир находился "в низке", подвале. В него-то и привел "король репортеров" своего друга Глеба Успенского. Тот просил его показать московское "дно", людей, перешедших "рубикон жизни". Собирался Гиляй сводить Глеба Ивановича и во все другие трактиры и ночлежки, но хватило Успенского на одну только "Каторгу"...
Актеров Художественного театра Гиляровский провел как раз через ворота этого дома во двор, во флигель. В нем размещалась ночлежка, где жили переписчики пьес.
Художник театра Симов делал здесь зарисовки, которые помогли исполнить декорации. Станиславский и Немирович-Данченко, актеры увлеченно беседовали с прототипами своих героев. А Гиляровский зорко следил за... безопасностью артистов. И не зря. Только благодаря своей феноменальной силе и находчивости, добрым отношениям с ночлежниками ему удалось спасти друзей от неожиданно нагрянувших в ночлежку разбойников.
О подробностях этого легендарного посещения Станиславский не преминул рассказать в своей книге "Моя жизнь в искусстве". А художник Симов много лет спустя прислал Гиляю рисунок ночлежного дома с дарственной надписью, где благодарил за свое спасение.
Какой эта была ночлежка, можно увидеть во МХАТе, на представлениях горьковской пьесы "На дне". Ну а кто хочет узнать о Хитровом рынке, о его конце, пусть почитает книгу "Москва и москвичи", а потом приходит сюда, на площадь, носившую имя автора "На дне". Тут вот можно увидеть дома, увековеченные и дядей Гиляем.
Была в старой Москве у Гиляровского, кроме Хитрова рынка, еще одна привязанность. Речка Неглинка. При жизни его она уже текла под землей, упрятанная в трубу, но в половодье или после бурных ливней, казалось бы, усмиренная, вдруг показывала свой нрав, напоминая людям, что и подземная река - стихия. И тогда бурные воды выплескивались из-под мостовой и затопляли Неглинную улицу, получившую название по имени речки. Затапливало и Столешников переулок.
По-видимому, первым из московских газетчиков опустился репортер на нечистое дно Неглинки, куда не раз сбрасывали свои жертвы разбойники, промышлявшие поблизости от Неглинки в районе воровских притонов Трубной площади. Благодаря публикациям Гиляровского Дума приняла запоздалые меры. Подземное русло реконструировали. Особенно хорош подземный путь в районе гостиницы "Метрополь", где по проекту инженера Щекотова выстроили тоннель, не уступающий по размерам тоннелю метрополитена.
В начале 60-х годов по следам дяди Гиляя я прошел руслом Неглинки, а там, где нельзя было идти из-за сильного наклона рельефа и напора вод, с сопровождающими проплыл на самодельном плоту, сколоченном из железнодорожных шпал. И своими глазами увидел щекотовскую трубу и то, что сделали другие инженеры во времена Гиляровского. Только позднее усмирили наконец эту реку, проложив еще одно дополнительное бетонное русло Неглинки, которое ослабляет напор воды при паводке и дождях.
Так вот, в Неглинку, вскоре после того как в Историческом музее торжественно было отмечено 70-летие Владимира Алексеевича, великий репортер вновь спустился с намерением написать нечто новое. Этот поход дорого ему обошелся. Под землей, где сыро и холодно, Гиляровский простудился и заболел, да так, что осложнения от злосчастной простуды мучили его уже до конца дней. Однако и в 80 лет, состязаясь в силе с молодыми журналистами, побеждал - никто не мог согнуть его рыцарскую руку...
Среди всех прочих есть у Гиляровского книга "Москва газетная". Это не только мемуары, но и замечательное исследование о русской журналистике той поры, когда в ней бурно проявлял себя дядя Гиляй. Каждый, кто хочет стать журналистом, должен ее не раз перечитать, чтобы знать, как надо работать.
Жизнь Гиляровского была многообразна: журналист, писатель, критик, издатель, редактор, поэт, артист, выдающийся спортсмен-гимнаст, солдат, конник, артист цирка и театра. Его девизом были слова: "Пиши правду, как думаешь". А это, очевидно, самое непростое дело.
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ НИКИТА ХРУЩЕВ
Чем ближе конец столетия, тем чаще задаешь себе вопрос: кто из живших в XX веке сыграл в истории градостроительства Москвы значительную роль, оказал наибольшее воздействие на ее современный облик?
По-моему, Хрущев.
Он появился на Старой площади в начале 1932 года вторым секретарем Московской городской партийной организации. К тому времени рухнули золотые купола Христа Спасителя, соборы монастырей Кремля. Решения сломать их принимались без Никиты Сергеевича. Руку к разрушению старой Москвы он приложил в последующие шесть лет работы в столице.
"...перекраивая Москву, мы не должны бояться снести дерево, церквушку или какой-нибудь храм", - заявлял Хрущев на февральско-мартовском пленуме ЦК 1937 года, будучи уже первым лицом в Москве, руководителем МК и МГК.
Не боялся сносить не только бульвары, соборы, дома, но и решать судьбы людей. Однако такая инициатива в основном исходила не от него...
В начале 1938 года уехал на двенадцать лет на Украину, наезжая в столицу время от времени.
С декабря 1949 года по октябрь 1964 года на протяжении пятнадцати лет Никита Сергеевич снова жил и руководил в Москве. Вот тогда развернулся во всю ширь, стал фактически главным градостроителем: никто не мешал ему претворять в жизнь идеи, касающиеся столицы, принимать решения, предопределившие образ новой Москвы, сложившийся за минувшие тридцать лет вокруг старой Москвы, в границах 1960 года, где проживает теперь подавляющее большинство москвичей.
Не думал - не гадал, что когда-нибудь представится возможность писать о таком человеке... Память цепко удерживает первую встречу в Кремле, когда столкнулся чуть ли не в лоб с ним - главой державы. В белой рубашке с вышитым воротничком спешил он по Ивановской площади, переходя из здания правительства в Большой Кремлевский дворец. Шагал быстро, за ним едва поспевала охрана, не препятствовавшая толпе окружать Никиту Сергеевича, врезавшегося в волны прохожих, среди которых случайно оказался и я, зачастивший в Кремль после того, как запертые ворота по его инициативе были распахнуты. Картина того, как шел по Кремлю Хрущев, достойна живописца. Видно было, что его тянуло в гущу людей, в толпу, где он словно подзаряжался энергией, чувствовал себя как рыба в воде. Оказавшись свидетелем этой сцены, я хотел услышать, о чем говорит вождь с народом, и услышал диалог:
- Откуда, бабка? - спросил первый секретарь в толпе экскурсантов старушку в платке, явно деревенскую жительницу.
- Из Курской области...
- Земляки, значит, - обрадовался Хрущев, начав расспрашивать о делах житейских, самых будничных: как живется? как заработок? и тому подобном, что по молодости лет мне показалось несущественным.
Второй раз увидел Хрущева под землей, в зале самой глубокой в то время станции московского метро - "ВДНХ" в день ее открытия. В честь события состоялся митинг метростроевцев, был он, как можно установить точно по отчету "Московской правды", который мне поручили написать, 30 апреля 1958 года.
Жизнерадостный Хрущев, сопровождаемый когортой мало кому тогда известных соратников, в списке которых он значился последним (по алфавитному принципу его фамилия замыкала длинный ряд), рванулся с эскалатора в залитый светом зал, осмотрел все, не найдя, к его удовольствию, особых архитектурных излишеств: побеленные гладкие стены не отягощала лепнина и мрамор. Пройдя в глубь зала, поднялся на трибуну. И услышал я Хрущева, даже сделал наивную попытку записать то, что он говорил: без бумажки, без запинки, без грамматики....
Мне показалось, что точно такую речь мог бы произнести любой проходчик, любой из тех, кто, затаив дыхание, слушал это напористое выступление, которое, несмотря на специфический характер аудитории и зала, затрагивало интересы не только метростроевцев, но и города, страны, мира. Оратор не выбирал слов и выражений, кого-то распекал, кому-то грозил "дать", сыпал пословицами и поговорками...
Затем высокий гость сел в поезд и проехал по трассе, после чего метростроевцы срочно начали сшибать название станции "Щербаковская", которое появилось на этой линии несколько лет спустя, когда Никита Сергеевич уже нигде не выступал...
...А когда он отправился на пенсию, на Чистых прудах, в "Московской правде" появилась невысокого роста женщина лет сорока пяти, в пальто, которое она не сняла на вешалке, поскольку стеснялась своей одежды. Да и пальто не покупалось в магазине, не шилось в ателье, а изготавливалось не особенно умелыми руками посетительницы, из чего Бог послал.
По профессии была она актрисой, по брачному свидетельству, предъявленному мне, Розой Хрущевой, женой Леонида Хрущева, сына Никиты Сергеевича, летчика, погибшего на фронте, стало быть, невесткой смещенного главы страны.
Брачное свидетельство довоенного образца было разорвано.
Разорвано рукой Никиты Сергеевича. Его же рукой сломана была судьба этой женщины.
Юной красивой девушкой, успев сняться в популярном довоенном фильме, она познакомилась с Леонидом Хрущевым и, недолго думая, вышла за него замуж, то есть пошла в загс, где тотчас оформили их союз.
Вернувшись со службы, отец застал обнимавшихся молодых на диване, после чего состоялось знакомство.
- Роза, - представилась невестка.
- Как твоя фамилия, Роза? - спросил, разглядывая ее, хозяин дома.
- Трейвас...
На лицо Хрущева пала тень.
- Кем тебе приходится Борис Трейвас, которого мы с Ежовым расстреляли?
- Это мой дядя...
На этом семейное счастье кончилось. Брачное свидетельство было разорвано. Молодые ушли жить к другу Леонида. Однажды к их дому подъехала машина, и люди в форме НКВД увезли Леонида Хрущева к отцу в Киев, куда получил новое назначение Никита Сергеевич. Роза Хрущева продолжала жить в комнате друга, сблизилась с ним, родила от него сына. В дни войны осталась одна с ребенком на руках: на фронте погибли и муж и отец сына. Оба летчики.
О прошлом Розы напоминали только документы: кроме разорванного свидетельства о браке, диплом об окончании театрального института - ГИТИСа, профсоюзный билет...
А паспорт?
Паспорта на имя Хрущевой к моменту нашей встречи на руках не было. Став актрисой, Роза выступала на эстраде, ее номер пользовался таким успехом, что она получала приглашения на правительственные концерты. На одном из них, когда в Кремле принимали китайского лидера Чжоу Энь Лая, она снова встретилась с Никитой Сергеевичем. Он ее узнал, обрадовался.
- Ты Роза Трейвас?
Она словно давным-давно ждала этого вопроса и вложила в ответ все свое чувство, всю силу поруганной любви:
- Да, я Роза Хрущева, племянница Бориса Трейваса, которого вы с Ежовым расстреляли!
Закрыв лицо руками, Хрущев шагнул в зал, где гремело казенное веселье. А Роза поплатилась за дерзость. В ее квартире произвели обыск, отняли паспорт и вернули ей другой, где она больше не значилась женой Леонида Хрущева... Только разорванное свидетельство, профбилет и диплом ГИТИСа подтверждали, что предо мной несчастная родственница Никиты Хрущева. После инцидента в Кремле ее уволили с работы, она осталась без средств к существованию, вот и пришлось самой себе шить пальто.
Только в октябре 1964 года ей удалось попасть на прием к министру культуры Екатерине Фурцевой, которая помогла как-то устроить дважды сломанную жизнь. Вот тогда появилась Роза в редакции, направившись сюда потому, что читала мой очерк о ее погибшем дяде, Борисе Трейвасе. Я дал ей телефон его жены, которой суждено было на полвека с лишним пережить мужа, секретаря Калужского райкома партии Московской области, а до того работника Бауманского райкома, где он работал с Никитой Сергеевичем...
Бауманский райком, некогда один из шести в Москве, находился на улице Старая Басманная, 20. Это первый служебный адрес будущего главы партии и правительства в Москве. Теперь на месте снесенного старинного здания построен (в предвоенные годы) большой многоэтажный жилой дом, отступивший от краевой линии улицы.
Давайте пройдем по жизненному маршруту этого человека в Москве, в чем поможет нам книга, выпущенная в 1971 году издательством "Прогресс" под названием "Хрущев вспоминает". На прилавки магазинов не поступала, но, как сказано в предисловии, "направлялась читателям для информации".
Итак, почитаем.
Подобно многим Никита Хрущев устремился в Москву, чтобы подучить высшее образование, и сделал этот шаг на 35-м году жизни, понимая, что позже ему уже учиться никогда не удастся, в институт не примут по возрасту.
Ехал в столицу без жены, без детей, как все студенты, за душой начальное образование, полученное в сельской школе, и после долгого перерыва в учебе - рабфак Донтехникума, завершить который не смог в связи с переходом на партийную работу.
В общей сложности удалось проучиться, по-видимому, года три-четыре.
Ехал в Москву, не имея в столице ни родных, ни друзей, если не считать одного только человека. Но как его не считать, если за ним потянулась линия жизни Никиты Сергеевича, как нитка за иголкой. Кто этот человек?
"Я Кагановичу очень нравился. Мы познакомились в первые дни Февральской революции на митинге в Юзовке, на котором я присутствовал в качестве представителя рабочих Рутченковского рудника. Затем недели через две мы снова встретились. В то время он носил фамилию Жирович, а не Каганович. Я относился к нему с полным доверием и уважением" - так рассказывал полвека спустя об этом событии, предопределившем многое в его судьбе, автор воспоминаний.
Каганович был всего на полгода старше Хрущева. Если Никита, в детстве проучившись года два, до 15 лет пас скот, а потом пошел в подмастерья на завод, то Лазарь до 14 лет тоже, по-видимому, учился в начальной школе, а затем научился хорошо шить сапоги. Память несколько подвела мемуариста: энциклопедии утверждают, что Каганович неоднократно менял фамилии и к моменту встречи в Юзовке имел документы на имя Бориса Кошеровича. Однако ни одна энциклопедия ни словом не упоминает об образовании Кагановича-Стомахина-Гольденберга-Кошеровича, а также об образовании Хрущева. Встреча их произошла на стыке зимы и весны 1917 года, за тринадцать лет до того, как Лазаря Кагановича изберут первым секретарем МК партии. Этот высокий пост он передаст другу спустя несколько лет.
...Спешил Никита Сергеевич в Москву учиться в "год великого перелома". К тому времени в столице уже бывал не раз, в частности в 1925 году, как делегат XIV съезда партии с совещательным голосом, будучи секретарем райкома партии Юзовки, переименованной в Сталино (нынешний Донецк).
"Я был страшно рад возможности увидеть Москву и присутствовать на Всесоюзном съезде. Мы жили в Доме Советов, в Каретном ряду, д. З. Помещение нам отвели очень простое, и оно было битком набито... Мы спали на нарах, укладываясь рядом друг с другом, как поленья..."
Какой дом имеется в виду? Речь идет не о строении № 3 по Каретному ряду, а о Доме Советов № 3, который находится вблизи Каретного ряда. В конце двадцатых годов в столице насчитывалось около тридцати значительных зданий, так называемых Домов Советов, принадлежавших ЦИК СССР и ВЦИК, которые использовались как гостиницы, общежития и дома для руководящих работников. Например, гостиница "Метрополь" считалась вторым Домом Советов. Третьим Домом служил особняк, где до революции помещалась духовная семинария. Ныне здесь музей декоративно-прикладного и народного искусства.
Попав в столицу, Хрущев жаждал увидеть и услышать как можно больше. В то время как другие делегаты тратили время на сон и еду, получив возможность досыта поспать и поесть за казенный счет, Никита Сергеевич спешил в город, в Кремль...
Рядом с третьим Домом Советов находилась остановка трамвайных маршрутов № 5, 30 и Б.
"В первое же утро по приезду в Москву я попытался добраться на трамвае до Кремля, но не знал, на какой номер сесть, и кончил тем, что заблудился. С тех пор я стал рано просыпаться и ходил в Кремль пешком. Это занимало больше времени, но зато я хорошо узнал дорогу. Я даже отказался от завтрака, чтобы наверняка приходить вовремя и занять хорошее место. Я всегда старался найти место напротив трибуны..."
Дорога была недолгой: по Каретному ряду, Петровке какой-то километр с небольшим, мимо Высокопетровского монастыря, строя домов с магазинами, Большого театра. А от него рукой подать до Кремля.
Съезд проходил в Большом Кремлевском дворце. Сидя перед трибуной, впервые Хрущев увидел близко от себя вождей и среди них того, кого знал как члена Юзовского комитета партии по фамилии Жирович (Кошерович), а вся партия - как секретаря ЦК Кагановича...
С ним Никита Хрущев стал вскоре часто встречаться на Украине, где избрали Кагановича первым секретарем ЦК партии республики.
"Каганович опирался на Донбасс и в особенности на юзовскую организацию", - вспоминал Никита Сергеевич. На юзовскую - значит на Хрущева. Эта поддержка была замечена.
Вместе они побывали в Москве в составе украинской партийной делегации на XV съезде партии. Снова третий Дом Советов стал общежитием Никиты Хрущева. Эта поездка в столицу укрепила давние отношения.
"В 1928 году Каганович вызвал меня в Харьков (тогдашняя столица Украины) и предложил мне пост заместителя заведующего орготделом ЦК Компартии Украины".
Недолго длилась эта удручавшая Хрущева, привыкшего к живому делу, аппаратная работа в отделе. Стал просить зам. зав. друга перевести его на другую службу.
"И вот однажды он мне звонит и говорит: "У меня есть для тебя работа в Киеве... Если ты согласен на перевод, можешь покупать билет и сегодня же ехать".
И в Киеве Хрущеву не сиделось, он начал думать о жизни в Москве, куда летом 1928 года перевели покровителя, избранного вновь секретарем ЦК.
По его следу потянулся в столицу Никита Сергеевич. "Считалось, что я очень близок к Кагановичу, и это верно, я был к нему близок", - признавался Хрущев. Он поражался его чудовищной работоспособностью и энергией, стремился подражать "железному Лазарю" в делах.
Будучи в 1929 году всесильным секретарем ЦК, кандидатом в члены Политбюро, ближайшим помощником Сталина по партии, Каганович, ведая кадрами, сразу предложить другу пост в Московской партийной организации не мог, да и понимал, что нужно ему подучиться, показать себя.
Поэтому ехал Хрущев в Москву на учебу в Промышленную академию имени И. В. Сталина, которая служила кузницей руководителей индустрии.
Уровень естественнонаучных знаний новоявленного слушателя академии был таков, что ему вежливо предложили перейти на курсы марксизма-ленинизма при ЦК. Однако Хрущев хотел инженерных знаний.
Снова в решительную минуту пришел на помощь друг. Хрущев не только продолжил учебу. На очередных перевыборах его избрали секретарем партийной организации академии.
Так стало на одного москвича больше.
"Учебный корпус академии помещался на Ново-Басманной, недалеко от общежития, находившегося в доме 40 на Покровке, где я жил. У меня была отдельная комната. Условия были идеальные".
Нельзя не поразиться памяти человека, который спустя много лет после описываемых событий помнил не только наименование улиц, где жил, но номера домов!
...Новая Басманная сохранила прежнее название. Дом академии дошел до нас в надстроенном виде. Общежитие на Покровке, где жил свыше года Никита Сергеевич, помещалось на том же месте, где находится гостиница "Урал". Укрепив свое положение - сумел получить в общежитии вторую комнату, куда переехала его семья.
Как ни стремился Хрущев учиться, жизнь ему в этом отказала. В академии ему пришлось не столько штудировать учебники, сколько заниматься партийной работой, точнее, яростной партийной борьбой с "правой оппозицией". В ней он всецело поддерживал Сталина и Кагановича...
Судьба распорядилась так, что в партийной организации, которую возглавил Хрущев, одним из партгруппоргов была Надежда Сергеевна Аллилуева. Она по утрам добиралась на Ново-Басманную не на трамвае, а на казенной машине мужа. Ехала не из общежития, из Кремля, поскольку была женой Генерального секретаря ЦК ВКП(б).
"Я вынул счастливый лотерейный билет, ибо получилось так, что Сталин мог через Надежду Сергеевну следить за моей деятельностью. Именно благодаря ей Сталин мне доверял", - говорил Никита Сергеевич, сильно преувеличивая роль несчастной Надежды Аллилуевой в своей судьбе, потому что она, как известно, покончила в октябре 1932 года жизнь самоубийством и многие близкие ей люди, ненавидимые мужем только за то, что они ее друзья, были казнены или отправлены в лагеря.
Промышленная академия располагалась в старинном особняке, в гуще исторической Москвы, разросшейся за Садовым кольцом благодаря близости Лефортова, служившего резиденцией императорам в XVIII веке.
Рядом с особняком в начале XIX века находился флигель, где жил опальный философ Чаадаев, которому Александр Пушкин посвятил строки,
"Ни музы, ни труды, ни радости досуга
Ничто не заменит единственного друга..."
Таким вот "незаменимым" другом был для слушателя академии "железный Лазарь", успевший сделать головокружительную карьеру: стать в 37 лет не только секретарем ЦК партии, членом Политбюро, но также руководителем МК и МГК, первым человеком в городе...
Путевку в большую жизнь выдал Хрущеву не кто иной, как Каганович. Счастливый билет вынут из его рук. Именно он выдвигает недоучившегося слушателя академии первым секретарем Бауманского райкома партии. Так Хрущев стал на рельсы, по которым въехал в Кремль на полном ходу.
Он попрощался с общежитием на Покровке. От первого брака у Хрущева в семье рос сын Леонид и дочь, во втором браке Нина Петровна Кухарчук родила дочь и сына.
Семья Хрущева стала новоселом всем известного "Дома на набережной", по адресу улица Серафимовича, 2, выстроенного в 1931 году на Берсеневской набережной Москвы-реки. На фасадах этого дома-гиганта установлено множество мемориальных досок в память о его прежних обитателях, недолго успевших пожить в комфортабельных многокомнатных квартирах комплекса с магазинами, кинотеатром, клубом и прочими благами цивилизации, максимально возможными в те годы.
Давно пора установить мемориальную доску и в честь бывшего жильца Никиты Сергеевича Хрущева, он это право заслужил...
От Москвы-реки через Большой Каменный мост машина доставляла секретаря в район Басманных улиц, следовала через центр, где сносились кварталы, десятки зданий, церкви и монастыри, строилась гостиница "Москва", здание правительства в Охотном ряду, замышлялись крутые перемены. Старая Москва должна была исчезнуть под напором нововведений, жаждавших утвердиться новых "отцов города", проявлявших все больший интерес к архитектуре, проблемам градостроительства.
Работая в Бауманском райкоме, Хрущев познакомился с молодым, подававшим большие надежды Борисом Трейвасом.
Вот что вспоминал о бывшем сослуживце Никита Сергеевич:
"Трейвас очень хороший товарищ... Фамилия Трейваса в 20-е годы была широко известна, как комсомольского деятеля. Это был дружок Саши Безыменского. Они вместе были активными деятелями Московской организации. Это был очень дельный хороший человек... (Здесь и ниже цитируется по книге Р. Медведева "Н. С. Хрущев. Политическая биография").
Сейчас, когда прошло столько лет, я должен сказать, что Трейвас очень хорошо работал, преданно, активно. Это был умный человек, и я был им очень доволен. Трейвас трагично кончил свою жизнь. Он был избран секретарем Калужского горкома партии и хорошо работал там. Гремел, если можно так сказать, Калужский горком..."
Никита Сергеевич не уточняет, что выдвинул заведующего орготделом Бауманского райкома на должность первого секретаря Калужского райкома Московской области - сам...
Об этом узнал я от жены Бориса Трейваса - Марии Сафроновны Селивановой, прошедшей по сталинским тюрьмам и лагерям.
Она показала мне фотографию с изображением братьев Трейвасов. Все, как на подбор, молодые и красивые, они разделили общую судьбу, испили горькую чашу до дна.
Поселившись в Калуге, Борис познакомился с Циолковским. Как секретарь райкома помогал ему всем, чем только мог: врачами, лекарствами, машиной. Организовал известную телеграмму в Кремль на имя Сталина в последние дни "отца космонавтики", на которую в Калугу пришел ответ, опубликованный во всех газетах...
...Когда грянула гроза 1937 года, все хорошее о Борисе Трейвасе Никита Хрущев постарается забыть. Однако в середине 1932 года перед новым ответственным назначением первый секретарь Бауманского райкома не знал, где им уготована последняя встреча, а также о том, что ему предстоит породниться с этой фамилией...
Всего полгода курсировала машина первого секретаря Бауманского райкома Никиты Сергеевича Хрущева от "Ударника" в район Басманных улиц. С середины 1931 года его маршрут круто изменился с Востока на Запад - в направлении Большой Грузинской, 17, где располагался тогда район Красной Пресни.
Со времен первой русской революции 1905 года, декабрьского вооруженного восстания в Москве, баррикадных боев на Пресне - партийная организация этого района считалась самой боевой, опорной, примерной. Именно в недрах этой организации ее первый секретарь, член партии с 1914 года М. Н. Рютин создал подпольную группу, поставившую главную цель - сместить Сталина с поста генерального секретаря, круто изменить политический курс.
Исключенного из партии М. Н. Рютина отправили в ссылку... Вот на чье место Лазарь Каганович выдвинул Никиту Хрущева, дав ему наказ очистить район от так называемой "рютинщины", сторонников "платформы Рютина", где высказывались идеи об ослаблении нажима на деревню, изменении экономического курса, демократизации, прекращении репрессий: в этой программе беспощадно критиковался вождь. Заняв кабинет опального секретаря райкома, Хрущев выполнил порученное ему дело, беря пример с наставника, поражавшего современников беспримерной работоспособностью, напором и беспощадностью:
"Каганович был человек дела, - характеризовал его в своих воспоминаниях бывший сотрудник. - Если Центральный комитет давал ему в руки топор, он крушил направо и налево. К сожалению, вместе с гнилыми деревьями он часто рубил и здоровые. Но щепки летели вовсю - этого у него отнять нельзя".
Старался не отстать от наставника и его выдвиженец, иначе бы их отношения быстро бы расстроились. Однако они набирали силу, укреплялись.
Не успел Хрущев познакомиться с районом, людьми, осмотреться на новом месте, как его выдвинули круто вверх.
В политической игре, которую разыгрывали на шахматной доске Сталин и Каганович, Хрущев достиг места, где рядовые фигуры, пройдя через все поле, превращаются в ферзя.
Выдвижение это произошло во время кардинальных изменений в административно-командной системе.
Москва выделялась в самостоятельную административно-хозяйственную единицу. Впервые в Московской партийной организации сформировался городской комитет - МГК. Моссовет стал заниматься исключительно делами города.
Первым секретарем МК и МГК КПСС избрали Лазаря Кагановича, за которым оставили также пост секретаря ЦК партии. "Взяв в руки топор", он начал претворять решения в жизнь.
Неотложные меры приняли в связи с острейшим кризисом. Развитие Москвы в годы новой экономической политики было нарушено бурным ростом промышленности в годы первой пятилетки. На окраинах, за заставами одновременно сооружались десятки крупных заводов: авиационные, автомобильный, станкостроительные, подшипниковый и многие другие. Для них рыли котлованы, строили стены. Все оборудование предприятий привозилось целиком из стран Европы и США. В Москву, в поисках работы, устремились отовсюду сотни тысяч крестьян, спасавшихся от насильственной коллективизации, голода и репрессий, множество молодых парней и девушек, потерявших кров и дом. В месяц прибывало по двадцать тысяч человек, заполнявших рабочие казармы, общежития, наскоро сооружавшиеся бараки, уплотняя и без того переполненные коммунальные квартиры коренных москвичей.
Все отрасли городского хозяйства надрывались от перенапряжения, особенно транспорт. В экстренном порядке началось сооружение метрополитена. Было принято решение о разработке Генерального плана реконструкции Москвы.
В начале 1932 года Каганович решил, что университеты в московских райкомах Хрущев прошел успешно. Пора было браться за крупные дела. Никиту Сергеевича избирают вторым секретарем Московского городского комитета партии. Первым остался "железный Лазарь".
Вот тогда узнала вся Москва об энергичном, напористом, неутомимом, демократичном, с виду простом "тов. Хрущеве", как его называли газеты, публиковавшие отчеты о посещении им заводов, фабрик, строек...
"Это был период лихорадочной деятельности. За короткий срок, - пишет Хрущев, - были достигнуты огромные успехи. Чуть ли не сотня важных проектов одновременно проводилась в жизнь. Назову лишь некоторые из них: строительство шарикоподшипникового завода, расширение авиационного завода "Дукс" № 1, создание нефтеперерабатывающих, газогенераторных заводов и электростанций, прокладка канала Москва-Волга, реконструкция мостов через Москву-реку. Огромная задача по наблюдению за всем этим лежала в основном на мне, ибо Каганович был по уши занят работой вне московской партийной организации".
Да, Каганович, будучи вторым секретарем ЦК, заместителем Сталина, все время проводил в аппарате ЦК. Москвой начал руководить 37-летний Никита Хрущев, недавний слушатель промакадемии, чуть было не исключенный из нее в силу недостаточности знаний. Конечно, не хватало ему знаний, особенно культуры, и для руководства таким великим городом, как Москва.
Чем сильнее укреплялась личная власть Сталина, тем больше он уделял внимание Москве, решив навести и на ее старых улицах новый порядок.
При этом его указания касались не только больших дел...
- Товарищ Хрущев, - сказал однажды Сталин по телефону, - до меня дошли такие слухи: ты допустил, что в Москве плохо с общественными уборными. Похоже, что люди отчаянно ищут и не находят места, где облегчиться. Так не годится. Это создает неудобство гражданам. Поговори об этом с Булганиным (председателем исполкома Моссовета. - Л. К.) и вместе сделайте что-нибудь, чтобы улучшить положение...
К этому вопросу Сталин возвращался еще не раз и поставил перед нами задачу соорудить чистые современные платные уборные. Это тоже было сделано.
Приходилось заниматься Хрущеву не только "большими проектами", но и делами самыми будничными, прозаическими; требовалось "накормить рабочий класс", то есть миллионы жителей Москвы. Люди получали продукты по карточкам! Руководство города выбивалось из сил в поисках продуктов. То кидались разводить по совету Сталина кроликов, "бросая" на этот промысел заводы и фабрики, то выращивали с их же помощью грибы в погребах и канавах...
В том, что по центральным московским улицам, не в пример столицам других стран, курсируют троллейбусы, а не автобусы, заслуга Хрущева. Он поддержал предложение развивать в Москве троллейбус, хотя многие тогда отдавали предпочтение двигателям внутреннего сгорания, автобусам. Они изготавливались в Москве, на автозаводе.
Было два особо "больших проекта", которыми занимался шесть лет "тов. Хрущев".
Первый такой проект - метро. Начали его в 1931 году, прокладывая сразу две линии: от Крымского вала в Сокольники, через площадь трех вокзалов, и от Моховой через Арбат - в Дорогомилово, к Киевскому вокзалу.
Хотя возведением метро руководил опытный строитель Павел Ротерт, ему не удавалось поначалу наладить грандиозное дело.
"Сам я вначале не имел никакого отношения к метро, - вспоминал Хрущев. - Но через некоторое время Каганович сказал: "Дела идут не очень-то хорошо. Поскольку у тебя есть опыт работы на шахтах, возьми-ка это дело в свои руки и наблюдай за строительством метро. Рекомендую тебе отложить работу в горкоме. Придется спускаться в шахты, чтобы познакомиться с тем, что там делается".
Предложение Кагановича было разумным. В то время я еще глубоко уважал Лазаря Моисеевича. Его преданность партии и нашему делу не вызывали сомнений. Когда он рубил деревья, щепки, как говорится, так и летели, но силы и энергия его не иссякали. Он был столь же упорным, как и преданным".
Так секретарь горкома зачастил под землю, пропадая там в шахтах, как в юности. Большую часть рабочего дня проводил на Метрострое.
"Ходил в горком и из горкома через шахты. Утром спускался в шахту поблизости от того места, где я жил, и выходил из шахты возле здания горкома. Трудно даже описать, насколько напряженно мы работали. До предела урезали время на сон, чтобы отдавать все время делу".
Где был кабинет Никиты Сергеевича? На Старой площади, переехав сюда с Большой Дмитровки, где помещался некогда в небольшом доме. А жить молодой "отец города" продолжал вблизи "Ударника", в "доме на набережной".
Дела Метростроя волновали тогда всех. Везде на пути возникали шахты метро. На Арбате тоннели рыли открытым способом. Жители испытывали в связи с этим большие неудобства. Вот тогда и обратился к Хрущеву молодой инженер Маковский и предложил вместо открытого траншейного метода, его еще называли немецким, поскольку он наиболее активно применялся в Германии, внедрить туннельный способ, его называли английским. Инженер мотивировал это, в частности, тем, что станции глубокого заложения можно будет использовать как бомбоубежища.
Инженер предложил для спуска под землю использовать эскалаторы, в то время как руководитель Метростроя Павел Ротерт отдавал предпочтение немецкому методу и лифтам...
Хрущев и Каганович поддержали инженера, преодолев упорное сопротивление начальника Метростроя. Пришлось обсудить вопрос на Политбюро, где и было решено вести проходку туннельным методом, что позволило Москве к началу войны и налетов фашистской авиации обзавестись незаменимыми убежищами для населения. Станции метро послужили также для размещения всех стратегических важных штабов руководства страной, армией и городом, в том числе узла связи, Ставки, Политбюро, ГКО...
Никита Сергеевич чувствовал себя победителем, когда в мае 1935 года поезда пошли от "Сокольников" до "Парка культуры" и от "Ул. им. Коминтерна" (ныне "Александровский сад") до "Киевской". Впервые его наградили орденом Ленина, а один из московских заводов точной электромеханики стал носить имя Н. С. Хрущева.
В год пуска метрополитена Никита Сергеевич занял пост первого секретаря МК и МГК партии (в то время как его шеф взял в руки транспорт) и стал полновластным "отцом города", все теснее приближаясь к Сталину, все чаще получая приглашения в Кремль, на заседания Политбюро, застолья к вождю.
"Ну, отцы города, как дела?" - усаживая рядом с собой Хрущева и Булганина, вопрошал Сталин.
Никита Сергеевич, получая такие приглашения, был счастлив. Он не просто уважал, чтил, но боготворил генсека.
"Поначалу странно было видеть Сталина, участвовавшего в легкой беседе, за обеденным столом. Я его боготворил, а потому никак не мог привыкнуть находиться с ним рядом... Потом я стал восхищаться им не только как политическим деятелем, не имеющим себе равных, но и как человеком".
При таком отношении, неспособности критично подойти к оценке деяний вождя "отец города" с упоением и беспрекословно выполнял все его указания.
Их становилось все больше, потому что бурными темпами шла работа по составлению Генерального плана, получившего название - сталинского.
"В 1934 году Каганович, Булганин и я работали над реконструкцией Москвы и следили за строительством множества новых зданий..."
Что это была за реконструкция?
По сталинскому плану старая Москва практически уничтожалась. Сносились не только отдельные дома, но и кварталы, бульвары, рушились храмы и монастыри, палаты и особняки. Москвичи возражали против такого рода "реконструкции", особенно противились уничтожению бульваров на Садовом кольце.
Хрущев, по-видимому, в душе не желал рубки деревьев, ломки церквей. Он даже обратился с вопросом, что, мол, делать, товарищ Сталин, москвичи протестуют, когда мы сносим старинные здания, а тот ему, недолго думая, ответил: "А вы взрывайте ночью".
Особенно много сломали по трассе первых линий метро. Так, например, от Волхонки до Красных ворот снесли Храм Христа Спасителя, Крестовоздвиженский монастырь, все стоящие на пути церкви (Похвалы Богородицы, Николая Стрелецкого, Георгия, Параскевы Пятницы и других - всего свыше десяти), а также Красные ворота. Такая же картина - на линии, что шла под Арбатской площадью и Арбатом, лишившимся всех Никол.
Какие здания строили и где? Если в двадцатые годы упор делался на рабочие окраины, то теперь строительство переместилось в центр, на набережные, в пределы Садового кольца. Вместо заводских поселков и рабочих клубов воздвигались монументальные здания.
"Помню как-то раз, когда мы, несколько человек, осматривали новый комплекс, строившийся вокруг Моссовета, Каганович указал на институт Маркса-Энгельса и спросил:
- Кто, черт возьми, проектировал это страшилище?
...Плоская, приземистая, серая глыба института Маркса-Энгельса и в самом деле представляла собой сооружение чрезвычайно мрачное..."
Спустя двадцать лет после этого осмотра Хрущев резко изменит стиль советской, сталинской архитектуры, вернется к "плоским", "серым глыбам", коробкам, причем типовым, одинаковым. Но тогда он безоговорочно поддерживал Сталина и Кагановича, взявших курс на искоренение конструктивизма, замены "плоских глыб" зданиями с колоннами и прочими атрибутами из арсенала классицизма, ставшего вдруг эталоном.
Казалось (а многим сегодня продолжает так казаться), что перед войной строили в Москве много домов. Но это глубокое заблуждение. "Жилищное строительство, - признает Хрущев, - ограничивалось абсолютно необходимым минимумом, и строившиеся жилые дома далеко не компенсировали все те дома, которые сносились, чтобы расчистить место для заводов".
Но ведь кроме домов, сносимых за заставами, ломались безжалостно Тверская, Моховая, другие улицы. Много снесли, притом довольно больших, жилых зданий, четырех-,пятиэтажных. А строили в год всего (при бурном росте числа жителей) по 400-500 тысяч квадратных метров жилья, меньше, чем в годы нэпа, когда население прибывало малыми дозами. Это при том, что намечалось "сталинским планом" превзойти уровень нэпа в несколько раз!
Будучи "отцом города" Хрущев не только безропотно сносил старые здания, но и, выполняя указания вождя, беспрекословно проводил репрессии, санкционировал аресты многих ближайших соратников по работе в МК и МГК, райкомах, на Метрострое... Среди них оказался и бывший сослуживец по Бауманскому райкому - Борис Трейвас, о котором он сгоряча сказал в 1937 году невестке:
- Мы его с Ежовым расстреляли...
Что подразумевал Хрущев под словом "мы"?
Конечно, не столько себя и Ежова, сколько Сталина, Молотова, Кагановича, Ворошилова и других лиц из ближайшего окружения вождя.
"Одна из моих обязанностей в качестве секретаря МК заключалась в наблюдении за деятельностью московского управления НКВД", - признает Хрущев. Но не только в этом проявлялось его личное участие в адской бойне людей.
"Когда заканчивалось следственное дело, - говорил он, с трудом подбирая слова, - и Сталин считал необходимым, чтобы и другие его подписывали, то он тут же на заседании подписывался и сейчас же вкруговую давал другим, и те, не глядя... уже как известное дело по информации, которую давал Сталин, характеризовал, так сказать, это преступление... те подписывали. И тем самым, так сказать, вроде коллективный приговор был..." (цитирую по книге Роя Медведева "Н. С. Хрущев. Политическая биография").
Так перо в руках тех, кто подписывал приговор, превращалось в топор. Его не раз брал в руки молодой Хрущев.
Ему же по долгу службы приходилось инспектировать тюрьмы, где сидели его товарищи по партии. Во время одной из таких инспекций и встретил он неожиданно в камере несостоявшегося родственника, дядю невестки, Бориса Трейваса... Откроем книгу "Хрущев вспоминает":
"Я знал также Трейваса. Он был широко известен в 20-х годах, как видный деятель комсомола. Это был умный, способный, порядочный человек. Я познакомился с ним в московской партийной организации, когда мы полгода вместе работали в Бауманском районе. Как-то раз Каганович отвел меня в сторону и предупредил, что в политической биографии Трейваса есть темное пятно. Он, кажется, принадлежал к так называемому "молодежному союзу девяноста трех", члены которого в свое время подписали декларацию в поддержку Троцкого. Кончил Трейвас трагически. Когда Сталин предложил секретарям обкомов проинспектировать чекистские тюрьмы в своей области, я во время инспекционной поездки увидел в тюрьме Трейваса. Когда в 1937 году началась бойня, он не избежал ее".
Мы никогда не узнаем, о чем думал Хрущев, увидев в тюрьме бывшего соратника, да и не его одного. Возможно, что пожалел, хотел даже помочь...
Ясно только, что ничем не помог... И не позволил сыну жениться на племяннице "врага народа", разрушил брак Леонида Хрущева с Розой Трейвас, не колеблясь, разорвал свидетельство о женитьбе, выгнал из дому невестку вместе с "блудным сыном", чтобы потом насильно увезти его из Москвы.
Надо полагать, что Хрущев не играл роль стороннего наблюдателя в те самые дни, когда поднялся девятый вал урагана 1937 года. Вряд ли он только инспектировал тюрьмы, молчал и не задавал не положенных по чину вопросов. Иначе зачем было ему, как теперь стало известно, "чистить" государственные архивы, где хранились документы, относящиеся к годам террора? Эта горькая правда, на мой взгляд, не умаляет героизма Никиты Сергеевича Хрущева. Двадцать лет спустя после великого террора, будучи в окружении старых соратников, подписывавших приговоры вместе с ним, именно он поднимется на трибуну партийного съезда и сорвет завесу, что прикрывала сталинские преступления (да и его тоже).
Именно Хрущев настоял не только на таком выступлении, начав тем самым эру гласности, но и на том, чтобы открылись двери всех темниц, где все еще томились миллионы невинных.
Этот подвиг история никогда не забудет, поэтому имя Хрущева люди будут помнить с благодарностью всегда.
...Из "дома на набережной" Никита Сергеевич уехал на родную Украину, куда его направил Сталин первым секретарем ЦК партии республики. В Москве за ним осталась квартира вблизи Кремля в известном большом доме на улице Грановского, где с первых лет советской власти жили многие большевики. Сюда двенадцать лет наезжал время от времени в столицу, став кандидатом, а затем членом Политбюро. Только в 1949 году вернулся Никита Хрущев в столицу, где его ждали великие дела...
ПО СЛЕДАМ ЕГОРА ЖУКОВА
Было время, когда каждый год в Москву приезжали тысячи малолетних крестьянских детей. Отцы и матери вынуждены были отрывать их от сердца, от родного дома и посылать на учение в город. Здесь их "университетами" становились трактиры и рестораны, всевозможные мастерские, лавки и магазины, где с малых лет постигалось ремесло официантов, поваров, сапожников, скорняков, приказчиков, так нужных большому городу.
Такой жребий выпал и на долю сына крестьянина Калужской губернии Константина Жукова, промышлявшего сапожным ремеслом. Но сын его, Егор Жуков, не пожелал гнуть спину над верстаком, как отец, и, хотя росту был небольшого, характера оказался твердого.
- Ну вот, теперь ты грамотный, можно будет везти тебя в Москву учиться ремеслу, - сказал Константин Жуков сыну, когда тот принес домой похвальный лист. В подарок за успехи он получил рубаху от матери, а отец сшил ему сапоги.
19 ноября 1908 г. мальчику исполнилось двенадцать лет. За плечами у него было три класса церковноприходской школы, оконченной с отличием. Но учиться дальше сын деревенского сапожника мог только мечтать. На вопрос: "Кем хочешь быть?" - ответил: "Хочу в типографию" - чтобы иметь возможность читать книги. Но даже этой робкой мечте не суждено было сбыться: знакомых среди печатников у Жуковых не оказалось. В Москве, к счастью, жил брат матери Михаил Артемьевич Пилихин. Как и многие односельчане-бедняки, мальчиком он отправился в Москву, стал мастером, а со временем завел собственное дело. Вот к нему-то и решили определить бедного родственника.
Пока был маленьким, звали его Егоркой, потом Егором. Имя Георгий отцу понравилось больше, чем предложенные на выбор из святцев другие имена Ераст, Орест, Родион, Олимп. В деревне Георгий почитался как победоносец, покровитель воинства, и как защитник скотины. "Егорий ты наш храбрый, ты спаси нашу скотину под светлым месяцем и под красным солнышком от зверя лукавого", - пели весной крестьяне, выгоняя коров после долгой зимы на пастбища.
В деревне Егор научился жать рожь, косить, ловить рыбу, собирать грибы и ягоды, охотиться. Но земля прокормить Жуковых не могла.
- Ну что ж, пожалуй, я возьму в ученье твоего сына. Парень он крепкий и, кажется, неглупый, - решил дядя, познакомившись с племянником во время одной из побывок в родных краях.
Детство кончилось. В сопровождении родственников прибыл Егор Жуков в Москву, впервые увидел он тогда железную дорогу и поезд, который доставил его на Брянский вокзал в четыре часа утра. Несмотря на ранний час, бойко шла торговля разными яствами "с пылу с жару". Открыты были и двери трактира. А дальше случилось вот что: "Выйдя из трактира, мы отправились на Большую Дорогомиловскую улицу и стали ждать конку", - описывал много лет спустя свой первый день в Москве автор мемуаров "Воспоминания и размышлениях".
В город он приехал с узелком, куда завернули ему пару белья, полотенце, лепешку и пяток яиц. Жизнь в Москве сразу началась с происшествия, случившегося при посадке в вагон конки Дорогомиловской линии № 17, имевшей желто-синие сигнальные огни. Вагон подошел двухэтажный. На верхнюю открытую площадку, звавшуюся империалом, вела крутая лестница. Поднимавшийся по лестнице пассажир в давке случайно ударил каблуком в нос спешившего следом за ним Егора. Из носа пошла кровь.
- В Москве надо смотреть выше носа, - услышал Егор.
Однако он не заплакал. Не плакал и не просил прощения Егор Жуков в детстве даже тогда, когда его полосовали шпандырем - сапожным ремнем. Еще один удар - ложкой по лбу - схлопотал мальчик в Москве в тот же день за обедом, когда хотел извлечь из общего блюда щей кусок мяса... Это случилось через несколько часов после того, как конка благополучно доставила его в центр города, в меховую мастерскую М. А. Пилихина, где ему предстояло учиться и работать как взрослому.
Где была эта мастерская, где жил в Москве семь лет Егор Жуков? Попытаемся дать ответ на эти вопросы с помощью "Воспоминаний и размышлений", а также старых справочников. Цитирую: "...мы повернули к Большой Дмитровке (ныне Пушкинская ул.) и сошли с конки на углу Камергерского переулка (ныне проезд Художественного театра)". А в двухстах метрах отсюда бурлила Тверская, воспетая в песнях как Питерская, Тверская, Ямская, по которой еще недавно мчались ямщики.
- Вот дом, где ты будешь жить, а во дворе мастерская, там будешь работать, - сказал провожатый.
По пути к мастерской мальчик увидел многолюдный и пестрый Охотный ряд со множеством лавок. Кузнецкий мост с лучшими магазинами, оперный театр Зимина. А в Камергерском переулке располагался Художественный театр. Чтобы попасть в мастерскую, пришлось пройти под аркой ворот в большой двор...
Почему-то я надеялся, что спустя три четверти века после описываемых событий удастся найти следы деревенского мальчика Егора Жукова в Москве, где насчитывалось тогда свыше полутора миллионов жителей. Конечно, имени ученика скорняка в справочниках нет. Но вот его дядя - фигура заметная. Михаил Артемьевич Пилихин - преуспевающий меховщик, его дом и магазин упоминаются каждый год в двух разделах справочника "Вся Москва". Раскрываю "Алфавитный указатель адресов жителей г. Москвы". Вот то, что ищу: "Пилихин Мих. Арт. Камергерский, 5. Реальн. уч. при еванг.-лютер. ц. Св. Михаила". Это значит, что меховщик снимал квартиру в доме Реального училища при евангелистско-лютеранской церкви Святого Михаила. Второй раз нахожу его фамилию в разделе "Торгово-промышленные предприятия" под рубрикой "Меховые товары". И здесь тот же адрес, а кроме того, телефон - 96-89.
У нынешнего дома № 5 в Камергерском проезде арки нет, потому что на месте старого дома появился крупный многоэтажный доходный жилой дом, ставший соседом Художественного театра. На его первом этаже, в частности, располагается в наши дни магазин "Педагогическая книга".
Как писал историк Москвы П. В. Сытин, "старые двух-, трехэтажные флигеля дома № 5 были в начале XX века заменены шестиэтажным домом с магазинами". Но это не совсем так. Старый двухэтажный дом не сломали, а надстроили тремя этажами. И отсюда семья Пилихина перебралась на другую квартиру. Случилось это в 1909 г. Вышедший в 1910 г. справочник "Вся Москва" сообщает уже новый адрес Пилихина: он переехал в дом № 21 по Брюсовскому переулку, принадлежавший знатной статс-даме Олсуфьевой Александре Андреевне, имевшей титул графини. Это не мешало ей заниматься коммерцией, владеть домами и сдавать их внаем. "Меховые товары" Пилихина в справочнике за 1910 г. еще значатся по Камергерскому переулку, но в справочнике 1911 г. они приводятся по новому адресу - Брюсовский, 21. Значит, где-то тут находился и Егор Жуков.
В Брюсовском переулке нахожу нужный мне дом. Фасад его богато декорирован, украшен фамильным гербом и лепниной, как было принято на рубеже веков. Нашел во дворе и маленькие строения бывшего владения Олсуфьевой. Где-то здесь мастерская?
Дом с гербом имеет в плане букву Т. Протяженный фасад выходит в переулок, окна другого, что покороче, смотрят во двор. Фасады объединяет полуротонда. Прием этот со времен Василия Баженова применялся архитекторами не раз, когда возводили дома на углу улиц. Теперь со стороны улицы Тверской стоит многоэтажный дом, улица выпрямилась, расширилась, застроилась новыми домами. И когда смотришь на бывший графский дом, то возникает вопрос: зачем понадобилось пышно оформлять фасад, который теперь глядит во двор? Может быть, прежде он выходил на Тверскую?
Спешу в городской историко-архитектурный архив и, получив планы бывшего владения графини Олсуфьевой, нахожу подтверждение догадке: да, дом действительно глядел окнами на Тверскую. В одном из своих прошений графиня пишет, что владеет домом "на углу у Брюсова переулка и Тверской". В 1898 г. она пожелала надстроить свой трехэтажный дом четвертым этажом, что и было сделано. В 1910 г. на Тверской в этом доме открылся "синематограф "Миньон", что значит - крошечный. Кинотеатр на 200 мест занимал, однако, только треть дома - полуротонду, фасад по улице и только семь окон по переулку.
Значит, меховщик М. А. Пилихин жил в квартире со стороны Брюсовского переулка. Но где именно мастерская? По плану 1898 г. видно, что за главным строением № 1 располагалось еще пять небольших. Срисовав план, снова спешу в бывший Брюсовский переулок и сличаю его с натурой. Здесь сохранились "двухэтажное жилое строение", "двухэтажное с подвалом" и "двухэтажное с жилым верхом", как и прежде оно значится под № 6. Нет между ними домика с "жилым верхом" и одноэтажного нежилого. Не сохранился, как выяснилось, и дом, где жил Егор Жуков. Его снесли в предвоенные годы, а на его место передвинули большой четырехэтажный дом, тот, что выходил на Тверскую.
Судя по мемуарам, в мастерской работали в сезон человек десять мастеров, мастериц, старший мальчик и мальчики. Входили они в мастерскую только с черного хода. Обедали мастера и ученики на кухне при квартире хозяина. В обязанности младшего ученика Егора Жукова входило убирать комнаты, чистить обувь, разводить самовар, зажигать лампады икон и многое другое, в том числе бегать в лавку за водкой и табаком для мастеров. "За малейшую провинность хозяин бил нас немилосердно..." На память сразу приходит хрестоматийный рассказ А. П. Чехова о Ваньке Жукове, и не только из-за сходства фамилий. Совпадают и обстоятельства, даже детали. "Хозяин выволок меня за волосы на двор и отчесал шпандырем", - писал Ванька Жуков "на деревню дедушке". "Вдруг кто-то дал мне здоровую оплеуху. Я оглянулся о, ужас, - хозяин!" - так описывает один из эпизодов своей жизни в Москве автор мемуаров "Воспоминания и размышления". И ему приходилось, как Ваньке Жукову, вставать чуть свет и ложиться за полночь, испытывать унижения, бесправие, битье. Многих такая жизнь губила. Но Егор Жуков выстоял, а через четыре года стал мастером...
Учился он в Москве не только ремеслу. Усваивавший все на лету, жаждавший учиться, любознательный Егор подружился со своим двоюродным братом - Александром Пилихиным. Тот давал ему читать книги, занимался с мальчиком. "Мы взялись, - пишет Г. К. Жуков, - за дальнейшее изучение русского языка, математики, географии и чтение научно-популярных книг". Дядя не препятствовал занятиям и разрешил даже посещать по вечерам общеобразовательные курсы, которые давали знания в объеме городского училища. Названа в мемуарах и улица, где находились курсы: "Через несколько дней я зашел на курсы, которые помещались на Тверской".
Дело Пилихина процветало, ему стало тесно в Брюсовском переулке. В справочнике за 1915 г. в разделе "Меховые товары" приводится два адреса торговли Пилихина - Брюсовский, 21, и Старый Гостиный двор, помещение № 80/81.
Почему же так подробно привожу я все эти сведения, касающиеся местожительства и торговли некоего меховщика Михаила Артемьевича Пилихина? Да потому, что с его домом, магазином и мастерской в Москве связаны семь лет жизни его племянника и ученика - Георгия Константиновича Жукова, маршала, четырежды Героя Советского Союза, прославленного полководца. Под командованием Жукова войска Западного фронта разгромили зимой 1941 г. фашистские полчища на подступах к Москве, а потом прошли путь до Берлина. Солдаты знали: где Жуков - там победа.
За семь лет жизни в Москве Жуков изучил город, его улицы и дома - он "хорошо знал Москву, так как чаще других приходилось разносить заказы в разные концы города". Работал он не только в мастерской. Хозяин "часто брал в свой магазин, где кроме скорняжной работы мне поручалась упаковка грузов и отправка их по товарным конторам". Следовательно, работал Жуков и в Старом Гостином дворе, в торговом помещении № 80/81.
Как же найти здесь следы бывшего мехового магазина? Иду сюда со слабой надеждой. На стенах бывшего Гостиного двора со стороны Ильинки замечаю вдруг над большими нижними окнами старые таблички с номерами помещений. Обхожу здание по переулку, попадаю во двор, где особенно наглядно видно, сколь велика была цитадель купеческой Москвы. Поднимаюсь на второй этаж и, ориентируясь по номерам, прохожу по верхней галерее до угла, где стена делает крутой поворот, и наконец вижу над дверью самодельную табличку - № 81. Но та ли эта дверь, то ли помещение? Спускаюсь вниз по лестницам, где легко затеряться, и неожиданно попадаю на простор Зарядья, откуда видны башни Кремля и Замоскворечья, стены Средних торговых рядов. Вот оно, самое бойкое место, куда стремились удачливые московские купцы... Смотрю по сторонам и над широкой дверью между двумя белыми коринфскими колоннами, поднявшимися над белокаменным постаментом, вижу старый указатель стеклянный квадрат со знаком "Пом. № 80". Сомнений больше нет. Именно здесь, за широкой резной деревянной дверью, на первом и втором этажах находился меховой магазин Пилихина, где работал в молодости Георгий Константинович Жуков. С этого высокого места видел он Москву, которую успел полюбить.
В 1915 г. молодой мастер ушел в армию. Впереди были годы службы, сражений, впереди были Октябрьская революция, Великая Отечественная война. Они вручили маршальский жезл в руки Георгия Жукова.
* * *
После этой публикации мне позвонили:
- Вы писали в газете о маршале Жукове, о его жизни в доме скорняка Пилихина, я его младший сын. Могу кое-что рассказать и уточнить, приезжайте...
Когда Георгий Константинович Жуков приехал из деревни в Москву на учение к своему дяде скорняку Михаилу Артемьевичу Пилихину, - его младшему сыну Мише было шесть лет. С 1908 по 1914 год проживал под одной крышей с ним его двоюродный брат Егор - сначала ученик скорняка, потом мастер, ставший приказчиком в лавке отца. И последние годы жизни маршала прошли на глазах М.М. Пилихина...
В опубликованном в 1985 году в "Московской правде" очерке "По следам Егора Жукова" я пытался установить: где в Москве прожил детские и юношеские годы будущий маршал, заместитель Верховного Главнокомандующего? Поэтому при встрече с двоюродным братом полководца мне в первую очередь хотелось выяснить, верно ли определены были мною дома, где прошли годы учения в Москве Георгия Константиновича.
- Верно, но есть и уточнения.
Берем том "Воспоминаний и размышлений", находим строчки из первой главы "Детство и юность", ставшие отправным моментом поиска.
"Мы повернули к Большой Дмитровке (ныне Пушкинская улица), а потом сошли с конки на углу Камергерского переулка (ныне проезд Художественного театра).
- Вот дом, где ты будешь жить, - сказал мне дядя Сергей, - а во дворе мастерская, там будешь работать, - пишет Г. К. Жуков. - Парадный вход в квартиру с Камергерского переулка, но мастера и мальчики ходят только с черного хода, со двора...
Пройдя большой двор, мы подошли к работавшим здесь людям, поздоровались с мастерами... Поднявшись по темной и грязной лестнице на второй этаж, мы вошли в мастерскую..."
Из прочитанного у меня сложилось представление, что меховая мастерская М. А. Пилихина находилась не в самом доме, где он жил, а во дворе, в двухэтажном флигеле, которые обычно строились во владениях, поскольку Г. К. Жуков и пишет: "...а во дворе - мастерская".
Но, оказывается, все обстояло не совсем так, и если бы не Михаил Михайлович Пилихин, то некому бы было внести полную ясность.
- Мастерская размещалась в самой квартире. Входили в нее действительно на второй этаж со двора, как пишет Георгий Константинович, и мастера и ученики. Только летом, в хорошую погоду, они работали во дворе на открытом воздухе.
Есть и еще одно уточнение. Все, кто видел большой, покрашенный в серый цвет дом, протянувшийся рядом с Художественным театром, должно быть, заметили сверху на фасаде дату - 1912 год. Архитектура и масштаб самого здания не оставляют никакого сомнения в том, что оно могло появиться на этом месте только в начале XX века. Я приводил слова историка П. В. Сытина, который в своей книге "Из истории московских улиц" указывал: "Старые двух-, трехэтажные флигеля дома № 5 были в начале века также заменены шестиэтажным домом с магазинами".
М. М. Пилихин вносит поправку: их старый прочный каменный дом, описанный в "Воспоминаниях и размышлениях", не снесли, а сохранили, надстроив верхними этажами. Кстати, это практиковалось при перестройке с допетровских времен.
- Окна нашей квартиры сохранились, они в середине здания, сохранилась и лестница, которая вела в мастерскую, я ходил как-то смотрел ее...
Отсюда, из Камергерского, мы переехали в другой дом, поблизости, в Брюсовский переулок. Помню хорошо это переселение.
- Выходит, что дом в Камергерском в какой-то мере сохранился.
- Да, выходит, так. А вот наш дом на Брюсовском, к сожалению, перед войной снесли...
Это был двухэтажный небольшой каменный дом с подвалом. Квартира находилась сначала на первом, потом на втором этаже. Дом был одним из строений во владении графини Олсуфьевой. Рядом по переулку стоял другой принадлежащий ей большой, нарядный, четырехэтажный дом, о котором вы писали в газете, полагая, что маршал Жуков жил именно в нем. Но находился этот дом тогда ближе к Тверской, фасадом выходил на главную улицу Москвы. Перед войной его сдвинули в глубь переулка, на то самое место, где мы много лет прожили... Вот тогда и сломали наш дом.
Мастерская моего отца и здесь помещалась в квартире, рядом с жилыми комнатами. Их было пять. Семья наша большая, мать родила 12 детей, шесть из них выросли. Егор дружил с моим старшим братом Александром.
Отец мой - скорняк, каких сейчас не сыщешь, знали его и уважали многие. И я находился у него в учении, а старшим мальчиком был Егор. Получал я иногда от него подзатыльники. Рука у Егора была крепкая. Вообще-то отец, да и мастера, редко когда поднимали руку. Если Егору (или мне) доставалось во время учения, то не больше, чем другим ученикам. Мать наша никогда ни на кого руку вообще не поднимала, считала это за тяжкий грех. Отец не умел читать и писать. Он поэтому хотел, чтобы мы получили хорошее образование. Способный Александр даже одно время учился в Лейпциге, знал немецкий язык, учил и Егора немецкому, он же помог ему окончить городское училище. Александр с Егором часто забирались на полати, там подолгу читали и разговаривали. Однажды услышал я непонятную мне фразу. Егор говорил: жениться нужно не на красоте, а на человеке...
Сочиняют вот теперь всякое, даже, что Егор, мол, спал на цементном полу. Все это выдумки. Спал он действительно в мастерской, на полатях. Но на них спать и я мечтал, забирался вверх не раз. Относился отец к Егору хорошо, как к племяннику.
- А чем отличался от других учеников Егор Жуков?
- Быстрее всех ел, быстрее всех дело делал. Это мне запомнилось. Отец часто по праздникам брал нас с собой в церковь слушать хоровое пение, которое он любил. Ходили мы в соседние церкви и в Кремль. Там пробирался отец поближе к хору, а мы убегали на Москву-реку играть и слушали, когда раздастся колокольный звон. Это был знак, что нам пора возвращаться.
- Вот смотрите, - говорит Пилихин и показывает старый групповой снимок, сделанный в пору, когда Егор Жуков уже окончил учение. Фотографироваться пошли одевшись, как на праздник. Все в костюмах, под пиджаками жилетки. В центре, в кресле, сидит, облокотившись на ручки, Егор - он любил предводительствовать... Разве похож он на бедного родственника?
Вижу молодого, крепкого, широкоплечего парня, уже вполне городского. Костюм плотно облегает плечи. Наверное, это тот самый костюм, о котором писал Г. К. Жуков в мемуарах, подаренный по традиции хозяином после завершения учения. Смотрит молодой Жуков не мигая прямо в зрачок фотоаппарата. Рядом с ним стоит односельчанин, затем Александр Пилихин и самый младший, еще по виду мальчик, Михаил Пилихин.
- Как сложилась судьба Александра?
- В своей книге Георгий Константинович упоминал, что Александр уговаривал его, когда началась первая мировая, отправиться на фронт добровольцем. Брат и сбежал на фронт, откуда его привезли раненым. Когда началась гражданская война, Александр пошел добровольцем в Красную Армию и погиб под Царицыном. А я в те годы служил в московской милиции, разведчиком в 394-м пластунском полку.
От Георгия во время первой мировой войны и в гражданскую войну долго не было вестей. Жили мы по-прежнему в Брюсовском переулке. И только в 1924 году, как сейчас помню, в день похорон В. И. Ленина, он приезжает: решил посмотреть свой старый дом. И неожиданно для себя встречает меня.
- Ты жив? - спрашивает с удивлением.
Я обрадовался, все думали, что Георгий погиб. С тех пор уже никогда не теряли друг друга. Приезжая в Москву, он, когда не имел в Москве квартиру, жил у нас в Брюсовском. Первая его московская квартира была в Сокольниках, у Матросской Тишины. Потом поселился в "доме правительства" на улице Серафимовича, во дворе, другой его дом, тоже известный - на улице Грановского, а последний - на набережной Шевченко.
Снова мы оказались с ним, когда началась Отечественная война. Я к тому времени окончил автотехникум, но работал шофером на легковой машине, поскольку заработок шофера был больше, чем у техника.
В Москву из отпуска приехал через неделю после 22 июня. Поехал в военкомат на служебной машине, там меня тут же и мобилизовали. Неожиданно появился адъютант Георгия Константиновича. И меня направили в его распоряжение. В тот же день выехали с ним на фронт, я как шофер. Сначала в Гжатск, оттуда в штаб Западного фронта, нашли его за Юхновом, в лесу. Добирался Георгий Константинович и на передний край, в штаб батальона. Не раз попадали под обстрел. В любой обстановке, под бомбежкой, артиллерийским огнем, оставался невозмутимым и, к счастью, неуязвимым. Возил я его в легковой машине "бьюик". Кроме того, следовали за нами две машины охраны. Однажды пронесся слух, что мы попали в окружение. Нужно наступать, а люди бегут. Кто куда. Жуков наперерез. Остановил всех.
- Михаил Михайлович, вот всякие легенды сочиняют про Жукова, что, мол, в сорок первом знаки различия срывал и расстреливал...
- Ничего такого я не видел. Из полковника делал солдата, под суд отдавал, это было.
3 сентября 1941 года попали под сильный артобстрел. Штаб находился в сарае, в мелколесье; едва Жуков и другие командиры успели из него выйти и перейти в укрытие, снаряд попал в угол сарая. Над головой висел, как на веревочке, самолет и корректировал сильный огонь. Жуков верил в судьбу, говорил, что, если суждено быть убитым, так убьет. При том артобстреле под Ельней меня и ранило в руку осколком снаряда. Узнав об этом, он сразу отправил в Москву, в госпиталь на Арбате. После выздоровления я возил его семью.
Последние девять лет жизни Георгия Константиновича я жил с ним на даче в Сосновке, у Рублевского шоссе. Теперь это Москва. В те годы он писал воспоминания.
Спрашиваю, как маршал это делал: диктовал ли, печатал на машинке или писал?
- Писал от руки.
Помню, к нему приезжали на дачу писатели Константин Симонов, Сергей Смирнов, бывал маршал Цеденбал, с ним он вместе воевал на Халхин-Голе...
В квартире Михаила Михайловича Пилихина многое напоминает о его двоюродном брате-маршале. Под стеклом - фотографии с дарственными надписями. На одной такие слова: "Моему брату Мише на память о былом и незабываемом". И еще запомнился брату тост, который однажды произнес Г. К. Жуков за эту семью:
- За Пилихиных, которые никогда меня не бросали и ничего не просили.
Вот что удалось узнать в дополнение к тому, что уже было рассказано в очерке "По следам Егора Жукова".
"ТЫ, ЛУЖКОВ, ДОПРЫГАЕШЬСЯ!"
Земля в излучине Москвы-реки, стянутая тетивой Павелецкой железной дороги, не успела получить исторического имени, как примыкающие к ней соседние урочища Дербеневка и Кожевники. Потому что до начала XX века ничем путным, кроме огородов, захудалых домов и нескольких мануфактур, обзавестись не успела. На Павелецкой набережной в справочнике "Вся Москва" за 1917 год указаны всего четыре владения Герасима Мякошина и его наследников. Не значится ни других строений, ни одного из нынешних трех Павелецких проездов, протянувшихся от пучка рельс до набережной: их тогда не существовало. И ни одной церкви не поставили, какая же это Москва?
Попадая сюда, оказываешься в живописной местности, где над противоположным высоким берегом Москвы-реки, ближе к центру, видишь башни знаменитых монастырей, зажатых корпусами "ЗИЛа" и "Динамо". На другом берегу тянутся цеха не столь известных производств вперемешку со втиснувшимися между ними домами, огороженными пучком крупнокалиберных труб тепломагистрали, почему-то не закопанной. По всем признакам вся эта земля подпадает под определение заводской окраины, хотя отсюда до современных границ Москвы километров десять.
На этой-то некогда пролетарской окраине у плотника Михаила 21 сентября 1936 года родился сын Юрий. По советским анкетам на вопрос о социальном происхождении он с полным основанием мог ответить "из рабочих". Не только отец, но и мать тянула лямку гегемона, и пока муж воевал на фронте, как любили выражаться публицисты, несла трудовую вахту у огнедыщащего котла. Когда же после войны из горячих цехов слабый пол удалили, дежурила у холодильной установки, где разило аммиаком, отпугнувшим любознательного сына от рабочего места "матушки", чьи сентенции сегодня порой цитируются публично на Тверской, 13.
Из книги Юрия Лужкова, вышедшей минувшей весной, я узнал много подробностей о "дворе моего детства", описанном с ностальгией по прошлому и с мечтой "город вернуть москвичам", избравших его первым лицом Москвы. Тогда мне захотелось найти описанные его строения двора, оставшиеся в памяти под презрительно-уменьшительными названиями "родилка", "картонажка", "мыловарка", "пожарка". Мое желание совпало с мыслью главного редактора, в результате чего я отправился на поиски указанных объектов, не получивших в книге точных адресов. Тем интереснее их найти.
Как раз когда родился сын плотника, в СССР началась тотальная борьба со шпионами, в связи с чем перестали издаваться информативные ежегодники фолианты справочника "Вся Москва". Вышла вместо него хилая "краткая адресно-справочная книга" без сведений о заводах и фабриках, без адресов пожарных частей, признанных военными объектами. Родильные дома не засекретили, поэтому я узнал, что упомянутая "родилка", то есть родильный дом Кировского района, находилась на Павелецкой набережной, 6. Этот адрес стал путеводной нитью моей экскурсии, начатой у Павелецкого вокзала, где находился, по выражению автора книги, "наш "центр". Сюда два раза в год по праздникам 1 Мая и 7 Ноября отправлялись семьями на гулянье к стоявшим после военного парада танкам, ожидавшим погрузки на платформы. Как пишет Юрий Лужков, в этом центре "были бани, рынок, милиция".
Зацепский рынок на площади против вокзала отшумел навсегда. Отделение милиции номер один на прежнем месте в конце Кожевнической улицы. Сюда однажды под хохот прохожих подъехал с открытыми бортами грузовик, в кузове которого сгрудилась стайка голых юнцов, прикрывших руками мужское начало. Только у дверей милиции, совершив круг позора по околотку, машина остановилась, и милиционер вернул нарушителям решения исполкома Моссовета о запрете купаний в грязной Москве-реке - трусы. Среди наказанных стоял в чем мать родила будущий мэр, тогда уже познавший силу правоохранительных органов, в прошлом обладавших временем для борьбы с проказами мальчишек.
И Кожевнические бани не сломаны, но бездействуют, как другие старые дома в Кожевниках ждут капитального ремонта и новых хозяев. Улица упирается в мост, от которого начинается Дербеневская, куда босоногие бегали залечивать раны. На этой улице располагалась "полуклиника", построенная еще до революции каким-то Цинделем в Дербенях. Упомянутый Эмиль Циндель был некогда крупнейшим московским фабрикантом, в чьем особняке живал на правах домашнего учителя Константин Циолковский, влюбившийся в красивую дочь хозяина. Ему принадлежал не только особняк в переулке, но и добрая половина строений улицы. После революции, как писал историк П. Сытин, "в бывших особняках заводчиков и фабрикантов теперь рабочие клубы, библиотеки, детские ясли и т.п.". В одном из особняков, ныне обезлюдевшем, как свидетельствует адресно-справочная книга, располагалась Кировская районная поликлиника. В ней "дежурила наша спасительница, старая, добрая Вильнер Циля Абрамовна. Нет, вроде Сара Моисеевна". Она не только учила дезинфицировать раны струей мочи или головешкой от костра, но и прививала чистым душам сострадание к чужой боли, качество особенно важное на выборной должности.
По Дербеневской выхожу к Павелецкой набережной, где курсируют автобусы, тормозящие у остановки "Больница номер 56". Вижу на левом берегу башню "Дуло" Симонова монастыря и с недавних пор блестящий на солнце золотой куполок церкви, где похоронили Пересвета и Ослябю, героев Куликовской битвы.
Но меня интересуют мало кому известные достопримечательности на правом берегу, где сосредоточены строения, описанные в книге "Мы дети твои, Москва", которые я хотел бы представить публике. Не рано ли? Ведь прошло всего четыре года, как правительство Москвы возглавил Юрий Лужков. Нет, не рано, потому что за эти несколько лет сделано больше, чем за десятилетия, и еще потому, что, только узнав о детстве мэра, повидав описанный им двор, можно понять, почему так быстро возрождается Москва, почему с таким азартом работает он, поставив цель восстановить огромный город, попавший в беду. Опустевшие, полуразрушенные строения бросаются в глаза не только в центре города старой Москвы, но и здесь, на бывшей пролетарской окраине, некогда крепости советской власти. Гибнут молча бездействующие корпуса заводов и фабрик Замоскворечья, схваченные когтями кризиса. Поднимет ли их с колен Юрий Лужков, занятый делами на левом берегу в цехах "ЗИЛа"? Хватит ли у него сил помочь всем страдающим рабочим на родной улице?
Верю, поможет. Потому что впервые с 1917 года отцом города стал коренной москвич, полюбивший Москву, живя в бараке. Это чувство родилось вдали от ампирных особняков и храмов, вне пределов Садового кольца и воспетых поэтами дворов Арбата, где и бесчувственный встрепенется. Ты стань человеком в хулиганском дворе, где каждый норовит показать силу и удаль, прыгая с берега через сваи, гоняясь на коньках за машинами, поджигая порох из трофейных снарядов. Ты полюби Москву, живя вшестером в одной комнате, без газа и канализации, без воды, за которой приходилось ходить с ведром. Без сытной еды, которую заменила однажды белая глина. Эта негаснущая в душе любовь придает силы с утра до ночи колесить по Москве, поднимать людей и стены домов, строить разрушенные храмы, искать инвесторов, приходить на помощь другим городам...
Поэтому пришел я к началу начал, на Павелецкую набережную, 6, к тому месту, где была "родилка", откуда на руках отец, перейдя улицу, ровно 60 лет тому назад принес сына в комнату на первом этаже двухэтажного деревянного барака, где победивший капиталистов пролетариат жил с удобствами во дворе и строил социализм.
Где же была "родилка" и барак? За оградой больницы я увидел в углу четырехэтажной постройки здание в плане буквы "П", с признаками архитектуры тридцатых годов. Когда же вошел во внутрь, то заметил на полу метлахскую плитку, еще один признак довоенной старины. Сидевшая у окошка пожилая женщина подтвердила мою догадку, сообщив, что сама рожала в этом доме дважды после войны.
Прошел я маршрутом плотника Лужкова от роддома на противоположную сторону 3-го Павелецкого проезда и оказался перед воротами пожарной части, за которыми стояли наготове груженные водой машины. Прежний барак заменил дебаркадер, возле него стоят катера аварийной службы. Как и полвека назад пристань служит пожарным. Теперь с каменной набережной не сиганешь в воду, как в прошлом, загаженную масляными кругами и прочей нечистью, пластиковыми бутылками, сбрасываемыми в русло несчастной Москвы-реки. В ее водах закалялся как сталь характер будущего мэра, прыгавшего в холодные и заразные волны наперекор пожарным и милиционерам.
Рядом с "пожаркой" увидел я проходную некоего завода пластмасс, "советского-югославского совместного предприятия". Нет ни СССР, ни прежней Югославии, но завод трепыхается, что-то производит. Не здесь ли на месте этого маленького гиганта большой химии располагалась "мыловарка", где любил созерцать огонь котла сын кочегарши-"матушки"?
И эту догадку подтвердила вахтер, рассказавшая, что недавно, когда рыли у завода яму, нашли в земле обрывки кож, остатки той самой запомнившейся на всю жизнь отвратительным запахом мездры, из которой варили хозяйственное мыло, стратегический продукт военного времени.
Нашел я вслед за тем на той же набережной "картонажку", разросшуюся в картонажный комбинат, окруженный высоким забором. Над ним поднимаются старые и новые корпуса, демонстрирующие, что дела здесь идут. На эту территорию, как прежде, не пройдешь запросто, не проникнешь в неохраняемый ангар, где складировались фантики конфет "Сказки Пушкина", заворожившие дизайном воображение всегда голодного московского мальчишки, от которого сегодня зависит будущее и музея изобразительных искусств имени Пушкина, и музея Пушкина, попавших в сферу действий московского правительства.
Итак, "родилка", "картонажка", "пожарка" здравствуют. Местонахождение "мыловарки" установлено. Но где стоял барак, в чьей комнате замерзала чернильница, где был тот самый двор, где дети пухли и умирали от голода?
На этот вопрос мог мне дать точный ответ только бывший житель этого барака, что он и сделал в перерыве между заседаний правительства в минувший вторник.
- Мой барак находился на Павелецкой набережной, дом 4, дробь шесть, вблизи седьмого хлебозавода.
Есть такой московский хлебозавод в Третьем Павелецком проезде рядом с заводом пластмасс. А барака нет. И никто о нем не скорбит. Но глубоко сожалеет сын Москвы об утраченном вместе с этим ничтожным жилищем высоком духе, объединявшем, сплачивавшем, воспитывавшем людей. С печалью вспоминает о бывших московских дворах, для которых как премьер и мэр нашел множество научных определений. Суть ее в том, что эта изничтоженная советскими планировщиками структура служила крепостью, "теплой общинной средой", где человек становился не только гражданином, но истинным москвичом, для которого Москва родной и самый лучший в мире город.
Под прежним номером 4 на Павелецкой набережной высится сегодня десятиэтажный жилой дом, выстроенный в послевоенные сталинские годы, с высокими потолками, пилонами на углах фасада. Рядом с ним огорожен забором пустырь, служащий стоянкой. Здесь на углу с проездом на Павелецкой набережной располагался первый московский дом Юрия Лужкова и незабываемый "двор моего детства". Точно так же остались в памяти друг Ленька Карамнов, участковый Брит, добрая врачиха Вильнер, учительница Нина Николаевна...
Школу я нашел с трудом. В кратком старом справочнике средних учебных заведений нет. Вблизи двора оказалась школа, но блочная, появившаяся вместе с кварталом типовых домов сравнительно недавно. Довоенная, кирпичная, нашлась на Дербеневской, недалеко от бывшей поликлиники. Там она светит огнями по вечерам, где ярче всего горят окна спортивного зала. Как раз на этом месте Нина Николаевна сказала вещие слова,
"Ты, Лужков, допрыгаешься!"
Как в воду смотрела учительница.
ПАРАДОКСЫ ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ
Трудно поверить, но это факт: лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, Народный художник СССР, получивший в Кремле орден Ленина вкупе с Золотой Звездой Героя, - ни разу не восславил вождя. Ни в бронзе, ни в камне, ни на бумаге, ни на холсте. Да, прихорашивал накануне столетия Ленина его родину, Симбирск-Ульяновск. И там отличился, но не так, как другие, не беломраморной статуей, не картинами с эпизодами жития. Сказочными рыбками на дне водного бассейна прославился тогда Зураб Церетели, предоставив другим двигать дальше Лениниану. После присуждения премии к лауреату явились американские журналисты и поразились, не увидев образа вождя в мастерской.
Нет произведений и на другие излюбленные в недавнем прошлом темы. Коммунистической партии, рабочему классу и трудовому крестьянству памятников не создал ни в каком подвластном материале. Не подвластных нет, как нет пролетариев с молотом, колхозниц с серпом и девушек с веслом. Что было, так это солдаты с оружием и знаменами, потому что много лет стремился создать памятник Победы для Москвы. Выполнил множество вариантов, участвовал в конкурсах и в конце концов взошел на Поклонную гору вместе со своими неистовыми воинами и неожиданным Георгием Победоносцем с крылатой Славой и ангелами, вызвав этими образами приступ ярости у воинствующих безбожников и интеллектуалов, забывших эти классические и христианские символы.
Как удалось избежать заразы коммунизма, которой переболело несколько поколений творцов, фабриковавших с 1917 года статуи Ильича во всех мыслимых позах, писавших без конца вождя и его соратников? Как при такой позиции удержался в первых рядах обласканных державой советских художников, ни дня не пребывая без госзаказов?
С первых работ художник предстал далеким от политики, но близким к жизни в естественных ее проявлениях: любви и дружбе, цветам и деревьям, сказкам и преданиям, птицам и зверям... Семь лет числился Зураб Церетели в штате академического института этнографии и археологии, исходил Грузию и Кавказ, увидел древности, храмы, монастыри, фрески, иконы, изучил иконописцев, впитал все краски жаркой родины. И начал репродуцировать их, создавать мир образов, отличающихся детской фантазией и радостным звучанием.
Краски - это застывшие звуки. Люди, заказывавшие советскую музыку, никогда не предлагали ему ничего такого, что шло бы в разрез с его устремлениями. Кода же задумали монументы для Москвы и Тбилиси в честь Георгиевского трактата, объединившего Грузию с Россией, то художник сразу согласился исполнить заказы, потому что и прежде, и теперь всей душой - за тесный союз русских и грузин, не представляет культуру вообще и личное творчество в частности запертыми в самую просторную, но одну национальную квартиру.
Сплетенный из литер, русских и грузинских, триумфальный столп на Тишинской площади высится как прежде. А два сплетенных в тугой "Узел" стальных кольца уничтожили в Тбилиси, по словам автора, "психи". Лучше не скажешь, только потерей рассудка можно объяснить то, что сотворили с его родиной те, кто приказал разрушить стоявший перед въездом в Тбилиси по Военно-Грузинской дороге обелиск. Так далекий от политики художник оказался в гуще кровавой борьбы, лишился одной из замечательных композиций.
Бесноватый президент объявил его "врагом народа". Услышав по телевидению этот приговор, мать художника скоропостижно скончалась, сидя перед почерневшим в ее глазах экраном. Этот вердикт Гамсахурдиа вынес после того, как позвонил в Москву и предложил художнику не принимать президента США Джорджа Буша, как "агента Кремля". Кто мог свободному, как птица, мастеру давать такие указания? За отказ Зураб жестоко поплатился. Если на Военно-Грузинской дороге стерли с лица земли монумент, то на Тверском бульваре бросили в окно его мастерской зажигательную смесь. Огонь ночью набросился на холсты и рамы. Несколько почерневших полотен удалось спасти, но около ста сгорело при пожаре, дополнившем костры, что полыхали на проспекте Руставели.
Обгорела "Гитара Высоцкого", написанная, когда в Тбилиси жил у него в дни "медового месяца" с Мариной Влади певец, один из многих московских друзей молодости.
Каждый видит на дороге в Тбилиси поднебесную композицию "Человек и солнце", фигуру, приглашающую в город, где сохранилось много работ художника и после того, как не стало "Узла". Самый поразительный проект воплощается в жизнь в эти трудные дни Грузии, на горе, где собирались установить памятник Сталину. Минувшим летом я увидел на вершине над Тбилисским морем бетонные монолиты, образующие квадрат. На каждом монтажники водружали бронзовые изваяния великих грузин всех веков, начиная с царицы Тамары и Шота Руставели. Сбывается давняя, долго державшаяся в тайне мечта, представить народу забытых предков. Еще при коммунистах начал Церетели ваять фигуры правителей Грузии. Чтобы ему не помешали довести задуманное до конца, заказ размещал на литейном заводе в далеком Минске, где грузинские монархи сходили за сказочные персонажи. Как видим, любовь к родине уживается у него в душе с любовью к России, патриотизм совмещается с интернационализмом. Церетели считает своими друзьями Шагала и Сикейроса, Пикассо и Нимейера, Пономарева и Глазунова.
Его дом на горе в Багеби посещали самые высокие гости. В нем принимал английского премьера Маргарет Тэтчер. В Лондоне она позировала, там был написан ее портрет. Гонорар выразился в том, что группа студентов профессора живописи Церетели, пользуясь гостеприимством премьера, побывала в Англии. Мало кто знает, что портретировал художник короля Швеции с супругой. Создал портрет матери Терезы. Когда недавно в Москве гастролировала американская звезда Лайза Минелли, то и она позировала на Большой Грузинской улице, где теперь находится московская мастерская мастера.
Но такие выдающиеся личности - не предмет охоты, хотя Зураб Церетели автор сотен портретов. Пишет постоянно никому не известных людей: друзей, знакомых, сотрудников, с кем встречается повседневно. Портреты появляются на больших холстах быстро, за один-два сеанса. Сходство достигается за минуты, но стремится мастер не к нему. Его цель, как он говорит, "поймать характер", трудноуловимые движения души, затаенные мысли, чувства, бурлящие где-то в области бессознательного. Могу, как очевидец, позировав несколько раз, сказать, что не просто узнаю себя на портретах, но и вижу, что схвачено скрываемое мое настроение.
В Тбилиси принимал первого секретаря МГК партии Бориса Ельцина, который был поражен увиденным. Двор в Багеби уставлен бронзовыми изваяниями сказочных и реальных существ. Стены большого дома заполнены живописью как в музее. Сотни картин, портретов, натюрмортов одного автора. Других нет.
Будущий президент России захотел реализовать давнюю мечту художника о городе для детей. В Нижних Мневниках нашли триста гектаров зеленой земли, омываемой со всех сторон водами. Заложили на этом острове первый камень будущего города, начали земляные работы, которые не прекращаются, хотя идут медленнее, чем хотелось бы.
Но другие планы воплотились. После той встречи президент ни минуты не сомневался в безграничных возможностях художника, поэтому Юрий Лужков поручил именно ему создать на Поклонной горе памятник Победы. Так была решена проблема, которая не поддавалась власти и творцам почти полвека.
Без газетной шумихи, интервью, рекламы создал Зураб Церетели композиции во многих странах. Их нужно долго перечислять. Перед небоскребом Организации Объединенных Наций стоит в "две натуры" статуя Георгия Победоносца на коне, поражающего не только дракона, но и поверженные ракеты, американский "першинг" и нашу родную "СС-20". Они натуральные, предоставлены скульптору президентами СССР и США. Там же, в Америке, в университете Нью-Йорка, в Брокпорте, установлен "Прометей" и пять высоких монументов, похожих и на подсолнухи, и на людей, протягивающих руки к небу и земле. В Лондоне, в Сити, водружена статуя юноши, олицетворяющая "Свободу", она - в память о разрушенной Берлинской стене.
Скульптор в общении больше всего ценит радость, улыбку, шутку. Страдает из-за того, что в Москве не все работают с душой, не держат слово. Он испытал на Поклонной горе чудовищное напряжение не только из-за обычных трудностей стройки. Главным образом из-за неизжитой советской страсти начальников учить художников, вмешиваться грубо в творческий процесс. Одному из них сгоряча влепил пощечину. Я видел, как, еще секунда, и вцепился бы мастер в министра, обличавшего православного грузина (крещенного в детстве, с малых лет следовавшего заветам Христа), в отступлении от канонов православия. Министр не только убеждал публично в этом мэра, но и препятствовал поднимать на стены храма Георгия Победоносца бронзовые рельефные иконы, благословенные патриархом Алексием II. Когда же их водрузили, пообещал эти иконы через год снять. Вряд ли ему это удастся, потому что храм на Поклонной горе с иконами Зураба Церетели полюбился народу, в чем я убедился, читая сотни записей в книге отзывов.
Во время церемонии открытия монумента на Поклонной горе президент Билл Клинтон сказал автору в присутствии Бориса Ельцина:
- Зураба я каждый день вспоминаю. Скульптура, которую он мне подарил, у меня в Белом доме.
Президент имел в виду модель памятника Колумбу, который должен подняться над берегом Тихого океана. Этот монумент задуман с американским размахом, высотой в 126 метров. Фактически это не только скульптура, но и многоэтажный дом, культурно-торговый центр со смотровой площадкой.
После того как над Поклонной горой поднялся за несколько месяцев тысячетонный обелиск высотой в 141,8 метра, я ни на минуту не сомневаюсь в реальности новой творческой задачи. После триумфа в мае на Поклонной горе Зураб Церетели пережил еще один праздник, в октябре. На этот раз в Испании, в Севильи на берегу реки, откуда ушли в плавание каравеллы Колумба. На этом месте открыли необыкновенный монумент. Из парусов трех прославленных каравелл изваял скульптор "колумбово яйцо". Я его видел. Внутри композиции, словно под шатром, стоит во весь рост молодой адмирал с картушем в руках, где прочерчен маршрут великой экспедиции из Европы в Америку.
Называется эта скульптура "Рождение Нового человека", потому что знаменитый мореплаватель представляется автору Новым человеком, который сокрушил средневековые представления о нашей планете, вдохновил современников на открытие новых земель, покорение вершин в искусстве и науке. Так у Церетели всегда. Вполне реальный образ, в данном случае Колумба, он стремится представить философски-обобщенным. По этой причине святой, поражающий дракона, не просто Георгий Победоносец, это символ "Добра, побеждающего Зло". Так официально называется скульптура, украшающая штаб-квартиру ООН. Колумб, отлитый в бронзе для Соединенных Штатов, называется "Рождение Нового Света". Ведь Колумб не только открыл неизведанный путь, но и Новый Свет, где демократия нашла необъятное жизненное пространство...
Есть еще один парадокс в жизни мастера. Он заканчивал живописный факультет. Рисовать его учили петербургские мастера, сосланные в Грузию за отступления от официальной живописи, соцреализма. "Это счастье для Кавказа", - сказал по поводу той ссылки бывший ученик русских художников. Рисовать учил Шухаев, обладавший таким же талантом, как знаменитый Чистяков, воспитавший плеяду замечательных живописцев. Он "мучил меня", со смехом вспоминает сегодня уроки Шухаева мастер, заставлял рисовать, когда натурщица была за моей спиной, по памяти, по первому впечатлению, быстро и точно, учил анатомии, видеть конструкцию любого предмета. Да, Церетели прошел отличную школу живописца.
А стал знаменитым монументалистом, чьи мозаики, барельефы, скульптуры, витражи, эмали украшают города. В Москве его зовут постоянно, чтобы художественно осмыслить общественные здания, крупнейшие архитекторы, построившие в последние годы Генеральный штаб на Арбатской площади, гостиницу "Измайловская", Хаммер-центр на Краснопресненской набережной... Теперь на его плечи взвалилась новая тяжесть - комплекс на Манежной площади. Еще одна забота - Московский Зоопарк, где так недостает красоты. На Поклонной горе не только создал памятник Победы. Для парка и здания музея Отечественной войны выполнил фонари, конные статуи, люстры, витражи, монументальные двери, капители, триумфальные венки... Труд, посильный титану.
Чем объяснить, что живописец стал монументалистом?
"Хорошие люди всегда на меня хорошо действуют. От людей я много получил", - так ответил он на мой вопрос и подробно рассказал, что это были за "хорошие люди", как они подействовали. Один из помощников генерала де Голля оказался родственником княжны Андрониковой, а значит, родственником его жены. Княжна познакомила Церетели с Пикассо. Общались с помощью переводчика. Побывав не раз в его мастерской, Зураб увидел, что великий художник занимается не только живописью, но и скульптурой, керамикой, витражами. "Тогда в моей жизни произошел перелом", - говорит Церетели.
Во Франции увидел, как делает витражи Марк Шагал. С ним познакомил друг, поэт Андрей Вознесенский. При общении с этим гением переводчик был не нужен. Зураб поразился умению девяностолетнего мастера работать подолгу каждый день с коротким перерывом на чай. Увидев живопись Церетели, Шагал сказал в его адрес много лестных слов, которые известны пока что только ему и дочери, он удивился, что яркие краски на картинах Церетели не привозные.
Еще один гигант нашего века мексиканец Сикейрос сам вышел на Зураба, приехал в Грузию, жил у него дома, побывал в Адлере, где создавал Церетели большие композиции. И от мексиканца "много получил".
Четвертый "хороший человек" Оскар Нимейер, с которым Церетели общался год, работая в Бразилии над интерьерами посольства СССР, в то время, когда архитектор строил церковь. Нимейер убедил, что в XX веке нельзя, занимаясь церковным искусством, слепо повторять византийские формы четвертого века, в чем его пытался убедить наш московский министр, занимавшийся вопросами инженерного обеспечения и параллельно, как подрядчик, строительством церкви Георгия Победоносца.
Монументалист выставлял картины на всех республиканских и всесоюзных выставках в Манеже. Персональные состоялись две. Не в Москве. Одна в Париже, в центре современного искусства Помпиду. Другая - в США, где жил год, преподавая живопись и пластику на художественном факультете университета Нью-Йорка, будучи профессором. На той выставке представлено было ровно сто картин. На 99 из них после вернисажа белели визитные карточки американцев, желавших приобрести выставленные работы. Среди этих коллекционеров оказалась жена президента США. Только один портрет, где был изображен пожилой профессор университета, не нашел покупателя.
Картины тогда не продал, не решаясь осложнений с родной советской властью. Американцы, заметив интерес к автомобилям, преподнесли ему в качеств сувенира ключ от "мерседеса", который вместе с ним пересек океан и до сих пор ездит по московским улицам.
Да, ни одной персональной выставки Церетели-живописца Москва пока не видела. Это при том, что почти каждый день хоть час, но стоит он за мольбертом перед большой палитрой, отягченной горой красок. Весь большой московский дом, подвал, мастерская стали хранилищем и выставкой картин, число которых никто не знает. В вышедшем недавно альбоме насчитывается пятьсот репродукций, большей частью картин.
Под занавес процитирую бывшего государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Бейкера. Будучи в Москве, он был очарован живописью Церетели и уехал домой с подарком, натюрмортом, где изображен букет цветов. На церемонии открытия Георгия Победоносца перед зданием ООН госсекретарь сказал, что просыпается дома всегда с радостью и вместе с женой в хорошем настроении пребывает целый день, потому что у него перед глазами в спальне висят цветы Зураба.
Да, смысл существования Церетели выражается в двух словах - радость жизни. Если ее день не было, значит, прожит зря. С утра в душе должна царить радость. Она выражается в каждой картине, в изображениях самых будничных предметов, казалось бы, не имеющих право быть объектом живописи. Есть у него полотна под названием: "Пара сапог", "Натюрморт с вениками", "Швейная машинка". Я сфотографировал натюрморт, где изображен бело-синий фирменный толчок с плоским бачком, созданным каким-то импортным дизайнером. Зураб этот бачок запечатлел на холсте, взяв его в раму. И повесил в гостиной.
Но самый любимый объект натуры - цветы. Натюрмортов много, больше чем обелисков, статуй, настенных панно, барельефов, хотя им тоже счет утрачен. Цветов тьма, больше чем в ботаническом саду, есть и такие, что нигде не растут. Почти каждый день рождаются на свет на всегда готовом к сеансу холсте, перед которым выдавлены яркие сочные краски и стоит букет живых цветов. По-видимому, эта страсть к истинному цвету позволила противостоять искушениями, подстерегавшим в прошлом советских художников. Она же придает силы на 64-м году жизни.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
"ПОД ГОЛУБЫМИ НЕБЕСАМИ
МОЯ МОСКВА ПОД ПАРУСАМИ"
В наши дни сравнивают Москву с третьим Римом. При этом одни доказывают, что она не только в мечтах монахов и царей таковым пребывала, как это делает автор новой книги "Москва - третий Рим". Другие утверждают, что если она и впрямь Рим, то времен упадка, поскольку застраивают ее не так, как надо, стиль не тот, город утрачивает лицо...
"Третий Рим эпохи распада" - вот свежий заголовок одного публициста.
"Театр времен Лужкова и Синода" - название другой, столь же решительной статьи, сравнивающей нынешние большие проекты с планом поворота сибирских рек.
Мне же кажется, в житейском бурном море Москва летит под белыми парусами, как старинный большой корабль, плывущий к острову сокровищ с золотыми куполами. Она прокладывает курс по выверенным картам, есть у нее команда бывалых матросов, есть штурманы и капитан - морской волк, не знающий устали и покоя.
* * *
Что это так, а не иначе, и переживаем мы не распад, а расцвет, я это твердо знаю, будучи ровно сорок лет профессиональным хроникером того, что происходит в Москве. Ее увидел впервые, когда возводились высотные здания, Сталин жил еще в Волынском и Кремле, чьи башни фотографировать запрещалось. На Моховой перешагнул порог старого университета. Новый наращивал этажи. Домом служила комната № 316 общежития на Стромынке. Где-то в соседних номерах, каждый коек на десять, проживали юристы Михаил Горбачев и его будущая жена Раиса, аспирантка химфака Наталья Решетовская, тайком славшая письма мужу, зэку Александру Солженицыну.
Моим соседом стал абитуриент из Грозного, зашедший по пути в Москву в станицу Вешенскую и взявший у Михаила Шолохова рекомендательное письмо. Предусмотрительным не по годам оказался мой первый московский товарищ, сын уборщицы, со Стромынки начавший ходить в Староконюшенный переулок, на квартиру автора "Тихого Дона", подкидывавшего нищему студенту рубли и угощавшего водкой. Тогда узнал я первую московскую тайну, что классик живет не только на Дону, но и на Арбате. Стремление ее раскрыть побудило в конце концов начать расследование, приведшее к находке рукописей, которые одни считали утраченными, другие - украденными. Со Стромынки началась тема, закончившаяся в 1995-м - выходом в богоспасаемом издательстве "Голос" книги "Кто написал "Тихий Дон", дружно замалчиваемой как правыми, так и левыми. Многим по сердцу давний миф о плагиате. А мне дорога истина. Ради нее и пострадать сладостно.
* * *
Тогда на Стромынке понял: Москва - город тайн, здесь делается история. На моих газах комендант общежития снимал со стен портреты Берии, расчищая мне дорогу к редакции на Чистых прудах. Отсюда члены редколлегии спешно, не доверяя это срочное задание МГК КПСС молодым, разъезжались по заводам и фабрикам на митинги, где трудящиеся гневно клеймили поверженных сталинских вождей.
Хрущев открыл всем ворота Кремля, куда я поспешил, чтобы подняться на стены и башни, Ивана Великого, купол Сената, побывать в подземных палатах, соборах и дворцах, в квартире Ленина.
Увиденное тогда стало содержанием первой книги "Москва глазами репортера". С тех пор много раз спешил в Кремль, чтобы описать, как антрополог Герасимов хоронит кости Ивана Грозного, увидеть белые камни чудом уцелевшей церкви Лазаря времен Дмитрия Донского, опуститься в колодец Арсенальной башни... Путешествовал по Боровицкому холму в глубь времен, век за веком, и в пространстве, обходя все сохранившиеся строения, рассматривая росписи, иконы Андрея Рублева. Информация для газеты стала книгой "Первый Кремль России".
Но обо всем, что узнал тогда, рассказать не мог. Потому что советским людям не полагалось знать, тем более прочесть в партийной газете о разрушенных большевиками соборе Спаса на Бору, самом древнем в столице, Красном крыльце, монастырях Чудовом и Вознесенском. Из последнего гробницы царевен и княжен упрятали в подвал Архангельского собора, где мне их показали. Но написать об этом - ни-ни! Тогда и выяснил я, что почти треть Кремля при Сталине исчезла и, кроме названных святынь, разобрали Малый Николаевский дворец, чтобы на месте его и монастырей построить Военную школу ВЦИК, чья казарма располагалась в Кремле, куда ни пройти, ни проехать без пропуска, пока жили Ленин и Сталин, было нельзя.
Как раз в этом здании при Хрущеве открыли Кремлевский театр. Его я первый описал в обновленной "Московской правде", ставшей с 1 февраля 1958 года городской газетой МГК партии, реформаторской по верстке и по содержанию, сделанной руками молодых, перешедших в старушку, верставшуюся, как подпольная "Искра", из "Московского комсомольца". В новой газете уважали репортаж, можно было писать от первого лица, употреблять "я", а не "мы". Многое стало возможным после хрущевских реформ. Но далеко не все, каждое слово продавливалось через сито бдительных уполномоченных Главлита, цензоров КГБ, министерств, института марксизма-ленинизма. Даже рост Ильича (что-то около 160 сантиметров) назвать было нельзя, чтобы не принизить величие основателя КПСС и СССР.
Попавшая в руки телефонная книжка в кабинете вождя с фамилиями расстрелянных соратников, сотрудников и помощников заронила в душу сомнения ко всему, что писали и говорили об Ильиче. Если эти люди действительно враги народа, то какой же Ленин гений, коль не распознал их вблизи себя? Если же замученные неповинны в преступлениях, которые им инкриминировали на съездах и пленумах, то что же это за партия, где творилась расправа над своими? Все эти вопросы привели к "Ленину без грима", новой еще, не изданной книге, чьи главы появлялись недавно в "Московской правде", удивляя моих постоянных читателей, запомнивших автора по давним очеркам, где Владимир Ильич представал чутким и добрым к шоферу Гилю, телефонистке Тихомировой, секретарю Володичевой, рассказывавшим внимавшему им журналисту полуправду о покойном Ильиче, о котором они сами мало что знали.
И сегодня тянет в Кремль побывать в возрождаемых Андреевском и Александровском залах, сломанных все тем же Сталиным. Хочу увидеть новые кремлевские интерьеры. Резиденцию президента. Если Павел Бородин, управляющий делами, выполнит данное мне обещание, покажет все новое, то и я напишу о Кремле 2000 года.
* * *
Входил в журналистику под грохот реактивных моторов и ракет, поэтому облетал всю страну на всевозможных самолетах, даже на ТУ-144 поднялся в стратосферу за неделю до его катастрофы. Нашел завод "Компрессор", где делали "катюши", подвал на Садовой-Спасской, где Королев лепил первые ракеты, и полигон в Нахабино, где их запускали, даже две книжки об этом издал.
Но самым интересным оказалось не летать и ездить далеко, а путешествовать в своем городе, как в чужом, ходить по улицам старой Москвы. Они волновали и вдохновляли, к неудовольствию испытанных "приводных ремней партии". Приносишь заметку о Манеже. И слышишь вдруг от тех, кто постоянно хаживал за вдохновением в "горком нашей партии", отдел строительства МГК:
- О чем ты пишешь! Мы Манеж снесем!
И ведь могли сломать, как кварталы соседствовавших с ним улиц, ставших родной темой и болью. Чем больше узнавал Москву, тем сильнее скорбел душой, потому что увидел на теле города незаживавшие раны, пустыри наподобие того, где располагался туалет при выходе из ГУМа. Здесь снесли Казанский собор, вблизи от него сломали Иверские ворота, мешавшие прохождению колонн трудящихся и танков. К ужасу своему понял, что безжалостно стерты с лица земли сотни храмов, колоколен, старинных ворот и башен, поражавших воображение всех иностранцев, начиная с древних времен, кончая 1917 годом, ставшим для белокаменной роковым. Я это установил давно, а сказать смог недавно, начав в газете цикл "Утраченная Москва".
Не только писал, но и защищал прошлое от уничтожения в комиссии, решавшей судьбу старых зданий. В ней познакомился со многими знатоками города, в том числе с Ильей Глазуновым, кому навешали много разных ярлыков. Но он первый пошел в бой за Москву, публично в ЦК КПСС осудил взрыв Храма Христа Спасителя, на месте которого до недавних дней зеленела хлорированная вода бассейна, "Самого большого в Европе".
У каждого свой путь к "перестройке", мой начался от пустырей, оставшихся на месте памятников. Сочиняя очерки об улицах и домах, я таким образом писал главы выходивших в годы "застоя" книг: "У всех на виду", "Город как мир", "Путешествия в свой город", "Края Москвы", "Хождение в Москву". Хождение стало любимым способом постижения города. Я его ощутил кожей, всем телом, пройдя вдоль и поперек, из конца в конец, по московскому меридиану, кольцам и радиусам.
* * *
Потоптавшись в центре, в один прекрасный день, глядя на большой, считавшийся секретным план Москвы, висевший в редакции, решил непременно обойти ее всю по 109-километровому кольцу МКАД. Хождение растянулось на несколько лет, став предметом шуток редакционных острословов. Когда кольцо путешествия замкнулось, почувствовал, что не только всю Москву обошел, но и увидел, узнал ее всю. Заголовок "Вокруг Москвы" в издательстве поменяли на "Путешествие по новой Москве", чтобы подчеркнуть, чему отдан приоритет новостройкам. Старина везде, и в глазах, и в издательствах, строго дозировалась. Из выходивших при советской власти краеведческих книг о Москве почти ничего нельзя было узнать об исчезнувших памятниках.
"По Арбату было много церквей", - вот все, что сообщил в очерке "Арбат" в толстенной "Из истории московских улиц" (свыше 800 страниц) П.В. Сытин, очевидно, не имея возможности сказать, что все три Николы на Арбате, как десяток других церквей в переулках, снесли.
Как же радовался я сейчас, когда ехал с мэром на Арбат, куда он спешил, чтобы открыть памятный знак на месте снесенного Николы Явленного.
- Мы его восстановим, - пообещал Юрий Лужков в ответ на высказанное сомнение, как бы этот знак не стал крестом на могиле памятника.
* * *
От церквей и в "Московском рабочем", где издавали книги, и в "Московской правде" шарахались, как черт от ладана. Казалось бы, какой секрет, что на Новом Арбате реставрируют Симеона Столпника, превращенного в склад.
- Пусть реставрируют, а мы писать не будем, чего ты носишься с этим Столпником?
Как же не носится, если здесь венчались тайно граф Шереметев и Параша, отпевали Гоголя... Мимо церкви со срубленными куполами я ходил по Поварской в училище Гнесиных. Отсюда спешил Трубниковским к пианистке, поджидавшей в классе на Собачьей площадке в пропахшем столетиями деревянном особняке, некогда дворянской усадьбе, музее, закрытом тогда же, когда взрывали старую Москву.
Какой была Собачья площадка, знаю не с чужих слов и описаний. Когда же ее сломали при Хрущеве, то увидел, какого масштаба было тотальное уничтожение города, проводившееся до войны, когда Никита Сергеевич сидел на Москве, будучи вторым, потом первым лицом, вместе с другом Лазарем уничтожая улицу за улицей, храм за храмом, вырубая бульвары Садового кольца. Зачем? Чтобы построить по сталинскому Генплану 1935 года "образцовый социалистический город". В кавычки беру слова из Генплана.
Эту формулу пришедший на смену Хрущеву верный ленинец Брежнев слегка перефразировал, призвав народ построить Москву - образцовый коммунистический город.
* * *
В Москву вслед за тысячами земляков я попал с берегов Днепра, из "города чугуна, стали и проката", как писали в газетах, и вождей, добавлю от себя. На квартиру к одному из них я ходил в гости вместе с его сыном, племянницей и их друзьями. Располагаясь с комфортом в полупустой квартире уехавшего куда-то на целину бывшего секретаря Днепропетровского обкома партии, ставшего в год смерти Сталина москвичом и комиссаром военных моряков. Этим комиссаром был Леонид Ильич, по словам генсека: "Какой красивый молдаванин!", а в том домашнем кругу просто добрый "дядя Леня", веселый и простой.
Поскольку родился и вырос я в городе, основанном Екатериной II и великим Потемкиным, на земле новой России, завоеванной ими, как Крым, то и заговорил поэтому по-русски. Песни пел по-украински, как говорили на базаре, весь день по радио и на уроках украинского языка. Поэтому знаю лучше тех, кто кричит сегодня, что Киев не отец, а мать городов русских - в СССР никто украинский язык не ущемлял. И все, кто сегодня размазывает по бумаге клевету об "империи", подло лгут, оправдывая отнюдь исторически не оправданный и отнюдь не предопределенный свыше якобы неизбежный развал государства, разрыв вековых связей русских и украинцев.
Перед крахом СССР командировала меня редакция на берега Днепра, где археологи нашли гробницу, приписываемую Юрию Долгорукому. Он похоронен в Киеве, он же основал Москву. Это ли не доказательство векового единства и родства? Со времен Юрия киевляне и московляне считали себя сынами одного народа. Почему же меня сегодня на пути из Москвы в Днепр мытарят по часу ночью сначала с одной, потом с другой стороны новоявленного кордона, грохочут сапогами, опрашивают, обыскивают, не дают спать?
Никаким западенцам, западноукраинским национал-демократам, в моем понимании фашистам, не под силу подавить "чувство семьи единой", не разделить наши реки и города, Киев и Москву, где так долго верховодили уроженцы Украины: Каганович, Хрущев, Брежнев, сотни переведенных решениями ЦК в столицу на вышестоящие должности их земляков. Город они не знали, вряд ли любили, видели его из машины, проносясь на большой скорости с работы на дачу и обратно, выезжая изредка из Кремля на стройки и заводы.
* * *
За двадцать лет при Брежневе мало что сделано в старой Москве. Зато много наворотил "дорогой Никита Сергеевич". Слышал однажды его пылкую несвязную речь под сводами станции метро "ВДНХ", куда он спустился в день пуска линии, чтобы произнести очередную филиппику. Он не только сломал Собачью площадку ради Нового Арбата, но загнал Строительство и Архитектуру в тупик, из которого они на наших глазах выползают на четвереньках.
К чему бы ни прикасалась его рука, будь то план Московской кольцевой автодороги, эскизы новых станций метро, чертежи жилых домов, - везде после этого проекты скукоживались, упрощались и ухудшались в погоне за сиюминутной экономией. Вникал всюду, во все, туалеты совместил с ваннами, потолки чуть было не объединил с полами, чердаки извел, выше девяти этажей не разрешал строить даже на Кутузовском проспекте.
Да, массовое, по заводскому типу налаженное, скоростное жилое строительство, монтаж вместо кладки - это детище Хрущева, это Октябрьская революция в градостроительстве. Но это и тотальное уничтожение старой Москвы. Ее бросили на произвол судьбы. Потому что типовое индустриальное домостроение возможно на окраинах, пустых землях бывших ста сел и деревень, пяти городов, одним хрущевским указом присоединенных к Москве. Так она стала городом площадью почти в девятьсот квадратных километров.
Я ходил и описывал на этих квадратных километрах не Москву, а кварталы, сотни одинаковых, безликих, вычерченных, а не нарисованных фасадов, которые начали ломать на наших глазах в Кузьминках и других районах, слывших некогда символом социалистического прогресса, сегодня ставших головной болью городского правительства.
* * *
Хватило этих квадратных километров ненадолго, на наших глазах произошел прорыв кольцевой границы в шести направлениях, город в плане стал напоминать солнце с протуберанцами. Москва содрогалась от катаклизмов экономики социализма, наплыва "лимитчиков", расползания по земле. За год город поглощал двадцать пять квадратных километров ближнего Подмосковья, превращая зеленые просторы в кварталы типовых домов, оставляя в глубине новостроек промышленные зоны, фактически пустыри, свалки. Одна Очаковская промзона распростерлась на Юго-Западе на восемьсот гектаров, поразив недавно облетавшего на вертолете Москву мэра масштабами и запущенностью. Ничейная земля! Десятки таких промзон щедро нарезали планировщики, составлявшие Генеральный план 1971 года, тот самый, по которому Москва должна была стать образцовым коммунистическим городом.
Впервые обо всех этих проблемах удалось рассказать в книге "Москва у нас одна" весной 1991 года, когда времени у Советского Союза, чтобы излечить хронические болезни социализма, не оставалось.
* * *
Старая Москва досталась Михаилу Горбачеву в руинах. У города ни сил, ни средств, чтобы обновляться, не было. Застройщиками центра являлись Комитет госбезопасности, оседлавший Лубянку, Минобороны, подмявшее под себя Арбатскую площадь, МВД, осевшее напротив монумента Ленина на Октябрьской площади...
Об этом я не преминул пожаловаться побывавшему в "МП" первому секретарю горкома Борису Ельцину,часов пять просидевшему за столом главного редактора в доме на Красной Пресне. Он многое нам тогда наобещал: и продовольственные заказы, и дачные участки, и распродажи дефицита.
Но за его широкой спиной писать оказалось небезопасно, даже когда речь заходила об истории, будь то о событиях 6 июля 1918 года, когда в Москве взбунтовались левые эсеры, будь то о событиях 16 октября 1941 года, когда произошла паника, начался массовый исход москвичей из осажденной столицы. А невинная статья "Здравствуйте, Черемушки!" с предложением переименовать московские районы, носящие имена соратников Сталина, вызвала дискуссию на Политбюро. Михаил Сергеевич попятился, когда заголосили его соратники, не желавшие поступаться принципами. Пришлось нашему редактору Михаилу Полторанину давать задний ход, а мне уповать, что Борис Николаевич не даст в обиду.
Но проявить себя как строитель Ельцин в Москве не успел. Ему пришлось страдать и бороться. А нам вместе с ним защищать Белый дом, потом выдерживать осаду при штурме все того же Белого дома. Вечером 3 октября 1993-го на пути к редакции по опустевшей Пресне преградил дорогу отряд с автоматами не то защитников демократии, не то разогнанного Верховного Совета.
- Старый хрен, куда ты прешься? - от людей в бронежилетах услышал я в свой адрес приведенные выше слова, несколько мной отредактированные. Автоматчики занимали боевую позицию у стен издательского комплекса "МП", в то время как сотрудники, кто находился в здании, пребывали в подвале бомбоубежища. Пробоины от пуль в зеркальном потолке приемной главного редактора и в стенах наших больших окон остались, как рубцы от ран на теле солдата.
* * *
Не думал, что случайно встреченный в Останкино перед телепередачей "Ярмарка идей" спокойный с виду коренастый хозяйственник, ведавший в исполкоме подгнивавшими овощами и капусткой, круто повернет руль корабля под именем "Москва". Что именно он начнет возрождать то, что уничтожено по воле Сталина, исправлять просчеты Хрущева, исполнять то, что не сделал Брежнев.
Лужков не поспешил по их примеру превращать Москву в образцово-показательную столицу демократии. Он начал ее ремонтировать и восстанавливать. Во время ожесточенных бомбардировок в дни войны она не понесла столько потерь, сколько в годы сталинской реконструкции, хрущевского обновления, брежневской борьбы за образцовый комгород.
Впервые с 1917 года начал, по его словам, "работать на Москву" не профессиональный революционер, верный сын партии, политик, а "хозяйственник" и, что особенно важно, коренной москвич, родом с Дербеней. И шеф строительного комплекса Владимир Ресин, сохранивший его от развала, детство провел в районе ВДНХ. Они не путают Сокол с Сокольниками, зал имени Чайковского с залом консерватории с тем же именем. Знают и любят старую Москву. Теперь они, а не люди на Старой площади и в Кремле занимаются городом, который на удивление всему миру начал преображаться со скоростью, испытанной в истории дважды - после пожара 1812 года, когда первопрестольную восстанавливали на пепелище, и в предвоенные годы, когда большевики, круша церкви, сооружали метро, мосты, какая Москва - Волга, Дворец Советов и улицу Горького, попутно взрывая Храм Христа, Тверскую, Охотный ряд...
Москва при Сталине украсилась метро, набережными, башнями высотных зданий, при Хрущеве заимела МКАД, Лужники, Дворец съездов, Черемушки, Новый Арбат, при Брежневе достроила Останкинскую башню, возвела крытый Олимпийский стадион, другие олимпийские арены, дворцы спорта. Горбачев не создал ничего, кроме дачи в Форосе.
Нет такой уникальной стройки, которую бы я обошел стороной. Но сегодня не хватает времени, чтобы успеть повидать все БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ, реализуемые волею Лужкова и его команды. Это не только крупные строения, где трудится по нескольку тысяч человек одновременно. Это символы возрождения России, единства народа, борьбы с прошлым. Работа идет по графикам, в три смены, как на оборонных заводах в дни войны. Все виденное позволяет утверждать: началось долгожданное воссоздание Москвы, происходит строительный бум, испытанный в XX веке передовыми странами, государствами Европы и молодыми "тиграми Азии". Еще раз позволю повторить слова: "На всех углах Москва в лесах".
Наконец у отцов города руки дошли до руин, древних палат и ампирных особняков, доходных домов, не ремонтировавшихся с первой мировой войны, до "хрущоб", пущенных под снос, до тюрем, наконец, где мучаются арестанты.
Старый Гостиный двор.
Новые Лужники.
Ансамбль Манежной площади.
Большой и Опера Колобова.
Храм Христа Спасителя.
Гостиницы на Тверской, в Столешниках.
Памятник Петру Великому.
Московский зоопарк.
Башни на набережных.
Митино, Жулебино, Бутово...
МКАД, Третье кольцо.
По этим и другим адресам почти каждую субботу мчатся мэр, члены правительства, журналисты и я, добровольно лишив себя выходного, чтобы видеть своими глазами небывалое.
* * *
Все началось на Поклонной горе, куда спешат теперь молодожены, белеет Храм, вознесся обелиск, скачут кони, трубят золотые трубы и Георгий Победоносец поражает фашистского зверя, которого наши солдаты добили в берлинском логове.
Поклонную я увидел, когда на ней заложил камень мемориала. Спустя двадцать лет черная глыба покоилась на месте. Накануне Московской Олимпиады снова бродил по холмам и оврагам, пытаясь установить, откуда кланялись Москве в давние времена, где Кутузов смотрел на нее перед сдачей города Наполеону. Тогда убедился, что срыли поклонное место, спланировали холм в несколько этапов задолго до того, как Анатолий Полянский взялся завершить то, что не сумели до него Вучетич и Томский.
Поэтому поразился, когда прочитал в газетах о мнимом злодействе проектировщиков памятника Победы, поднявших якобы руку на святыню.
- Восстановим Поклонную гору! - потребовали патриоты из общества "Память", выйдя с этим лозунгом на первую в истории советской Москвы политическую демонстрацию под стены Кремля, откуда с ведома Бориса Николаевича проследовали по Тверской к Моссовету для собеседования с первым секретарем горкома, пообещавшим разобраться. Разобрался...
Замерли башенные краны над всесоюзной стройкой. Все громче призывали снести до основания стены возведенного громадного музея. Тогда и написал, где на самом деле была Поклонная гора. Для восстановления ее пришлось бы снести Триумфальную арку, засыпать Кутузовский проспект.
А наутро ощутил, какой силой обладает общественное мнение. Незнакомые люди ночью звонками поднимали с постели, угрожая расправой. Герой-генерал допытывался по телефону, с чьей подачи написаны "Быль и мифы Поклонной горы"... Трижды пришлось бить в одну цель, опровергая эмоциональные публикации, появлявшиеся и слева, и справа. Чувствовал себя как тот солдат, что вышел в поле один. Настоящая журналистика, как понимаю, это сольное пение. И понял, столкнувшись в который раз лбом со стеной, что общее мнение - не синоним истины. Сфокусированное на отдельных явлениях и лицах, оно зачастую является феноменом всеобщего заблуждения, что, например, наблюдаем мы сейчас при оценке ярчайшего дарования, монументов Зураба Церетели, делающего Москву краше и радостнее.
* * *
Сегодня можно спать спокойно и не переживать утром, что ночью где-то в Замоскворечье бульдозеры подкосили дом Островского... Другие проблемы волнуют, другие герои нуждаются в помощи газеты, остающейся и при демократии орудием в борьбе за истину.
Снова приходится отбиваться слева и справа, где с одного фланга заклинают: "Москва - Рим эпохи упадка", а с другого - тратятся на книгу "Москва - империя зла" с портретом мэра, как будто бы не его правительство поднимает город с колен, мало что получая из тощей казны России. У нее нет средства, чтоб помочь национальной библиотеке, Историческому музею, Академии живописи, ваяния и зодчества, достроить начатый национальный детский парк...
Не проходит дня, чтобы в который раз стройку на Манежной не окрестили "ямой", не метнули стрелу в Храм Христа, не прошлись по адресу памятника Петру Первому, который чуть ли не загораживает Кремль, хотя его давным-давно заслонил "дом на набережной".
Процитирую несколько недавних высказываний, оценок, пророчеств:
"Призрачный платоновский "Котлован" зияет посреди Москвы".
"Роются в Москве ямы и возводятся башни".
"Все объекты - пример небывалого волюнтаризма властей".
"Стройка у стен Кремля не сулит никакой удачи".
"Поставив на зодчество, московский мэр рискует проиграть".
Так пишут образованные люди, считающие себя либералами и демократами в дни, когда девять человек из десяти проголосовали на выборах за мэра.
Как там говорят на Востоке: собаки лают, а караван идет. Нет, не идет - плывет, летит над волнами, под голубыми небесами моя Москва под парусами.



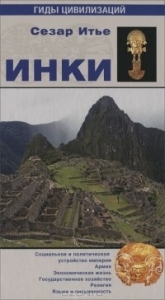
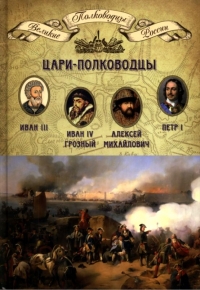

Комментарии к книге «Переулки Арбата», Лев Ефимович Колодный
Всего 0 комментариев