Из книги - Граф В.Н. Коковцов "Из моего прошлого"
воспоминания 1903-1919
Старая орфография изменена.
ТОМ I
Париж 1933 год
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
(части 1.-3. см. на нашей стр.)
От открытия Государственной
Думы третьего созыва до убийства Столыпина
{287}
ГЛАВА I.
Установление нормального сотрудничества, Думы с правительством. Кадетская оппозиция. - Общие прения по росписи на 1908 г. - Моя бюджетная речь и ответ на критику Л. Н. Милюкова. - Законодательное предположение о необходимости расширить бюджетные права Думы. - Выступление М. С. Аджемова и мой ответ ему. - Предложение об образовании, в законодательном порядке, комиссии для обследования железнодорожного хозяйства. - Произнесенные мною, в ответ на выступление П. Н. Милюкова, слова: "у, нас, слава Богу, нет еще парламента". Смысл этих слов и вызванные ими инциденты.
20-го ноября 1907-го года открылась Государственная Дума третьего созыва.
Говорить о том, как она открылась, какое отношение к власти проявила она, с первого же дня, каким патриотическим чувством повеяло от первого прикосновения ее к исполнению своих обязанностей, в каких выражениях повергла она к престолу выражение одухотворяющего ее настроения, и как легче вздохнули все мы, оставшиеся у власти, - все это общеизвестный факт, и много сказано о них другими в лучшей обстановке, нежели та, в которой мне приходится вести мои записи.
С этого дня, в течение длинных шести, лет, вся моя работа по должности Министра Финансов, а потом, с сентября 1911 года, и в должности Председателя Совета Министров, протекала неразрывно в связи с Государственною Думою сначала третьего, а потом и четвертого созыва и, можно сказать, что мой 14-ти часовой труд в сутки столько же протекал на трибуне Думы, сколько и в кабинете Министра Финансов на Мойке.
{288} Много труда и нервного напряжения отдал я за это время, немало тяжелых минут привелось мне пережить, но немало также и нравственного удовлетворения получил я от моей работы в Думе и всегда поминаю доброю памятью эту пору моей жизни и моего ответственного труда.
У меня нет возможности дать исчерпывающий пересказ всего, что пережито за эту пору, и я остановлюсь только на главных моментах, удержанных моею памятью, и соединяю с этими моментами и другие переживания этого, поистине, Sturm und Drang (Штурм и Натиск) Periode моей жизни.
Как только открылась Дума 20-го ноября, между нею и правительством сразу установились самые тесные отношения. Уже в день открытия выяснилось, что на должность председателя Думы будет выбран Н. А. Хомяков с таким же единодушием, с каким был выбран в первой Думе Муромцев. Я был с ним знаком по его должности Директора Департамента Сельского Хозяйства в Министерстве Земледелия и, тотчас после молебна при открытии Думы, имел с ним продолжительную беседу, развивая необходимость, как можно скорее назначить к слушанию в Думе проект росписи для того, чтобы поскорее направить его в бюджетную Комиссию и сократить мало полезные, предварительные общие прения, которые, все равно, возобновятся с большею силою потом, когда бюджетная Комиссия внесет свой доклад, уже после рассмотрения отдельных смет и всей росписи. Он тут же оказал мне, что этот вопрос уже предрешен в частных совещаниях еще до открытия Думы, и, вероятно, общие прения не займут больше одного, двух дней и будут носить чисто академический характер. Он предупредил меня, что моим оппонентом будет, вероятно, глава кадетской партии П. Н. Милюков, которого давно уже, как выразился он, "натаскивают та резвость и злобность", и прибавил, что и сам Милюков отлично понимает, что мало знает этот вопрос, но не может, конечно, отказаться от выступления, в качестве лидера оппозиции; будет, вероятно, вполне корректен по форме, но, разумеется, станет доказывать, что Дума должна иметь неограниченное право в пересмотр всяких кредитов и обрушится на сметные правила, как на кандалы, связывающие народное представительство в его бюджетной свободе.
В заключение он сказал мне, с его обычною, простодушною, но весьма лукавою улыбкою: "Вы этим не смущайтесь, - {289} этот номер теперь не пройдет, и сами кадеты будут Вас ругать только для очистки совести".
День 27-го ноября, назначенный для предварительного обсуждения бюджета, носил очень торжественный характер. Трибуны были полны до отказа. Дипломатический корпус - в полном составе, несмотря на то, что для него интерес дня не мог быть велик, так как никто не ждал сенсационных проявлений.
Печать появилась в таком количестве, что представители газет сидели буквально на коленях друг у друга и не имели никакой возможности делать записей, но недостатку места. Весь Совет Министров был, разумеется, в сборе и чуть что не все старые чиновники, почти всех ведомств, заполнили боковые места, обычно пустовавшие в первых двух Думах.
Когда мы заняли наши места и рядом со Столыпиным, поместился, по старшинству, Барон Фредерикс, а я сел рядом с ним, то первый его вопрос ко мне был - уверен ли я, что нас опять не попросят выходить в отставку? - и с двух сторон, от Столыпина и от меня, последовал одинаковый ответ, что мы получим, вероятно, совершенно иной прием, к которому мы совсем не приучены. Так оно и вышло.
Хотя мое первое обращение к Думе было у меня заранее написано, но я его не читал, а говорил почти не заглядывая в писанный текст и только проверяя по нему отдельные числовые сопоставления и выкладки. Это первое мое выступление в Государственной Думе III созыва сохранилось в полном объеме лишь в редком теперь издании - в протоколах Государственной Думы.
С первых же слов настроение в Думе поднялось. Весь правый сектор и даже больше половины всего зала, то есть скамьи правых, националистов и почти все октябристы, стали отмечать мои объяснения сначала отдельными аплодисментами, потом все более и более горячими знаками сочувствия и одобрения.
Оппозиция молчала и почти ни разу не прервала меня в только два-три короткие, неблагоприятные замечания привели к моему же успеху, так как мои реплики вызывали еще более шумные аплодисменты и двухчасовая моя речь, по общему признанию, была моим настоящим триумфом. Продолжительные и оглушительные рукоплескания проводили меня с кафедры, - как говорит стенограмма думского заседания.
{290} Все Министры демонстративно поздравляли меня и на виду у всех депутатов и потом в министерском павильоне; многие депутаты, которых я совсем не знал, подходили ко мне с приветствием и выражением благодарности, а Столыпин обнял меня в павильоне, поцеловал и. сказал барону Фредериксу: "Вы увидите Государя, конечно, сегодня, - доложите Его Величеству, какой триумф выпал, и притом так заслуженно, на долю Министра Финансов и насколько изменилось все, сравнительно с тем, что было так недавно. Для нас, для правительства, это настоящий праздник".
После перерыва небольшую речь произнес, не помню теперь, кто из октябристов, не поскупившись также на известную "оппозиционность", в смысле указания на недостаточность прав Государственной Думы в бюджетном отношении, но в очень умеренных тонах.
Внимание всех насторожилось, когда, на трибуну вышел П. Н. Милюков и заявил, что он уполномочен от конституционно-демократической фракции Государственной Думы высказать, как смотрит она на внесенную Правительством роспись государственных доходов и расходов, на выслушанные всеми с таким выдающимся вниманием объяснения Министра Финансов и, в особенности, на то, в какие недостойные народного представительства условия поставлена Государственная Дума, так называемыми, сметными правилами, составленными "господами действительными тайными советниками" с единственною целью создать один призрак бюджетного права Государственной Думы, под которым сохраняется, во всей неприкосновенности, безграничное самовластие исполнительных органов, ничем не ограничиваемого, правительства. Его первые слова были встречены шумными аплодисментами оппозиции, покрытыми, однако, еще более шумными протестами большинства Думы правой половины и - молчанием левого центра.
Это было мое первое столкновение с оппозициею в Думе третьего, а затем и четвертого созыва, и оно тянулось непрерывною цепью, хотя подчас и не в слишком острой форме, во все шесть лет, до самого моего оставления моей активной работы, в начале 1914 года. Менялись только представители партии народной свободы, но тон оппозиционных речей и самое содержание их оставалось неизменно одно и то же - доказывать по всякому подходящему и неподходящему поводу, что правительство действует неправильно, игнорирует народные интересы, ограничивает права народного представительства, живет {291} интересами давнего дня и неспособно подняться на высоту самого элементарного предвидения будущего, занимаясь исключительно охраною своего собственного положения, отвоеванного от действительного представительства народа.
Носителем кадетского вероучения, во все шесть лег, был мой бессменный оппонент Андрей Иванович Шингарев, в таких ужасных условиях погибший, вместе с Кокошкиным, от руки советских агентов-матросов, ворвавшихся к нему, больному, в Мариинскую больницу, куда он был переведен из Петропавловской крепости.
Об ужасном конце его жизни я узнал в самом начале 1918 года, в бытность мой в Кисловодске, и невольно перенесся тогда мыслью ко всем его пламенным речам в пользу охранения народа от гнета и злоупотреблений власти, как и о том, как часто он отравлял мне мое существование обычными его приемами бороться со своим противником своеобразными аргументами, далекими от существа предмета и рассчитанными на сочувствие толпы, падкой на облечения власти, хотя бы и лишенные справедливости.
Но в самом начале третьей Гос. Думы Шингарев не считался еще в кадетской партии достаточно выросшим для принципиальной борьбы с правительством, и сделать декларативные заявления "оппозиции Его Величества" призван был сам глава партии П. Н. Милюков, который и должен был, таким образом, сразу же положить грань между правительством и левым сектором Думы, и эту грань кадетская партия ни разу не придвинула в сторону правительства за все шесть лет наших постоянных встреч в Таврическом дворце. Мы остались, каждый, на наших позициях, и не было ни одного случая, чтобы следом за мною, о чем бы я ни говорил, не выходил на трибуну кто-либо из кадетов и, большею частью и даже почти всегда, - А. И. Шингарев.
На этот раз положение П. Н. Милюкова было не из легких.
Сам он никогда не занимался бюджетом, не был совершенно подготовлен к нападению на правительство то существу и, со свойственною ему, добросовестностью изучил то, что ему приготовила партия, заранее оповестившая, во всеобщее сведение, свое исповедание веры, через посредство газеты "Речь".
В Совете Министров было все это заранее известно, и меня просили, по возможности, ответить Милюкову тут же, не перенося прений на другой день, чтобы не дробить впечатления. Я так и поступил, тем более, что возразить Милюкову было {292} совсем не трудно, настолько трафаретны были все его мысли и настолько академичны были все его сетования.
По общему впечатлению всех присутствовавших на заседании и по отголоскам печати, разумеется, кроме "Речи", Милюков не вплел своею бюджетною речью новых лавров в свой политически венец. Этим я объясняю отчасти - впрочем, может быть, несправедливо - и то, что с этой поры наши встречи с ним были проникнуты какою-то вежливою натянутостью; мы ограничивались всегда изысканно-вежливыми поклонами и даже в эмиграции характер наших далеких отношений мало изменился.
Ответивши в полушутливом тоне на его нелюбовь к чину действительного тайного советника, что вызвало дружный хохот в Думе, я расположил мое возражение по двум разделам его оппозиционного выступления против правительства.
В первом, он начал с резкого обвинения правительства в нарушении прав народного представительства заключением, именно мною, займа в Париже, в апреле 1906 года, не выждавши созыва Государственной Думы. Тут мое положение было просто выигрышным. Не только потому, что заем 1906 года не имел никакого отношения к рассматриваемому бюджету на 1908 год, но, в особенности, потому, что пример первых двух Дум был налицо у всех и ясно показал, насколько могло правительство получить на них разрешение на заключение какого бы то ни было займа. Я воспользовался и тем, что имел право впервые сказать открыто в Думе, что именно было сделано нашими представителями общественности в Париже, в бытность мою там, в пору заключения займа, и какие меры были приняты ими, чтобы помешать займу. Я не назвал ни одного имени, но все отлично понимали, откуда дул этот ветер и после моего выступления, открыто говорили в кулуарах, что Милюков не думал вовсе, что я коснусь этого инцидента.
Особенно не удовлетворил Милюкова, однако, если судить по его реплике, самый прозаически ответ мой на вопрос: могло ли уважающее себя правительство не стремиться к заключению, в 1906 году, займа в
843 миллиона рублей, когда у него к началу этого года был дефицит по сметам на 480.000.000 рублей, да на такую же сумму предстояло оплатить срочных обязательств перед заграничными кредиторами. Я спросил моего оппонента, как поступил бы он сам, если бы находился у власти, и стал ли бы он ждать перед опасностью {293} банкротства государства почти три года, пока последовало бы согласие нынешней Думы на заключение займа?
Бурные аплодисменты значительного большинства Думы были ответом на мое заявление.
После этого пошли вариации на избитую уже во второй Думе тему о недостаточности бюджетных прав Думы, приправленные сначала осторожными, а затем, под влиянием настойчивых вопросов об уточнении туманного заявления, уже более определенными положениями о необходимости приступить немедленно к пересмотру сметных правил с применением нового текста их к внесенному бюджету. Тут также мой оппонент не имел особенного успеха. Вся Дума отлично понимала, что рассматривать бюджет необходимо по существующим правилам, а применять новый порядок самовольного исключения властью Думы кредитов, основанных на ранее изданных законах (ст. 9-ая сметных правил), очевидно, можно только после того, что новые правила будут установлены. Все это говорилось только для оппозиции в без всякого расчета на практическое осуществление, но в оппозиционных кругах впечатление было произведено, свои газеты прославили оратора, осудили меня, как рутинера, и главная цель была достигнута: речь произнесена, а дело не задержалось далее первого дня общих прений, и все отлично понимали, что все сведется к передаче, смет и росписи, на рассмотрение бюджетной Комиссии, что только и требовалось.
О второй половине речи Милюкова просто не хочется говорить. Его сотрудники плохо приготовили ему материалы для нападения на меня, сам он с ними не достаточно справился и был бледен и мало содержателен, то придирчиво упрекая Министерство Финансов в том, что оно исчисляет доходы преуменьшено, то противореча себе, что доходы внесены преувеличено. В этой части он совсем запутался, попытавшись уличить правительство в том, что оно скрыло дефицит, совершивши, как он сказал, "некую манипуляцию" искусственного перенесения в чрезвычайные расходы 8-ми миллионов, которые следовало показать по обыкновенному разделу. Другими словами, что я сделал прямую передержку для сокрытия дефицита. Под шум и громкие рукоплескания большей половины Думы, я прочитал текст закона о распределении расходов между обыкновенными и чрезвычайными и предложил самой Думе решить кто из нас прав.
{294} Пересматривая и теперь, много лет спустя, отчеты этого заседания Думы, я могу, по совести сказать, что этот первый день думской работы 27-го ноября 1907 года - кончился, несомненно, победою правительства над попыткою возобновить по бюджету оппозиционный натиск по примеру первых двух Дум. Атмосфера была иная. Всем хотелось приняться за работу не выходя из зала заседаний со многими депутатами, все мы чувствовали, что начались иные времена и можно начать спокойно вести каждому свое дело.
Для меня лично этот покой оказался, однако, не долговременным.
Уже в январе пришлось встретиться с новою, не очень, правда ожесточенною, попыткою оппозиции совершить нападение на правительство.
Не успела собраться Дума третьего созыва, не успела она внутренне организоваться, как уже 10-го ноября, за подписью 40 членов внесено было законодательное предположение о необходимости пересмотреть Высочайше утвержденные 8-го марта 1906 года, сметные правила, отменить в них все, что ограничивает права народного представительства в бюджетном деле, и применить новый порядок к рассмотрению смет и росписи на 1908 год.
Предложение это списано было буквально с такого же предположения, внесенного, от имени той же партии во вторую Гос. Думу, осталось ею не рассмотренным и под ним поставлены были подписи членов той же фракции в третьей Думе, с перепечаткою даже и тех типографских ошибок, которые были замечены в первом проекте.
Первым, подписавшим предположение, был член Думы Аджемов. Он же взял на себя и защиту законопроекта или вернее, нападение на правительство и попытку провести те же оппозиционные тенденции, которые так ярко характеризовали первые две Думы. Уже много лет потом, в эмиграции, в Париже, вспоминая эту первую свою попытку выступления против правительства, Аджемов говорил мне, что выступал он крайне неохотно, не будучи вовсе знаком со сметным делом, но не мог отказаться от возложенной на него миссии, потому что партия потребовала от него выступления, как выражался он по чисто стратегическим соображениям, не сомневаясь в том, что правительство будет выступать с решительным протестом, обрушится на него всею своею тяжелою артиллерией возражений Министра Финансов и тогда на смену ему будет {295} выдвинут намеченный партией главный мой противник А. И. Шингарев, который специально готовится к этой роли и уже успел выдержать блестяще экзамен на партийных собраниях.
Никому из правительства Шингарев совершенно не был известен, но до нас доходили сведения из думских кулуаров, что среди депутатов распространяется молва об нем, как о человеке очень даровитом и чрезвычайно резко настроенном против правительства. Его былая карьера - земского врача Воронежской губернии не говорила ничего о его финансовых дарованиях, но все воронежские депутаты говорили часто в земских собраниях он считался именно специалистом по сметным вопросам, едким в прениях и крайне настойчивым в аргументации и проведении своих взглядов, всегда решительно-оппозиционного характера.
Как только законопроект был отпечатан и подписан, Столыпин прислал мне его на рассмотрение и, получивши от меня словесное разъяснение, что это тот же старый, даже не перелицованный проект, внесенный во вторую Думу, он внес на рассмотрение Совета Министров предварительный вопрос о том, какой тактики следует держаться правительству в отношении к нему? Следует ли выступить с решительными возражениями при первом же заслушании его в Думе при разрешении вопроса о направлении законопроекта, или остаться нейтральным в этом первом фазисе, выждать рассмотрения его в комиссии, куда дело будет, несомненно, передано, принять в ней деятельное участие, относясь к проекту отрицательно и занять ту же непримиримую позицию и при передач заключая комиссии в общее собрание?
По этому предварительному вопросу разногласий в Совете не было. Министр Иностранных Дел Извольский попытался, было высказать мнение, что лучше не мешать работе Думы и не спорить заранее против возникшего предположения, а ограничиться самым общим заявлением, что оно чревато большими осложнениями, которые выяснятся при детальном ею рассмотрении, но что правительство готово сотрудничать с Думою, сохраняя, разумеется, полную свободу действий при разработке внесенного предположения. Он скоро, однако, отказался от высказанного мнения под напором единодушного взгляда всего правительства о крайней опасности внесенного проекта с правительственной точки зрения и полной невозможности не высказать сразу же, с самого первого момента, категорического взгляда на него, как на неприкрытую даже попытку меньшинства втравить {296} большинство Думы в чисто оппозиционную затею, имеющую своею единственною задачею затруднить деятельность правительства в ту пору, когда несомненное большинство членов Думы и не помышляет о принципиальной оппозиции. Мы все были единомышленны в том, что на нас лежит долг открыто выяснить Думе всю опасность поднятой затеи, хотя бы для того, чтобы потом не было упрека, что мы нарочно молчим перед новым составом представительства и скрываем от него наши взгляды. На меня было возложено сразиться с оппозициею в первом же заседании, как только дело будет поставлено на повестку "по направлению" и изложить все принципиальные возражения против внесенного предположения, в надежде что в таком случае есть много шансов на то, что дело застрянет в Комиссии, и Дума не станет вовсе торопиться его рассмотрением.
Так оно и вышло. Дело было назначено к слушанию на 12 января 1908 года, заняло два заседания и окончилось простою передачею в Бюджетную Комиссию, в которой пролежало очень долго, гораздо позже вышло из нее в Общее Собрание с полным разногласием с правительством я до самого моею ухода в конце января 1914 года, не претворилось в силу закона, так как, хотя Дума и выработала свой проект, но он не был принят Государственным Советом.
Таким образом, до самого разрушения всего нашею законодательного аппарата в 1917 году, мы существовали с теми самыми сметными правилами 1906 года, которые казались таким бельмом в глазу для оппозиции всех Дум четырех созывов.
Эти два заседания 12-го и 15-го января 1908 года были настолько характерны по существу, что о них стоит сохранить некоторый след в воспоминаниях о таком, далеком теперь, прошлом. Они показали с полной очевидностью, что тут, как и во многих других случаях, было не заблуждение авторов, не добросовестная их попытка внести коренное улучшение в наше законодательство, а простое желание ограничить власть правительства в самом чувствительном для него деле - в рассмотрении и исполнении бюджета, и внести простое и ясное средство борьбы с властью во имя принципов той же первой Думы - "власть исполнительная да подчинится власти законодательной".
Аджемов, подготовленный ею друзьями, вероятно, не без участия
Н. Н. Кутлера, не попавшего в третью Думу, но сохранившего чрезвычайно резкое отношение к правительству за свой {297} неуспех во Второй Думе, и, во всяком случае, с полным послушанием принявший всю подготовительную работу, исполненную для него Шингаревым, начал свою речь с того, что авторитетно заявил, что у нас нет никаких, сметных правил, которыми могла бы и должна была бы руководствоваться Государственная Дума в своей бюджетной работе, так как те правила, которыми предлагает руководствоваться правительство, были составлены для Думы "Булыгинской", то есть законосовещательной, а не для Думы законодательной, которая не должна быть стесняема никакими путами и искусственно составленными перегородками, необходимыми только для правительственного самовластия.
Он перешел затем к излюбленной кадетской теме о том, что большая часть всего бюджета забронирована от воздействия Думы, и свобода ее деятельности проявляется только над ничтожною частью всего бюджета, достигшего на этот год цифры в два с половиною миллиарда рублей.
Далее он с еще большим авторитетом в тоне доказывал, что сметные правила должны быть пересмотрены в корне с удалением из них всех ограничений, стесняющих свободу действий народного представительства, в отношении исключения из бюджета, в порядке рассмотрения отдельных смет, всех без изъятия расходов, которые признаются им не отвечающими пользам и нуждам народа, на каких бы ранее изданных законах эти расходы не были основаны. Он проводил, говоря попросту, чисто революционный по отношению к действовавшему у нас государственному строю, принцип безграничности бюджетных полномочий Думы в пересмотре смет и государственной росписи, не стесняясь никакими соображениями.
На мою долю выпал неблагодарный труд. Два дня - 12-го и 15-го января я просто не выходил из Думы и, не имел даже времени вернуться домой для завтрака. Это была первая встреча моя с кадетскою оппозициею в Думе 3-го созыва.
В эти два исторических дня много было высказано с той и другой стороны, что было бы очень полезно сохранить для потомства на самом деле, чтобы, когда-нибудь, правдивый, незаинтересованный исследователь сказал на чьей стороне была правда, и кто просто тратил свои силы в попытке связать правительство по рукам и по ногам.
В вопросе о недостатке объема прав Государственной {298} Думы и в рассмотрения бюджета оппозиция договорилась просто, что называется, до геркулесовых столбов.
Но ее основной тезис, что сметные правила, 8-го марта, лишили Думу всякого права изменить бюджет в большей его части, я представил расчет, напечатанный, в предвидении этого аргумента, в самой объяснительной записке к росписи, по которому из двух с половиною миллиардов всей росписи более 60 % всех кредитов находятся в полном и ничем не стесненном рассмотрении народного представительства. А если к этой сумме прибавить 400 миллионов кредита на оплату государственного долга, который и не может быть сокращен, потому что он исчислен по данным не допускающим никакого сокращения, пока государство стоит на неприкосновенности своих международных обязательств, а затем прибавить к этому действительно забронированный, но только на один последний 1908-ой год, кредит около 200 миллионов предельного бюджета Военного Министерства, поступающих с следующего года в свободное обсуждение законодательных палат то на поверку остаются забронированными сметными правилами какие-нибудь 400 миллионов рублей, то есть лишь одна шестая часть бюджета, да и то забронирована она только в том смысле, что нельзя исключить кредит не затрагивая самого закона.
Для всех было, однако, ясно, что дело сводится к внесении полной анархии в государственный организм, и к чести Думы 3-го созыва нужно сказать, что оппозиции было в эту пору не легко: мои резкие возражения встречались такими громкими знаками одобрения, что моральная победа была очевидно на стороне правительства по всем основным предметам нашего непримиримого с нею столкновения. Созналась в этом и сама оппозиция, не поскупившись, конечно, на резкие обличительные статьи в своей прессе, в которой приняли участие и некоторые научные кадетские силы того времени, вероятно, не раз пожалевшие потом о высказанных ими взглядах, когда много лет спустя им пришлось самим очутиться на стороне правительства, - правда, на короткое время. Я имею в виду хотя бы профессора Фридмана.
В этих двухдневных прениях наибольший интерес с точки зрения аргументов оппозиции представляла, бесспорно, статья 9-ая сметных правил, против которой, казалось бы, не должно было быть каких-либо споров, если бы в методах борьбы против правительства существовала бы необходимая справедливость. Эта статья, составлявшая весь центр тяжести {299} придирок к действиям правительства, в существе своем была совершенно понятна и даже неизбежна при всяком режиме. Она применяется одинаково во всех странах с окрепшим даже парламентским строем и нигде никому не приходило в голову строить на ней главный план нападения на правительство. У нас эта статья к тому же только повторяет в сметном деле тот самый принцип, который закреплен был в наших основных законах, как известно, по самому учреждению Государственной Думы и Государственного Совета недоступных воздействию законодательных учреждений без особого на то полномочия Верховной власти.
В основных законах содержится статья 94-ая, изложенная в редакции, не дающей места к какому-либо сомнению:
"Закон не может быть отменен иначе, как только силой закона, посему, доколе новым законом положительно не отменен закон существующий, он сохраняет полную свою силу".
В полном соответствии, с таким постановлением основных законов, статья 9-ая сметных правил говорит с почти буквальной точностью: "Если какой-либо расход основан на законе, нужно сначала изменить закон, и тогда только падает и установленный им расход".
Помимо того и здравый смысл с очевидностью говорит, что нельзя в порядке простого рассмотрения смет исключать произвольно какие-либо расходы, обеспеченные специально изданным для них законом, и вводить, таким образом, полнейший хаос в государственный организм, лишая его тех его органов, которые могут быть даже неудовлетворительны, но незаменены лучшими, на что требуется и время и внимательный предварительный труд, тогда как на исключение расхода из сметы достаточно случайного большинства присутствующих членов законодательной палаты и государство может быть одним неосторожным постановлением лишено любого органа власти.
Но в нашем молодом законодательном организме, или точнее в одной из групп, поставивших себе задачею бороться с правительством во что бы то ни стало, эта очевидность не помешала развиться самым страстным спорам. Мне пришлось три раза выступать с элементарными доказательствами этой простой истины, прежде, нежели с правых скамей Думы раздалось энергичное требование прекратить бесполезный спор.
Конец этих двух памятных дней, стоивших мне изрядного напряжения сил, вполне оправдал мои усилия. {300} Законодательное предположение 40 членов было просто передано в бюджетную Комиссию и покоилось в ней почти до самого конца полномочий Думы третьего созыва, то есть боле четырех лет.
Началась более спокойная сметная работа в бюджетной Комиссии. Мне пришлось провести в этой работ многие и многие дни, вплоть до мая месяца, когда рассмотренный в Комиссии бюджет поступил в Общее Собрание и начались опять жаркие схватки мои с Шингаревым и некоторыми другими представителями борьбы со мною - о чем речь впереди.
В начале апреля, незадолго до разъезда членов Думы на пасхальный вакант, до сведения правительства дошло, что по смете Министерства Путей Сообщения Дума готовит правительству некоторый сюрприз.
В подкомиссии бюджетной Комиссии, рассматривавшей смету Министерства Путей Сообщения, собрались в большом числе представители оппозиционного направления, возглавляемые видным молодым кадетом, считавшим себя большим специалистом по всем вопросам железнодорожного дела, очевидно потому, что сам он окончил институт путей сообщения и состоял приват-доцентом Томского Политехнического института.
Это был Некрасов, сыгравший потом, в начале переворота в марте 1917 года, видную роль, в качестве первого комиссара по ведомству путей сообщения и ему, именно, принадлежала заслуга внесения в железнодорожную среду первых проявлений величайшей демагогии и разложения, которые определили всю деятельность этого ведомства в первый период революции, до большевистского переворота.
В подкомиссии, а затем и в самой бюджетной комиссии были, разумеется, и другие знатоки железнодорожного дела, как Марков I-ий, влияние которых было значительно слабее, но и они были далеко не прочь показать правительству превосходство своих знаний над министерскими специалистами и попытаться проявить свое влияние при первом соприкосновении законодательных учреждений с такою важною отраслью казенного и даже частного, но сильно зависящего от государственной власти, хозяйства. К тому же и положение нашего железнодорожного дела было, в ту пору, на самом деле не блестящее. Правда, что главная причина, тому, коренилась в последствиях несчастной войны, в расстройстве транспорта от революционных условий 1905-1906 года, которые не могли быть, разумеется, исправлены в такой короткий срок, который протек с той поры {301} до приступа, к нормальной работе нового законодательного аппарата. Да и финансовое наше положение после войны не могло дать всех тех средств, которые были необходимы для того, чтобы упорядочить все дело, и требовались годы времени и постепенное, планомерное исправление недостатков прошлого. Для Государственной Думы и, в особенности, для оппозиционных ее элементов пища для критики была чрезвычайно обильная и поводы для обвинения правительства в неумении вести дело были слишком разнообразны и даже благодарны.[ldn-knigi1]
Вдобавок и высший состав Министерства Путей Сообщения в лице Министра, военного инженера Шауфус-фон-Шафхаузена мало соответствовал новым условиям законодательной работы. Совершенно неприготовленный к защите интересов своего ведомства в публичных заседаниях с множеством оппонентов говорящих и часто нападавших на представителей правительства довольно бесцеремонным образом плохо владевший речью, терявшийся при всяком резком нападении и отвечавший на него с нескрываемым раздражением Н. К. Шауфус был чрезвычайно смущен, когда Столыпин заявил нам всем в заседании Совета Министров, что до его сведения дошло, что бюджетная комиссия решила внести в Общее Собрание Думы, в качестве своего заключения по смете Министерства Путей Сообщения, по разделу казенных железных. дорог, требование о назначении особой комиссии из среды членов Государственной Думы и Государственного Совета, для расследования положения нашего железнодорожного хозяйства, с предоставлением ей широких полномочий в смысле осмотра дорог на месте, требования разъяснений от всего персонала и даже контроля за расходованием средств, отпускаемых по смете.
Еще до сообщения такого предположения, на рассмотрение Совета Министров, в виде слуха о готовящемся заключении, весьма сочувственно, будто бы, встреченным чуть что не подавляющим большинством всей Государственной Думы, тот же вопрос о необходимости выяснить причины убыточности казенных и частных железных дорог, требовавших все больших и больших приплат казны по гарантии облигационных капиталов, составлял предмет неоднократных обсуждений в течение зимы в среде Совета Министров по инициативе самого ведомства Путей Сообщения, к которому решительно примыкали и Министр Финансов и Государственный Контролер, и все мы были солидарны в том, что то, что имелось в виду еще в {302} 1903 году, для чего была образована особая высшая комиссия под председательством Товарища Государственного Контролера Иващенкова, но что не привело к практическому результату из-за войны и смуты, должно быть возобновлено снова в настоящую минуту. Был даже сделан выбор председателя такой комиссии в лице недавнего Товарища Министра Путей Сообщения, перешедшего в Государственный Совет, Генерала Н. П. Петрова, пользовавшегося прекрасною техническою репутациею и очень большим моральным положением в ведомстве. Разработан был также, в главных чертах, и проект учреждения такой комиссии, причем само ведомство и в особенности Государственный Контролер решительно настаивали на том, чтобы в состав такой комиссии были непременно приглашены по инициативе правительства, и члены законодательных учреждений, обладающие специальными знаниями в области железнодорожного дела.
Поэтому, когда до Совета Министров дошел слух о готовящемся предположении бюджетной Комиссии, Столыпин предложил высказаться о том, как следует отнестись к этому предложению и насколько согласуется оно с одобренным уже Советом предположением об исследовании железнодорожного дела через правительственную комиссию. Его личное первое впечатление носило скорее характер довольно благожелательный для думского проекта. Он заявил нам, однако, что не имеет еще своего решительного мнения и предпочитает высказаться последним.
Наши прения были не продолжительны и совершенно согласны между всеми членами Совета, за исключением, как всегда, Министра Иностранных дел Извольского, не видевшего никого неудобства в допущении и думской комиссии по исследованию железнодорожного дела одновременно с правительственной. Все мы были одного мнения, что допускать учреждение думской комиссии мы не имеем никакого права по самому учреждению Думы. Последняя имеет неотъемлемое право образовывать комиссии для своей внутренней работы, но обследование на местах, с опросом должностных лиц, контроль за расходованием кредитов и т. п. - есть бесспорное нарушение пределов власти, которое неизбежно поведет только к дальнейшему захвату полномочий, не предоставленных ей учреждением Думы, и вызовет также неизбежное столкновение и с Государственным Советом, который едва ли встанет на иную точку зрения, как на признание такой организации не вытекающею из закона {303} и, в таком случае, положение правительства, согласившегося на нее, окажется совершенно недопустимым, так как в этом случае, охрана неприкосновенности закона будет исходить не от правительства, а от верхней палаты, что создаст и ложное положение для правительства перед верховною властью.
После всех соображений, высказанных в этом направлении, в которых равное участие приняли, как Министр Юстиции Щегловитов, особенно настойчиво доказывавший недопустимость какого-либо компромисса, для исполнения желания Думы, так и прочие Министры, не исключая и меня, развивавшего ту же точку зрения, - Столыпин без колебания присоединился к нам, а Извольский уже и раньше отступил от своего взгляда, заявивши, что он смотрел не на букву нашего закона, а больше на образцы конституций других государств, к которым, несомненно, со временем присоединимся и мы. Совет единогласно решил возражать в Общем Собрании Думы против заключения бюджетной комиссии.
По моему предложению, Совет решил довести о принятом решении до сведения Государя, не составляя об этом особого журнала, как предложил я, чтобы не вводить в обычай беспокоить Государя принимаемыми Советом решениями в форме предварительных постановлений, основанных на заключениях Думы, не ставших еще официально заявленными, но в то же время довести до Его сведения о существенной важности возникшего предположения и об отношении к нему правительства.
Неделю спустя, в следующем заседании, Столыпин передал нам, что он подробно ознакомил Государя с принятым Советом решением. Государь особенно внимательно выслушал все доводы и сказал ему, что вполне разделяет наше заключение и очень рад тому, что мы заранее разъяснили ему этот вопрос, который, разумеется, не остался бы единичною попыткою расширить права Думы, чего следует вообще избегать, так как не компромиссами и уступками создается устойчивое положение в стране. У Столыпина осталось даже впечатление, что Государь был уже извещен с чьей-то стороны о думском предположении и ему, видимо, было приятно узнать, что такой же взгляд вынесен и правительством.
Тут же Генерал Шауфус обратился к Столыпину с просьбой освободить его от заявления в Думе о взгляде правительства, так как он убедился в своей полной неспособности убеждать Думу в сложных и спорных делах и просил поручить эту обязанность мне, сказавши, что "дело {304} касается смет, и никто лучше меня не справится с этим вопросом".
Столыпин попробовал было убеждать его не настаивать на своем отказе, но Шауфус оставался непреклонен и даже сказал "неужели же и сами Вы, Петр Аркадьевич, не видите,. что Вам нужен другой сотрудник по ведомству путей сообщения". Чтобы положить конец довольно тягостному положению, Столыпин спросил меня, принимаю ли я на себя "чужое" дело и, получивши мое согласие, закончил наши прения.
Я был далек в эту минуту от мысли, что этому, казалось, простому и ясному вопросу было суждено разгораться до крупного инцидента и остаться особенно неблагоприятным привеском к моей личности на долгие годы, с отражением его много лет спустя, даже в эмиграции, как доказательство моего особенно неблагоприятного отношения к идее народного представительства, чего, на самом деле, у меня никогда не было.
Настало 24-ое апреля. Дума приступила к рассмотрению заключения бюджетной комиссии но смете управления казенных железных дорог.
Изложенное в форме перехода к очередным делам предложение это было облечено в крайне неудачную и очень туманную форму, не дававшую даже ясного представления о том, какую именно Комиссию желала бы образовать Государственная Дума, каковы должны быть, по мысли авторов, пределы ее полномочий, какой состав ее отвечал бы всего более думским пожеланиям. Поэтому прения открылись целым рядом соображений, высказанных по существу вопроса о дефицитности нашего железнодорожного дела, в особенности на казенной рельсовой сети, и целый ряд ораторов стал рассматривать этот вопрос, каждый со своей точки зрения, внося самые разнообразные обоснования этой убыточности и предлагая столь же разнообразные способы врачевания их.
Не остались вне обсуждения и соображения о желательном составе Комиссии, и несколько ораторов прямо указывали на необходимость привлечь к этому делу членов законодательных палат, сведущих в железнодорожном вопросе, но по вопросу о способе образования Комиссии и пределах ее прав и полномочий, как-то все ходили, что называется, кругом да около, не выражая ясно своего мнения до той минуты, как П. Н. Милюков, не прося даже слова, а, с своего места, резко отчеканивая каждое из оказанных им {305} немногих слов, сказал: "я постараюсь яснее определить наше желание, - мы считаем необходимым образом парламентскую с ударением на букве "е" Комиссию по расследованию причин убыточности нашего казенного железнодорожного хозяйства, которая одна в состоянии выполнить с успехом это сложное дело".
Вся левая половина покрыла слова Милюкова громкими рукоплесканиями. С правых скамей начали слышаться неодобрительные возгласы, и отдельные депутаты с любопытством поглядывали на меня, сидевшего в одиночестве на министерских местах. Из их среды попросил слова член Думы Граф Бобринский 2-ой. Он поднялся на кафедру и обратился ко мне со словами прямого вызова о том, как относится ко всем высказанным предположениям Правительство, находит ли оно желательным и возможным образовать такую комиссию, с какими правами и в каком именно порядке, объяснивши при этом, что для многих членов Государственной Думы далеко не безразлично будет ли протекать поднятый вопрос в полном согласии между правительством и законодательными палатами, или же встретит он какие-либо осложнения в порядке своего осуществления?
О таком запросе я не был предупрежден и даже о нем не было слышно ничего и из думских кулуаров, суждения которых всегда доходили до сведения правительства даже по делам, гораздо менее важным.
Был ли предупрежден об этом лично Столыпин, к которому в ту пору часто заглядывали многие депутаты, именно из правой половины Думы, я также не знаю и могу только удостоверить, что до меня не доходило никакого слуха о состоявшемся сговоре между правыми и П. А. Столыпиным, о чем потом ходили упорные слухи. Я думаю, что и надобности в этом никакой не было, пегому что и без такого вызова, я выступил бы с заявлением об отношении правительства к возникшему предположению, как это и было решено Советом.
Я выжидал только наиболее подходящего момента, чтобы просить слова, когда достаточно выяснится неопределенная позиция самой Думы, очевидно не успевшей договориться в своей среде или не желавшей создавать какого-либо конфликта с правительством. Во всяком случае, я в точности заявляю, что между мною и Бобринским никакого сговора не было, и что версия, быстро распространившаяся в Думе после возникшего личного со мною инцидента о том, что я был, как говорится, спровоцирован {306} правыми, по моему личному желанию, для того, чтобы занять моим заявлением выгодную для себя позицию в Царском Селе, - совершенно не соответствующую истине.
Весь инцидент возник исключительно из слов Милюкова о том, что инициаторы предложения имеют в виду "парламентскую" следственную Комиссию с широкими правами расследования, и на это заявление, единственно, к которому приложимо наименование "провокационного", я не мог не ответить и, если ответил, вставивши в мои слова приставку, что "у нас, слава Богу, нет еще парламента", то вся моя вина заключается только в том, что я поместил в мою реплику эти два слова "слава Богу", справедливые по существу не только для того времени, но и для гораздо более позднего, и о которых я нимало не сожалею, как не сожалел и тогда. Но положительно и открыто я утверждаю, что я не имел и в мыслях моих понравиться ими кому бы то ни было. Много несправедливых толков было потом по поводу моих слов.
Часто, и многие годы спустя, читал я осуждение меня за сказанные слова, но никто не потрудился толком отдать себе отчет в них и даже не вчитался в мою речь, а те немногие, которые потом, много лет спустя, дали себе труд прочитать то, что я сказал в ту пору, не могли не сказать, что по существу, я был совершенно прав, да и сам Милюков отлично сознавал, что его слова были истинною причиною моей отповеди и были сказаны им, несомненно, с прямою целью вызвать меня на реплику ему.
Каждый, кому когда-либо попадет на глаза стенограмма этого заседания, даст себе отчет в том, мог ли Министр Царского правительства не ответить моими словами на заявление Милюкова, когда перед его глазами находился текст учреждения Государственной Думы, а наскоки оппозиции на правительство и захват власти еще так недавно составляли всю сущность стремлений народного представительства, первых двух Дум.
Произнесенные мною слова вызвали бурю аплодисментов на правых скамьях Думы и свист на левых. Так отмечено это заседание в думском протоколе. На самом деле этот свист был довольно-таки безобиден и даже, после окончания заседания, мне пришлось беседовать с окружившими меня депутатами, среди которых был и А. И. Шингарев, и мы совершенно спокойно обменивались взглядами на происшедшее разномыслие, причем правые шумно поддерживали меня и тут, а Шингарев совершенно спокойно сказал, что "конституционно {307} Вы совершенно правы, так как несомненно, закон не дает Думе права организовывать "следственные или анкетные" комиссии, но что самому правительству было бы выгоднее пойти на расширение дарованных Думе прав, о чем мы снова продолжали очень мирно обмениваться взглядами, не предвещавшими никакой бури. Никто из них не подчеркнул моих неудачных, быть может, слов "слава Богу и т. д.".
Буря совершенно неожиданно возникла в следующем заседании 25-го апреля и притом в моем отсутствии. Читался протокол вчерашнего заседания. Депутатов почти не было на местах. Совершенно незаметный, до того времени, член Думы от Псковской губернии Ткачев стал настаивать на непременном включении в протокол слов "в законодательном порядке" по поводу самого образования анкетной комиссии, чего не было включено в резолюцию по предложению президиума, дабы не создавать конфликта с правительством. Другой депутат Граф Уваров попросил слова, чтобы ответить мне на мою реплику.
Председатель Хомяков, желая очевидно потушить инцидент, тотчас после заявления Ткачева и не давая слова Гр. Уварову, произнес весьма нескладную короткую речь такого содержания (записываю ее по стенограмме): "Господа, я вас покорно прошу держаться вопроса, именно - выпускать или не выпускать из предложенной формулы перехода слова в "законодательном порядке". Я считаю это своим долгом потому, что мы не можем ставить как отдельный вопрос обсуждение неудачно сказанных кем бы то ни было слов. Как председатель я не имел никакой возможности остановить Министра Финансов, когда он сказал свое неудачное выражение; я не имел возможности и не имел даже права, но я считаю, что я имею возможность, имею и обязанность не допускать обсуждения этих слов в дальнейшем. Поэтому прошу покорнейше держаться пределов вопроса". Вот и все.
О таком выступлении Председателя Государственной Думы я ничего не знал, и даже обычный информатор думских инцидентов Куманин ничего не сказал мне по телефону; вероятно и сам он узнал об этом только позже. Но после завтрака, около трех часов, в то время, когда я принимал обычные доклады по Министерству, ко мне позвонил по телефону П. А. Столыпин и спросил, знаю ли я что произошло утром в Думе и "как отличился", сказал он, "наш {308} милейший Хомяков?" Я ответил полным неведением. Он прочитал мне тогда стенограмму Думы и спросил, не могу ли придти к нему, когда освобожусь от работы, прибавивши, что "оставить этого дела так невозможно, а то и в этой Думе вас попытаются оседлать".
В шестом часу вечера я пришел в Зимний Дворец и застал Столыпина в большом волнении. Оказалось, что он успел уже переговорить по телефону с Хомяковым и последний успел даже побывать у него до моего прихода. На замечание Столыпина, что его выступление крайне удивило его и ставит перед ним даже вопрос о том, как быть Министрам, если Председатели Думы начнут награждать Министров различными эпитетами за произносимые ими речи, вместо того, чтобы предоставить Думе в лице ее членов возражать им по существу, и будут это делать еще в присутствии Министров? Он сказал даже, что перед ним стоить даже вопрос о том, согласится ли Министр Финансов являться в Думу после такого инцидента, а если он не согласится, то он, Столыпин, отнюдь не станет уговаривать его, вполне понимая, что и сам он поступил бы точно так же, и тогда встанет во весь рост вопрос о таком конфликте между Думою и правительством, который просто не знаешь, как разрешить.
По словам Столыпина, Хомяков просто не понял своего поступка и думал, что он поступил даже чрезвычайно умно, потушивши приподнятое настроение в Думе, не давши говорить депутатам на скользкую тему и предложивши простой выход из возникшего инцидента.
Ему и в голову не приходило обидеть меня, тем более, что со мною его связывают наилучшие отношения и "если бы, оказал он, В. Н. подал в отставку из-за этого его неосторожного шага, то я и сам тотчас же уйду из председателей ".
Столыпин сначала не передал мне всей его беседы с Хомяковым и только после передал мне все подробности. Он сказал мне, что эта беседа была не очень гладкая, настолько что Хомяков, по его словам, сам предложил ему покончить этот вопрос не вмешивая в него меня, и именно тем, что завтра же заявит в Думе, открыто, что обдумавши свои слова, сказанные вчера, он берет их назад, потому что считает, что поступил неправильно, охарактеризовавши эпитетом "неудачные" слова Министра.
{309} "Ведь так, пожалуй, сказал он, по моим стопам члены Думы начнут подносить в своей критике и почище эпитеты, в роде глупые, пошлые и так далее, а кто же запретит Министрам ответить на них и в еще более повышенном тоне, до верхнего до диеза и тогда, действительно, придется святых выносить из залы".
Столыпин предложил Хомякову обождать свидания его со мною и обещал передать по телефону на чем мы остановимся, сказавши от себя, что, во всяком случае, нельзя доводить этою дела до Государя, что будет неизбежно, если не найдется возможности потушить разгоревшийся пожар.
Мне, конечно, все это было в высшей степени неприятно. Я начал с того, что оказал, что считаю единственно, с моей стороны, ошибкою привесок слов "славу Богу", потому что нахожу слова "у нас нет парламента" совершенно правильными, ибо право назначать следственные Комиссии, производить расследования на местах, контролировать порядок исполнительных действий и т. д. не предусмотрено нашими основными законами и не входит в круг прерогатив нашей Думы, как органа исключительно законодательного, а отнюдь не управления.
У нас введен, действительно, конституционный образ правления, но парламентаризма у нас еще нет, и далее запроса правительству о незакономерности органов управления Дума и Государственный Совет идти не могут. Остается лишь вопрос о словах "славу Богу" и если, произнеся их, я оказался недостаточно сдержанным, тактичным и возбудил страсти, то можно попытаться найти какую-либо безобидную форму компромисса, хотя лично я настолько не дорожу моим положением, что заранее готов предложить ему, как Председателю Совета Министров, располагать мною для любого жертвоприношения, если только оно укрепит положение правительства и даст вместе с тем успокоение напрасно поднявшимся страстям.
Я закончил мой ответ, тем, что я не придаю никакого значения инциденту и более всего желаю окончить его без всякого обострения. Столыпин встал на совершенно непримиримую точку. Он заявил мне, что не видит никакой бестактности в словах "у нас, славу Богу, нет парламента", так как в них он видит святую истину и считает, что прямой долг правительства - бороться против всякого расширения, захватным порядком, Думою новых прав, непредусмотренных законом, и думает даже, что, если бы я не остановил попытки кадетов к такому захвату, то на него, как {310} единственного присутствовавшего Министра, посыпался бы ряд справедливых обвинений с трех сторон: с правой половины самой Думы, несомненно, - со стороны всего Государственного Совета, который воспользовался бы моим молчанием и даже чрезмерною моею мягкостью возражений для обвинения правительства в слабости там, где ей не должно было быть места и, наконец, вероятно, со стороны и Государя, которого мы должны ограждать от таких захватов и не переносить на него таких инцидентов, которые служили бы только поводом к новым осложнениям. Он прибавил, что ни в чем не может меня упрекнуть, считает мои действия совершенно правильными и убежден, что в самой Думе огромное большинство благоразумных людей отлично понимает неправильность действий Хомякова, руководившегося, конечно, наилучшими побуждениями, но допустившего прямую бестактность. Он не допускал и мысли, чтобы на такой неблагоприятной для престижа Думы почве разгорелся конфликт именно со мною, успевшим уже завоевать себе большие симпатии в Думе и проявляющим каждый день полнейшую готовность работать с Думою самым согласным образом. "Хомяков заварил кашу, пусть он же и расхлебывает ее" закончил Столыпин и просил меня не осложнять создавшегося положения какими-либо моими заявлениями и предоставить дело его естественному течению.
На этом мы расстались с ним, и я в этот вечер под самыми разнообразными предлогами, отклонил целый ряд телефонных звонков со стороны, по крайней мере, пяти или шести членов Думы, просивших принять их по спешному делу.
Около 11-ти часов вечера Столыпин слова позвонил ко мне и передал, что от него не выходили во весь вечер бесчисленные представители думских фракций, от крайних правых, до левых октябристов, и все в один голос осуждали Хомякова и просили потушить инцидент теми или иными способами, говоря, что они не допускают и мысли, чтобы я мог уйти и совершенно уверены в том, что Государь ни в каком случае не допустит моей отставки, если бы я поставил вопрос. ребром и тогда бы застал на очередь вопрос об отставке Хомякова, что тоже было бы невыгодно и для правительства, в особенности при самом начале думской работы. Столыпин ответил всем им, что я ему не говорил ни одного слова об отставке, и он, как и я, мы ожидаем, что предпримет сам {311} Председатель Государственной Думы, создавший повод к такому столкновении.
Инцидент разрешился на следующий день к общему удовольствию точным выполнением Хомяковым данного им Столыпину обещания.
Открывая утреннее заседание 26-го числа, Н. А. Хомяков сделал следующее заявление, принятое громом рукоплесканий чуть, что не всей Думы, кроме крайнего левого сектора. Цитирую то по стенограмме, чтобы отдать честь покойному Председателю Думы, с которым мы сохранили до самой революции самые дружеские отношения, хотя и в этих его словах не было, конечно, недостатка в двусмысленности.
"Господа, во вчерашнем заседании, при обсуждении вопроса о смете Министерства Путей Сообщения, я, с своей стороны, остановил после речи Гр. Уварова, дальнейшие прения или, лучше сказать, дальнейшие речи по словам, которые были сказаны в предыдущем заседании
г. Министром Финансов. При этом я квалифицировал, сделал оценку его слов. Я считаю, чию Государственная Дума не имеет права обсуждать деятельность ее Председателя, но думаю, что Председатель, если он усматривает в своих действиях какое-нибудь нарушение, тем более могущее повлечь за собою что-либо нехорошее по отношению к Думе или к кому-либо из ее членов, обязан объяснить свои действия перед избравшей его Думою. Я вполне сознаю, что поступил некорректно в смысле формальном по отношению к Министру, речь которого я квалифицировал, не корректно по отношению к членам Государственной Думы, не допустив их обсуждать слова Министра после речи Гр. Уварова, когда они могли желать высказать свое мнение.
Я признаю, что в данном случае я поступил некорректно, но, господа, я должен сказать, что, кроме наказа, кроме письменных регламентов, я знаю еще другой регламент, - это моя совесть. Я считаю, что если предо мною в Государственной Думе, от кого бы то ни было, будь то от правительства или будь то от кого-либо из членов Государственной Думы, падет искра, от которой может вспыхнуть пожар, я считаю своим долгом, вопреки регламенту, эту искру потушить. Если мне удалось это сделать, то я не буду об этом забывать и до последних дней моей жизни буду вспоминать об этом с удовольствием, а не с раскаянием".
На этот все дело и кончилось. Я не принимал в ликвидации его никакого участия и ни с кем, {312} кроме П. А. Столыпина, никаких объяснений не вел. В Совете Министров, искренно или не искренно, меня не только никто не осуждал, но все говорили в один голос, что я был глубоко прав по существу, хотя я совершенно уверен, что за моею спиною говорили совершенно иное. Государя я видел только неделю спустя после этого события. Он говорил об этом в совершенно шутливом тоне, осуждая Хомякова и вполне, видимо, одобряя меня за прямое заявление протеста против явной попытки, со стороны оппозиции, проделать и в Думе третьего созыва то, что происходило каждый Божий день в первых двух Думах. Был ли Государь на самом деле доволен моим выступлением или отнесся к нему безразлично, - это трудно сказать, но, во всяком случае, ни малейшего неудовольствия мне Он не выразил, ни непосредственно после этого инцидента, ни когда-либо впоследствии, до самого моего ухода. Досужие истолкователи наших внутренних событий сочинили, однако, вскоре, что я сделал мое сенсационное заявление чуть ли не по прямому приказу Государя, или, во всяком случае, зная, что этим я Ему угожу, но все это лишено всякого смысла, потому что сам по себе инцидент, если называть им мое заявление - был вызван исключительно выступлением Милюкова, который демонстративно и в несомненно искусственно приподнятом тоне почти закричал: " Мы требуем парламентской следственной комиссии", на что я и сделал мое возражение.
У Хомякова не осталось от этого инцидента, по-видимому, тоже никакого недружелюбного ко мне осадка. Мы не виделись с ним после 24-го апреля вплоть до 7-го мая, когда поехали вместе в Царское Село, в день рождения Императрицы Александры Федоровны, и он, самым благодушным образом, шутил над нашим "турниром великодушия", как назвал он свои два выступления в Думе. Да и в самой Думе все очень скоро улеглось, и долгое время никто не напоминал мне о происшедшем, и уже гораздо позже стали возвращаться, в репликах мне, мои обычные противники, ж моему выражению, спрашивая меня язвительно о том, есть ли у нас парламент или нет.
{313}
ГЛАВА II.
Рассмотрение отдельных смет на 1908 г. - Председатель бюджетной комиссии проф. Алексеенко. - Мои оппоненты: слева и справа. Взаимоотношения отдельных групп в Государственном Совете. - Законопроект о постройке Амурской железной дороги. - Экономическое и стратегическое значение дороги. - Принятие законопроекта Думой и Государственным Советом при непримиримой оппозиции гр. Витте. - Моя поездка в Гомбург. - Свидание с Нетцлиным. - Смерть дочери Плеске.
Весь май и половина июня, до 18-го числа, ушли на очень тягостную для меня работу по рассмотрению заключений бюджетной комиссии по отдельным сметам Министерства Финансов. Этой работе предшествовала не менее утомительная, но за то гораздо более продуктивная работа в бюджетной Комиссии. В ней не было длинных речей, не присутствовала публика, не велось и пристрастной кампании в печати, все еще не уставшей, в известной ее части, вести борьбу с правительством, невзирая на то, что победа всегда оставалась за последним, и работа имела характер чисто деловой. Часто даже и нападок на правительство почти не было, а с внешней стороны все держались чрезвычайно корректно и даже предупредительно лично в отношении меня, а Председатель бюджетной комиссии Алексеенко, считавший себя большим знатоком бюджета и финансовой науки, - всегда был утонченно вежлив со мною. Мы расходились после наших многочисленных совместных занятий и в самом благодушном настроении, и почти никогда не оставалось между нами несоглашенных противоречий. Это не мешало, однако, потом, при изложении им докладов, оставлять место отдельным несогласиям и вносить в общее собрание Думы немалое количество подводных камней, очевидно, для того, чтобы дать {314} отдельным докладчикам проявить их критическое отношение, правда, не всегда с большим для них конечным успехом.
Таким отношением к делу и лично ко мне отличались, конечно, по преимуществу, депутаты с левых скамей, и в числе их всегда был, разумеется, мой присяжный оппонент, делавший, так сказать, на мне свою политическую карьеру в кадетской партии и в Думе третьего созыва, как пытался он выдвигаться и раньше, еще в своей земской деятельности, в Воронежской губернии, - Шингарев. К нему присоединялся очень часто другой кадет, гордо носивши звание "профессора", хотя он был только начинающим приват-доцентом Томского политехнического Института,- Некрасов.
Я упомянул уже что ему принадлежит, несомненно, главная заслуга, в развращении железнодорожных служащих и разрушении служебной дисциплины среди них в начале февральской революции. По думской работе он специализировался на критике сметы по расходам на приплате по Китайской Восточной железной дороге, и в эту критику он вносил всегда, при совершенно приличной внешней форме, самую безудержную демагогию и неприкрашенное извращение истины, рассчитанное только на то, чтобы через печать и собиравшуюся всегда послушать его публику дискредитировать правительство.
Его мало смущало то, что в думском голосовании он всегда оставался в меньшинстве, что все его предложения, а иногда и праздная критика, не сопровождавшаяся никаким реальным предложением о сокращении расходов, оставались без всякого результата, и правительство выходило всегда с полною моральною и фактическою победою. Его это нисколько не смущало, потому что каждый раз после его выступления газета "Речь", на другой день, посвящала ему хвалебную статью, расписывая в какое трудное положение было поставлено вчера правительство и насколько одно лишь дружное голосование, заранее обеспеченного, большинства, вывело его из такого положения. Прилагал время от времени свою руку к "разделыванию правительства под орех" - как говорили в кулуарах Думы,-и упомянутый мною раньше депутат Аджемов, адвокат по профессии, несомненно способный и даровитый человек, выступавший, однако, не но какому-либо определенному вопросу, более или менее ему известному, а, главным образом, тогда, когда его выдвигала партия высказать несколько оппозиционных мыслей, а обычные ораторы от партии уже исчерпали ранее арсенал их нападок.
Он выходил на кафедру и говорил гладко, неприятно для правительства, но содержание его {315} речей отличалось такою неопределенностью, что возражать ему иногда просто не было нужды, и небольшие реплики оказывались достаточными для ликвидации его выступления. К чести его, если только в этом есть большая честь, нужно сказать, что он никогда не смущался от того, что ему приходилось выслушивать лишь неприятные возражения, и он вполне хладнокровно говорил мне открыто, при встрече, что он "не специалист по сметным и финансовым вопросам" и выступал только потому, что "ему было предложено покуражиться над правительством".
Но и с правой стороны, в бюджетных прениях был один специалист, который также хотел делать свою карьеру на, оппозиции правительству вообще и Министру Финансов в частности, но, к сожалению, для него, не только в этом не успел, но даже быстро утратил и свое положение в думских кругах, которое одно время он было завоевал обещаниями принести Думе свой технический опыт по раскрытию "вопиющей дезорганизации всего провинциального аппарата Финансового Ведомства". Это был недавний податной инспектор и начальник отделения Рязанской Казенной Палаты - Еропкин.
Мои сотрудники по двум Департаментам - Государственного Казначейства и Окладных сборов, - ближе всего стоявшие к личному составу Казенных Палат, дали мне о Еропкине интересные сведения, как о посредственном податном инспекторе, не обладавшем никакою инициативою, но аккуратно отбывавшем все формальности и, в особенности, безупречном в исполнении всех канцелярских обязанностей. Он домогался, сравнительно долгое время, перемещения на должность Начальника Отделения Казенной Палаты, ссылаясь на то, что, по состоянию здоровья, ему затруднительно совершать объезды по сравнительно большому району, с плохим обслуживанием его железною дорогою. Это повышение ему было предоставлено. Вскоре он женился на состоятельной особе и был выбран в члены Государственной Думы, предварительно примкнувши к новой в ту пору партии 17-го октября, которая, в Рязанской губернии сформировалась в довольно крепкую организацию и провела на выборах почти весь состав Думы от губернии.
Мы свиделись с Еропкиным впервые в заседании бюджетной комиссии по рассмотрению сметы Департамента Государственного Казначейства уже в начале 1908 года.
Еропкин был назначен докладчиком по ней, сохраняя обязанности Секретаря бюджетной Комиссии. Открылось заседание Комиссии {316} заявлением мне Председателем ее благодарности за то, что я доставил все необходимые справки и разъяснения, которые значительно облегчили работу Комиссии, и все заседание, затянувшееся до позднего часа, носило совершенно мирный и даже дружественный характер.
Через несколько дней Директор Департамента Казначейств получил и показал мне заготовленный печатный доклад по смете, присланный ему Секретарем Еропкиным, который был также совершенно корректен и не содержал в себе решительно ничего, о чем не было речи в заседании.
Не мало было мое удивление когда, открывши заседание, Председатель Думы Хомяков предоставил слово докладчику сметы Еропкину и тот, доложивши вкратце заключение Комиссии, заявил, что он имеет сделать ряд заявление от себя, как докладчика и члена Комиссии, и произнес, в самом приподнятом настроении, целую речь чисто обличительного свойства, далеко выходящую за пределы последующих "оппозиционных" речей Шингарева.
Повторять здесь, много лет спустя все, что он наговорил, и как это он говорил, просто нет охоты, настолько это было несправедливо, а подчас мелочно и ненужно, что даже с левых скамей ему не было оказано особенного одобрения, и, после его речи, в так называемых кулуарах не было, кажется, никого, кто бы не почувствовал неловкости от выслушанного. Мне пришлось возражать Еропкину в атмосфере вполне для меня благоприятной и неоднократный одобрения аплодисментами раздавались по моему адресу не только с правых скамей, но и из центра, со скамей занятых октябристами, к составу которых принадлежал своеобразный и мало удачливый докладчик.
Ни одно из предложений Еропкина не было принято Думою. Но полученный им урок не принес ему никакой пользы. Подошло рассмотрение 19 июня Общим Собранием Думы заключительного доклада Бюджетной Комиссии по всей росписи доходов и расходов на 1908 год. Объяснения от имени Комиссии представил Алексеенко и представил их в самой благожелательной и корректной форме. Это был еще медовый месяц нашей совместной работы. Ничто не омрачало еще того согласия, которое царило в наших отношениях. Не было еще ни возникшего гораздо позже обострения между мною и партиею националистов; не было и резкого разногласия между мною и, близкими Алексеенко, людьми в вопросе о железнодорожном {317} строительстве; не было, никаких и симптомов неудовольствия мною наверху, которое, разумеется, расценивалось непосредственно и отношением ко мне со стороны определенных кругов Думы, чутко прислушивавшихся к биению пульса моего положения в окружении Государя.
Всем казалось, что прения будут носить чисто деловой характер и сосредоточатся исключительно около предложенных Бюджетною Комиссиею небольших изменений по отдельным статьям росписи.
Конечно, не обошлось без выступления Шингарева в его обычной форме, отвечающей, обычным же приемам критика того, что делает правительство, но и оно было сделано в совершенно приличной форме и могло быть опровергнуто мною без особого труда.
Но Еропкин не мог, очевидно, простить мне своего поражения по смете Департамента Государственного Казначейства. Он не воспользовался предоставлявшимся для него случаем промолчать и выступил с длинною, резкою и даже страстною речью, предупредивши, что говорить не от имени бюджетной Комиссии, а от своего имени. Речь его сводилась ж совершенно неприличному для недавнего чиновника Министерства Финансов и для Секретаря бюджетной Комиссии, подписавшего, в сущности, хвалебное заключение Комиссии о проекте росписи доходов и расходов, огульному осуждению всего нашего финансового строя и управления, отсутствию у Министра. Финансов элементарного плана, бессистемной жизни изо дня в день, его предвзятого и даже несправедливого отношения к народному представительству и величайшей опасности оставлять дело и дальше в том хаотическим состояния, в котором оно теперь находится.
Совершенно понятно, что оставлять такую своеобразную речь без ответа я не имел никакого права, несмотря на то, что она не произвела, после речи Алексеенко, никакого впечатления В перерыве после выступления Еропкина я переговорил с Председателем Думы Хомяковым и Алексеенко, и оба они, в один голос, согласились со мною, что мне необходимо отвечать, хотя ни тот, ни другой не придавали выпадам Еропкина ни малейшего значения. Отношение их к этим вопросам было не совсем одинаковое. Хомяков, при свойственном ему внешнем добродушии и внутренней лукавости, просто сказал - "конечно Вам нельзя молчать, а то Еропкин станет уверять, кому не лень его слушать, что он совершенно уничтожил {318} Министра Финансов". Алексеенко был задет за живое тем, что он сказал только хорошее про роспись, а кто-то из состава Комиссии не признал его авторитета и сказал совершенно противное.
Четыре года спустя, когда против меня поднялась во весь рост интрига, Михаил Мартынович, вероятно, поблагодарил бы Еропкина за то, что он наговорил на этот раз.
Меня речь Еропкина, в сущности говоря, не возмутила, а мне просто было досадно, что человек говорит с величайшим апломбом то, чего он просто не понимает или чему и сам не верит. Я избрал полушутливый, полусерьезный тон и, по-видимому, имел несомненный успех даже среди центра Государственной Думы, к составу которого принадлежал мой противник. На этом моем выступлении собственно и закончились общие прения по бюджету; думская стенограмма отмечает после него сакраментальные слова - "продолжительные рукоплескания справа и в центре возгласы браво".
Я не передаю здесь более подробно содержания моих бюджетных выступлений, так как в последующем изложении я дам определение той общей экономической и финансовой политики, какую я проводил и защищал перед Думою от имени Правительства. Я постараюсь одновременно показать какие результаты применение этой политики дало в области Государственных Финансов и в экономической жизни России.
Параллельно с заседаниями Государственной Думы, отнявшими у меня столько времени и настолько натянувшими всю мою нервную систему, что подчас я спрашивал себя, хватит ли у меня сил довести дело до конца и дождаться роспуска Думы на летний вакант, - проходили н заседания Государственного Совета. Приходилось нередко в один и тот же день бывать в там и тут, но участие в работе Совета было почти сплошным отдыхом по сравнению с тою нервною атмосферою, которая все-таки была свойственна думской работе.
В Государственном Совете сразу завелась действительно деловая работа. Почти не было на меня каких-либо нападений; не было до самого конца моего участия в работе правительства и никакой предвзятости, только изредка проявлялись, вызывавшие у меня сначала некоторое недоумение и мало понятные замечания по существу со стороны моих бывших сотрудников по Министерству Финансов, в лице А. П. Никольского, всегда касавшиеся мелочей и не приводившие ни к каким результатам, после всегда корректных пояснений председателя {319} Финансовой комиссии Совета M. Д. Дмитриева, которого я застал при моем назначении Министром Финансов в 1904 году на должности Директора Департамента Государственного Казначейства и с которым сохранил самые добрые отношения до самой его кончины.
Впоследствии эти булавочные уколы становились все более я более частыми, по мере того, что стало вырисовываться недружелюбное ко мне отношение Гр. Витте, а затем, под конец моего Министерства, уже положительно враждебное ко мне отношение со стороны правой группы, руководимой П. Н. Дурново, лично, тем не менее, выражавшего ко мне крайне внимательное отношение.
С первых же месяцев активной работы Государственного Совета, после конца 1907 года, мое положение в Совете выяснилось в совершенно определенной форме.
Вся Финансовая Комиссия, c Дмитриевым во главе, была всегда решительно единомышленна со мною и оказывала мне всякое внимание, доходившее до того, что меня всегда предваряли о том, с какой стороны и в каком смысле я должен ждать тех или иных замечаний. Так называемая академическая группа, составлявшая крайнее левое крыло Государственного Совета, почти не делала никаких замечаний, а если и делала, то всегда в крайне умеренной и предупредительной форме. Многочисленная группа центра была всегда настроена крайне благоприятно ко мне, и неуклонно шла за председателем Комиссии Дмитриевым, принадлежавшим к этой группе. Только изредка, и то но отдельным вопросам, близко затрагивавшим непосредственно интересы торгового класса, поднимала свой голос вошедшая в состав того же центра группа представителей промышленности, почти всегда выпуская своими ораторами либо Г. А. Крестовникова, либо Триполитова. Но в ее нападках я почти всегда одерживал верх, получая поддержку почти по всем вопросам со стороны подавляющего большинства.
Группа умеренно правых или Нейдгардцев наружно была также всегда благожелательно настроена, но от нее всегда веяло холодком, потом перешедшим в более неблагоприятное настроение, когда обнаружилось, впоследствии, совершенно враждебное ко мне отношение сектора националистов в Государственной Думе, противопоставлявшего меня почему-то Столыпину, несмотря на то, что между нами, до самой его смерти, были самые дружеские отношения, изредка лишь нарушавшиеся принципиальными несогласиями, правда, весьма редкими и не принимавшими, {320} кроме вопроса о Крестьянском Банке, никогда резких проявлений.
Под конец моей ответственной работы эта группа под влиянием Нового Времени, покойного С. В. Рухлого и самого Д. Б. Нейдгарда, соединилась с правым сектором Государственного Совета и вела против меня глухую борьбу, не проявляя, однако, в заседаниях открытого сопротивления, для которого вся атмосфера Государственного Совета, к тому же, была совершенно неблагоприятна.
При таком взаимоотношении отдельных групп ко мне лично и к Министерству Финансов вообще работа Государственного Совета была просто отдыхом после напряженных заседаний Думы, и я мог бы даже пройти мимо этой страницы моей деятельности и сказать только слово моей благодарности подавляющему большинству членов Государственного Совета за то внимание, которое они мне оказывали, и за то, насколько они облегчали мой труд того времени. С многими из них мы пережили вмести прежние условия нашей жизни. Со многими вместе служили в годы моей и их молодости. Немало было и личных моих друзей, о которых хочется упомянуть словом искреннего воспоминания о лучших годах моей жизни.
Никого из них уже ни в живых, когда я пишу эти страницы моих воспоминаний, а их образы все еще ясно живут в моей памяти. Назову хотя бы только тех, кто мне остался наиболее дорогим из этой далекой теперь поры моей жизни: барон Ю. А. Икскуль, Н. Е. Шмеман, М. Д. Дмитриев, Н. С. Таганцев, П. М. Романов и целый ряд почтеннейших, бывших членов Государственного Совета дореформенного состава, которые знали меня еще молодым Статс-Секретарем Государственного Совета, потом Государственным Секретарем. Все они шли ко мне навстречу как к близкому, почти родному человеку, и не было дня, чтобы, приходя к ним в заседание ли Комиссии, или Общего Собрания, я не видел их привета и ласки, и они не отметили словом одобрения каждое удачное мое выступление в Думе и в их среде.
Держались в стороне от меня, и притом в совершенно заметной форме, только немногие и в числе их тогда был. Гр. Витте, сначала вполне корректный и даже благожелательный в его открытых выступлениях, а потом молчаливый и под конец явно враждебно настроенный, А. Ф. Кони, мой бывший начальник по раннему периоду моей службы в Министерстве Юстиции, бывший мой подчиненный по Министерству Финансов {321} А. П. Никольский и Профессор Пихно, с которым, в начале 1904 года, меня свел Гр. Витте, но с которым мы как-то сразу разошлись еще в дореформенном совете. Все они держались также вне этой общей близости ко мне.
Я упоминаю об этой отчужденности в особенности потому, что она резко проявилась в первый же год деятельности Государственного Совета, после созыва третьей Думы, и ее проявление относится именно к той поре, о которой я делаю сейчас мои записи. Она особенно характерна именно потому, что проявилась в связи с одним из первых дел, которые пришли в Государственный Совет из новой Государственной Думы, и по которому впервые выступил против Думы и, в частности, против моего к этому делу отношения - Гр. Витте.
В самом начали 1908 года Дума рассмотрела представлениe Министерства Путей Сообщения о приступе к сооружению Амурской железной дороги.
Лично Столыпин и весь Совет Министров, не исключая меня, отнесся к этому представлению как делу величайшей государственной важности. У всех на памяти была еще только что изжитая по ее последствиям русско-японская война. Все помнили хорошо, какую службу сослужила, во время этой войны, Восточно-Китайская железная дорога; всем было до очевидности ясно, что при новом столкновении с Японией или Китаем эта дорога оказалась бы под несомненным ударом нашего противника, который оказался бы гораздо боле подготовленным к разрушению ее, нежели оказалась в 1904 году Япония.
Понимали мы все эту опасность и по той настойчивости, которую проявила Япония в 1906 году в переговорах о рыбных промыслах в наших водах Уссурийского края. Засыпал правительство и Думу своими телеграммами и Приамурский Генерал-Губернатор Унтербергер, настаивая в чисто паническом тоне о том, что война с Японией неизбежна в самом ближайшем будущем. Для нас всех очевидна была необходимость постройки Амурской дороги и с точки зрения положительных соображений, свободных от угрозы нашему положению на Дальнем Востоке.
Еще со времени постройки Сибирской железной дороги вопрос о необходимости сооружения такой же дороги по левому берету Амура не сходил со страниц нашей печати. Обширный район, богатый пригодными для сельскохозяйственной культуры землями, бесспорное богатство золотом и другими металлами всего Зейского района, желательность направления туда русской {322} колонизации и, наконец, свободная от всяких опасений данной минуты, необходимость связать рельсами наш Уссурийский край с Восточною Сибирью и всею Poccиeю, совершенно независимо от Восточно-Китайской дороги, которая в 1936 году могла быть выкуплена Китаем, а по окончании срока концессии поступала безвозмездно в его обладание, - все это делало вопрос о неизбежности постройки этой дороги только вопросом времени.
Так посмотрела, на дело и Государственная Дума. Она быстро рассмотрела правительственный законопроект, исправила в нем только начальный пункт примыкания дороги к Забайкальской дороге, постановила разобрать отчасти уже выстроенную ветку от Нерчинского завода и избрала вместо этого пункта соединения - станцию Куэнга и передала в Совет свое заключение об отпуске сумм на производство окончательных изысканий и к приступу к окончательному же сооружению выясненной головной части, что предрешало, разумеется, постройку всей дороги.
Государь, всегда принимавший особенный интерес во воем, что касалось Сибирской железной дороги, и считавший вопрос, как бы своим личным делом, с тех пор, как, будучи Наследником престола, он произвел закладку последнего участка дороги, выходившего к Владивостоку, не раз говорил об этом деле и со Столыпиным и со мною. Он всегда горячо отстаивал необходимость постройки сплошной железнодорожной линии, идущей по русской земле, постоянно повторяя, что Он уверен в том, что Китай воспользуется первою возможностью, чтобы выкупить дорогу, и мы останемся тогда в полной разобщенности нашей дальневосточной окраины от центра государства.
И когда я заявил ему, что я совершенно разделяю эту точку зрения и никогда не возражал Министерству Путей Сообщения в его настояниях по этому предмету и хотел бы только, чтобы постройка была начата после тщательно составленного плана и производства самых подробных изысканий, чтобы избежать таких ошибок, какие оказались с выбором головного участка, то он сказал мне, что это Его совершенно успокаивает, и прибавил, что Ему уже известно, что между мною и Министром Путей Сообщения нет никакого спора.
Как только исправленный Думою законопроект дошел до Государственного Совета, ко мне заехал Гр. Витте и спросил меня, сочувствую ли я этому делу и буду ли отстаивать его при рассмотрении в Государственном Совете. Я выяснил ему {323} мою точку зрения с полною откровенностью, не зная совершенно того, как смотрит он на дело. Витте ушел от меня очень скоро, сказавши, что он думает даже, что вопрос о постройке Амурской дороги может вызвать дипломатический конфликт, и крайне удивлен, что против него не возражает Министр Иностранных Дел, так как ему в точности известно, что Японский посланник Барон Мотоно крайне озабочен этим вопросом и не скрывает своего отрицательного отношения.
Не подозревая вовсе, что Гр. Витте займет в этом деле непримиримую позицию, я рассказал ему, что с 1906 года я поддерживаю очень близкие отношения с Японским послом и еще недавно имел с ним беседу по этому вопросу, так как Бар. Мотоно очень часто посещает меня и откровенно, насколько это доступно японцу, расспрашивает меня о самых разнообразных делах, относящихся до Дальнего Востока, всегда говоря, что считает меня по ним гораздо более осведомленным, нежели Министра Иностранных Дел.
В частности о нашем решении приступить к постройке Амурской дороги, он выразился даже, что эта мера должна была быть нами давно осуществлена, и он даже не понимает, почему мы не приступили к ней тотчас после Порсмутского мира, так как у Японии осталось впечатление, что сам Гр. Витте предусматривал необходимость этой постройки.
На это последнее замечание он промолчал и более к этому вопросу не возвращался до самого дня рассмотрения этого дела в Финансовой комиссии Совета.
Я хорошо помню подробности этого заседания. В ту пору новая пристройка к зданию Мариинского дворца для зала общих собраний не была еще окончена, и финансовая комиссия собралась в зале Комитета Министров. Кроме членов Государственного Совета, входящих в состав Комиссии, собралось множество других членов, не имевших права участвовать в прениях. Без преувеличения можно сказать, что почти две трети всего состава Совета заполнили залу, и прения носили довольно беспорядочный характер.
Как только председатель М. Д. Дмитриев огласил предмет обсуждения, Гр. Витте попросил слова и, по свойственной ему привычке, сначала вяло и нескладно, а потом, постепенно повышая тон, стал самым резким образом возражать против проекта, находя его не только неразработанным, но и совершенно ненужным, непосильным для казны и способным отвлечь внимание России от других, более нужных {324} железнодорожных сооружений и различных насущных задач, каковы - усиление нашей армии после разгрома ее в Манчжурии, и даже чрезвычайно опасным для нас, потому что Китай и Япония неизбежно увидят в этом предприятии новую угрозу их положению.
Постепенно разгорячаясь, он обратился в мою сторону с прямым вызовом и притом в самой резкой форме, говоря, что теперь стало гораздо труднее защищать интересы казны, когда и Министр Финансов вместо того, чтобы возражать против явно непосильных для государства расходов, разрешаемых с небывалою легкостью, без всякой проверки каких бы то ни было расчетов, идет навстречу случайному настроению Государственной Думы, вместо того, чтобы восстать всею силою своего авторитета против совершенно ненужных трат. Для смягчения своего резкого выступления он оговорился, что ему неизвестно, конечно, пытался ли Министр Финансов бороться, хотя бы в совете Министров, и что он готов даже допустить, что. он это сделал, но тем больше ответственности лежит на всем правительстве, что оно заставляет его идти навстречу таких экспериментов и не имеет достаточно силы бороться с народным представительством, которое необходимо воспитывать в духе бережливости, а этого у нас не делается, и результаты такой политики могут быть только гибельные.
Он перешел затем к критике самого проекта по существу и тут наговорил массу всевозможных соображений самого неожиданного свойства, доказывавших, прежде всего, что он просто не вчитался в законопроект, совсем не ознакомился с докладом государственной Думы и этим только облегчил задачу правительства по защите проекта.
Во время длинной речи Гр. Bиттe ко мне подошел Председатель Государственного Совета Акимов, вообще недолюбливавший его, и попросил меня ответить на все нападки, так как Министр Путей Сообщения вообще крайне слаб в полемике. Успокоивши Акимова, что я, разумеется, отвечу за все, так как я не только не был принужден Советом Министров подчиниться его желанию, но убежденно считаю необходимым скорейшее осуществление Амурской дороги и даже уверен, что большинство Финансовой комиссии не пойдет за Гр. Bитте, в чем я убедился из частной беседы с многими влиятельными членами Комиссии, не только из центра, но даже и из правой группы, имевшей даже численный перевес в ее составе.
Так оно и вышло. Из членов Комиссии присоединились {325} к Гр. Витте открыто и высказали свои соображения, но чрезвычайно слабые по содержанию, только Романов, Пихно и Никольский, а в голосовании еще прибавилось 7 голосов (я не могу теперь назвать их поименно) итого, всего 10 человек, тогда как большинство 20-ти голосов целиком разделило думский проект. В общем собрании произошло полное повторение того же. Подавляющим большинством голосов заключение Комиссии было принято.
Гр. Витте пытался было снова говорить, но был гораздо более сдержан, нежели в Комиссии, в которой он даже не имел права участвовать, и только повторил сущность своих возражений, удаливши из них все то, что было им приведено тогда неправильно и односторонне. Он прибавил при этом, что говорит только для успокоения своей совести, дабы остался след того, что он предостерегал от величайшей ошибки, но его не послушали и встали на ложный путь, потому что для него совершенно очевидно, что при согласии правительства с Государственною Думою и при проявленном отношении большинства Финансовой Комиссии и Государственного Совета, судьба законопроекта предрешена.
Я не припоминаю теперь, каково было голосование в Совете, но думаю, что к 10 голосам в Комиссии прибавилось очень немного.
Это была моя первая встреча с Гр. Витте в Государственном Совете в период Думы третьего созыва, и на долгий срок наступило перемирие, которое и тянулось почти сплошь до конца 1912 года, когда наши отношения стали принимать снова неприятный оттенок, чтобы перейти затем с осени 1913 года в явно враждебную, с его стороны, форму.
К концу июня вся законодательная работа замерла. Обе палаты разошлись на летний вакант, и я мог до второй половины июля заняться текущею работою и подготовкою бюджета на 1909 год.
Мои товарищи по Совету Министров и в особенности Столыпин видели, что я был совершенно издерган; никто не мешал мне подумать об отдыхе.
Как и в прошлом году у меня возобновились признаки нервной экземы, и я стал собираться снова в Гомбург, который, год тому назад, принес мне величайшую пользу.
Государь настойчиво советовал мне это сделать и не раз на докладах говорил мне, что Он просто не понимает, как я могу выносить всю эту напряженную работу без всякой передышки. Мои товарищи по Совету Министров обещали мне {326} облегчить мой труд по сведению росписи, тем более, что находили возможным не слишком увеличивать их требования против только что утвержденной росписи, а я поспешил наметить, с моими сотрудниками, главные вехи новой росписи и, в конце июля выехал в Гомбург, один, условившись с женою, что в половине августа она приедет ко мне туда, чтобы вместе поехать в Париж для нашей общей экипировки на зиму.
Три недели, проведенные в этом году в Гомбурге, были самым приятным для меня отдыхом. Рядом, в Наугейме лечился мой брат Василий Николаевич, с которым мы виделись почти ежедневно. В самом Гомбурге я нашел всю семью Барона А. Ю. Икскуль-фон-Гильденбанда, А. Д. Зиновьева и целый ряд знакомых, менее близких мне. Потом туда же приехала Княгиня Кантакузина, с которою мы завтракали и ужинали в одном и том же ресторане. Я нанял во Франкфурте на все, три недели автомобиль, в котором много ездил по окрестностям и, с этой поры, я особенно сблизился с семьею Икскуль и им самим, и наши отношения не прерывались до самой его кончины уже в период революции, в августе 1918 года, когда и над моей головою нависла большевистская гроза, вынудившая нас с женою покинуть навсегда родину в начале, ноября того же года.
За эту пору беззаботного моего отдыха в Гомбурге мне пришлось принять приехавшего ко мне председателя Правления Парижско-Нидерландского Банка Нетцлина, с которым мы тут же довольно легко уговорились о главных основаниях заключения в начале 1909 года консолидированного русского займа для погашения выпущенного во время Русско-Японской войны, в марте 1904 года, краткосрочного займа в форме пятилетних обязательств государственного казначейства. Дальше я привожу в своем месте некоторые подробности этого дела.
Среди этих благоприятных условий моего Гомбургского отдыха мне пришлось испытать и одно тяжелое впечатление.
Еще перед отъездом моим в отпуск я обещал вдове моего покойного друга и лицейского товарища Э. Д. Плеске навестить неподалеку от Гомбурга, в санатории Вэра-Вальд, на границе Баденского герцогства и Швейцарии, ее больную дочь, заболевшую чахоткою еще четыре года тому назад, когда умирал в страшных мучениях ее отец (об этом я говорил выше), уходу за которым она беззаветно отдала всю свою молодую жизнь. Эту прекрасную девушку, почти погодку моей {327} дочери, я любил самым нежным образом и никогда не скрывал того, что я был привязан к ней. Она безнадежно угасала после кончины ее отца в апреле 1904 года, и все попытки спасти ее оставались бесполезными. Ее отправили, вмести с ее крестной матерью и теткою, А. И. Кабат, бывшею для нее собственно второю матерью, в санаторию около Сант-Блазиена. Врачи подавали полную надежду на исцеление, ссылаясь на ее возраст - ей было 27 лет и на всевозможные анализы, предварительно высланные местному врачу.
Мне суждено было испытать в этой санатории одно из самых тягостных впечатлений, которые только мне привелось пережить до того времени.
Приехал я в санаторию рано утром, нарочно переночевавши в Фрейбурге и, не заходя ни к больной, ни к А. И. Кабат, направился прямо к доктору, которого предварил о моем приезде по телеграфу. От него я получил сравнительно очень благоприятные сведения: температура держалась на одном, сравнительно, невысоком уровне, вес не убавлялся, кашля почти не было, аппетит был недурный, и общий вывод врача сводился к тому, что он рассчитывал на полное выздоровление, если только удастся убедить больную провести всю зиму и весну в санатории. Доктор выразил даже полное удовольствие моему приезду, надеясь на то, что это изменит наcтpoeниe больной, которым доктор, как он не скрывал, был очень недоволен.
Я не обратил внимания на его последние слова, зная хорошо трудный и самостоятельный характер моей бедной Нинуши, всегда замкнуто переживавшей свои думы и не делившейся ими с самыми близкими ей людьми. Да их и не было у нее. Мало кто из нас знал ее. Какая-то особая тайна лежала над нею. Всегда молчаливая, никогда не участвовавшая ни в одном веселом разговоре, не любившая ни света, ни выездов и всегда болезненно относившаяся ко всякому проявление внимания к ней, она, после болезни и кончины отца, еще более, если только это было возможно, ушла в себя и отошла от всех, кто окружал их, всегда полный людей, гостеприимный дом.
Как часто, бывало, я приходил к ней, в ее комнату, всегда я заставал ее одинокою, за чтением или за работою, и никогда мои самые нежные и участливые попытки подойти к ней поближе, вызвать на откровенность, показать ей ласку, привязанность и желание узнать причины ее неподдельной грусти не приводили ни к чему. Только как-то раз, засидевшись у нее долее обыкновенного, когда я стал говорить ей о том, как нежно я {328} люблю ее. и как хотелось бы мне, чтобы она допустила меня в ее думы и попробовала разобраться со мною в их сложном калейдоскопе, - она взяла меня за руку и сказала мне: "мне еще папа всегда говорил, что Вы меня нежно любите, и что я могу всегда сказать Вам все, что тяготит меня, и повторить все, что глубоко тревожит меня, да я и сама это вижу и понимаю, но мне нечего сказать Вам, да я и отцу моему почти ничего не говорила, а теперь у меня нет больше смысла жизни, и я хочу только одного - скорее уйти из жизни, настолько она пуста и безразлична мне. Мне кажется, что я и сама никого более не люблю".
Что творилось в душе этой прекрасной во всех отношениях девушки, - кто может сказать! Одно несомненно, что в ней таилось глубочайшее разочарование, которое наложило особую складку на все ее существование и бесспорно ускорило роковую развязку.
Прямо от доктора я прошел к А. И. Кабат и тут разом встала передо мною вся драматическая картина, которая только подтвердила все, что давно казалось мне неизбежным. Анастасия Ильинична сказала мне просто: "Доктор ничего не видит, ничего не понимает, а мне ясно, как станет ясно и Вам сейчас, что Нина просто умирает или даже больше - сознательно убивает себя".
Оказалось, что между больною и ее, еще так недавно, любимою теткою, установилась прямая вражда. Живя в двух смежных комнатах, они не видятся и не разговаривают.
Все сношения идут через сестру милосердия, и Нина находится в таком настроении, что малейшее замечание, всякий расспрос приводят ее в величайшее раздражение и могут, при всяком настоянии, довести ее до всевозможных эксцессов.
Был недавно случай, что услышавши в комнате, больной шорох, ее тетя вошла незаметно и нашла ее вышедшею на балкон в одном белье, с очевидною целью ухудшить свое состояние. Перед тем, утром, ссылаясь на головную боль, она попросила мешок со льдом, но лишь только сиделка, положивши его на голову, вышла из комнаты, она переместила его cебе на грудь и к вечеру пароксизм температуры поставил доктора в полное недоумение, пока А. И. не высказала ему своей догадки.
Все мои попытки сблизить больную с ее теткою, показать ей как любить она ее и как страдает от установившихся тяжелых отношений, не привели решительно ни к чему. На все мои доводы она долго молчала, а затем, взявши мою руку и глядя на меня {329} глазами, полными слез, сказала мне только: "В. Н. ведь я знаю, что Вы меня любите, потому, что с первых лет моей жизни я всегда видела Вас около себя, и Ваша ласка ко мне известна была всем у нас в доме. Сделайте мне величайшее одолжение, я никогда Вас ни о чем не просила и Вы не откажете мне, устройте так, чтобы тетя уехала. Она мне ни в чем помочь не может, а знать, что она живет из-за меня и мучается здесь мне невыносимо."
Все мои уговоры ни к чему не привели. Я видел, что дальнейшие разговоры на эту тему бесполезны, и я обещал только сделать так, чтобы ее мать приехала к ней, и тогда тетя может заменить ее дома.
"Только не это!" почти закричала она. "Я не хочу, чтобы мама видела меня такою, ведь мне осталось недолго жить, и я с радостью думаю только о том, как я перестану страдать. Неужели же маме мало всего, что она уже вынесла!"
После новой беседы с Анастасией Ильиничной я опять пришел к Нине. Она дремала, открыла глаза, долго посмотрела на меня и когда я подошел, обнял ее и приласкал, она без всякого раздражения сказала мне: "Ну теперь Вам пора ехать, а мне хочется спать; я рада, что видела Вас и хочу Вам сказать только, что я буду теперь думать о Вас, а сейчас я вспомнила, как я маленькой девочкой сидела у Вас на плече. Вы не говорите только маме, что у нас нехорошо с тетей Настей. Пусть никто об этом не знает, а то всем будет еще тяжелее. Крепко поцелуйте от меня особенно мою милую Аню (ее младшую сестру)".
На этом мы расстались и больше мне не привелось уже ее увидеть. Несколько времени спустя, в начале осени она скончалась тихо, с улыбкою на лице. Анастасия Ильинична рассказывала мне потом, что утром она позвала ее через сиделку, и когда она пришла, а сиделка вышла из комнаты, она подозвала ее близко к себе и сказала ей, казалось, окрепшим голосом: "тетя, милая, мне сейчас так хорошо, что я желаю только одного, чтобы ты не сердилась на меня; я так мучила тебя и сама не знаю за что и почему. Ведь я тебя всегда любила и этого больше не будет, не вызывай сюда маму, мы с тобою будем хорошо жить".
Через короткий промежуток времени она перестала кашлять, затихла и, когда А. И. встала с кресла и подошла к кровати, она была уже в иной жизни.
{330} Не знаю почему, записывая мои воспоминания этой поры, почти 23 года спустя, я остановился так подробно на этом моменте моей жизни. Как живая встают Нинуша Плеске передо мною, а с нею проходит вереницею длинный ряд светлых воспоминаний о моем далеком прошлом, связанном с ее семьею. Оно тянется еще с лицейских лет, с первой встречи с семью Сафоновых и Плеске в приемном зале Лицея, и обрывается оно на нашем отъезде с женою из Кисловодска 16 мая 1918 года. Теперь от всей этой семьи остались в живых только две старушки, Марья Ильинична Плеске и ее сестра Анастасия Ильинична Кабат (За время, что мои Воспоминания приготовлялись к печати, не стало и А. И. Кабат, и осталась в живых одинокая, пережившая всех своих детей и всю свою семью
М. И. Плеске.), - коротающие их век в том же Кисловодске, в самой унизительной нищенской обстановке. Они похоронили всех, кто был молод и счастлив вместе со мною и о ком я храню навсегда благодарную память, как о людях, которые дали мне столько ласки с первого дня моей одинокой молодости и с такою любовью делили все мои жизненные успехи. Мне не хочется писать о длинном синодике, связанном с этою прекрасною семьею, а хочется только помянуть словом сердечной признательности всех, кто меня любил как родного и кто скрасил многие годы моей жизни. Вечная им всем память!
{331}
ГЛАВА III.
Возвращение в Петербург. - А. П. Извольский и присоединение Aвcmpиu Боснии и Герцеговины. - Впечатление, произведенное этим событием на Государя и на Совет Министров. - Инциденты, вызванные принятием Думой, при вотировании кредита на Морской Генеральный Штаб, самого проекта учреждения Штаба. - Спокойная и дружная работа бюджетной комиссии. Заключение во Франции 4 1/2 % консолидационного займа.-Думские прения по бюджету на 1909 год. Доклад Алексеенко, обвинительная речь Шингарева и мой ответ ему. Неуспех не прекращавшихся враждебных выпадов оппозиции. - Инцидент по вопросу о направлении дел о частном железнодорожном строительстве.
Я вернулся из заграничной моей поездки к 1-му сентября и с первых же дней закипела обычная работа, значительно подвинувшаяся за время моего отсутствия.
Мои коллеги по Совету Министров сдержали данное ими обещание. Я застал сравнительно мирное настроение в смысле, обычных сметных трений. Разногласий между Министерствами было сравнительно не так много, и все предвещало нормальное течение дел в Совете по сметным вопросам.
Столыпина я застал в очень ровном настроении и все предвещало довольно благополучное вступление в пору обычных осенних занятий. Но такое благополучие продолжалось не долго.
Прошло всего не более двух недель, как после чуть ли не первого заседания Совета Министров со времени моего возвращения, П. А. Столыпин попросил меня не уезжать, и когда все разошлись, он показал мне переданную ему Главными Управлением но делам печати вырезку из Венских газет, сообщавшую в виде слуха, что во время пребывания в имении {332} гр. Бертгольда, Австрийского посла в Петербурге - австрийского Министра Иностранных Дел Эренталя и нашего Министра Иностранных Дел А. П. Извольского состоялось принципиальное соглашение относительно окончательного присоединения (аннексии) к Австро-Венгерской Империи двух бывших Турецких областей - Боснии и Герцоговины, переданных по Берлинскому трактату 1878 года во временное управление монархии.
Окончательная судьба этих провинций Берлинским трактатом 1878 г. не только не была предрешена, но даже в договоре не содержалось об этом никаких намеков. Для всех было очевидно, что судьба их не могла быть решена иначе, как в таком же порядке общеевропейского соглашения, каким представлялся и сам Берлинский трактат.
Столыпин сказал мне при этом, что он спросил уже сегодня утром Товарища Министра Иностранных Дел Чарыкова, управляющего, за отъездом Извольского в отпуск, этим Министерством, что ему известно по этому поводу, и тот отозвался, что Извольский не оставил ему никаких указаний перед своим отъездом, ничего не писал с дороги и никаких сообщений о своем пребывании в Бухлау ему не присылал, но, несомненно, был в этом имении и провел там довольно долгое время.
Чарыков прибавил, что вообще в Министерстве никакой подготовки по этому вопросу перед выездом Извольского из Петербурга делаемо не было, как не было представляемо Государю никаких записок или меморий, которые обычно составляются всегда, когда Министр имеет в виду доложить Государю какой-либо принципиальный вопрос, а тем более испросить определенных Его указаний. Под конец своего ответа, по словам Столыпина, Чарыков, как бы вскользь оказал ему, что вероятно газетная заметка повторяет какой-либо слух, заимствованный из прежнего времени и неоднократных разговоров Извольского с Эренталем, еще в бытность последнего послом в Петербурге, на излюбленную комбинацию Извольского о желательности соединить наше согласие на аннексию Австрией Боснии и Герцоговины, - от чего нам, все равно рано или поздно, не уйти, да мы в этом, по его мнению, и мало заинтересованы, с получением согласия Австрии на принципиальную поддержку нас и в давнем предположении Извольского добиться этим дешевым для нас путем открытия для нас проливов, на что он очень надеется, если только мы заручимся {333} согласием Австрии и этим путем нейтрализуем отношение Германии.
Я ответил Столыпину также полным моим неведением, удостоверив его, что Извольский никогда ни по одному европейскому вопросу не советовался со мною и даже нередко на мои к нему обращения всегда отговаривался, что он имеет указания Государя вообще не вводить Совет Министров в дела дипломатического ведомства, так как они находятся исключительно в руках самого Государя и его, как докладчика Государя по всем вопросам нашей внешней политики.
Исключение из этого правила допускалось им только для дел, касающихся Китая, Японии и Персии, по которым, еще со времени Графа Витте и Гр. Ламсдорфа, установилось, что все существенные вопросы проходят при постоянном участии Министра Финансов, в силу того, что Китайская Восточная железная дорога находится в его ведении, в Персии имеет огромное значение Учетно-Ссудный Банк, а в отношении Японии Извольский часто в шутку говорил, что он был бы рад вообще передать мне весь Японский отдел его Министерства.
Мы разошлись после этого разговора на том, что Столыпин обещал мне на ближайшем его всеподданнейшем докладе у Государя, собиравшегося ухать в Крым, узнать был ли затронут этот вопрос при отъезде Извольского в отпуск.
Столыпин не сказал мне, что он получил извещение подтверждающее венское сообщение и из нашего Нового Времени, с которым он поддерживал близкие отношения через своего брата А. А. Столыпина, как не сказал мне и о том, что ему стоило большого труда уговорить газету не писать еще ничего по этому поводу и не поднимать кампании против Извольского, по крайней мере, пока ему не удаются узнать отношения Государя к этому инциденту.
На утро Чарыков пришел ко мне, как к своему лицейскому товарищу, и сказал, что это положение чрезвычайно щекотливое, так как он не знает в точности, где находится сейчас Извольский, несомненно, выехавший уже из Бухлау но что он думает, что слух этот совершенно справедлив, и неприятность его не столько прискорбна для нас по существу, сколько по совершенной ненадобности именно нам облегчать положение Австрии, несомненно давно решившейся аннектировать эти провинции, но не нам же, естественным покровителям. славянских народностей, протягивать руку Габсбургскому Дому {334} в достижении его мечтаний, которые, во всяком случае, будут восприняты болезненно славянским миром, и на нашу голову посыплются обвинения в какой-то закулисной интриге, совершенно ненужной для нас.
Сам он, кроме того, еще и твердо убежден и в том, что этим шагом мы не приближаемся ни на йoтy к разрешению вопроса о проливах. Извольский, по его словам, постоянно возвращается к его излюбленной комбинации и верит в то, что он проведет Эренталя и сделает великое русское дело, не поступаясь никакими нашими интересами, так как никто не верит в то, что когда-либо Берлинский договор будет пересмотрен, и вопрос о Боснии и Герцоговине получит иное решение, нежели то, временное, которое было принято в 1878 году.
Он прибавил, что Суворин рвет и мечеть по поводу самовольства Австрии и не хочет допускать и мысли о том, что мы сыграли тут такую странную роль без всякой в том надобности, а когда станет ясно, что Извольский попался на Эренталевскую удочку, то он не сомневается, что положение нашего Министра Иностранных Дел будет весьма незавидное и в глазах всей Европы. Уходя от меня Чарыков сказал мне скользь, что он считает свое положение невыносимым и очень надеется на то, что ему скоро удастся покинуть свой незавидный пост, так как Извольский докладывал уже Государю о его просьбе назначить его на место посла в Константинополь, вакансия которого должна очень скоро освободиться. Так оно и случилось.
Несколько времени спустя Извольский очень искусно убил одним выстрелом двух зайцев: исполнил желание своего однокурсника по Лицею, Чарыкова, и доставил большое удовольствие Столыпину, предложивши его другу и шурину Сазонову, давно уже тяготившемуся своим бездействием на посту русского посланника при папском престоле, должность Товарища Министра Иностранных Дел, которую он принял с большим восторгом.
Два года спустя этот шахматный ход очень помог самому Извольскому получить место Российского посла в Париже, чего он давно добивался и, наконец, успел в своих мечтаниях, найдя поддержку в Столыпине, но, предварительно, подготовив почву к тому, чтобы преемником его на министерском кресле был ни кто иной, как тот же Сазонов.
Два дня спустя П. А. Столыпин снова позвал меня к себе и сказал, что он имел длинный разговор с {335} Государем и узнал от Него, что никаких полномочий Он Извольскому не давал, да тот их и не спрашивал. По существу же дела, у Столыпина осталось совершенно определенное впечатление, что Государь глубоко возмущен этим инцидентом и прямо сказал Столыпину, что Ему просто не хочется верить, чтобы Извольский мог сыграть такую недопустимую роль, которою он поставил и себя и Государя в совершенно безвыходное положение, так как, если даже оправдается версия, что он обусловил наше согласие содействием нам Австрии в разрешении в нашу пользу вопроса о проливах, то все же мы останемся в самом невыгодном для нас положении: всякий просто скажет, что мы помогли Австрии вытащить каштаны из печки без всякой для нас пользы, так как для всех ясно, что никакой реальной помощи мы от Австрии не получим, да и не от нее зависит разрешение такого "Мирового вопроса".
Столыпин сказал мне, что Государь два раза отметил, что Ему, в особенности, противно, что всякий cкажет, что русский Министр получил от своего Государя полномочие, без всякой надобности, обещать нашу помощь Австрии в присоединении Боснии и Герцеговины, когда это дело всех подписавших Берлинский трактат, и мы должны быть последними, кто мог бы брать на себя какое-либо решающее участие в таком деле. У Столыпина осталось убеждение, что дело не кончится просто, и что единственное достойное для нас решение было бы - уволить Извольского от должности Министра и открыто заявить, что он действовал без всяких полномочий своего правительства, и что весь вопрос должен быть возвращен на его естественную дорогу - предложения Австрии обратиться к державам, подписавшим трактат.
Эта мысль, видимо, успокоила Столыпина, и все мы с нетерпением ждали, чем разрешится дело с возвращением Извольского.
Со мною Государь не затрагивал этого вопроса. Вскоре Он уехал в Крым. В конце месяца был опубликован Австриею акт о присоединении ею Боснии и Герцеговины. Извольский вернулся в самых последних числах нашего сентября и лично со мною никаких разговоров не вел. В чем заключалась его беседа со Столыпиным и даже происходил ли между ними личный обмен взглядов я не знаю, но думаю, что никаких бесед с Извольским Столыпин не вел, по крайней мере в первом же заседании Совета Министров при участии Извольского Столыпин, окончивши все текущие дела {336} и удаливши чинов Канцелярии, обратился к Извольскому с просьбою, рассказать, что именно происходило в Бухлау, во время свидания его с Графом Эренталем и насколько справедливы распространившиеся слухи о том, что он выразил от имени русского правительства согласие на присоединение Австрией двух славянских провинций без согласия на то всех держав, подписавших Берлинский договор.
Извольский заявил категорически, что он имеет совершенно определенные указания Его Величества, не обсуждать в Совете вопросов внешней политики и не имеет поэтому возможности дать какие-либо разъяснения без получения на то особого соизволения Государя, как Верховного и исключительного руководителя всей нашей внешней политики.
Столыпин покраснел, замолчал, и мы все разошлись в большом смущении, ясно видя, что Извольский попал в самое невыгодное положение и не желает только раскрывать его перед нами всеми. В откровенной нашей беседе потом мы говорили, что Извольский должен уйти, и ждали только, когда именно и в какой обстановке это произойдет.
На самом деле это случилось гораздо позже, более года спустя и вовсе не в порядке возмездия за недопустимый шаг, предпринятый им без ведома и разрешения Государя, а только в порядке осуществления Извольским своей давнишней мечты - попасть послом в Париж, на место достойнейшего А. И. Нелидова, для чего он воспользовался его нездоровьем и случайным его заявлением о том, что он устал и затруднен поддерживать свое положение после кончины жены. Серьезно об увольнении он не думал и был даже озадачен, когда Извольский сообщил ему о назначении его членом Государственного Совета.
На этом и покончился весь этот печальный эпизод, из которого Извольский сумел выйти без всякого для себя ущерба кроме морального урона, так как истина, конечно, стала общеизвестным фактом, и для всех было очевидно, что за гостеприимными беседами в Бухлау Извольский разыграл эпизод из басни Крылова - Ворона и лисица.
Несколько времени спустя, после описанных событий, в самом начале осенней сессии Государственной Думы 1908 года, в притом совершенно неожиданно для меня, произошел инцидент, к которому все правительство отнеслось сначала совершенно спокойно и даже безразлично, не предполагая, что из него {337} может возникнуть какое бы то ни было осложнение. Случилось, однако, на самом деле, что через несколько месяцев, в сущности, небольшой вопрос, скорее процессуального порядка, к тому же возникший по недоумению второстепенных представителей правительственной власти, мог разгореться до значительных размеров и создать повод к далеко не второстепенному осложнению.
В середине 1908 года на должность Морского Министра был назначен адмирал И. К. Григорович, занимавший перед тем никоторое время должность Товарища Морского Министра.
Между ним и мною существовали самые добрые отношения. Ни по одному из крупных вопросов восстановления нашего флота, после его разгрома в 1905 году, у нас никогда не возникало никаких недоразумений. Он не требовал лишних ассигнований и каждый раз подкреплял свои требования самыми солидными данными. Во всех предварительных совещаниях, при участии чинов Министерства Финансов и Государственного Контроля, все дела проходили без всяких споров и осложнений; возникавшие разногласия почти ни разу не облежались в форму несоглашенных мнений, требовавших решения Совета Министров, а подвергались частному пересмотру между нами, и я положительно не помню ни одного случая, чтобы Совету приходилось играть всегда неприятную роль арбитра между спорящими ведомствами. Здесь была прямая противоположность тому, что происходило по Военному ведомству, и по которому не было ни одного заседания, чтобы не приходилось разрушать самые неприятные несогласия, всегда облекаемые Boeнным Министром в самую обостренную форму, в особенности, когда защита интересов ведомства осуществлялась самим Министром, а не его Товарищем - Генералом Поливановым.
В Государственной Думе положение Морского ведомства было также привилегированно. Адмирал Григорович окружил себя целою плеядою сотрудников, преимущественно из числа молодых офицеров, - в числе их был и Капитан 1-го ранга Колчак, - которые быстро завоевали себе и ведомству исключительно благоприятное положение в Думе отличною разработкою всех вносимых в Думу вопросов, умелою защитою их перед думскою комиссией и проявленною ими быстрою приспособленностью к настроениям Думы и наиболее видных представителей ее в Комиссии государственной обороны. Все дела морского ведомства проходили необычайно гладко.
{338} В числе представлений, внесенных этим ведомством в конце 1908 года, был, между прочим, вопрос небольшого объема, но особенно интересовавший Государя - о кредите на содержание вновь намеченного к образованию Морского Генерального Штаба.
В Совете Министров проект этот прошел без всяких трети, как не вызвавший никаких замечаний со стороны финансовых ведомств и представленный к тому же с точным соблюдением требования 96 статьи основных законов, по которой в законодательном порядке испрашиваются лишь кредиты на содержание вновь образуемых учреждений, самые же учреждения и их устройство отнесены к прерогативам Верховной власти.
Морское Министерство так и поступило. Оно просило Государственную Думу согласиться на отпуск сравнительно весьма скромного кредита, кажется в сумме 74.000 рублей, объяснило все проектированное устройство Генерального Штаба и, в заключительном пункте своего проекта, просило только об отпуске из государственного казначейства исчисленного кредита. Оно приложило схему новой организации к своему проекту в виде проекта штатного расписания должностей лишь для сведения Думы.
В Дум проект не вызвал также никаких возражений, но комиссия обороны, а затем и бюджетная комиссия, не помещая в своих суждениях никаких соображений, закрепили свое благоприятное отношение утверждением не только размера кредита, но и самого проекта штата Генерального Штаба и постановили передать дело в таком виде в Государственный Совет, куда оно и поступило автоматически.
Остановился ли на неправильности этого оттенка Морской Министр, доложили ли ему его сотрудники о последовавшем неправильном и несогласном со статьею 96 основных законов решении Думы или же они, по неопытности в тонкостях законодательной техники и стремившиеся лишь к тому, чтобы необходимое для ведомства дело получило скорейшее осуществление,-не придали этому оттенку того значения, который он собою представлял, - я этого не знаю. Говорю только совершенно определенно, что в Совете Министров никакой речи об этом не было, как несомненно не дошел этот вопрос и до сведения Столыпина, который не скрыл бы его от меня, как не скрывал он никогда всякого рода недоразумений по военным {339} и морским кредитам, так как он отлично знал, какое значение придавал им Государь.
Дошел этот вопрос до сведения Столыпина и Совета Министров только уже в начале 1909 года, по возобновлении в Государственном совете занятий после Рождественского перерыва, когда принятый Думою законопроект поступил на рассмотрение Финансовой Комиссии Совета. В первом же заседании последней представители правой группы, через посредство лидера группы П. Н. Дурново, который, в качестве бывшего, в его молодые годы, морского офицера, относился с особым вниманием к делам Морского ведомства и считал себя специалистом по ним, - заявили, что постановление Государственной Думы незаконно, так как оно нарушает прерогативы Верховной власти, присваивая Думе право утверждения властью законодательной палаты организационной меры по управлению флотом, тогда как, в силу статьи 96-ой, это принадлежит исключительно Верховной власти.
Правота была, несомненно, с точки зрения закона, на стороне сделанного заявления и возражать против него но существу не было никаких оснований.
Большинство Финансовой комиссии встало, однако, на точку зрения взаимных отношений двух палат, протекавших в эту пору чрезвычайно согласно, и стало искать какого-либо компромисса, который устранил бы конфликт между Советом и Думою. Его оказалось, однако, невозможным найти. Напрасно старался Морской Министр склонить Думу, в порядке частных переговоров, пойти на соглашению и видоизменить текст ее постановления, ограничившись лишь ассигнованием кредита.
Она отказалась наотрез от всякого компромисса, так как большинство членов в обеих комиссиях - бюджетной и государственной обороны, отвергло предложенное соглашение, не скрывши того, что оно не сочувствует и самой статье 96-ой основных законов, как стесняющей права Государственной Думы. Было очевидно, что и в Общем Собрании Думы сложится такое же отрицательное большинство.
После длинных и мучительных переговоров, в которых само деятельное участие принадлежало лично Морскому Министру, сознававшему, что вина в недосмотре лежит всецело на его ведомстве, Комиссия Государственного Совета остановилась на компромиссе иного свойства. По большинству голосов, против представителей правой фракции, она склонилась к тому, чтобы утвердить заключение Думы, но привести в {340} мотивах мысль о недопустимости в будущем таких нарушений закона, приведя тому подробное основание, и рекомендовало Морскому Министерству ближе держаться в своих представлениях текста статьи основных законов.
Столыпин был, без сомнения, на стороне такого решения Финансовой Комиссии Совета, хотя в заседании ее не присутствовал. Лично я ни в одном из заседании Комиссии не был и вообще, никакого участия в переговорах между Думою и Советом не принимал.
В двух заседаниях Совета Министров, в которых этот вопрос рассматривался по предложению Столыпина, все мы были того мнения, что постановление Думы, бесспорно, несогласно с нашими основными законами, но что крайне нежелательно вообще создавать конфликт между двумя палатами и с этой целью не следует щадить никаких усилий, чтобы найти компромиссное решение уже по одному тому, что всякое столкновение будет только на руку думской оппозиции и осложнит положение в Думе Морского же Министерства.
На случай, если бы не удалось достигнуть соглашения, Столыпин заявил, что он предполагает сам выступить в Общем Собрании Государственного Совета с целью поддержать заключение Финансовой Комиссии и выскажет и от себя о необходимости оберегать неприкосновенность основных законов и придать настоящему делу характер единичного отступления от последних, допустимого исключительно в виду совершенной, неотложности создания нового органа, столь необходимого для организации нашего флота.
По сообщенным им сведениям, сказал он, следует ожидать, что в Общем Собрании составится такое же большинство в пользу этого решения, какое выяснилось уже в заседании Финансовой Комиссии. При этом, Государственный Контролер Харитонов выразил мысль о том, что было бы очень важно доложить все это дело и его возможный исход непосредственно Государю и притом до рассмотрения его в Общем Собрании Совета, так как едва ли может быть какое-либо сомнение в том, что оно станет известным Ему тем или иным путем.
Докладывал ли Столыпин этот вопрос Государю, я не знаю, но в Совете Министров об этом не было больше никакой речи до самого рассмотрения его в Общем Собрании Государственного Совета.
{341} Все описанные осложнения заняли много времени и только в апреле, уже после Пасхи, этот вопрос дошел до рассмотрения Государственного Совета.
В это время Столыпин заболел довольно тяжелою формою гриппа, и опасались даже воспаления легких.
За два дня до слушания дела он позвал меня к себе и спросил меня, не соглашусь ли я заменить его в заседании Совета, так как врачи решительно не допускают возможности выехать из дома. Он прибавил, что ему это настолько тягостно, что он решил, в случае моего отказа, (который он совершенно понимает, потому что учитывает все неприятные последствия при каком бы то ни было решении дела, - он нарушит запрет врачей и поедет на заседание. Он лежал еще в постели.
Столыпин показал мне даже краткий черновой набросок того выступления, которое он решил сделать, если бы ему пришлось участвовать в рассмотрении дела.
Я, разумеется, согласился, вовсе не подозревая того, что могло произойти, взял набросок, сделанный рукой Столыпина и сказал ему только, что ни он, ни Морской Министр не должны быть в претензии на меня, если дело провалится, и Общее Собрание постановит иное решение, нежели Государственная Дума, так как в это время было уже в точности известно, что в согласительной комиссии Дума не отступится от своего решения, и в таком случае весь вопрос провалится, и учреждение нового Генерального Морского Штаба будет отложено на неопределенное время.
На этом мы расстались, и я обещал Столыпину, тотчас после голосования, заехать к нему и сказать, чем дело закончится.
В Общем Собрании Государственного Совета повторилось в точности все то, что происходило в Финансовой Комиссии. Морской Министр отстаивал свой проект по существу и открыто заявил, что ему очень прискорбно, что по его ошибке произошло неправильное решение в Государственной Думе, и просил Совет вывести его из трудного положения, не задерживая своим отрицательным отношением, - хотя бы и при допущенной несомненной ошибке, - столь необходимого, для нашего флота, органа как намеченный Генеральный Штаб.
Его поддержал Председатель Финансовой Комиссии Дмитриев, также отметивший несогласованность со статьею 96 основных законов.
{342} От имени оппозиции законопроекту произнес очень резкую речь
П. Н. Дурново, поддерживая проектированную меру по существу, но не обинуясь заявивши, что решением Думы нарушаются прерогативы Монарха, и что ими поступаться мы не имеем никакого права, по каким бы побуждениям ни старались мы разделить неправильное и опасное решение Государственной Думы, принятое несомненно совершенно сознательно. По его заключительному заявлению, становясь на сторону Думы, мы создадим прецедент, от которого мы не освободимся никогда, и, вероятно, весьма скоро пожалеем о нашей недопустимой уступчивости.
В моем выступлении я прямо оговорился, что делаю это исключительно в виду болезни Председателя Совета Министров, которому одному принадлежит право говорить от имени правительства. Я воспользовался частью его наброска и прибавил от себя очень немногое, подтверждая точку зрения Финансовой Комиссии, и остановился на отражении главного аргумента Дурново - создания опасного прецедента, доказывая, что в делах законодательства не может быть прецедента там, где есть сознаваемое всеми отступление от одной из статей Основных законов и еще более категорическое заявление самого ведомства, допустившего невольную ошибку, о том, что оно воздержится от повторения ее в будущем.
За исключением резкого тона речи Дурново, все заседание носило скорее вялый характер, потому что все сознавали, что нового ничего сказать нельзя и все желали одного - скорее положить голосованием конец слишком затянувшемуся кризису.
Результат голосования превзошел все ожидания. Против. законопроекта голосовали одни правые, да и то не все и лишь. небольшая часть, так называемых Нейдгардцев, большинство же в пользу принятия Думской редакции оказалось весьма внушительным.
Законопроект, как прошедший все теснины, был немедленно представлен Государю, и все с нетерпением ждали его возвращения. Долго он, однако, не возвращался, и Председатель Государственного Совета Акимов даже осведомлялся о его судьбе. Государь дал ему уклончивый ответ.
Столыпин начал поправляться и, после первого выезда, поехал в Царское Село, предупредив меня по телефону, что тотчас по возвращении скажет мни о результата его свидания с Государем, так как и его тяготила эта неизвестность.
Довольно поздно, в тот же день, он сказал мне по {343} телефону же, что очень устал от поездки, что Государь был с ним исключительно милостив, но на вопрос его о судьбе дела о Морском Генеральном Штабе, сказал ему, что Он не принял еще окончательного решения и отложил его до свидания с ним, потому что это дело Его очень беспокоит, и Он все еще не знает, на чем остановиться.
Столыпин передал мне, что разговор продолжался более получаса, и он снова развил Государю свою точку зрения, вполне совпадающую с мнением большинства Государственного Совета, и старался рассеять опасения относительно прецедента и покушения на ограничение прерогатив монарха. По словам Столыпина, Государь сказал ему, что он читал всю мою речь, нашел ее весьма умеренною и даже построенною очень искусно и прибавил только, что "все же статья 96-ая нарушена, хотя, разумеется, не следует преувеличивать опасности такою нарушения".
У Столыпина сложилось убеждение, что Государь подумает еще некоторое время и кончит тем, что утвердит законопроект, тем более, что последнее Его слово было: "Эту Государственную Думу нельзя упрекать в попытке захватить власть и с нею ссориться нет никакой надобности".
Прошло еще несколько дней. Под вечер 25-го апреля Столыпин позвонил ко мне по телефону и спросил, не могу ли я вечером приехать к нему.
Когда мы остались одни в его кабинете, он протянул мне собственноручное письмо от Государя, помеченное: Царское Село, 25 апреля 1909. Вот его копия, которую я тут же снял с разрешения Столыпина, и она сохранилась у меня в том виде, как я списал ее в этот вечер.
Петр Аркадьевич.
После моего последнего разговора с Вами я постоянно думал о вопросе о штатах Морск. Генер. Штаба.
Ныне, взвесив все, я решился окончательно представленный мне законопроект не утверждать. Потребный расход на штаты отнести на
10-ти мил. кредит.
О доверии или недоверии речи быть не может. Такова моя воля.
Помните, что мы живем в России, а не заграницей или в Финляндии (Сенат), {344} и потому я не допускаю и мысли о чьей-либо отставке (Подчеркнуто в подлиннике.). Конечно, и в Петербурге и в Москве об этом будут говорить, но истерические крики скоро улягутся. Поручаю Вам выработать с Военным и Морским Министрами, в месячный срок, необходимые правила, которые установили бы точно неясность современного рассмотрения военных и морских законопроектов.
Предупреждаю, что я категорически отвергаю вперед вашу или кого-либо другого просьбу об увольнения от должности.
Уважающий Вас Николай.
Когда я прочитал это письмо, я спросил Столыпина, заходила ли при последнем свидании его с Государем речь об его отставке и вообще можно ли было заключить, что этот вопрос был затронут хотя бы в самой отдаленной форме?
Я получил категорический ответ, что весь обмен взглядов происходил в направлении, ничего общего не имевшем с отставкою не только его самого, но кого-либо другого, например Морского Министра, не говоря уже обо мне, так как Государь отлично знал, что только его болезнь вызвала мое появление в Государственном Совете, да и сам он не раз выразился, что я снова выручил его из трудного положения, вызванного его болезнью. Он не может, сказал Столыпин, отвергать, что при докладе своем Морской Министр Григорович мог не сказать, что его вина в этом деле несомненна, и, как человек прямой и не боящийся ответственности, он вероятно сказал Государю, что готов просить Его об увольнении его от службы, так как несомненно на нем лежит ответственность за это дело.
По крайней мере, в беседе с ним, Столыпиным, Григорович не раз заводил об том речь, и каждый раз Столыпин уговаривал его и не думать об этом. По отношению к себе самому он думает, что Государь мог понять, что Столыпин связывает свою судьбу с этим делом, хотя он и не заикался о своей отставке, - только из той фразы, которую он сказал в разговоре, когда упомянул, что положение правительства в этом вопросе очень щекотливое, потому что несомненно, представление Морским Министром проекта штата в Думу было ошибкою, а с утверждением расхода по представленному штату обеими палатами и непотверждением законопроекта Государем, ответственность перелагается на Особу {345} Государя, чего вообще нельзя допускать и следует переложить ответственность на правительство.
Но это был простой обмен мнений, который вовсе не имел характера просьбы кем-либо о своей отставки и ему просто непонятно, что именно вызвало написанное ему письмо. Он прибавил: "после такого письма мне, конечно, следовало бы подать просьбу об отставке, но я этого не сделаю, потому что не хочу огорчать Государя из-за минутного Его раздражения, вызванного, вероятно, кем-либо из посторонних людей".
На этом наша беседа и кончилась. Я ни одним словом не упомянул о том, что вопрос мог идти формально и обо мне: я сказал только, что я не предполагаю возобновлять его при моем докладе, потому что, очевидно, вопрос шел не обо мне.
Так это на самом деле и кончилось. Никто в отставку не подавал и скоро все забылось.
Конец 1908 года выдался для меня особенно горячий. К большой текущей работе и без того настолько поглощавшей все мое время, что я едва успевал справляться с тем, что предъявляли запросы каждого данного дня, прибавилась чрезвычайно упорная работа в думских комиссиях и, в частности, в бюджетной, которая с первых же дней ноября отнимала от меня почти целиком иногда по три дня в неделю, а сверх того подошла и совершенно экстренная работа по подготовке и заключению, в самом начале 1909 года, займа на Парижском рынке, для конверсии в долгосрочный заем военного займа 1904 года.
Работа в думской бюджетной Комиссии протекала и в этом году в совершенно спокойной и даже вполне дружелюбной атмосфере.
Большинство Думы, в составе правой фракции, группы националистов, почти все октябристы, да и значительная часть прогрессистов было настроено самым благодушным образом к правительству и старалось наперерыв показать свою полную готовность работать дружно и даже идти навстречу его пожеланиям.
Тон такого отношения задан был, главным образом, председателем Совета Министров Столыпиным. Не задолго перед тем он внес свой проект о земельной реформе; в соответствии с проведенным им по 87-ой статье известным законом 7 ноября, - разработанный при самом тесном согласовании его с взглядами Государственной Думы. Всем Министрам предложено было им - как можно чаще {346} являться в Думу при рассмотрении в ее комиссиях внесенных законопроектов и, в числе Министров, мне пришлось первому осуществлять на практике этот прием тесного сближения с Думскою работою.
Кроме земельной и бюджетной комиссии, все остальные как то вяло принимались вначале за работу, но зато бюджетная показала с первых же дней самую кипучую деятельность Она засыпала все ведомства массою запросов о разъяснении отдельных сметных назначений, и все мы старались наперерыв исполнить желания нашего председателя, но только не затрудняя отдельных комиссий в исполнении их желаний, но даже буквально отрывая на время массу служащих для исполнения предъявленных нам требований, несмотря на то, что многие были просто совершенно не нужны и даже не вытекали из действительных потребностей сметной работы. Самые заседания комиссии вообще и бюджетной в особенности носили в этом году какой-то особенно дружественный тон.
Начались они с того, что Председатель этой последней комиссии обратился ко мне с настоящею приветственною речью, высказавши, без всяких обиняков, что внесенный мною бюджет и в особенности объяснительная к нему записка, представляют собою замечательный труд, который должен облегчить Государственной Думе ее сложную работу, а проявленная всеми ведомствами готовность снабжать ее всеми необходимыми данными превосходит все самые смелые ее ожидания и открывает самую широкую возможность дружной, совместной работы. Ряд членов бюджетной комиссии открыто присоединился к нему и прибавил от себя выражения их благодарности за такое отношение.
Оппозиция, разумеется, молчала, но никакого открытого возражения не сделала, и только по форме делаемых ею и ее бессменным представителем Шингаревым вопросов можно было догадаться с какою целью делаются эти вопросы и какое использование будет ими сделано в открытых заседаниях Думы. Я не припомню, однако, ни одного сделанного мне запроса, по которому не было дано мною или моими сотрудниками исчерпывающего ответа, не оставлявшего места самому ничтожному недоразумению. Скажу даже, что я не припоминаю ни одного заседания, которое не кончалось бы тем или иным выражением
M. M. Алексеенко его благодарности мне и моему ведомству за оказываемую помощь Думе в ее работе. Такой же характер носили и комиссионные протоколы по отдельным сметам, которые все воспроизводили, в самой корректной {347} форм, все сделанные запросы и полученный на них разъяснения и сводили заключения комиссии почти всегда к положениям, принимаемым правительством, или к самым второстепенным разногласиям, про которые Алексеенко всегда говорил:
"нужно же оставить хоть небольшой след тому, что мы не всегда подчиняемся правительству".
В конечном результате, проект росписи и заключение по нему Бюджетной Комиссии вылилось в такую благожелательную для правительства форму, что оставалось только ждать дня рассмотрения его Общим Собранием Думы, и в Совете Министров не раз говорилось, что в этот день я буду несомненным "бенефициантом" и в шутку спрашивали меня, не известно ли мне какому цветочному магазину заказан венок, который будет возложен на мою голову?
Меня эта двухмесячная работа в Думской комиссии, разумеется, утомила до крайности, так как мне приходилось иногда просиживать в ней буквально целый день с перерывом только для завтрака, но зато морально я был глубоко удовлетворен и все говорил председателю комиссии, что единственное мое желание заключается в том, чтобы такой же дружелюбный тон поддерживался и в Общем Собрании. На это мое пожелание он заметил мне как-то раз, когда мы вместе вышли из затянувшегося заседания, что такого благополучия ждать нельзя потому, что "для печати и для публики нельзя же все хвалить правительство, а нужно когда-нибудь сказать, что оно все-таки никуда не годится, хотя голосовать все-таки нужно с ним".
Так оно потом и случилось.
Переговоры мои о заключении займа также не дали мне большого труда и кончились сравнительно быстро и вполне благополучно, хотя потом не мало крови было испорчено бесполезными прениями в Думе, когда, и по этому поводу, пришлось все-таки встретиться с совершенно бесполезною и глубоко несправедливою критикою оппозиции в лице того же Шингарева, который, очевидно, - не тем будь помянут покойный, - не мот пропустить ни одного повода, чтобы не наговорить множество неприятных суждений, в которые и сам он чаще всего не верил, но не мог противостоять усвоенной его партиею повадке критиковать и осуждать правительство в самых правильных, и даже неизбежных, его мероприятиях.
Начало переговоров о заключении займа, для консолидации выпущенных в 1904 году обязательств государственного {348} казначейства на парижском рынке, соложено было мною словесно в моей встрече с главою русской группы банкиров - Нетцлиным в Гомбурге в августе 1908 года. Об этом я сказал уже вскользь в своем месте. Подробности этого дела заключались в следующем. Списавшись с ним еще до моего выезда в этом году в отпуск, я предложил ему нашу встречу в Гомбурге и наметил ему в письме основные мои мысли по этому поводу, заключавшиеся в том, что заем должен быть долгосрочный, 4 1/2 процентного типа, на сумму, покрывающую в его чистой выручке, всю сумму погашаемых бонов. Я оговорил тут же, что усердно прошу его до выезда на свидание со мною переговорить с его коллегами, главным образом, по двум вопросам - о выпускной цене займа и о размере комиссии по выпуску. Я предупредил его при этом, что положение России теперь иное, чем в 1906 году, и что я дружески прошу его не ставить меня в трудное положение невыгодными условиями, так как я не могу принять их, как с точки зрения русского общественного мнения, которое не примирится с тяжелыми условиями консолидационного займа, при значительно окрепшем внутреннем и внешнем положении России, да и я сам не пойду на невыгодные условия. Мне очень жаль, что и это письмо, если оно сохранилось в архиве Министерства Финансов и попало в руки большевиков, не опубликовано ими, т. к. оно показало бы, что представители русского правительства отстаивали интересы государства, а не предавали их, как принято говорить об этом по отношению ко всему нашему прошлому.
Отношение Нетцлина к поставленным мною вопросам при свидании со мною было в общем самое благоприятное. Он сказал мне, что русская группа дает себе ясный отчет в том, что кредит России окреп, что правительство сумело внести порядок в управление, и между ним и народным представительством установились совершено нормальные отношения. Финансовое положение страны настолько окрепло, что правительство может просто рискнуть оплатить обязательства 1904 года наличным запасом золота, если бы оно встретило затруднения к заключению займа.
А главное, по его мнению, это то, что в данном случае вся выручка от займа остается полностью во Франции и пойдет в распоряжение тех же главных банков русской группы, которые заключат и новый зачем, (потому что боны 1904 года размещены, главным образом, в их кассах и лишь малая часть проникла в публику.
Нетцлин уверил меня, что согласие Французского {349} правительства совершенно обеспечено, о чем группа имеет даже определенное заявление, и он вполне уверен в том, что я не встречу с ее стороны никаких затруднений и могу даже дать ему полномочия войти в соглашение с его коллегами и сообщить мне их решение. Я так и поступил. Тотчас по возвращении в Петербург я доложил весь вопрос Совету Министров, получил разрешение представить его на предварительное одобрение Государя, известил об этом Нетцлина и в течение октября и ноября все условия были соглашены письмами, без вызова банкиров в Петербург, и в январе заем был заключен без внесения принципиального вопроса в Думу и Государственный Совет, так как он имел характер конверсионный и мог быть по закону совершен в порядке Верховного управления.
Впоследствии, при рассмотрении росписи на 1909 год, в Думе оппозиция пыталась доказывать незакономерность распоряжения правительства, но должна была сойти со своей точки зрения и даже доказательства ее, что заем был заключен на невыгодных условиях, не имели никакого успеха, и подавляющее большинство Думы встретило шумными одобрениями мои доказательства о выгодности условий займа и несомненном упрочении русского кредита, а не его падения, как силился доказать Шингарев, впрочем, и сам но веря своим нападкам на меня.
По крайней мере, когда после рассмотрения росписи я имел случай подойти к нему и спросить его в кругу немногих членов Государственной Думы, действительно ли он считает, что можно было выговорить лучшие условия, он сказал, не обинуясь, что ему неизвестен механизм совершения займов на внешнем рынке, но пожалуй, что при существующих условиях, трудно было добиться лучшего и, конечно, хорошо, что правительство не решилось на оплату бонов из золотого запаса, который пригодится на другое. Присутствовавшие при разговоре некоторые члены Думы и в частности покойный Мотовилов - я хорошо помню его реплику - не обинуясь сказали мне, что я делаю большую ошибку, предполагая, что члены Думы думают то, что говорят, так как многое говорится для совершенно посторонних целей. Шингарев на то только засмеялся и ответил мне: "ну что же, - Вы победили и лучше больше об этом не говорить - до другого раза".
Таким образом 1909 год начался для меня при весьма благоприятной обстановке и не предвещал никаких {350} осложнений в той нервной работе, которую представляло собою прохождение бюджета через Общее Собрание Государственной Думы. Бюджетные прения начались 16-го февраля и тянулись до самого конца мая, совершенно разочаровавши меня в моих ожиданиях благополучного и мирного их разрешения.
Начались прения с доклада Председателя бюджетной комиссии Алексеенко, который и на этот раз сохранил тот же благожелательный тон, который был усвоен им при рассмотрении росписи на 1908 год. У меня и сейчас лежит под руками его доклад. Это был сплошной хвалебный гимн правительству и лично мне за внесенную роспись. Во всем его докладе, длившемся почти два часа, не было сделано ни одного принципиального вопроса, ни одного сколько-нибудь существенного замечания и целый ряд совершенно недвусмысленных похвал по моему адресу за ясность изложения, за исчерпывающую полноту оправдательного матерьяла. Только под конец, да и то скорее для придания себе особой эрудиции и поучения своей аудитории, он высказал несколько пожеланий для будущего, да и то почти в буквальном повторении заключительной части моей объяснительной записки.
Но дальние пошло иное. После Алексеенко говорил, как н следовало ожидать, Шингарев, и его доклад был просто возмутителен. Он не коснулся ни одного из многочисленных вопросов, которые были затронуты им в заседаниях бюджетной комиссии, освещены в ее протоколах, так сказать ликвидированы принятыми решениями, подписанными самим Шингаревым, и разобраны доскональным образом Председателем бюджетной комиссии.
Вместо всего этого Шингарев представил, как и в прошлом году, сплошной обвинительный акт против правительства, опорочивал все его заключения, принятые бюджетною комиссиею и оттененные Председателем ее как несомненная заслуга правительства в деле оздоровления финансов и как доказательство его готовности дружно работать с народным представительством и все его соображения переплетены были с целым рядом личных выпадов против меня.
После него говорило еще несколько совершенно бесцветных депутатов, мало или совсем не смысливших ничего в росписи, и мне хотелось дать выговориться еще большему количеству охотников до оппозиционной болтовни и уже потом выступить с моими возражениями. Но присутствовавший на заседании Столыпин, переговоривший в перерыве с Председателем Думы, нашел, что нельзя оставлять возмутительных {351} выпадов Шингарева без немедленной отповеди и просил меня выступить тотчас после перерыва для завтрака.
К сожалению, в ту пору, когда я записываю эти воспоминания из былого, мне не с кем обменяться впечатлениями и не у кого спросить как относились мои слушатели к тому, что было оказано, и какая оценка осталась у тех, кто был свидетелем моей борьбы и моих усилий отстаивать достоинство правительственной власти, как и попыток моих поставить правду на место проявлений политической страстности.
Мне приходиться только справляться со своею собственною совестью и искать у нее справедливой оценки того, что делал я и говорил в ту пору. И этот неумолимый свидетель говорит мне, что поле сражения оставалось во всех случаях за мною, и мои противники уходили, если и не убедившись в проигрыше избранной ими недоброй партии, то добившись относительного успеха только у своих единомышленников, не отвоевавши от меня, как органа правительства, ни одной из намеченных ими позиций.
Доказательствам этому служили не только принятые решения, но и шумные проявления одобрения со стороны подавляющего большинства Думы, не зараженной партийною страстностью и, что всего убедительнее - бесспорное проявление доверия ко мне со стороны значительного большинства думских кругов.
Помогало мне разумеется и то, что я вообще был сильнее моих противников, обладавших, несомненно, недюжинными дарованиями, в особенности Шингарев, - но не в смысле положительных знаний бюджетного дела и многих отраслей государственной жизни. В подавляющем большинстве, мок оппоненты были людьми чрезвычайно поверхностно осведомленными в этих вопросах. Они отдавали мне открыто должное в том, что меня нельзя застать врасплох или не вооруженным всеми сведениями, даже по другим ведомствам.
Покойный Столыпин не раз опрашивал меня, каким образом имею я готовый ответ на каждый вопрос, иногда совершенно неожиданный, и я всегда отвечал ему одним доводом - что я не даром провел 6 лет на должности Статс-Секретаря Государственного Совета по сметной части, столько же лет в должности Товарища Министра Финансов, при Министре, мало входившем в вопросы текущей государственной жизни и представлявшем мне большую свободу действий. Мне приходилось быть в курсе каждого, сколько-нибудь существенного вопроса не меньше, нежели мои сотрудники и {352} докладчики, прекрасно, однако, ознакомленные со всеми делами их специальности.
Когда я вернулся вместе со Столыпиным в Министерский павильон после моей двухчасовой реплики Шингареву, он и присутствовавшие некоторые Министры снова сделали мне положительную овацию, которая повторилась потом и в ближайшем заседании Совета Министров, когда Столыпин передал свои впечатления от думского заседания.
Во время почти четырех месяцев, в течение которых тянулась бюджетная работа, с февраля до второй половины мая, к чисто сметной работе примешались, и в этом году, всевозможные нападения, которые оппозиция силилась направить на правительство, просто придираясь к той или другой сметной статье, - исключительно с тою целью, чтобы наговорить правительству очередных неприятностей на ту или другую, излюбленную оппозицией, тему по преимуществу экономического характера, как наиболее удобную для произнесения неприятных правительству речей, без необходимости иметь фактические поводы для таких выступлений.
Естественно поэтому, что "отгрызаться" по всем этим вопросам приходилось опять же мне и бывало, что несколько дней подряд я просто не выходил из заседаний Думы, отвечая на пристрастные нападения отдельных оппозиционных ораторов. (Среди них всегда играл выдающуюся роль тот же покойный Шингарев, который специализировался вообще на ведомстве финансов и стал, так сказать, присяжным отрицателем всякого рода полезной деятельности именно этого ведомства.
Его энергия была поистине изумительна. Неуспехи его выступлений его вовсе не обескураживали. Почти всегда он оставался в неприятном положении человека, усилия которого не приводили ни к чему, но так как на следующий день газета Речь хвалила его и осуждала меня, то цель его оказалась достигнутою и он, с новой энергией, принимался за меня, и наши шпаги неизменно скрещивались чуть что не в каждом заседании. Излюбленною темою для нападок оппозиции всегда была смета Особенной Канцелярии, по кредитной части, к которой можно было с большим или меньшим основанием приурочить нападки на деятельность Крестьянского Банка и еще более - Иностранного Отделения Канцелярии, с тем, чтобы изъять из непосредственных рук Министра Финансов такое орудие, как покупка валюты, необходимой тому же Министру.
{353} Затем, излюбленною темою служила также смета Департамента Железнодорожных Дел, как повод домогаться передачи тарифного дела в руки законодательных учреждений, или ограничивать деятельность правительства в вопросах частного строительства железных дорог или, наконец, критиковать того же Министра Финансов в его деятельности по Китайской Восточной железной дороге, состоявшей в его ведении.
Мне приходилось, в прямом смысле слова, защищаться но всем фронтам, и моя задача была не очень таки благодарная, потому что оппозиция очевидно рассчитывала либо на то, что я не отобьюсь от ее нападок, либо просто не вынесу этого каторжного труда. Мне очень жаль, что я не могу привести здесь наиболее существенных выдержек из произнесенных мною в этом году речей. Но их было так много, что одни копии полученных мною наиболее крупных из них занимают много сотен страниц убористой печати, и он заняли бы слишком много места.
Одно, и только одно, я могу оказать, что, несмотря на то, что прошло столько лет с той поры, перечитывая мои речи, я испытывал большое чувство удовлетворения от того, что мои противники ничего не выиграли их систематическими и предвзятыми нападениями на правительство, и что последнее, в моем лице, вышло с честью из этого боя.
Решения Думы были всегда на моей стороне, мои противники не могли занести на их счет ни одной реальной победы, а те выражения благодарности, которые я получал непосредственно или много времени спустя от моих подчиненных, которых я защищал каждый раз, когда их опорочивала оппозиция, не имея на то никакого повода и основания, - служили для меня лучшею наградою за понесенный тяжелый труд и способствовали более, нежели что либо иное, той связи ведомства со мною, которая отличала все десять лет моей работы на моем трудном, но и благодарном посту.
В эту Думскую бюджетную работу начала 1909 года снова и опять вдвинулась попытка оппозиции, не знаю уже в который раз начиная с 1907 года, вернуться в форме запросов о незакономерности действий моих и Министра Путей Сообщения в направлении дела о частном железнодорожном строительстве.
Ни мало не смущаясь совершенно ясным законом о порядке направления этих дел через второй Департамент Государственного Совета; оппозиция, идя по стопам Думы второго {354} созыва, и в 1909 году так же, как и в 1907-ом, снова подняла тот же вопрос, прибегнув к тем же приемам, к каким пыталась было прибегнуть Дума 2-го созыва. Ее несколько не смущало то, что состав Думы 3-го созыва был уже не тот и на него не было возможности опереться. Те же лица выступили с тем же арсеналом средств в промежуток сметной работы и остались при том же неуспехе, как и их предшественники, и не добились успеха в их попытке пересмотреть изданный закон в порядке думской инициативы, не смотря на все усилия подбить большинство Думы признать действия правительства незакономерными. Они потерпели в этом отношении снова полное поражение, которое не ослабило их энергии до самого конца работ Думы 3-го созыва...
В эту пору оппозиция пошла, однако, даже дальше попыток Думы
2-го созыва в обвинении правительства в его неуважении к народному представительству и избрала для этою совершенно неожиданный прием.
В числе законов, определивших порядок частного железнодорожного строительства, один из законов - журнал заседания по этому вопросу под личным председательством Государя - не был опубликован и приведен только в цитатах под законом о подведомственности этих дел второму Департаменту Государственного Совета. В своих возражениях на мои объяснения Шингарев и Некрасов заявили, что им этот журнал неизвестен, и они не считают себя в праве руководствоваться им, а ссылка под текстом закона может быть истолкована и не правильно. Тогда Председатель бюджетной Комиссии Алексеенко и председатель Думы Хомяков обратился ко мне с просьбою доставить текст этого журнала для его ознакомления в бюджетную комиссию, обещая не предавать его гласности.
Я передал об этом в заседании Совета Министров Столыпину, который нашел эту просьбу совершенно справедливою и просил меня доложить об этом Государю. Разрешение, разумеется, было дано. Государь даже заметил, что Он не видит никакого затруднения опубликовать журнал через Сенат; я отвез заверенную мною копию Председателю Думы, который меня горячо благодарил, сказавши, что теперь всякие сомнения должны отпасть.
Каково же было мое удивление, когда в следующем открытом заседании Общего Собрания Думы Шингарев и Некрасов в один голос обвинили меня в попытке произвести насилие {355} над Думою предъявлением отдельного акта никому неизвестного и совершенно не отвечающего достоинству Думы. Левые скамьи бурно поддержали моих обличителей, ни Алексеенко, ни Хомяков не выступили с разъяснениями, и мне пришлось снова взять на себя роль разрушения сочиненной легенды и получить опять открытое одобрение внушительного большинства Думы.
В какой степени были не правы мои оппоненты и насколько предвзяты были их придирки, направленные исключительно на то, чтобы еще и еще раз попытаться вырвать из рук правительства все дело частного железнодорожного строительства и подчинить его влиянию законодательных учреждений, - всего лучше может пояснить текст произнесенной мною речи в заседании 25-го февраля 1909 года. Любопытно именно то, что думская оппозиция отлично понимала и сама, что все действия правительства были проникнуты самою неоспоримою законностью, и что перед нею лежал только один законный путь, не обвиняя никого в нарушении закона, добиваться рассмотрения всего дела по существу в законодательном порядке и настаивать на издании нового закона, в отмену изданного в 1906 году, с которым можно было соглашаться или не соглашаться, но отрицать его ясный смысл и доказывать, что правительство не имело права направлять дела частного железнодорожного строительства во Второй Департамент Государственного Совета было явным отрицанием очевидного закона.
Так как и во многих других случаях цель оправдывала средства и для достижения намеченной цели - ограничения объема власти правительства - все способы были хороши, хотя и была очевидна и для самих авторов вся безнадежность обоих запросов. Не могли они не понимать, что даже, при получении требуемого законом большинства двух третей голосов для переноса дела о незаконных действиях правительства на разрешение Государя, они не могли рассчитывать ни на какой успех, так как правительство делало только то, что выработано было под личным председательством самого Государя, но важна была не практическая цель, а одно желание создать неблагоприятную атмосферу для правительства, хотя бы явною очевидной передержки совершенно ясного закона.
Когда же стало ясно для всего состава Думы, что удержаться на обвинении правительства в незакономерности его действий нельзя и для признания его не соберется и простого большинства голосов, то авторам запросов не оставалось ничего иного, как {356} выиграть в глазах оппозиционных кругов и враждебно настроенной печати, выкинувши флаг стеснения свободы суждений Думы предъявлением недопустимого аргумента давить на Думу авторитетом Верховной власти. Оппозиция явилась как будто бы защитницею достоинства последней от всякого вмешательства ее в прения законодательной палаты. В моем лице правительство оказывалось виновным в вовлечении Государя в спор между Думою и правительством.
Государь отлично понял всю соль этого неискреннего приема. Когда после указанного заседания Думы я пришел к Нему с очередным моим докладом, Он показал мне отложенный Им номер Нового Времени, с подробным изложением прений, и сказал мне просто: "Как не стыдно прибегать к такому неуместному приему. Ведь сам председатель Думы просил меня оказать им внимание познакомиться с тем, что не было опубликовано. Я охотно пошел навстречу их просьбе, хотя имел несомненное право отказать, но не сделал этого, дабы не давать повода обвинять не то Меня, не то правительство в ненужном отказе, а теперь Вас же обвиняют в учинении насилия над Думою, как будто доказать подлинный текст обязательного и для правительства и для самой Думы закона значить давить на чью-то совесть".
Вскоре после этого заседания Думы мне снова пришлось. встретиться с моими противниками в кулуарах Таврического Дворца и затронуть в частной беседе этот щекотливый вопрос перед Председателем Думы Хомяковым, которого я спросил не предполагает ли он, при своем очередном докладе у Государя, разъяснить Ему, что правительство вело себя более, чем корректно, доложивши Думе только то, о чем она сама просила Его через посредство своего председателя, так, как мне положительно неприятно, что меня обвиняют в том, что я ввел Государя и Его авторитет в думские прения, и я конечно уже впредь буду осторожнее и устранюсь от такой неблагодарной роли.
Хомяков ответил мне с его обычными шутками и остроумием: "ну что об этом поднимать лишний разговор, когда и Вы отлично знаете, что Вы правы, и Государь не менее Вас убежден в этом, да и все Ваши противники также понимают, что им не следовало говорить многого из того, что было оказано, но в этом большой беды нет".
{357} Любопытно, однако, что и после такого торжественного провала и внесенного запроса правительству еще долго тот же вопрос поднимался в Думе по самым разнообразным поводам и без всякой положительной цели, если не считать такою просто желания наговорить правительству опять все те же, прерываемые аплодисментами речи об ограничении власти законодательных палат и о захвате правительством не принадлежащих ему полномочий.
{358}
ГЛАВА IV.
Моя поездка на Дальний Восток. Причины ее вызвавшие. Разногласия с Сухомлиновым по вопросу об отношении к нам Японии и о кредитах на укрепление Владивостока. Аудиенция японского посла барона Мотано у Государя. Данное мне Высочайшее поручение поездки на Дальний Восток для выяснения положения. - Отъезд и остановка в Москве. Прибытие на ст. "Манчжурия" и получение известия о предстоящей встрече с князем Ито. Организация встречи. - Прибытие князя Ито в Харбин и мое свидание с ним. Убийство князя Ито. - Пребывание мое во Владивостоке. Беззащитность крепости, вследcmвие неиспользования отпущенных кредитов. Возвращение в Харбин. Рассмотрение вопросов, касающихся дороги. Положение Китая. - Мой Всеподданнейший отчет о поездке и резолюция на нем Государя. Поездка Сухомлинова на Дальний Восток и направленный против меня отчет о ней.
Среди описанной выше кипучей работы в Думе и в Государственном Совете в первую половину 1909 года, - как-то совершенно незаметно, в текущей моей работе по Министерству Финансов, возник вопрос, которого я всего меньше желал, чтобы он появлялся и вовлек меня в совершенно неожиданное осложнение.
Незадолго до этой поры, среди главных представителей правительственной власти, появилась новая фигура Военного Министра Сухомлинова, неожиданно назначенного с поста Командующего Войсками Киевского Военного Округа и Генерал-Губерногора Юго-Западного Края, - сначала Начальником Генерального Штаба, а затем вскоре и Военным Министром.
Мои первые отношения с ним носили чрезвычайно симпатичный характер. Мы встретились впервые в Совете государственной обороны, под председательством Великого Князя {359} Николая Николаевича еще в 1906 году и, по какой-то странной случайности, в спорном вопросе, поднятом Генералом Редигером о необходимости отказаться от укрепления Владивостока, но по возможности защитить его против возможного нападения со стороны Японии и, взамен его организовать нашу сухопутную оборону Дальнего Востока около Никольска Уссурийского, мой голос принадлежал, как и голоса Столыпина и Министра Иностранных Дел, к числу тех, кто решительно восставал против этой мысли.
Был ли я более знаком с вопросом, занимаясь много нашими делами на Дальнем востоке в связи со всем, что мне пришлось пережить в самом начале моего занятия поста Министра Финансов в 1904 году, и во все время Русско-Японской войны, показались ли мои аргументы более сильными, нежели соображения, высказанные в том же смысле другими членами Совета обороны, но Великий Князь приказал изложить их в журнале особенно подробно и даже просил Государя остановить на них Его особое внимание. Сухомлинов демонстративно поддержал меня и высказался, хотя и в очень мягкой форме, но с совершенно несвойственной ему ясностью и определительностью. Я думаю даже, что он говорил в том смысле и Государю от себя, как вообще он имел потом привычку занимать и впоследствии внимание Государя всем, что происходило при его участии во всякого рода Комиссиях и Совещаниях. Притом он всегда выставлял свою роль, как имевшую решающее значение в деле.
После заседания Совета обороны, происходившего в доме Великого Князя на Большой Итальянской, он проводил меня домой, несмотря на поздний час ночи, долго разговаривал со мною на разнообразные темы и на следующий день приехал ко мне с визитом и снова рассыпался со всякого рода комплиментах по поводу моего вчерашнего выступления в Совете обороны в пользу, как он выражался, "спасения нашего бедного Владивостока от грозившей ему опасности от узкого и непонятного взгляда Военного Министра".
Я думаю, что роль, сыгранная Генералом Редигером в этом вопросе, послужила даже последнею каплею неудовольствия на него Государя, хотя главная причина заключалась, несомненно, в другом, - в чем Генерал Редигер был совершенно прав, а именно в отрицательном его отношении к разделению Военного Министерства на две, совершенно самостоятельные части - на собственно Военное Министерство и на независящее от него Главное Управление Генерального Штаба.
{360} Редигер не скрывал этого, говорил Государю не обинуясь, вызывая этим Его неудовольствие, и должен был уйти. Его сменил Генерал Сухомлинов и быстро сумел своею вкрадчивостью и кажущимся добродушием склонить Государя на возвращение к старому порядку, чего он давно добивался, еще в бытность его Начальником Генерального Штаба.
С назначением Генерала Сухомлинова Военным Министром и появлением его в Совете Министров для защиты текущих дел своего ведомства наши отношения быстро приняли совершенно иной и даже прямо враждебный характер.
Ему приходилось сразу же войти в конфликт, главным образом со мною, как Министром Финансов, и нашему расхождению по текущим делам после первых же расхождений во взглядах на размеры кредитов, испрашиваемых его ведомством всегда в преувеличенных размерах и очень часто с крайне плохим основанием, он придал чрезвычайно острый характер.
Наши споры приняли даже явно личный характер и, что еще хуже, перешли да суд Государя раньше, чем журналы Совета дошли до Него. Об этом тотчас же узнал Столыпин, которому Государь стал говорить о том, что ему крайне неприятны разноречия в Совете Министров, и что Он очень желал бы устранить их и будет говорить со мною при первой возможности.
Столыпин был крайне возмущен таким отношением Сухомлинова, разъяснил Государю, что все Министры совершенно самостоятельны в Совете, что роль последнего заключается именно в том, чтобы сглаживать несогласия между ведомствами, а в тех случаях, когда эти несогласия остаются, они всегда идут за разрешение Государя, которому одному и принадлежит окончательное направление спорного вопроса. Он прибавил, что дела вносятся Военным Министерством в Совет Министров часто в таком плохом виде, что сам Военный Министр отказывается от своих расчетов и присоединяется к Министру Финансов и Государственному Контролеру, которые всегда .подкреплены значительно более вескими данными, нежели те, на которые опирается Военное Ведомство.
Он указывал при этом Государю, что Генерал Сухомлинов начинает даже прибегать к совершенно небывалому приему - соглашается в совете, а когда ему посылают, составленный согласно и его мнению, журнал, он пишет на нем возражения и {361} дело слушается два и три раза, внося немалое недоумение в среду Министров.
Сo мною Государь заговаривал об этом сначала только вскользь, не выражая ни малейшего неудовольствия и, на мое замечание, что ни с кем из прочих Министров не возникает в Совете Министров тех трений, которые стали повторяться с первых же дней назначения Генерала Сухомлинова, Государь в полушутливой форме сказал мне, что это объясняется неопытностью Генерала и, вероятно, постепенно сгладится, по мере приобретения им большего опыта, тем более, что "он человек очень способный, быстро осваивается с новыми положениями, а, может быть, только излишне усердствует на первых порах".
Но в первой половине 1909 года столкновения с Генералом Сухомлиновым стали принимать у меня особенно острый характер в связи с участившимися к тому времени настояниями Приамурского Генерал-Губерногора Унтербергера об угрожающем положении дел на нашем Дальнем Востоке, в связи с, будто бы, замышляемым Япониею новым нападением на нас, в виду нашей полной неподготовленности к обороне на Владивостокском фронте. Телеграммы Генерала Унтербергера приходили в очень большом количестве, как к Военному Министру, так и к Председателю Совета Министров и к Министру Иностранных Дел.
Долгое время лично я не получал от Генерала никаких сведений, несмотря на то, что у меня с ним были давние хорошие личные отношения. Копии всех телеграмм, поступавших в Министерство Иностранных Дел, всегда доставлялись этим ведомством мне, по старому порядку, заведенному еще при Гр. Витте, в виду особенного положения, которое занимало Министерство Финансов в делах Китайской Восточной железной дороги. Я упоминал об этом уже раньше.
На Столыпина эти телеграммы производили очень сильное впечатление, и после получения каждой новой депеши он неизменно просил Извольского и меня к себе и с большою тревогою спрашивал, что это обозначает и какие принимаются у нас меры для предупреждения надвигающейся новой грозы.
Каждый раз мы оба давали ему самые успокоительные сведения, указывая на то, что ничего оправдывающего паническое отношение Генерала Унтербергера мы не знаем и никаких указаний от наших агентов не имеем. Извольский ссылался при этом я на его отношения с Японским послом Бароном Мотоно, с {362} которым и у меня были даже еще более близкие отношения, нежели у него, потому что с самого своего прибытия в Петербург в 1906 году, Мотоно особенно сблизился со мною и поддерживал, казалось, вполне откровенные отношения, делясь со мною всеми сведениями, которые имели для нас какую-либо цену.. И Извольский и Столыпин знали об этом, да и я не видел каких-либо оснований скрывать об этом не только от них, но даже и от самого Государя, который всегда шутливо говорил мне: "А Вы не боитесь, что Александр Петрович приревнует Вас и скажет, что Вы хотите занять его место?"
Вся эта тревога шла мало заметным ходом, пока в нее не вмешался Военный Министр.
На одном из моих очередных докладов, как-то весною, Государь показал мне всеподданнейший доклад Военного Министра, который начинался простым изложением содержания многочисленных депеш Генерала Унтербергера, а заканчивался совершенно неожиданным для меня заключением. Генерал Сухомлинов заявлял Государю, что он вполне разделяет мнение Приамурского Генерал-Губерногора о крайне опасном и даже безнадежном положении нашей обороны на Тихом океане и считает своим верноподданническим долгом высказать, с полною откровенностью, что все это происходит исключительно от того, что он не может добиться получения согласия Министра Финансов на отпуск самых необходимых средств для улучшения оборонительных сооружений Владивостока.
Для меня такое, заявление, впервые встретившееся в моих сношениях с Военным Министром, было, разумеется, до крайности неприятно. Не припоминая ни одного случая, чтобы я возражал против ассигнования средств на укрепление Владивостока, я просил Государя дать мне возможность осветить этот вопрос справками в делах, но сказал при этом, что я убежден, что Генерал Сухомлинов сделал неточное сообщение, так как моя, в общем, хорошая память решительно не удерживает ни одного разногласия с Военным Министром по Владивостоку и при этом мне совершенно непонятно, каким образом могу я мешать ему в исполнении кредитов на укрепление Владивостока, когда мне же принадлежала энергичная защита его в деле обороны два с небольшим года тому назад, когда само Военное Министерство предполагало упразднить эту крепость.
Я напомнил Государю, что мое мнение было подробно приведено в журнале, который и был утвержден {363} Государем в смысле того мнения большинства, к которому принадлежал и мой голос. Государь, конечно, припомнил этот эпизод, подробно остановился даже на этом вопросе, сказавши, что Он имел тогда особый разговор и с Великим Князем Николаем Николаевичем и с Генералом Редигером и выразил последнему, что Он решительно с ним несогласен. Он очень охотно согласился на то, чтобы отложить мой доклад по этому вопросу до моего следующего доклада, когда у меня будут под рукою все сведения. По существу же вопроса Он был совершенно спокоен и даже заметил, что Приамурский Генерал-Губерногор слишком далек от хороших источников политического свойства и, по всем вероятиям, придает веру всякого рода россказням, не имея даже навыка в оценке того, что делается ему доступным.
На меня этот эпизод не произвел сначала никакого впечатления, так как это был первый случай, чтобы Военный Министр представлял Государю и притом без всякой надобности неверные сведения, и я приписал это его малой опытности и той легкости, с которою он подписывал все, что ему подносили его сотрудники, не вдаваясь в то, какие последствия могли из этого возникнуть.
Тотчас по возвращении моем из Петергофа я вызвал Директора Департамента Государственного Казначейства и Вице-Директора Кузьминского, в руках которого были все дела Военного Министерства, и из их короткого доклада увидел, что Военный Министр просто сказал Государю неправду.
Оказалось, что во все три года, после заключения мира с Япониею, Министерство Финансов не предложило ни одного сокращения в кредитах на Владивосток.
Все требования Военного Министерства прошли в Совещании так, как они были заявлены ведомством. Совет Министров также не сделал ни одного сокращения, несмотря на то, что Государственный Контроль предлагал несколько уменьшить ассигнования на 1908 год, ссылаясь на то, что из кредитов 1906 и 1907 года не израсходовано ничего. Также и на 1909 год кредит занесен без малейшей урезки, несмотря на то, что снова Государственный Контролер представил справку, что в Казначействе лежит вся сумма в несколько миллионов рублей нетронутою, и местный представитель фактического контроля донес ему, что на месте идут все еще споры по самым основным вопросам о выборе мест под оборонительные сооружения и из Главного и Артиллерийского Управлений все еще не {364} возвращены утвержденными основные проекты технического свойства.
В журнале Совета Министров оказалось даже мотивированное (постановление об оставлении кредита без изменения только потому, что Генерал Сухомлинов заявил, что все это теперь уже утверждено, и работа идет полным ходом. Я взял письменную справку с изложением описанного и пошел к Столыпину, чтобы предупредить о случившемся.
Столыпин, уже не раз встречавшийся с такими же приемами Военного Министра, даже по отношению к Совету Министров, был глубоко возмущен и хотел лично доложить обо всем Государю, прося Его положить конец недобросовестным и недопустимым в отношении самого Государя действиям Сухомлинова.
Я просил его не делать этого и предоставить мне лично разъяснить все дело с документами в руках, при моем всеподданнейшем докладе, устранив, таким образом, возможность новой жалобы на то, что я жалуюсь Совету Министров, вместо того, чтобы ликвидировать все дело, возникшее из доклада Сухомлинова Государю, непосредственным разъяснением дела только Государю.
Столыпин согласился со мною, но дело приняло совершенно иной оборот по вине самого Сухомлинова.
На ближайшем заседании Совета Министров, когда были пройдены все очередные дела, Столыпин отпустил чинов Канцелярии и попросил всех Министров остаться в заседании. Он сообщил нам всем, что к нему опять поступила телеграмма Приамурского Генерал-Губернатора о том, что его не оставляют сообщения разных его агентов - он не указал каких именно - о том, что Япония продолжает решительно и не скрывая готовиться к новому нападение на нашу дально-восточную окраину, и что он считает своим долгом перед Государем и родиною снять с себя ответственность и доносить об этом еще раз до сведения главы правительства, предварив об этом и Государя.
Министру Иностранных дел, Военному и Морскому Министрам и мне предложено было высказать, что знаем мы от наших представителей по этому давно нервирующему всех нас вопросу.
Первым говорил Извольский. В очень резкой форме он обозвал телеграммы Унтербергера только бесцельно распространяющими панику, способными осложнить наши прекрасно {365} налаживающиеся отношения с Япониею, после того, что в 1907 и 1908 году мы успели заключить ряд конвенций о рыбном промысле в водах нашего Дальнего Востока, и что Японский посол уже знает о депешах Унтербергера и выражал ему открыто свое удивление по этому поводу. Он добавил, что от наших послов в Китае и Японии он постоянно получает одни успокоительные сведения, которым не может не придавать безусловной веры уже по тому одному, что при подозрительности Китая по отношении к Японии, мы имеем в лице его верного пособника в наблюдении за всею деятельностью Японии.
Морской Министр подтвердил все слова Извольского, добавив, что от наших морских представителей он имеет также самые успокоительные сведения о прекрасном к нам отношении нашего недавнего противника, не в силу какого-то коварства его или желания усыпить наше внимание, а просто потому, что сам он нуждается в мире и далек от всяких воинственных помыслов, хорошо понимая, что при новом столкновении с нами, он не только встретится с недружелюбным отношением к нему Америки, справедливо считающей,. что Портсмутский договор есть дело ее рук, но и не получит той денежной помощи от Англии, которая одна дала ему возможность вести войну с нами.
Военный Министр был, по обыкновению, немногословен, так как ни по одному вопросу, он никогда не имел определенного мнения или выражал его в такой форме, которая затемняла его истинный смысл и всегда давала ему возможность извернуться, если бы ему пришлось убедиться в допущенной им неправильности. Он сказал только, что у него нет определенных сведений помимо тех, которые сообщает и ему Генерал Унтербергер и к которым, как идущим с места, необходимо прислушиваться, хотя и ему кажется, что неминуемой опасности, для ближайшего времени, нет.
"Нужно только", сказал он: "соблюдать русскую пословицу - береженного и Бог бережет", а в этом отношении мы очень отстали в нашей обороне на Дальнем Востоке и не отпускаем нужных средств на укрепление Владивостока, которое находится в самом плохом положении только по той причине, что мы не отпускаем нужных кредитов". - "Об этом, сказал он, я недавно доложил Его Величеству в ответ на Его вопрос мне, как я смотрю на тревогу, поднятую Приамурским Генерал-Губернатором".
{366} Мне пришлось высказать мою точку зрения с полною откровенностью, так как Столыпин, обращаясь ко мне, сказал:
"Я впервые слышу, что Министерство Финансов так отрицательно относится к судьбе нашего главного оплота на Тихом океане и до сих пор до Совета Министров не доходило никаких разногласий по такому вопросу, несмотря на то, что бывают у нас заседания, которые целиком посвящаются разрешению самых мелких споров".
Оговорившись кратко, что в вопросе, по существу, я целиком разделяю точку зрения Министра Иностранных Дел и мог бы привести весьма любопытную мою беседу с Японским послом, даже показавшим мне на днях перевод полученных им депеш от своею правительства, поручающего ему выяснить нашему правительству и, если даже нужно, испросить аудиенцию у Государя, чтобы заверить Его о совершенно непонятном настроении нашего Начальника Приамурского края.
Я доложил Совету весь инцидент, ставший мне известным лично от Государя, и привел все данные, указывающие на полнейшую несправедливость того, что доложил Военный Министр Государю, обвинивши меня в том, в чем я неповинен ни душою, ни телом, и переложивши на меня вину своего собственного ведомства, которое до сих пор не подвинуло самых начальных вопросов, без которых нельзя и приступить к делу. Я огласил наличную цифру неизрасходованного кредита, который лежит без употребления уже третий год, а виновника такого порядка Военный Министр ищет не у себя в ведомстве, а в тех двух ведомствах, Государственном Контроле и Министерстве Финансов, которые виноваты только в том, что не возражали против новых ассигнаций, когда и со старыми не умеют справляться.
Меня горячо поддержал Государственный Контролер, и заседание окончилось в тягостном молчании, которое прервано было обращением ко мне Столыпина словами: "Мы не будем доставлять журнала настоящему нашему собранию, но я прошу Вас, Владимир Николаевич, доложить Его Величеству все, что Вы нам объяснили, и дать мне Вашу письменную справку для того, чтобы я имел также возможность сказать Государю все, чему я был свидетелем сегодня и что меня так глубоко взволновало".
Я предложил Генералу Сухомлинову прислать эту справку и ему, на что он, как ни в чем не бывало, поблагодарил меня, прибавивши: "Вероятно какой-нибудь молодой и {367} неопытный полковник Генерального Штаба просмотрел не все дело". На это мы все только переглянулись и молча разошлись.
На той же неделе в пятницу я представил Государю подробный доклад по поводу неправильного заявления Военного Министра. Он при мне же прочитал его и оставил его у себя, сказавши: "Я передам Военному Министру, что нельзя сваливать вину со своей головы на чужую. Меня все это дело просто волнует не потому, что Я придаю значение телеграммам Унтербергера - Я и сам уверен, что нам ничто не угрожает со стороны Японии, - по потому, что мы так медленно и плохо работаем и все ищем свалить ответственность на других".
Прошло с той поры около месяца. Государь собирался уехать на Его любимый отдых в шхеры перед готовившимся осенью путешествием Его в Италию для свидания с Королем в Ракониджи, и просил меня, на одном из моих докладов, подготовить все, что потребует Его решения до Его выезда, так как Он хотел бы отдохнуть некоторое время от всяких приемов.
Дел у меня накопилось очень много, в особенности в связи с начавшеюся уже подготовкою работ по составлению государственной росписи на 1910 год.
Особенно много вопросов было у меня в связи с выяснившимися уже к тому времени крупными разногласиями с Военным Министром, по которым Государь выразил мне свое желание получить от меня объяснения до внесения их в Совет Министров.
Мне пришлось захватить с собою большое количество всякого рода матерьялов, сведенных в обширный доклад.
Об этом я доложил Государю тотчас же, как мы сели за Его стол у окна с видом на море и на Кронштадт. Не давши мне еще возможности приступить к докладу, который затянулся на этот раз почти на два часа, Государь сказал мне буквально следующее: "Готовясь к отъезду на отдых, Я много и не раз думал о том, что произошло в Совете Министров в связи с телеграммами Генерала Унтербергера. Меня не столько беспокоит то, о чем он доносит мне, потому что Я разделяю мнение и Председателя Совета Министров и Министра Иностранных Дел и Ваше о том, что этот почтенный Генерал находится в состоянии паники и не разбирается в тех сведениях, которые приносят ему всякие случайные информаторы, темь более, что на мои настойчивые вопросы о том, чтобы он указал из каких источников почерпает он их, {368} Я получил одни общие места о том, что эти источники вполне надежные. Гораздо более тревожит меня то, что выяснилось о положении работ по укреплению Владивостока. Я видел на днях Японского посла барона Мотано, который впервые за три года просил у меня особой аудиенции и пробыл у Меня почти полтора часа.
Его разговор произвел на Меня самое сильное впечатление, потому что он говорил со Мною таким тоном, каким не может говорить человек, желающий скрыть свои истинные мысли.
Между прочим, как бы вскользь, после очень подробного объяснения о том, что Япония вообще не думает ни о каком новом нападении на нас, потому что это было бы просто бедствием для нее самой, да она и не имеет никакого повода быть чем-либо неудовлетворенною, он сказал Мне почти буквально то, что Я прочитал в журнале Совета Министров, в изложении Вашего взгляда.
Тотчас после ухода Барона Мотоно, Я пошел к Императрице, рассказал Ей весь разговор с Японским постом и записал ту его часть, которая Меня особенно поразила".
При этих словах, Государь вынул из ящика Своею письменного стола почтовый лист бумаги и прочитал мне из него следующие слова: "Японский посол сказал мне сегодня (числа я не видел) буквально следующее: если бы мы (т.е. Япония) думала нападать на Poccию, то почему же мы этого не сделали до сих пор, когда вся морская граница, считая Вашу крепость Владивосток, совершенно беззащитна, и мы прекрасно осведомлены, что Вы не начали еще самых основных работ, и даже Ваши техники продолжают спорить между собою, где именно нужно поставить оборонительные сооружения. Ваше Величество имеет полную возможность даже вовсе не строить укреплений, настолько Япония и не помышляет о каких бы то ни было агрессивных действиях, и вся цель моей аудиенции заключается только в том, чтобы доложить Вашему Величеству, словом моей личной чести, что мы осведомлены о тех тревожных донесениях, которые получаются Вами с места, но они решительно ни на чем не основаны и только напрасно беспокоят Вас и вселяют недоверие к нам, когда мы желали бы только одного - закрепить наши взаимные отношения самым тесным и искренним сближением".
Прочитавши эту запись, Государь сказал: "Меня не удивляет вовсе стремление Японского посла убедить нас в {369} миролюбии его правительства, - это его прямая обязанность, но Меня просто поразило, до какой степени осведомлена Япония о положении Владивостока, что посол говорить теми же словами, что и Вы в Совете Министров. Очевидно, что это сущая правда и лучшего аргумента в опровержение тревожных телеграмм Унтербергера нельзя было представить. Но зачем же Военный Министр говорит постоянно, что работы по Владивостоку не идут только от недостатка денег и к чему же отпускать деньги, когда мы не знаем даже где строить и что именно. Это просто ужасно, что мы не умеем ничего делать вовремя и только вводим всякие трения, вместо того, чтобы быстро работать".
"Меня это так волнует, что я остановился на мысли просить Вас съездить на Дальний Восток, повидать Генерала Унтербергера, сообщить ему все, что Вы так хорошо знаете, постараться осветить чем именно руководится он, забрасывая Меня такими тревожными телеграммами, и выяснить в его присутствии, во Владивостоке, расспросом старших начальников по управлению крепостью, в чем же главная причина того, что работы не двигаются, когда деньги на них ассигнованы".
"Я подумал даже, что у Вас прекрасный для такой поездки повод. Вы положили столько труда на Китайскую Восточную дорогу, до Меня доходят самые единодушные отзывы о прекрасном ее состоянии, что Вам, как главному деятелю, просто необходимо повидать дорогу своими глазами и передать всем труженикам Мою благодарность за их прекрасную работу на далекой окраине. Никто не удивится Вашей поездке; для всяких пересуд и неуместных предположений не будет никакого места, да и Вы сами будете боле осведомлены обо всем, что нужно Нам знать не по бумагам, а по непосредственному впечатлению. Мне же будет очень дорого Ваше мнение, и Я буду знать на чем Мне остановиться, когда опять поднимутся всякие споры и несогласия".
Я спросил Государя, говорил ли Он о своем предположении с Председателем Совета Министров или поручает это сделать мне? Он ответил мне на это, что П. А. Столыпин был первым и единственным человеком, с которым Он обменялся взглядом, и очень рад тому, что встретил в нем величайшее сочувствие к Его мысли. Мне не оставалось ничего иного, как только подчиниться желанию Государя, которое было для меня совершенно неожиданным, хотя я давно думал о такой поездке, но не давал хода моей мысли просто потому, что время было настолько заполнено срочною работою, {370} что думать об отъезде хотя бы на 6-7 недель не было просто возможности.
Вопрос был тут же решен в положительном смысле, и я просил Государя начать мои приготовления, мотивируя их исключительно надобностью посещения дороги, не затрагивая вовсе вопроса о Владивостоке и не входя ни в какие переговоры с Военным Министерством, во избежание ненужных трений, тем более, что перепискою в Министерстве. Финансов выясняется все положение дел до мельчайших подробностей.
Государь отнесся очень сочувственно к моему предположению, обещал даже вовсе не говорить с Военным Министром о положении работ по Владивостоку, в связи с моею поездкою на Китайскую Восточную дорогу, и разрешил мне готовиться к отъезду в самом конце сентября или начале октября, закончивши всю бюджетную работу.
Прямо от Государя я заехал к Столыпину, который подтвердил мне, что мысль о моей поездке на Дальний Восток принадлежала лично Государю, что он считает ее очень счастливою и даже совершенно необходимою, радуется тому, что она будет так скоро осуществлена, и заметил, смеясь, что мое появление во Владивостоке и разговоры с комендантом крепости и строителями будут сочтены за самозванное появление, но что этого смущаться нечего, потому что все будет покрыто и личною волею Государя и присутствием Генерал-Губерногора.
Я забыл еще упомянуть, что Государь сказал мне прощаясь, после доклада, что Он увидит меня еще перед моим отъездом на Восток, так как Его поездка в Италию состоится, вероятно, не ранее самого конца сентября, и будет еще не мало времени до того, после Его возвращения в Петергоф или Царское Село.
Началась спешная работа по бюджету и такая же - по приготовлению к отъезду. Из Харбина вытребован был прекрасный вагон Китайской восточной железной дороги, подобран был небольшой состав моих спутников из Директора моей Канцелярии Е. Д. Львова, Председателя Китайской дороги А. Н. Вентцеля, управляющего контролем дороги Жадвойна и Секретаря Правления.
За несколько дней до моего выезда должен был выехать Командир Отдельного Корпуса Пограничной Стражи Генерал Н. А. Пыхачев, и по особой программе отобран был весь матерьял, который нужно было иметь под руками при этой {371} поездке, по всем вопросам дороги и по делам Дальнего Востока.
В первых числах октября, не то 2-го, не то 4-го, мы выехали с остановкою в Москве, по просьбе Биржевого Комитета, который хотел высказать мне свои пожелания в связи с отменою порто-франко на нашей Восточной границе.
Можно сказать без преувеличения, что с Москвы началась та особая атмосфера внимания ко мне, которая сопровождала меня до самого моего возвращения домой.
Я не был еще в Москве с самого моего назначения на должность Министра Финансов и об этом мне не раз говорили с известною горечью как прежний Председатель Биржевого Комитета Найденов, так и преемник его -Крестовников.
Они отлично знали, конечно, что мне было не до посещений Москвы, как в первый период моего министерства во время русско-японской войны, как и во всю пору второго периода, с апреля 1906 года. Уклоняться от остановки в Москве, на этот раз с утра до вечера, мне не было, конечно, никакой причины, и я охотно принял сделанное мне предложение, тем более, что и независимо от моей поездки на Дальний Восток, в Министерстве Финансов был уже окончен разработкою вопрос о тарифных льготах по доставке русских товаров в Харбин, где московское купечество успело уже построить особый павильон для торговли нашею мануфактурою, с целью конкуренции японской мануфактур.
Его инициативе принадлежала мысль о желательности установись двоякого рода тарифные ставки - пониженные против обычных, для перевозки, малою скоростью, в обыкновенных и товарных поездах, но с известным преимуществом, в смысле больший скорости перевозки, и особые, хотя и более повышенные ставки, для перевозки определенных количеств мануфактуры в пассажирских поездах.
На этой мере особенно настаивало московское купечество, потому что ему не хотелось завозить большого количества товаров в Манчжурию ранее, нежели оно убедится в том, что этот рынок представляет хороший интерес для сбыта нашей мануфактуры как в северном Китае, так и в нашем Приамурье.
Моя первая встреча с Москвою прошла необычайно гладко. Обмен любезностей был самый сердечный. Деловая часть собрания в весьма многолюдном зале Биржевого Комитета, хотя я заняла много времени, потому что речей и приветствий было {372} мне произнесено очень много и притом без всяких политических намеков, а скорее в самом приподнятом настроении констатирования значительно окрепшего нашего кредита и широкой готовности со стороны и Государственного и частных банков идти навстречу нуждам промышленности. Объяснение мое о проектированном Министерством облегчении перевозки некоторых товаров в Манчжурию и во Владивосток встречено было просто шумными аплодисментами и просьбою привести его, как можно скорее, в исполнение. Мы разошлись почти в пять часов в самом дружеском настроении с тем, чтобы встретиться у старика Найденова за обедом в ограниченном составе, так как я должен был сразу с обеда ехать на поезд. В короткий промежуток времени я едва успел побывать у брата Василия Николаевича и приехал на поезд к самому его отходу.
Весь путь мой до станции "Манчжурия" был для меня самым приятным отдыхом после утомления, связанного с напряженною работою перед отъездом. Я почти не выходил из моего вагона на станциях, настолько было неприятно принимать на каждой остановке представителей всяких ведомств, являвшихся ко мне с обычным церемониалом. Я предпочитал принимать их у себя в вагоне и только очень редко выходил в так называемые парадные комнаты вокзалов, если оказывалось, что число представляющихся превышало способность моего вагона принять их.
Истинным удовольствием для меня было, если какой-либо большой город на пути приходился либо на слишком ранний либо на слишком поздний час дня. Я спешил в этих случаях заблаговременно, по телеграфу, просить губернаторов не беспокоиться, но бывали случаи, что это не помогало и в ответ приходилось получать телеграмму, что начальник губерния встречал необходимость, тем не менее, беспокоить просьбою принять его и начальников учреждений Финансового ведомства и мне и моему Секретарю не оставалось ничего иного, как подчиниться этому желанию. В Иркутске, например, моя встреча с Генерал-Губернатором и целым рядом должностных лиц произошла в три часа ночи.
Со станции "Манчжурия" я вступил на территорию Китайской Восточной дороги; пришлось оставить сибирский экспресс и перейти в экстренный поезд, специально снаряженный для меня и для всего состава моих спутников, а также для встретивших меня старших чинов дороги, с Генералом {373} Хорватом во главе. На этой же станции я нашел опередившего меня несколькими днями Командира Корпуса Пограничной Стражи Генерала Н. А. Пыхачева, с которым я был давно связан самою тесною дружбою. От него же я узнал, что меня ждет в Харбине, величайший сюрприз, подтвержденный тут же Генералом Хорватом, который показал мне только что полученную им от его помощника по гражданской части, Генерала Афанасьева, телеграмму: "выезжаю для встречи Князя завтра. Прибытие в Харбин предполагается во вторник, 9 часов утра".
Чтобы пояснить эту неожиданную и, по первому впечатлению, не понятную телеграмму, (нужно сказать, что с минуты решения Государем вопроса о моей поездке на Китайскую дорогу и во Владивосток, мои приготовления к отъезду делались совершенно открыто, за исключением того, что касалось собственно Владивостока и моих несогласий с Военным Министром. Об этом говорилось открыто в Министерстве знали это и другие ведомства, потому что я просил всех ускорить сметную работу.
Как-то еще в конце лета ко мне заехал на мою дачу, на Елагином остров, японский посол барон Mотоно и спросил меня без всяких дипломатических подходов, не думаю ли я проехать в Японию, причем он прибавил, что ему в точности известно, что его правительство было бы этому очень радо и, если только я подам ему надежду на возможность такой поездки моей, хотя бы на самый короткий срок, то он заявляет мне, совершенно открыто, что я получу приглашение его правительства в самых лестных для меня выражениях, потому что никто в Японии не игнорирует какую деятельную роль я принимал и принимаю в разрешении всех острых вопросов между обеими странами после 1905 года, и как много обязана Япония мне в том прекрасном положении, которым пользуется в России лично он, Мотоно. Он сказал мне, что я не могу себе и представить, какую встречу найду я в Японии и насколько мне будет отрадно видеть не только со стороны правительства, но и со стороны народа, как умеют в Японии почитать тех, кто, работая в пользу своей родины, открыто признает интересы и другой страны и не верит всем несправедливым слухам, способным только породить взаимное недоверие.
Как всегда предпочитая говорить правду и не затемнять ее ненужными фразами, я объяснил барону Мотоно, что для меня {374} было бы большою радостью исполнить желание японского правительства и доставить себе то удовольствие, которое давно составляло для меня предмета мечтаний. Я никогда не был на Дальнем востоке, но он всегда манил меня к себе. Настоящий случай, вероятно, единственный, когда бы я мог осуществить эту мечту в таких исключительных условиях. Но я не вижу никакой возможности исполнить это. Я должен быть обратно дома не позже самого начала ноября, когда открывается сессия Государственной Думы и Государственного Совета. Моя деловая поездка по русской восточной окраине, определенная в самых тесных пределах с едва достаточным количеством времени для выполнения самого необходимого, не дает мне никакой возможности сокращения, - что я и подтвердил бар. Мотоно, показавши ему весь мой маршрут, который сам он признал составленным, что называется, в обрез и прибавил, что меньше двух или даже трех недель на Японию положить, конечно нельзя.
Я думал было, что на этом наша беседа и окончится, и собирался было перейти к другим темам нашего разговора как Мотоно, прервавши меня, опросил: "а как отнеслись бы Вы к моей мысли переговорить еще раз об этом с Министром Иностранных Дел и попросить ею доложить Государю желание нашего правительства видеть Вашего Министра Финансов в гостях у себя, чтобы выразить ему всю нашу признательность за его справедливое к нам отношение. Я не хочу делать что-либо без Вашего согласия и не знаю хорошо, каковы Ваши отношения к Извольскому, который всегда говорит о Вас с чувством самого глубокого уважения".
Я просил барона Мотоно не предпринимать ничего для того, чтобы вызвать разрешение или даже прямое повеление Государя на мою поездку в Японию. Я привел ему два основания. Во-первых то, что я фактически не имею возможности запоздать моим возвращением домой, но вызвавши существенных неудобств в ходе моей текущей работы, тем боле, что я далеко не уверен в отношении Извольского к этой мысли, так как он необычайно щекотливо охраняет свои права, как единственного докладчика у Государя по вопросам Внешней политики, и легко может просто подумать, что я сам дал барону Мотоно мысль о желательности моею заезда в Японию, а это могло бы даже скомпрометировать меня в глазах Государя.
Я привел, во-вторых, что далеко не уверен в том, как отнеслась бы наша печать к моему визиту и не раздула ли бы она {375} его в смысл моего вмешательства в дела внешней политики, на что уже были намеки в Новом Времени по поводу моего участия во всех делах, касающихся Китая, Японии и Персии. Мотоно хорошо знал об этом, потому что мы не раз говорили с ним о нашей печати и трудностях вообще испытываемых русским правительством, у которого нет достаточно независимого органа, сколько-нибудь влиятельного, чтобы проводить его взгляды, а такая газета, как Суворинское Новое Время гораздо более враждебна к некоторым Министрам, нежели самые оппозиционные газеты.
Я умышленно не затронул Гражданина, чтобы не давать повода расширять программу нашей беседы, зная отлично, что Мотоно прекрасно обо всем осведомлен и даже не раз говорил Министру Иностранных Дел, что ему просто непонятно, как может газета, похваляющаяся своею преданностью Монарху, писать про Его Министров то, что можно читать каждый четверг на ее столбцах.
Но чего я не сказал японскому послу и что составляло главную причину моего нежелания, чтобы до Государя прямо или косвенно дошел вопрос о моей поездке в Японию, это то, что сам Государь, возбудивший вопрос о моей поездке на Дальний Bocток и не обмолвившийся ни одним словом о том, что было бы полезно для меня побывать в Японии, когда Он вел подробную беседу об этом и с Столыпиным и с Извольским и, выражая им обоим Свое удовольствие по этому поводу, очевидно не думал вовсе о расширении объема моей поездки.
Если бы вопрос об этом дошел уже по другой линии до Его сведения, то, независимо от того, что и Государь мог бы подумать, что инициатива этого принадлежала мне, - но в случае несочувствия Его такому предложению, несомненно, могло бы просочиться и дойти до сведения Японского правительства, что именно Он этого не желает, и тогда вместо пользы произошел бы только один и притом немалый вред.
Наша беседа с Мотоно закончилась искренним его сожалением о том, что то, что ему представляется таким хорошим, не осуществится, и он оказал даже мне, что считает себя отчасти виновным в таком неблагоприятном обороте дела, так как ему следовало просто доложить своему правительству уже давно, что моя поездка решена, и вызвать его на официальное приглашение меня, потому что он уверен, что в таком случае Государь не захотел бы сделать неприятности его правительству, и все получило бы самое счастливое направление, {376} к общей пользе, не вводя меня ни в какое щекотливое положение, которое действительно имеет место сейчас.
Не раз, после этой беседы мы виделись еще с бароном Мотоно, а перед самым моим отъездом он пригласил меня с женою на обед и открыто говорил за столом, как ему жаль, что у меня так мало времени, и что я не могу сделать визита Японии, которая была бы счастлива принять меня. Я ответил ему шутливо, что с величайшею радостью поеду другой раз, и вместе с ним, и прошу только заблаговременно предупредить меня о нашей с ним поездке.
При всем этом длинном обмене мнений, как и при неоднократных наших последующих встречах Бар. Мотоно ни одним словом не намекнул мне на то, что мне предстоит встретиться в Харбине с тем из японских сановников, который предпримет поездку только для того, чтобы повидать меня. Знал ли он об этом или и для него эта поездка была полным сюрпризом - я не знаю и думаю даже, что она была решена без его ведома, как результат того, что Японское правительство действительно желало меня видеть и, убедившись в том, что мой приезд не состоится, решилось просить наиболее уважаемого из своих сановников - приехать в Харбин. Какие цели преследовало в этом случае Японское правительство - осталось тайною, которую унес в могилу князь Ито, погибший от руки убийцы, в самую минуту своего приезда в этот город.
О предстоящем приезде Князя Ито никто в Петербург ничего не знал, и Генерал Хорват получил об этом уведомление на словах от Японского консула Каваками в день своего выезда из Харбина навстречу мне, на станцию Манчжурия.
Предъявленная мне об этом телеграмма на этой станции крайне смутила меня, (потому что я решительно не мог себе представить, чтобы для простого визита мне - такой заслуженный и престарелый сановник, незадолго перед тем сдавший должность Генерал-Губерногора Кореи, мог бы предпринять такое, сравнительно далекое путешествие.
Bсе догадки мои в пути были совершенно бесполезны, и я просил только Генерала Хорвата, чтобы он заблаговременно принял все меры к тому, чтобы путешествие Князя Ито по нашей дороге было обставлено всеми необходимыми удобствами и всем доступным нам почетом, до выставления почетных караулов на всех пунктах остановок, от частей Заамурского округа пограничной стражи и железнодорожной бригады.
{377} Я просил также заранее принять меры к тому, чтобы во все время своего пребывания в Харбине Князь Ито оставался в нашем вагоне, с постановкою его рядом с моим вагоном, и составить вперед расписание на время пребывания его у нас, войдя теперь же в соглашение с японским консулом в Харбине и прося его протелеграфировать Князю, как только все будет установлено.
В тот же вечер, с одной из ближайших станций после Манчжурии, была отправлена подробная телеграмма; на утро получен от консула Каваками ответ с полным одобрением того, что ему было предложено, и с обещанием в тот же день передать выработанный план на одобрение Князя Ито, как только он прибудет на пограничную с нами станцию Куанчен-дзы (Чан-чун). Во все время этих обсуждений, меня не оставляла мысль, что незадолго до нашей войны с Японией Князь Ито приехал в Петербург и вел в нашем Министерстве Иностранных Дел переговоры самого определенного характера - о тесном между нами сближении, которое тогда не состоялось, и прямо от нас он проехал в Англию и там было заложено основание союза между Англиею и Япониею, сыгравшего такую роковую для нас роль в 1904 - 1905 гг.
Об этом много раз я слышал от Гр. Витте в первый период войны, когда наши отношения с ним казались мне такими дружескими и искренними, но в чем именно заключались предложения Японии, сделанные нам через Князя Ито, я никогда не мог узнать от Витте и насколько его рассказ отвечал действительности. - я также не знал, хотя мне всегда было странно, каким образом могло в ту пору Министерство Иностранных Дел вести самостоятельные переговоры с кем бы то ни было, когда теснейшая дружба Гр. Витте с Графом Ламсдорфом составляла в ту пору общеизвестный факт и едва ли мог Граф Ламсдорф отклонить какое бы то ни было предложение Князя Ито, не посоветовавшись с Витте.
Вся дорога от границы Манчжурии до Харбина составляла для мня непрерывную смену самых отрадных впечатлений. На каждой станции мы стояли подолгу, если было что посмотреть, а было многое, что радовало взор и давало глубокое удовлетворение тому, каким бодрым ключом развивалась жизнь в русских поселках при сколько-нибудь значительных железнодорожных центрах.
Население встречало меня хлебом-солью и наперерыв {378} просило посетить дома и школы. Всюду было видно неподдельное благосостояние, и нигде я не видел ни малейших следов кaкой-либо взаимной отчужденности нашего и китайского населения. Китайских властей, кроме города Цицикара, почти не было заметно, а там, где они являлись ко мне, я видел также только спокойное настроение и ни одной жалобы, ни одного неудовольствия не было заявлено мне, несмотря на все мои расспросы и на предложение сказать все, что только не ладится в повседневной жизни.
Особенную отраду доставили мне наши войсковые части. Если бы кто-нибудь раньше сказал мне как размещены части заамурского округа пограничной стражи или показал одни фотографические снимки, в особенности с казарм железнодорожной бригады - я не поверил бы или сказал бы себе, что это сделано просто на показ и взято с какого-нибудь случайного здания.
Но когда пришлось встретиться на жаждой станции с таким размещением бригады, посетить десятки таких казарм которые по внутренним условиям размещения нижних чинов бригады, я не говорю уже об офицерском составе, напоминали мне почти роскошные дортуары, куда лучше тех, которыми хвалился Пажеский Корпус, Лицей и Училище Правоведения в самое последнее время, мне хотелось одного - чтобы обличавшие меня члены оппозиции в Государственной Думе пережили то отрадное чувство, которое я испытал при виде всего, что показали мне...
Мне невольно захотелось, чтобы китайские власти заглянули в наши казармы и получили то впечатление, которое дало мне столько радости и даже гордости.
Я передал об этом моим спутникам и попросил их на ближайшей большой остановке предложить встречавшим меня китайским властям обойти казармы вместе со мною. Они долго совещались между собою, потом как будто долго не решались, о чем-то тихонько поговорили с Генералом Хорватом, пользовавшимся у них, видимо, полным доверием, и через переводчика передали мне, что они не хотят отказать мне, но просят меня только подтвердить Дао-Таю (Генерал-Губернатору провинции), если только он меня спросить, что они исполнили только мое желание, потому что им не разрешено посещать наши казармы.
Генерал Хорват сказал мне, что во время обхода мною казарм и разговоров с нижними чинами сопровождавший {379} нас китайский начальник все опрашивал его, не пожелаю ли я посетить китайские казармы где-либо, и все уверял его, что при всем его желании, он не может этого разрешить мне так как будет немедленно уволен за это от службы.
Части Заамурского Округа, но принадлежащие к составу железнодорожной бригады, оказались размещенными несколько хуже, хотя, в большинстве казарм, он были обставлены значительно лучше, чем многие гвардейские части в Петербурге. Не было в них и того внешнего уюта, которым отличались железнодорожные роты и менее роскошно обставлены учебные их команды. Были, правда, еще и остатки прежнего размещения в землянках, но только в редких случаях, да и то кредиты на них были уже отпущены, а к моменту моего увольнения в начал 1914 г. и эти остатки прежнего положения отошли в область воспоминаний, и Командир Округа, Генерал Чичагов просил даже моего разрешения сохранить самую плохую из этих землянок на память о прошлом (без размещения в ней людей), постоянно поддерживая ее в том виде, в каком оставила ее та часть, которая последнею уйдет в новые помещения.
Время в дороге шло с какою-то сказочною быстротою. Наш маршрут движения экстренного поезда составлен был с таким расчетом, чтобы не оставить без посещения и подробного осмотра ни одного из сколько-нибудь значительных поселков при станциях, ни одной воинской части, ни одного интересного технического сооружения.
Часто поезд останавливался ночью, чтобы только не пропустить ничего интересного впереди, а те пункты, которые приходились на темное время, были назначены для посещения, на обратном пути, днем.
Таким образом, я могу оказать, что я видел всю дорогу, видел все, что было нужно знать, и не оставил ни одной части без посещения и без передачи каждой того, что поручил мне Государь передать ей за ее службу во время войны.
Особенно отрадно протекали наши общие завтраки и обеды в поставленном в нашем поезде вагон-ресторане. Неизбежная сдержанность вначале скоро сменилась самою непринужденною простотою отношений, и полились бесконечные рассказы о пережитом времени и о том, какую моральную поддержку получил округ от меня во все острые моменты войны, когда, порою, никто на месте не знал, чем кончится то или другое столкновение с отдельными воинскими начальниками.
{380} Мои спутники не скупились на передачу того, что переживали они вместе со мною, отстаивая округ от всякого рода наветов, а иногда, с моего разрешения, А. Н. Вентцель прочитывал наиболее интересные бумаги военного времени и извлекал из захваченного им с собою архива целые страницы моих речей в Государственной Думе, сказанных в защиту Китайской Восточной дороги, при нападках со стороны обычных моих оппонентов. Такие извлечения были прямым откровением для моих слушателей. Только из этих застольных передач они узнавали о том, какой труд несу я в их интересах, и в особенности бывало трогательно слышать отзывы на такие "новинки" от рядовых офицеров, попадавших на наши завтраки либо обеды с тех или иных станций.
Они не читали, вероятно, ни одной думской стенограммы и не имели понятия о том, что говорилось даже в Думе 3-го созыва, с какою клеветою подчас приходилось мне иметь дело, и какой труд выносил я, защищая их правое дело перед народными представителями, нападавшими либо на ни в чем неповинных "манчжурцев" либо обвинявших правительство в том, что оно зря тратит "народное достояние". Помню такой случай.
Генерал Чичегов просил моего разрешения пригласить к позднему обеду одного командира батальона, занимавшего, вот уже четвертый год, одну из самых трудных и неудобных позиций в смысле охраны дороги от возможных нападений и дурного состояния расположения его батальона. При нем пришлось прочитать только что выдержанную мною стычку, весною, по смете, связанной с исчислением кредитов на содержание дороги. Сначала был прочитан список речи Некрасова с его сдержанными но форме, но обидными по содержанию, инсинуациями о деятельности "манчжурцев".
Не слыхавший ничего подобного Полковник, едва сидел на месте. Пот скоплялся каплями на то лице, и он все прерывал чтение; словами: "да как же это так? Кто же допускает, чтобы нас оскорбляли, и как же никто не поднял голоса в нашу защиту? Ведь военным людям нужно драться и защищать свою честь".
Генерал Чичегов все успокаивал его словами: "подождите, Полковник, дайте дочитать до конца, a потом Вы услышите и защиту Вас и нас всех".
Когда была прочитана моя ответная речь, полковник просиял и, обращаясь ко мне, сказал только, не скрывая слез:
"Ваше Высокопревосходительство, а Его Величество знает, что Вы сказали? У него была Ваша речь? Не я могу получить у Вас {381} эту речь, чтобы прочитать ее моим людям? Они должны знать какие это "манчжурцы" и как Царский министр защитил нас".
В ответ, его начальник, командир округа, передал ему мой приказ, при вступлении моем на территорию железной дороги, охраняемую Заамурским округом, который не дошел еще до Полковника. Он громко прочитал его, перекрестился и сел на свое место, сказавши только: "ну теперь я никаких думских речей читать больше не стану, а раздам всем людям этот приказ Шефа и царское спасибо нам за Манчжурскую службу".
В Харбин я приехал в воскресенье, 11-го октября. Был чудный, яркий, солнечный, слегка морозный день. Железнодорожный вокзал был заполнен народом. Огромная толпа стояла за вокзалом, потому что допуск на перрон, во избежание толкотни, был допущен только по билетам.
На первом месте, в числе представлявшихся мне, находились два китайские Дао-Тоя Гиринской и Хейлутзянской провинций. Приветственную речь на китайском языке, тотчас же переведенную на очень хороший русский язык, произнес первый из этих двух сановников; в состав территории, ему подведомственной, входил и г. Харбин. Его коллега, по имени Ли, отлично владевший русским языком, не хотел взять на себя роли представителя китайской власти (но объяснению Ген. Хорвата), по чисто политическим соображениям, потому что он относился вообще отрицательно к русским и не пропускал. случая, чтобы чинить дороге всевозможные неприятности, и вел прямую интригу против нас, всяческими путями, наставляя Германского и Американского консулов против нас. От последних исходили все затруднения, которые мы испытывали в ту пору, в частности в деле организации городского управления г. Харбина.
Сущность речи Гиринского Генерал-Губерногора сводилась к тому, что исполняя повеление своего повелителя, его Величества Богдыхана и его правительства, он приветствует, в моем лице, представителя могущественнейшего соседа Китайской Империи - Российского Императора и, вместе с тем, того русского сановника, которому Государь Император России поручил быть главным Начальником всей территории Китайской Восточной жел. дороги, которую Его Величество Богдыхан признал возможным, для пользы своего народа, передать временно в управление российской власти.
Будучи ежедневным свидетелем мудрого исполнения всеми русскими учреждениями тех {382} обязанностей, которые они приняли на себя по уполномочию Китайского правительства, - он, Генерал-Губернатор, свидетельствует мне о том, что русская власть действует во всем, согласно с заключенным договором, одинаково ограждая права, как русского, так и китайского населения в полосе дороги и вносит всюду порядок, благосостояние и справедливость. Он просит меня засвидетельствовать это моему Повелителю и выражает свою надежду, что так будет продолжаться и впредь и, со своей стороны, заверяет высокое русское правительство в том, что он никогда не перестанет идти навстречу справедливых желаний, если бы только для этого потребовалась помощь и защита дороги от каких бы то ни было несправедливостей".
Я ответил ему тут же, в таких же любезных выражениях, сказавши, что я не сомневаюсь в том, что моему повелителю, Государю Императору, будет особенно отрадно узнать такую оценку трудов подведомственных Ему, чрез меня, русских железнодорожных организаций. Я добавил, что я счастлив тому, что имел личную возможность убедиться, насколько успел в короткое время развиться и укрепиться в своем благосостоянии обширный край, прорезанный железною дорогою, как отрадно мне было видеть несомненные доказательства проявления мирной и дружной жизни русского населения в полосе дороги с китайским населением, как трогательно было мне видеть русских детей, посещавших вместе с китайскими детьми русскую школу в некоторых пунктах. Под конец я принес лично Генерал-Губернатору мою благодарность зa его любезное и справедливое отношение ко всему русскому управлению, подчеркнувши особенно, что от начальника дороги я уже успел неоднократно выслушать, что с его личной стороны мы встречаем только справедливость и самое широкое проявление готовности идти нам навстречу в наших начинаниях и желали бы только одного - чтобы везде высшая на местах китайская власть руководствовалась теми же началами.
По мере моего ответа все участники этого представления все больше и больше складывали свои руки на груди и вдыхали в себя воздух, в знак удовольствия и почета ко мне, а когда я выразил мое желание, тотчас после окончания приема, приехать к ним с ответным визитом, тот же Дао-Тай просил от своего имени и имени своего коллеги назначить им другой день, чтобы они могли встретить меня с должным почетом, соответственно моему высокому положению и тому уважению, которое они питают к представляемой мною особе русского Государя Императора. Стоявший рядом с китайцами состав иностранных консулов не блистал многолюдством. От имени всех консулов меня приветствовал японский консул Каваками, который заявил, что германский консул не мог прибыть по болезни и будет счастлив представиться, как только позволит сто здоровье. Американского консула не было на месте, потому что он выехал в Пекин на совещание со своим посланником еще до того, что стал известен в точности день моего приезда. С французским консулом, только недавно прибывшим в Харбин и откровенно заявившим, что он не успел ознакомиться с положением на месте, мой разговор быль очень короток. Он поспешил заявить мне, что, исполняя указания своего правительства, он заранее отдает себя всецело в мое распоряжение, так как успел уже вынести общее впечатление, что с управлением дороги не может быть никаких осложнений, настолько оно широко смотрит на свои задачи. Других консулов в то время еще не было в Харбине.
Мне было особенно жаль не видеться с германским консулом, потому что он, видимо, просто избегал встречи, а на самом деле именно с ним и всегда идущим с ним рука об руку американским консулом у железной дороги были самые острые отношения, осложнения и без того сложный вопрос об организации городского общественного управления, который и после того доставил мне не мало хлопот, да кажется так и не был окончательно разрешен до наступивших потом событий революционного времени.
Несмотря на все мои попытки, я так и не виделся с германским консулом, о чем, впрочем, меня даже предупредил и японский консул, сказавши в присутствии Генерала Хорвата с улыбкою, что он "настолько болен", что едва ли выздоровеет до моего отъезда.
Вся церемония с представлениями затянулась необычайно долго, и только часа два спустя я мог покончить ее и отправиться в церковь на торжественный молебен.
Весь длинный путь от вокзала до Николаевского собора (в сущности небольшой, но хорошо украшенной внутри церкви был занят сплошною толпою народа, видимо, непривыкшего к подобного рода зрелищам. Войска Харбинского гарнизона из пограничной стражи и железнодорожной бригады, стояли шпалерами по обеим сторонам, встречая меня везде маршем пограничной стражи. Духовенство всех православных церквей {384} Харбина служило молебен, а царское многолетие после окончания его сопровождалось звуками народного гимна, сыгранного хором трубачей, выстроенных у самой церкви, и окончание гимна было покрыто громовым "ура" огромной толпы, подошедшей к церкви, и сопровождало меня до самого вокзала, куда я вернулся в свои вагон на самое короткое время, чтобы снова выехать в город для ответных визитов консулам и всем важным начальствующим лицам в Харбине. Сравнительно долго я задержался только у японского консула, который сообщил мне, все, что он знал о приезде Князя Иго и о том, что сделано им для встречи и размещения во время пребывания его в Харбине.
О встрече Князя он оказал мне только, что решительно все согласовано им с Генералом Хорватом, который оказал ему величайшую помощь в этом деле, настолько, что он не считает нужным беспокоить меня чем бы то ни было, так как за три дня с полученного им извещения о времени прибытия Князя Ито он успел сделать все необходимые распоряжения во всем, что касается приема Князя японской колонией, а в отношении приема русских депутаций Генерал Хорват обещал, что будет соблюден тот же порядок, который только что был применен по отношению к встречи меня и дал такой блестящий и образцовый результат.
Консул был озабочен только неизвестностью, согласится ли Князь оставаться в железнодорожном вагоне или предпочтет поместиться в гостинице, так как его личная квартира недостаточно для того удобна, но что он, на всякий случай, приготовился выехать с женою в гостиницу, чтобы предоставить Князю занять все его помещение. Я советовал ему поддержать мое предложение, оставаться в вагоне, сказавши, что все уже приготовлено к тому, чтобы вагон Князя Ито был поставлен рядом с моим, и даже будет обеспечено внутреннее между нами сообщение, чтобы избавить Князя от необходимости выходить наружу при наступившем холодном времени.
Вернулся я к себе из объезда почти всего сильно растянувшегося города только после пяти часов и был настолько утомлен, что отказался от обеда и просидел один до восьми часов, когда, должен был приехать ко мне Генерал Хорват со своими старшими сотрудниками, чтобы условиться обо всех подробностях приема Князя Ито, составить расписание обедов и завтраков для него при участии разных представителей китайской и нашей администрации и передать его консулу Каваками {385} для представления на цензуру Князю, после того, что выяснится время его пребывания в Харбине и личные его, в этом отношении, желания.
Генерал Хорват передал мни, что он полагает самым правильным принять для представления Князю Ито китайских властей, которые уже заявили ему о непременном их желании встретить его, так как они встретили меня, а также всех представителей русских учреждений и городского общественного управления - все те распоряжения, которые были выработаны для встречи меня и вполне удались. Он разослал даже всем приглашенным такие же именные приглашения, какие были разосланы для меня, и те же офицеры гарнизона, которые принимали прибывающих по приглашениям, повторят ту же обязанность и для этого дня. Он думает, однако, что число лиц будет меньше, хотя все любят зрелища, потому что вторник - день рабочий и в особенности из многочисленных городских представителей немалое количество не сможет приехать.
Но в отношении японской колонии думал сначала просить консула дать ему список лиц, которых он считал бы нужным пригласить на встречу, с тем, чтобы и эти приглашения были разосланы от железной дороги, с тем только, чтобы консул взял на себя и на избранных им лиц проверку и надзор за прибывающими. С такою мерою, однако, консул не согласился.
Он думает, что наплыв желающих из японской колонии видеть самого известного из японских государственных людей будет так велик, что разослать именные приглашения будет просто невозможно, без опасения обидеть многих желающих и притом самых почтенных людей. Если бы Хорват даже настаивал да этом, то ему пришлось бы протестовать против такой меры, потому что она вызвала бы только бесконечные жалобы, которые обрушились бы на него и могли бы дойти и до Правительства и вызвали бы неудовольствие на то, что он не сумел оградить интересов японской колонии в таком исключительном случай, как возможность выразить дань уважения своему знаменитому гражданину, впервые посещающему Манчжурию, где число японцев так велико. Он предложил взамен того вовсе не рассылать никаких приглашений для японской колонии, а предоставить ему, как консулу, допустить на перрон жел. дороги всех лично ему или его сотрудникам известных японцев, - под его личною ответственностью и от {386} вести для размещения колонии особое место, достаточно обширное и совершенно отдельно от русских депутаций, с тем, чтобы сначала были приняты все русские депутации, конечно, после китайских официальных лиц, а затем, Князь Ито был бы принят им, консулом Каваками, как бы на японской территории. Он предложил даже избранное им наиболее для того удобное место, а именно - в конце перрона, перед тем местом, у которого будет поставлен мой вагон, с тем, сказал он, чтобы после окончания всего приема Князь Ито мог бы пройти прямо в мой вагон для посещения меня, как бы с ответным визитом на мое посещение тотчас по его прибытии в Харбин.
Генералу Хорвату все предложение показалось настолько правильным и логичным, что он принял его без всяких оговорок, обещал сегодня же доложить мне и не сомневается я в моем согласии. Он просил только консула, для порядка, написать ему об этом, в ответ на полученное им уже от него письмо с просьбою об именном списке, что тот тотчас же и исполнил, и письмо это находится у него в деле.
Я нарочно останавливаюсь так подробно на этом вопросе, потому что последующие события более, чем достаточно, оправдывают такое подробное изложение.
Весь следующий день ушел у меня на продолжение разъездов днем от 4 - 7 часов и на длиннейшее утреннее заседание в управлении Китайской Восточной дороги, для направления целого ряда дел большого калибра. Я опасался, что пребывание Князя Ито отнимет у меня немало времени, и спешил сделать до него все, что было возможно.
Вечером я настолько устал, что (отказался от всех сделанных мне приглашений и остался у себя в вагоне вдвоем с Е. Д. Львовым, набрасывая заметки обо всем, что осталось в виде впечатлений от последних дней. В вагоне же мы и обедали вдвоем.
Перед тем, чтобы лечь спать перед утомительным завтрашним днем, я пригласил Е. Д. Львова выйти на вокзал, подышать морозным воздухом и полюбоваться чудесным лунным освещением. Ночь была, действительно, удивительная. Было около 10 градусов мороза, но тихо и совершенно безветренно.
Мы более часа гуляли по вокзалу, со всех сторон окруженному высоким забором и станционными зданиями. Не было ни души кругом нас, если не считать двух часовых у моего {387} вагона, от которых пограничное начальство никак не соглашалось освободить меня, несмотря на все мои просьбы.
Во время нашей прогулки мы остановились, между прочим, перед окнами залы 3-го класса, которая и ночью была ярко освещена ацетиленовыми фонарями сверху потолка. Было светло, как днем, столы и стулья были составлены к середине залы, пол чисто вымыт, и мы даже посмеялись, что следовало бы пригласить заведующего контролем дороги, постоянно упрекающего дорогу в больших расходах по содержанию зданий в чистоте, чтоб он мог сделать, и притом не без основания свои контрольные замечания. Это ничтожное с вида обстоятельство сыграло на следующий день свою и притом немалую роль.
Утром 13-го октября я встал очень рано. Ожидалось прибытие поезда с Князем Ито ровно в 9 часов.
С 7-ми ч. вокзал стал заполняться публикою. Весь угол около моего вагона буквально кишел японцами, которых размещали чины консульства. Консул Каваками подошел ко мне еще раз благодарил меня за то, что я согласился с его предложением относительно приема Князя Ито японскою колониею.
За калиткою, ведущей с перрона в город, стояла густая толпа японцев, из которой чины консульства, по-видимому, с большим вниманием выпускали группами и по одиночке людей на вокзал, указывая им место, где каждый должен стоять. Порядок казался мне образцовым. Поговоривши с консулом и не желая мешать ему, я пошел к тому месту, где должен был остановиться вагон Князя Ито, поговорил через переводчика с китайскими Даю-Таями, которые тут же просили меня назначить день для посещения их мною, при чем Ли на этот раз перешел сам на русский язык и спросил меня не предпочитаю ли я отложить мой визит до отъезда Князя Ито, так как, несомненно, я буду очень занят во время его пребывания в Харбине, и мы тут же условились, что я сообщу им через Ген. Хорвата, как только выясню сегодня же, все вопросы, связанные с приездом японского посла. Затем мы условились о самой процедуре представления в том смысле, что я буду просить Князя Ито принять, прежде всего, почетный караул, как только он переговорит с китайскими сановниками и примет Ген. Хорвата, командира Корпуса пограничной стражи и Начальника Заамурского Округа, Генерала Чичагова, и уже после принятия почетного караула начнется прием им всех представляющихся.
{388} Ровно в 9 часов, как было назначено по расписанию, подошел поезд. Как только он остановился, я вошел в салонный вагон, в котором, стоя у стола, ждал меня Князь Ито и обратился ко мне со словами привета, тотчас же переведенными мне на хороший французский язык одним из спутников, Танака, занимавшим потом должность Начальника Южно-Манчжурской жел. дороги. Он сказал мне, что когда в Японии. стало известно, что я предполагаю прибыть в Манчжурию для осмотра Китайской Восточной дороги, состоящей под моим административным надзором в Японии возникла надежда на то что я продолжу мое путешествие до Японии и войду в личное соприкосновение со страною, (которая понимает как важно для нее самое искреннее сближение с Россиею, с которою не должно быть более никаких недоразумений в будущем.
Правительство его страны радовалось возможности принять меня и выразить в моем лице не только свои чувства к великой стране, но и показать, насколько она ценит то чувство справедливости и даже государственной мудрости, которое я проявляю во всех случаях, когда мне приходится разрушать вопросы, близко затрагивающие интересы обеих стран. Поэтому, когда к великому огорчению правительства выяснилось, что неотложные дела моего ведомства и та сложная работа, которая лежит на мне, лишают меня возможности пойти навстречу этого желания, - у правительства Его Величества Микадо возникла мысль приветствовать меня хотя бы на территории Манчжурии, где наши интересы соприкасаются так тесно, и он, Князь Ито, был счастлив, несмотря на это годы и плохое состояние здоровья, принять это поручение и иметь удовольствие войти в непосредственное сношение с русским сановником, которого знает Япония и высоко ценит его за его деятельность па пользу своей родины.
Я ответил князю Ито, что я глубоко смущен тою высокою оценкою моих трудов, которую я только что выслушал из уст сановника, снискавшего себе совершенно исключительное уважение далеко за пределами своей страны. Мне принадлежит, сказал я, исключительно исполнительная роль в пределах того ведомства, во главе которого я поставлен милостью и доверием моею Государя, и все, что я делаю, все направление сложных дел место обширного ведомства, я делаю исключительно выполняя предуказания и волю моего Государя, и без его решения я не был бы в состоянии осуществить ни одного из тех начинаний, в которых судьбе было угодно дать мне возможность участвовать. Я могу поэтому, по глубокому моему {389} убеждению, заверять его, что я сочту своим долгом довести до сведения моего Императора каждое слово, выслушанное мною, и отнесу к той справедливости и присущему Его Величеству стремлению разрешать все вопросы, затрагивающие жизненные интересы его страны, руководствуясь такою же справедливостью по отношению к тем странам, с которыми Россия желает жить в мире и согласии.
По мере перевода моего ответа приводимого здесь лишь в виде сжатого конспекта, но записанного мною потом по горячим следам, Князь Ито все время делал знаки головою и какими-то гортанными, совершенно непередаваемыми звуками, видимо, выражал свое удовольствие. Когда же я кончил, он сказал мне, смотря упорно в мои глаза, буквально следующее:
"Я уже старый человек и привык много думать раньше, чем выражать мои мысли. Я надеюсь, что мы будем обо многом говорить с Вами, а пока скажу Вам только еще раз, что я счастлив встретиться с Вами потому, что мне кажется, что Вы выражаете свои мысли очень открыто и по Вашему убеждению, у меня тоже нет никакой причины не быть с Вами искренним, и я уверен заранее, что Вы не услышите от меня ничего, что могло бы быть неприятно Вашему Государю или не полезно для Вашей великой страны, которой я желаю самого счастливого будущего и уверен, что она никогда более не встретить Японии против себя".
Присутствовавший при начале нашей встречи консул Каваками говорил мне уже несколько дней спустя, когда Князя Ито не было более в живых, что он сказал присутствовавшим при нашем первом и последнем разговоре, прося их не переводить его слов, что он испытывает такую радость от первого впечатления, что у него совсем легко на душе и ему хотелось бы, чтобы и я испытывал такое же чувство.
С внешней стороны Князь Ито произвел на меня глубокое впечатление: маленького роста с несколько чрезмерно большою головою, он имел уже усталый вид, но глаза его светились ярким светом и точно пронизывали собеседника, а некрасивое, несколько калмыцкого типа лицо было ласково и приветливо и невольно располагало к себе.
Окончивши обмен приветствиями, я просил разрешения Князя Ито представить ему сначала только трех начальствующих лиц по управлению железною дорогою и моих немногих спутников, потом разрешить представить ему почетный {390} караул от войск, охраняющих железную дорогу, как постоянный обычай, соблюдаемый всегда в России - оказывать воинские почести особенно чествуемым лицам, а затем представить ему, по группам, все учреждения, находящаяся в ведении Общества Китайской Восточной дороги и, под конец уже, передать его в руки японского консула, который представит ему всю многочисленную японскую колонию, после чего я буду ждать его у своего вагона с просьбою зайти ко мне для получения его согласия на предположенное распределение по времени или для выслушания его желаний, которые, разумеется, тотчас же будут приняты мною.
На все мои предложения он ответил полным согласием и просил перевести, что он приехал ко мне и только для свидания со мною и отдает себя в мое полное распоряжение.
Мы вышли из вагона. Тут же я представил ему Ген. Хорвата, которого он горячо благодарил за прекрасное передвижение по железной дороге и за все предоставленные ему удобства. Потом я представил Генералов Пыхачева и Чичагова и просил занять место для принятия почетного караула, отводя ему первое место, несмотря на то, что он все настаивал на том, чтобы я его занял, и мы кончили тем, что сели рядом.
Быстро прошла знаменитая по своей выправке и подбору людей 19-ая рота Заамурского Округа пограничной стражи, и потянулась затем довольно продолжительная и утомительная церемония представления отдельных групп и учреждений.
Начальствующие лица называли поименно представляющихся, каждому Князь Ито подавал руку; последними стояли православные священники, непременно желавшие участвовать в приеме.
Когда кончилось на них представление, Князю Ито надлежало перейти к японской колонии, стоявшей совершенно отдельно с небольшим перерывом от русских группировок.
Прежде, чем отойти в сторону, я обратился к Князю со словами: "Позвольте мне передать Вас в руки Вашего консула, который представит Вам Вашу национальную колонию в Харбине, самую многочисленную после русских и китайских подданных. Вы вступаете, таким образом, на Вашу территорию, и мы уступаем Вам все наши права". С тою же кроткою улыбкою Князь Ито горячо и крепко пожал мне руку.
Я собирался было отойти в сторону, чтобы дать ему более свободное место пройти к своим соотечественникам, как в {391} эту самую минуту, около меня, раздалось несколько - три или четыре - глухих ударов, как бы хлопушки, и Князь Ито стал падать прямо на меня. Я не успел поддержать его вполне, и он упал бы на пол, если бы не подбежал следовавший за мною то пятам мой курьер Карасев, который поддержал его вместе со мною. Раздалось еще нисколько выстрелов, толпа ринулась в сторону стрелявшего, адъютант Генерала Пыхачева, Ротмистр Титков, сбил его с ног и сдал чинам жандармского полицейского надзора дороги.
Многие побежали через рельсы дороги, прочь от места катастрофы, и в числе их, я видел как бежали, оба китайские Генерал-Губернаторы, подобравшие длинную свою одежду.
Мы подняли на руки Князя Ито, я взял его под плечи, Карасев за ноги, подошло еще несколько человек, бережно поддержавших кто со мною за плечи, кто за средину тела, и мы понесли его к его вагону, из которого, менее чем за час перед тем, он вышел веселый и улыбающийся.
Когда мы вынесли его в салон и положили на диван, я подложил под его голову кожаную подушку и потребовал доктора. Князь лежал без всякого движения и медленно, едва, заметно, дышал. Казалось, что он уже умер, хотя дыхание было еще слегка заметно.
С другого конца вагона внесли туда же раненого в ногу одного из его спутников - Танаку и мне сказали, что ранен тяжело в ногу и консул Каваками и еще один японский чиновник из свиты Князя Ито.
Вошел доктор, осмотрел раны и сказал, что по первому впечатлению положение безнадежно, так как две раны нанесены в полость сердца и пульса почти не слышно. Кто-то из прибывших с Князем Ито обратился ко мне с просьбою, оставить раненого среди его спутников, которые уже пригласили японского врача. Я вышел из вагона, послал справиться о положении консула, отвезенного в железнодорожную больницу у самого вокзала, и стал, вместе с начальством дороги и моими спутниками, ждать прибытия японского врача и его решения.
Бесконечно долго тянулось время, хотя прошло не более всего 15-20 минут, говорить ни с кем не хотелось, каждый думал свою думу. Пришли мне доложить, что преступник арестован и содержится под усиленным караулом в помещении жандармского надзора на самом вокзале, что допрос его следователем и прокурором окружного суда уже начат, и {392} он назвал свое имя, заявивши, что он кореец, убил Князя Ито совершенно сознательно, потому что, по его распоряжению, как бывшего Генерал-Губерногора Кореи, неправильно были осуждены и казнены члены его семьи.
Вскоре из вагона вышел кто-то из японских спутников и сказал, что Князь скончался. Я вошел в вагон, других никого просили не входить. Тело Князя было положено на раздвинутый обеденный стол. Под головою лежала положенная мною кожаная подушка. Тело лежало одетое в темно-коричневый шелковый халат. Выражение лица было совершенно спокойное и не носило следов страдания. Нисколько человек японцев стояло молча в углу салона в согнутом положении и при моем входе как-то еще ниже склонились.
Поклонившись праху, я вышел из вагона и пошел к себе в вагон, прося зайти туда прокурора окружного суда, как только он освободится. Не успел я дойти до конца платформы, где стоял мой вагон, как меня догнал, не помню хорошенько кто именно, кажется Е. Д. Львов, и сказал, что раненый старший спутник Князя Ито - Танака просит меня войти в нему, так как у него есть ко мне большая просьба.
Я нашел его в одном из отделений того вагона, в котором лежало тело Князя Ито. Нога его была перевязана, и рана найдена доктором серьезною, но не угрожающей жизни, хотя и требующей продолжительного лечения. О самом происшествии он не сказал мне ни слова, но обратился ко мне с вопросом: когда может быть увезено тело Князя, так как ему кажется, что наилучшим решением было бы немедленно отправить его в пределы японского участка жел. дороги, где правильнее ждать распоряжений о возвращении его домой. Не наводя никаких справок, я ответил ему, что тело может быть увезено, когда им угодно, потому что мы не имеем никакого права задерживать его при ясности всего, что произошло, и сознании преступника, а для приготовления поезда требуется очень немного времени.
Ген. Хорват, находившийся тут же, поддержал мои слова и предложил назначить экстренный поезд через час. Прокурор окружного суда и судебный следователь также не встретили никаких возражений и просили только сообщить подробности осмотра тела японским и нашим врачом, которые были между собою совершенно согласны. Я съездил в магазин Чурина, выбрал лучший, который оказался там, металлический венок с фарфоровыми цветами весьма неважного {393} вкуса и достоинства и ровно в половине 12-го утра, в сопровождении того же Генерала Афанасьева, который привез покойного Князя Ито, тело его покинуло Харбин.
Не успел скрыться экстренный поезд из вида, как Генерал Хорват пришел ко мне и заявил, что три корреспондента японских газет, приехавшие вместе с Князем Ито, не выехали из Харбина и настойчиво не только просят, но даже требуют свидания со мною, так как они должны немедленно послать депеши обо всем случившемся в Токио.
Из окна вагона я видел их у самого вагона чуть ли не насильно стремящихся войти ко мне, но их не пускала стража.
Я надел пальто, вышел из вагона, направляясь в больницу справиться о состоянии ран консула Каваками и подошел к ним, чтобы сказать (они плохо говорили по-русски и лучше по-французски), что я приму их тотчас по возвращении из больницы после посещения их консула, и когда они в весьма неприличной и даже резкой форме заявили мне, что печать не может ждать, пока я решусь их принять, я ответил им, также повысивши голос, что они здесь не хозяева, что я и без того оказываю им исключительное внимание, обещая принять их тотчас после посещения их консула, и прошу их, во всяком случае, изменить их тон разговора со мною.
У ворот железнодорожной больницы меня встретила жена консула, принесла мне на плохом английском языке благодарность и за мое желание навестить ее мужа и за тот прекрасный уход, которым он окружен с больнице, и мы вместе с ней вошли в палату, где, лежал Каваками.
Не удаляя жены, он сказал мне, что единственное, что составляет предмет его величайшего горя, это то, что он не убит вместе с Князем Ито, потому что это страшное для Японии несчастье случилось исключительно по его вине. И тут же он повторил с буквальною точностью все, что я знал еще накануне от Генерала Хорвата, относительно его настояний об организации приема и происшедшей об этом переписке.
Он передал мне еще ряд второстепенных подробностей, устанавливающих с полной несомненностью, отсутствие самой отдаленной ответственности железнодорожной администрации в этом прискорбном происшествии и прибавил, что еще сегодня, если только врачи ему позволят, он составить в этом смысле донесение своему правительству и передаст копию Генералу Хорвату.
Я передал ему тут же, какое нападение повели на меня {394} представители японской печати, насколько они были непозволительно невежливы и даже трубы и предупредил его, что, если они сохранят тот же тон и при предстоящей нашей беседе с ними, то я попрошу их удалиться из моего вагона.
Каваками, без всякого моего заявления, выразил намерение пригласить их к себе, как только врачи разрешат ему принять их, и повторить им все, что говорил мне, и даже покажет им свое донесение Министерству Иностранных Дел.
Успокоивши его, как я только мог это сделать, я вернулся на вокзал и нашел у вагона тех же корреспондентов, которых окружала толпа японцев, и их, не без труда, оттесняла от моего вагона, железнодорожная полиция. Следом за мною эти назойливые господа вошли в мой вагон. Я предложил им выждать, пока я напишу три телеграммы в Петербург: Министру Иностранных Дел для передачи по месту его нахождения, так как, я не знал, где находится в настоящую минуту Государь, которого он сопровождал в Его поездке в Италию, Председателю Совета Министров Столыпину и моей жене. И тут не обошлось без столкновения, так как газетные корреспонденты продолжали настаивать на том, чтобы я немедленно выслушал их вопросы и дал на них им разъяснения, а не заставлять их еще ждать, пока я не окончу мои занятия.
Мне не оставалось ничего иного, как сказать им, что от них зависит либо обождать, либо придти ко мне в другой час по моему назначению. Они подчинились, дали мне возможность набросать срочные телеграммы, добавить к ним еще депешу нашему послу в Японии и начать беседу с этими назойливыми представителями печати.
Не стоит приводить всех разговоров с ними. Они начались с прямого обвинения русской власти в полном бездействии, которым только и можно объяснить происшедшее несчастие.
Один из корреспондентов дошел даже до того, что высказал, что Япония сумела бы оградить мою безопасность, если бы вместо Ито, оказавшего мне великую честь прибытием своим для свидания со мною, я сам, как более молодой, чем он предпочел бы посетить Японию, а вот теперь высший сановник Японии, искавший встречи с русским Министром, убит только потому, что отвечающая за порядок на железной дороге русская власть не сумела или даже не захотела oбepечь его.
{395} Опасаясь, что разговоры в этом тоне, могут дойти до очень неприятных размеров, я резко оборвал его, предложивши ему прекратить подобные недопустимые обвинения, которых я не намерен выслушивать, потому что они оскорбительны для русской власти и основаны только на том, что представители печати, ничего не зная, дают место вполне понятному чувству испытываемого ими горя и ищут виновника там, где они его не найдут, не потрудились даже обратиться к своему консулу, который вероятно не меньший японский патриот, нежели они, но разница с ним только одна - та, что он честный человек и не постеснился подтвердить мне то, что он сегодня же пишет своему правительству, излагая ему, что русская железнодорожная власть неповинна во всем случившемся, потому что он, консул, принял на себя всю ответственность за прием Князя Ито и даже письменно просил передать ему лично всю власть за организацию приема.
То же самое он только что подтвердил мне лично и обещал даже передать копию своего донесения своему начальству, ставя открыто на карту всю свою службу и не подражая гг. представителям печати, которые, не рискуя ничем, оскорбляют русскую власть, сами не располагая никакими сведениями о действительной обстановке, при которой пал жертвою преступления их заслуженный государственный деятель.
Присутствовавшие при нашем разговоре два других представителя печати сказали их собрату что-то кратко по-японски, - он смолк, и они, уже в совершенно вежливой форме обратились ко мне с просьбою рассказать им как был организован прием японской колонии и почему не были приняты необходимые меры предосторожности.
Я передал им все, что изложено выше, и закончил тем, что я понимаю их волнение и советую им послать пока предварительное донесение в Toкиo, с изложением моей версии, но сказать в этом донесении, что они проверят мои объяснения через консула Каваками, которого увидят как только разрешат им это пользующие eго врачи.
Между ними началась длинная перебранка по-японски, а они некоторое время спустя покинули меня, заявивши, что решили поступить именно так, как я им советую, и один из них извинился даже за допущенные резкости, прося меня понять, под влиянием какого волнения были они высказаны.
Не успели выйти от меня эти корреспонденты, как ко мне пришел Товарищ прокурора, присутствовавший при допросе {396} преступника, и передал, что последний, на вопрос следователя и прокурора, когда и откуда он прибыл в Харбин, - ответил, что он прибыл из Владивостока, накануне преступления, на вопрос где он провел ночь и как попал на вокзал к моменту прибытия Князя Ито, - пояснил, что ночь он провел на вокзале же, в зале третьего класса, и вошел совершенно свободно на перрон, смешавшись с толпою японцев, входивших через особую дверь без всякой проверки документов, причем никто даже не спросил его кто он такой.
Выслушавши такое заявление, я сказал товарищу прокурора, что прошу его предложить прокурору, не найдет ли он полезным для дела спросить меня и моего Директора Канцелярии Е. Д. Львова, в качестве свидетелей, так как самый акт проведенной преступником ночи на вокзале был бы неблагоприятен для нашей железной дороги, если бы он был верен, а между тем, мы оба можем показать под присягою то, что было нами замечено накануне, а именно, что в зале третьего класса не было ни одной души ночью, и следовательно все показание преступника падает, как вероятно неверно и заявление его о том, что он прибыл накануне из Владивостока.
Ушли японцы, ушел и товарищ прокурора, и я стал ждать ответа на сделанное мною предложение.
Всего несколько минут спустя тот же товарищ прокурора вернулся ко мне и передал мне просьбу прокурора дать мое показание, так как оно не только очень важно для ответственности железной дороги, но имеет и существенное значение для следствия. Он прибавил, что допрос Е. Д. Львова будет зависеть от моего показания и от ответа на него преступника.
Я тотчас же пошел на вокзал в помещение Жандармского Управления дороги, где происходил допрос преступника. Последний стоял в углу комнаты, по обеим сторонам его стояли часовые от полицейского надзора города Харбина. Прокурор обратился к нему с заявлением о том, что по поводу его заявления, что он провел ночь на вокзале, имеется свидетель, который желает дать показание, что это заявление неверно.
Преступник отнесся к этому вопросу, переведенному на японский язык, совершенно безучастно. Лично на меня он произвел очень хорошее впечатление: молодой, даже красивый, стройный, хорошего роста, совершенно непохожий на японца, с почти белым лицом и настолько отличавшийся от {397} обще-японского типа, что один внимательный наружный осмотр его при пропуске, если бы он был произведен, приставленными к пропуску консулом людьми, не мог бы не остановить на нем своего внимания. Меня просили, дать мое показание медленно, дабы оно могло быть, фраза за фразою, переведено на корейский язык.
Я так и сделал, рассказавши все то, что уже выше мною описано. Когда я закончил, следователь опросил преступника, что может он сказать по поводу выслушанного показания и понял ли он его.
Он ответил совершенно спокойным голосом: "я все понял и ничего не могу возразить. Я не знаю свидетеля и нигде его никогда не видел, но могу только сказать, что он показал одну правду. Я не провел последнюю ночь на вокзале и приехал в Харбин не вчера, а когда именно и откуда - я не скажу, как не скажу и того, где я провел мое время в Харбине, ожидая приезда Ито. Мне никто не помогал, я один решился убить его, и один я должен ответить за то, что я сделал.
На этом кончился мой допрос и я просил прокурора разрешить мне не делать тайны из ответа преступника и моего показания, если бы меня стали спрашивать корреспонденты японских газет, проявляющие столько нервной раздражительности
Остаток дня 13-го октября и весь следующий день прошли сравнительно спокойно. Никто из газетных представителей не посетил меня, и я стал постепенно возвращаться к ожидавшим моего рассмотрения делам и успел даже посетить вместе с Ген. Хорватом Генерал-Губернатора Ли, который избегал говорить о каких бы то ни было деловых вопросах, опасаясь сказать что-нибудь лишнее, и только одна фраза, произнесенная как бы невзначай, указывала на то, что и до него дошел шум, поднятый корреспондентами японских газет, а может быть, эти господа, прекрасно осведомленные о его настроении в отношении Китайской Восточной железной дороги и всему русскому, успели посетить его с целью получить от него что-либо полезное для их кампании против дороги и меня.
Он оказал мне, выражая сочувствие тому, что я не пострадал в "этом печальном событии, второе легко могло быть направлено против меня, и как хорошо, что нельзя ни в чем обвинить дорогу, так как всем прекрасно известно, что японский консул именно просил ее предоставить ему полную власть в организации приема Князя Ито". Я воспользовался этим проявлением любезности, чтобы сказать ему, в надежде что он передаст мои слова японцам, - "да, это совершенно верно, но это {398} не мешает корреспондентам японских газет быть чрезвычайно грубыми по отношению ко мне и открыто обвинять Генерала Хорвата в том, что во всем случившемся мы виновны, а что Князь Ито убит корейцем на территории железной дороги по нашей небрежности или чуть ли даже не по нашему умыслу".
Я прибавил, что они скоро убедятся насколько они вели себя неприлично, и что такое их отношение не оправдывается вовсе испытанным ими потрясением. Я имею много оснований думать, что мои слова были переданы корреспондентам, потому что и Ген. Хорват говорил потом, что около Ли сосредотачивались всегда пересуды неблагоприятные для железной дороги.
За эти два дня я все поджидал ответа на мои телеграммы как из Петербурга от жены и от Столыпина, так в особенности из Токио от нашего посла.
Депеши от жены и от Столыпина пришли только поздно вечером 14-го числа, и я успел еще послать им успокоительные известия в тот же день, но из Токио не было решительно ничего, и я не знал вообще как отнеслось общественное мнение Японии к печальному событию 13-го октября и недоумевал почему и посол не откликнулся на мою телеграмму, несмотря на то, что в ней содержалась просьба известить меня о том как восприняло это событие правительство.
Только на следующий день, перед самым моим выездом из Харбина, для встречи с Приамурским Генерал-Губернатором Унтербергером, на станции Пограничной, для совместной поездки далее в Хабаровск, я получил первые отголоски на мою телеграмму в Токио.
Посол извещал меня шифром, что он получил мою депешу с большим опозданием, очевидно вследствие того, что она была задержана на японском телеграфе, что первые известия об убийстве Князя Ито не сопровождались никакими комментариями, и тон газет был особенно сдержан, хотя в нем можно было подсмотреть скорее недоумение, как могло произойти такое несчастие на территории государства, располагающего всею полнотою власти в полосе отчуждения дороги, и очевидно, что к Китаю не может быть предъявлено никаких обвинений.
Ясно было поэтому, что на нас тяготеет такое обвинение, и оно не высказывается открыто только в ожидании более подробных сведений. Посол прибавлял, что "сегодня тон газет совершенно иной, очевидно, что правительство получило какие-то сообщения из Харбина, нас не только ни в чем более не обвиняют, но лично мне посвящено много {399} "прочувствованных слов и самое сердечное выражение благодарности за трогательное внимание, оказанное Князю Иго в минуту покушения, и за то, как внимательно отнеслась к нему дорога с первой минуты прибытия его на ее территорию".
Посол прибавлял еще, что все скрытое раздражение первой минуты сменилось самым искренним сожалением о случившемся и выражением надежды на то, что это печальное событие послужит только к сближению двух стран, уже и теперь не оставляющему желать лучшего.
В этот день перед моим временным отъездом из Харбина я почти не был на вокзале и провел много часов в управлении жел. дороги и в заседании городского совета.
Когда я приехал, чтобы приготовиться к отъезду, мне сказал Е. Д. Львов, что корреспонденты японских газет много раз приезжали на вокзал, чтобы видеться со мною, и просили непременно принять их перед моим выездом в Хабаровск и вероятно находятся на вокзале, не желая пропустить меня.
Не успел он мне передать этого, как они явились снова втроем и прямо вошли в мой вагон. Внешний вид их был неузнаваемым. Недавнее высокомерие сменилось низкопоклонством, и они, не выбирая выражения, просили меня простить им их "непозволительное" поведение, о котором они глубоко сожалеют и сами, потому что знают как несправедливы были их попытки обвинить русскую администрацию в небрежности к своему гостю. Они заявили мне, что видели консула Каваками, который дал им все разъяснения, переданные ими уже в их газеты, и с полным благородством взял на себя всю вину, которой на самом деле и не было, так как подобное несчастье могло произойти при каких угодно условиях.
На этом весь инцидент был исчерпан, тем более, что Харбинские газеты опубликовали уже в вечернем их выпуске тождественное их заявление.
Генерал Унтербергер встретил меня на Пограничной в состоянии, близком к панике. После принятия почетного караула, как только мы остались вдвоем в моем вагоне, он сказал мне, что не сомневался ни на минуту, что случившееся событие только ускорить развязку, и не пройдет и нескольких дней, как мы узнаем о нападении Японии на нас.
Говорить о том, каких усилий стоило мне, чтобы привести его в более спокойное настроение, - просто не стоит, и я думаю, что при всем кажущемся успокоении, он продолжал {400} в душе не верить и все твердил об одном: "Вы должны убедиться сами в нашей беззащитности и доложить о ней Государю". Зачем он настаивал о моем прибытии в Хабаровск, к чему показывал он мне свою Амурскую Флотилию, пригодную разве только для борьбы с Китаем, но не имеющую ни малейшего значения в отношении отражения нападения Японии, зачем потребовал он, чтобы я совершил вместе с ним переход на Аскольде из Владивостока в Новокиевское селение, как избранное им новое место укрепления нашего побережья, - остается мне совершенно непонятным до сих пор. Пользы от этих экскурсий я никакой не извлек, время потерял, и отнял не мало дней от пребывания в Харбине, заставляя потом и себя и всех отнимать ночные часы для работы.
Но я могу сказать по совести, что на Владивостоке я дал все время, которое было необходимо для выяснения как самому себе, так и генералу Унтербергеру неправильности его телеграмм с обвинениями Министерства Финансов в не предоставлении нужных кредитов на оборону этого лучшего нашего опорного пункта на Тихом океане, представляющего, своими естественными условиями, все удобства сделать его трудным для захвата. Впрочем, к чести Генерала Унтербергера нужно сказать, что он руководствовался почти исключительно теми ответами, которые ему давало Военное Министерство на его настояния, и не дал себе труда проверить на месте неправильность их.
Зато мне, прибывшему со всеми данными о размерах кредитов, и использованных Военным Министерством, не стоило большого труда разъяснить ему на месте же истинное положение вещей, и как человек честный, хотя и ограниченный, он быстро перешел из моих обвинителей - в самого ревностного защитника моего перед Военным Министерством, когда последний, тотчас по моем возвращении и представлении Государю отчета в поездке, возобновил свою песню о вечных затруднениях, чинимых мною.
С разрешения Генерал-Губернатора, его военные подчиненные открыли мне все безнадежное положение крепости и всю ее беззащитность, вытекавшую из того, что все их представления годами лежали без движения в Военном Министерстве. Дело доходило до прямого анекдота и было просто смешно, если бы не было на самом деле грустно, как один из образчиков того особого отношения к своим обязанностям, которыми отличался Военный Министр Сухомлинов.
После целого ряда сношений с управлением {401} Владивостокской крепости, Главное Инженерное Управление наметило общий план обороны крепости и поручило детальную ее разработку инженерной части крепости. Последняя составила детальный план и послала его в Петербург. Долго лежал этот план без всякого ответа и ни сметы, ни детали плана не были даже затребованы.
В один прекрасный день Комендант крепости получает шифрованную телеграмму Военного Министра такою содержания:
"Государь Император лично интересуется знать, когда будет закончено сооружение оборонительной линии № такой-то и в частности высоты "270".
Изумлению в управлении крепости не было конца, потому что не только сооружение этой линии не было начато, а следовательно и вопрос о сроке окончания становился непонятным, но самое существование этой оборонительной линии было под сомнением, так как взгляд да нее строителя крепости Генерала Жигалковского не разделялся Комендантом и вызывал большие споры в Главном Инженерном Управлении, да и сам Генерал-Губернатор Унтербергер, по специальности военный инженер, далеко не был вполне убежден в пользе именно этой линии и в частности высоты № 270.
Меня свозили даже взглянуть на эту спорную высоту, которой Ген. Жигалковский придавал значение первостепенной важности, как пункт, дававший наибольший простор обстрела, но из моей экскурсии ничего не вышло. Мы попали в такой туман, даже не доехавши до высоты 270, что пришлось спуститься вниз, не вынеся никакого впечатления.
Уже после моего возвращения в Петербург, я имел случай говорить об этом инциденте с помощником Военного Министра Поливановым, который сказал мне, что он хорошо знает весь спорный вопрос, вполне разделяет взгляд Ген. Жигалковского, но в Главном Инженерном Управлении держатся совершенно иного взгляда, и вероятно дело потребует особого исследования на месте раньше, чем будет принято какое-либо решение.
Чем кончился этот вопрос, я так и не узнал до самого моего ухода из Министерства, пять лет спустя.
Польза от пребывания моего во Владивосток была, однако, немалая. Я оставил в руках Ген. Унтербергера точный перечень кредитов, открытых на Владивосток и не израсходованных на месте. В обмен я получил от крепостного {402} управления любопытное извлечение о переписке его с Петербургом и самый красноречивый перечень тех вопросов, по которым или не было получено никакого ответа в течение нескольких лет или получались указания, сводившиеся к пересмотру ранее решенных дел и предложение разработать те же вопросы в совершенно новом направлении. Инженерное управление бросало сделанную работу, принималось за новую и опять получалась только невероятная волокита.
Передавая мне эти справки в присутствии Коменданта и Ген.-Губернатора, Генерал Жигалковский совершенно открыто заявил, что ни он, никто из его сотрудников совершенно не верит тому, что когда-либо начнутся настоящие работы, и что прав был в сущности Ген. Редигер, предлагавший еще в 1905 или 1906 году, - просто упразднить Владивостокскую крепость, потому что, как он, так и все местное Управление инженерной частью крепости только даром получает жалованье я занимается всем надоевшею бесплодною перепискою, в пользу которой никто не верит.
Все это я изложил в моем отчете, представленном Государю, смягчив только краски, но не скрыв от Него ничего из вынесенных впечатлений.
Вернувшись в Харбин под самым грустным впечатлением, я мог только успокоить Ген. Унтербергера тем, что его опасения относительно близкого нападения на нас Японии не отвечают действительности, как и виновность Министерства Финансов в создавшемся положении. К чести Ген. Унтербергера я должен сказать, что его панические телеграммы с тех пор совершенно прекратились, как перестал он в своих донесениях Государю ссылаться на безнадежное состояние Владивостокской крепости по неассигнованию необходимых кредитов.
Мне же лично, при нашем расставании на Пограничной, он сказал прямо, что не понимает как можно быть настолько недобросовестным, как, выяснилось теперь, было Военное Министерство, или в сущности - Военный Министр.
Описанию положения Владивостокской крепости я посвятил особую, конфиденциальную часть моего общего доклада и не сообщил ее никому, кроме Председателя Совета Министров, о чем и доложил Государю, представляя Ему оба мои доклада.
Возвращение мое в Харбин из поездки в Хабаровск и Владивосток доставило мне ряд благоприятных впечатлений в связи с последствием убийства Князя Ито. Харбинские {403} газеты были полны самых разнообразных сведений, заимствованных ими из прибывших японских газет. Все они в один голос говорили о том, что как в правительстве, так и общественном мнении Японии не осталось и следа сколько-нибудь неблагоприятных впечатлений от действий русской власти в момент печального события.
Газеты наперерыв оправдывали действия железнодорожного начальства и слагали с него всякую ответственность за случившееся, открыто говоря, что дорога не могла не предоставить японскому консулу всей свободы действий, коль скоро он сам просил об этом и принимал да себя всю полноту ответственности. Были даже и такие суждения, что каждый японец, который заявил бы о своем желании представиться своему сановнику в минуту его прибытия и не получил бы почему-либо на то разрешения железнодорожной власти, имел бы право жаловаться на стеснения, и русское управление дорогою не избежало бы самых неприятных последствий за сделанные им распоряжения, хотя бы они были внушены самыми лучшими побуждениями.
Наш посол в Tокио прислал мне телеграмму, передавая соболезнования японского правительства но случаю печального события и передавал лично мне самую искреннюю его благодарность за оказанное мною внимание покойному Князю Ито, прося меня передать ее всей русской администрации, проявившей столько трогательного внимания в критическую минуту.
Это демонстративное внимание ко мне проявилось затем несколько дней спустя, еще до выезда моего из Харбина, особенно рельефно по поводу похорон Князя Ито.
По личному распоряжению Императора установлен был особый торжественный церемониал погребения Князя Ито и одним из пунктов его было указано, в виду огромного количества венков и всякого рода эмблем, возложенных на гроб умершего, - допустить до внесения в место погребения только три венка - от Императора, от вдовы Князя Ито и тот, который был возложен мною в минуту его кончины. Таким образом, скромный венок, найденный мною в магазине Чурина, остался на могил убитого и хранится на ней, вероятно, и сейчас.
Газеты, кроме того, в целом ряде статей возвращались все к тому же вопросу о том, как отрадно было бы свидание двух сановников, если бы оно могло быть доведено до дружеской беседы между ними, потому что Князь Ито, исполняя волю {404} своего Императора, имел в виду только еще более сблизить взаимные интересы двух народов в целях устранения всякой неясности в их взаимных отношениях.
Tе же самые мысли повторил мне потом; тотчас по моем возвращении японский посол барон Мотоно, когда я npиeхал к нему, опередив его моим визитом.
Все последующие дни до выезда моего из Харбина, в обратный путь ушли на беспрерывную работу по самым разнообразным вопросам, касавшимся дороги и ее предприятий.
Я не говорю вовсе о том, насколько моя задача была облегчена тем особым вниманием и помощью, которую я встретил от всех, без всякого исключения, лиц н учреждений, с которыми мне пришлось встретиться в эту пору. Каждый не знал чем проявить мне свое внимание, - видимо у всех сохранилось в памяти то отношение, которое я проявил в пору войны и не раз, при довольно острых разногласиях, в особенности в Городском Совете, точка зрения дороги получала свое осуществление только потому, что мой авторитет всегда был на стороне дороги, правда, проводившей справедливую и легко защищаемую политику.
Но еще полезнее для меня была открытая возможность знакомиться с самым интересным для меня и всего менее ясным вопросом о том каково было в ту пору положение Китая, и насколько мы могли быть спокойны за то исключительное положение, которое занимала Россия с точки зрения ее концессии в Манчжурии.
Отношения с самыми разнообразными людьми, как во Владивостоке, так и еще более того в Харбине, не оставляло для меня места какому-либо сомнению в том, что китайская власть слаба до последней степени и совершенно неспособна ни на какое сопротивление нам, если только мы стояли на почве нашего контракта. Она желала только одного - чтобы ее никто не трогал и не пытался приобретать для себя каких-либо новых преимуществ, так как за всякой уступкой в нашу пользу автоматически шли попытки со стороны других стран, выговорить для себя какие-либо компенсации.
Отражения на Маньчжурской дороге и ее предприятиях какого-либо влияния центральной власти Китая не было заметно ни в одном из острых вопросов, выдвинутых жизнью, и все стремления Генерала Хорвата, пользовавшегося большим влиянием среди местных китайских властей, сводились исключительно к тому, чтобы не поднимать никаких вопросов, требующих разрешения Пекина, и обходиться теми, которые могли: {405} "быть решены властью местных Дао-Таев. Эти последние сами говорили в непринужденной беседе, что все, что они могут сделать, они охотно сделают, а все, что требует высшей административной санкции, они направят в Пекин с неблагоприятным их отзывом, потому что там вообще ничего нового не решат и дальше буквы договора не пойдут. Оттого нам всегда было очень легко ладить с расположенным к нам Дао-Таем Хейлудзянской провинции и ничего нельзя было добиться от его коллеги - Гиринского Генерал-Губернатора. Первый даже не раз, в откровенной беседе со мною, при переводчике Китайской Восточной дороги которому он вполне доверял (по-видимому тот был даже его родственником), совершенно открыто просил меня не поднимать никаких новых вопросов (их было в особенности много в связи с домогательствами консулов по новому городскому управлении), если только их предстоит направить в Пекин.
Однажды даже он как-то особенно был склонен к откровенности и на мой вопрос, почему же он так боится сношения с Пекином по вопросам, представляющим интерес и для него, как и для нас, - он ответил, что я, как представитель страны с хорошо организованною властью, не могу себе представить, что может быть страна, в которой в сущности, никакой центральной власти более нет и которая желает только одного - чтобы ее оставили в покое и справлялись в каждой провинции собственными силами, изыскивая и свои средства и не спрашивая ничего у этой центральной власти. Затем, помолчавши и как-то нехотя, он сказал: "после смерти Ли-Хун-Чанга, которого я хорошо знал (он был у него, кажется, секретарем) у нас нет более никого, кто знал бы, чего он хочет".
По страдной случайности, меня познакомили во Владивостоке с одним китайским генералом новейшей формации, не носившим более косы, затянутым в современный военный мундир японского образца, возвращавшимся из служебной поездки в Японию. Я провел с ним довольно много временя в беседе на английском языке, сначала в моем вагоне, а потом уже в Харбине, когда он пригласил меня к обеду. Его разговор был совершенно того же характера, и он даже выразился еще боле решительно: "У Китая нет более головы" (China has no head).
О том, какова была в ту пору, на самом деле китайская власть по крайней мере в Манчжурии, мне приходилось {406} убеждаться не раз, во время моих передвижений в оба пути по Китайской восточной дороге.
Почти на каждой сколько-нибудь продолжительной остановке, неизменно, после принятия почетного караула от пограничной стражи или от железнодорожной бригады, меня просили поздороваться со стоявшею в сторонке китайскою воинскою командою, иногда довольно многочисленною, иногда сравнительно небольшого состава. Разговор с офицерами всегда происходил через переводчика и почти всегда, спрашивая о численности войсковой части, я неизменно получал один и тот же ответ - "число моей части изменяется по мере надобности".
Когда же мы потом садились в вагон, то мои спутники, совершенно стереотипно говорили мне: "как жаль, что нельзя расспросить что значит эта фраза, потому что очевидно - ни один из китайских офицеров не сможет оказать правды, а она заключается в том, что он и сам не знает сколько у него людей, потому что сегодня они его подчиненные, а завтра ушли в хунхузы и грабят мирное население и против этого ничего сказать нельзя, так как средства на содержание людей офицеры получали крайне неисправно, и часто они должны были содержась своих людей кто как умеет.
И в самом деле, на одном перегоне, когда мой вагон был прицеплен к проходившему поезду, я видел как на одном разъезде поезд остановился, и в один из задних вагонов вошла группа китайских солдат, сопровождавшая такую же группу таких же солдат в форме, но без оружия. Оказалось что это были их же товарищи, ушедшие в хунхузы и согласившееся вернуться в часть при условии безнаказанности"
Наша пограничная стража, охранявшая дорогу, постоянно наблюдала это явление, ставшее хроническим почти во всех китайских отрядах, расположенных недалеко от полосы отчуждения китайской восточной дороги, находившейся в нашем ведении. С нашею стражею эти воинские части жили очень мирно, никогда не проявляли своей грабительской деятельности среди русского населения и даже крайне редко нападали и на китайцев в полосе отчуждения, но за ее пределами бесчинствовали совершенно безнаказанно. Оба китайские генерал-губернатора не раз говорили мне при наших многократных бедах, что им крайне неприятно постоянное увеличение китайского населения в нашей железнодорожной полосе и слишком быстрый рост населения в наших поселениях, с уходом целых десятков семей, почти ежедневно, из китайских, {407} деревень. Мы неизменно, вместе с Ген. Хорватом, отвечали им, что дорога не только не принимает никаких мер к привлечению китайцев в свои поселения, но даже была бы рада меньшему их наплыву, потому что они только увеличивают наплыв безработных и не особенно приятны администрации их конкуренциею русскому труду, оседающему на полосе дороги, но не имеем возможности искусственно препятствовать их наплыву, потому что они чувствуют себя в большей безопасности у нас, нежели за пределами нашей полосы, хотя бы от бродячих воинских китайских частей. Они не могли мне ничего сказать на это и сами не отвергали, что их положение чрезвычайно осложнено плохою организациею воинских частей во всей Манчжурии.
Моя поездка в Манчжурию и в особенности посещение Владивостока и Хабаровска имела, всего через полгода, оригинальный эпилог.
Весь обратный мой путь от станции Манчжурия и до Москвы я посвятил составлению подробного отчета о всем, что я видел, что слышал и к каким результатам я пришел. Я диктовал отчет Е. Д. Львову, он быстро переписывал его, передавал написанное мне и, по исправлении, части отчета тут же перепечатывались на пишущей машинке.
К возвращению моему в Петербург весь отчет был совершенно готов и осталось только напечатать его как для представления его Государю, так и для испрошения Его разрешения передать его всем Министрам за исключением части, касающейся обзора мною Владивостока, которую я предполагал представить только Государю, Председателю Совета Министров Столыпину и Военному Министру.
Отчет Государю я представил при первом моем докладе, еще в половине ноября. После самого подробного расспроса обо всем, что я видел и, в ocoбенности, об обстоятельствах убийства Князя Ито, Государь оказал мне, что Он получил от Извольского первое извещение об убийстве в поезде, при проезде но южной Германии, и был чрезвычайно встревожен этим событием, невольно припоминая все зловещие телеграммы, которыми так недавно засыпал Его Генерал Унтербергер. Его успокаивала только уверенность в том, что мною будет сделано все, чтобы отвести нашу ответственность в этом событии и смягчить его последствия, конечно крайне обидные для Японии.
Он горячо благодарил меня за принятия меры и за {408} выяснение всей обстановки через представителей японской печати, и Он с особенною радостью получил уже после, через Извольского, ряд подтверждений, что в японском правительстве, как и в общественном мнении не осталось и следа какого-либо неудовольствия на нас. Японский посол барон Мотоно был у него даже в особой аудиенции, для того, чтобы выразить признательность его "правительства за все мои действия и заверить нас в том, что на нашей администрации не лежит ни малейшей ответственности за то, что произошло.
По отношению же к представленному мною отчету, Государь вернул мне этот отчет с целым рядом самых лестных для меня отметок, а на отчете по Владивостоку написал, что Он преподаст свои указания Военному Министру, сердечно благодарит меня за всестороннее освещение истинного положения вещей и уверен в том, что не услышит более несправедливых обвинений Министра Финансов в не ассигновании долгосрочных кредитов, когда и отпущенные остаются годами без употребления".
Совет Министров заслушал мой отчет и все резолюции Государя; все Министры отозвались крайне сочувственно ко всем моим заключениям, присутствовавший же в заседании Военный Министр не обмолвился ни одним словом, и началась снова будничная жизнь, и завертелось обычное колесо, но только более ускоренным темпом, так как Дума и Государственный Совет начали уже свою работу.
Вскоре пришлось, однако, встретиться, в связи с моею поездкою на Восток, с новым инцидентом, вызванным Военным Министром Сухомлиновым.
Весною следующего года, 1910-го, без всякого сообщения о том в Совете Министров, я узнал из газет, что Военный Министр выехал, по Высочайшему повелению, на Дальний Восток.
Прошло всего не более трех недель, как он вернулся, стал как ни в чем не бывало посещать заседания Совета и ни одним словом не обмолвился о том, что он там делал.
Только как-то раз после очередных дел в Совете П. А. Столыпин спросил меня, получил ли я его отчет, который он только что доставил ему. Я ответил ему отрицательно, потому что не только не получил этого отчета, который однако многие Министры, по их словам, уже успели получить и прочитать, но высказал даже предположение, что вероятно его и не получу. Так оно и случилось. Я действительно не получил {409} этого отчета от самого Военного Министра и ознакомился с ним только по экземпляру, переданному мне Столыпиным для прочтения.
Отчет этот нигде не обсуждался, печать его не узнала или замолчала, Государь не сказал мне ни одного слова ни на одном из моих докладов этого времени, и только Столыпин однажды открыло оказал при многих Министрах, что он и не воображал, что что-либо подобное могло быть написано и даже доложено Государю. И было, на самом деле, чему удивляться.
Весь отчет представлял собою сплошную критику на выводы и представленные мною данные 6 месяцев тому назад.
Все, что я находил хорошим, было осмеяно и составило предмета глумления. Заамурский округ пограничной стражи назван оловянными солдатиками для забавы "Господина Шефа Пограничной Стражи, Министра Финансов", не представляющим ни малейшего боевого значения и не имеющим самой элементарной подготовки.
Железнодорожная бригада существует только для игры в эксплуатацию железной дороги и не может сравниться с самыми плохими железнодорожными батальонами Военного ведомства и так далее, все в том же духе. А между тем Начальник дороги донес мне по телеграфу, что как при проезде Военного Министра во Владивосток, так и при обратном его возвращении домой он встретил Генерала Сухомлинова на пограничных станциях Китайской Восточной дороги и просил его остановиться на дороге и осмотреть ее сооружения, а Начальник Округа Генерал Чичагов, знавший близко Военного Министра, усиленно настаивал на том, чтобы он удостоил Округ и Бригаду своим вниманием. Оба они получили решительный отказ, со ссылкою, что его время так ограничено, что он не может даже остановиться хотя бы на один день, и Генерал Сухомлинов на самом деле не выходил из своего вагона, никого ни о чем не расспрашивал и только согласился принять почетный караул на Хабаровском вокзале и принял от дороги завтрак на вокзале же во время 40 минутной остановки поезда и все только восторгался грандиозностью дороги, удивительным состоянием полотна ее и "такими сооружениями, которых не сыщешь нигде в России".
В таком же духе упомянул отчет о моем посещении Хабаровска для "совершенно непонятного осмотра судов Амурской флотилии, как будто эта флотилия тоже перешла в {410} ведение Министра Финансов", хотя его самого сопровождал туда тот же Генерал-Губернатор Унтербергер, который лучше всех знал, почему посетил я Хабаровск.
По поводу Владивостока я нашел в отчете только одну фразу: "следуя примеру г. Министра Финансов, я представляю Вашему Императорскому Величеству особый письменный доклад, во избежание того, чтобы важные государственные тайны не были разглашены в ущерб нашей государственной обороне".
Казалось, самая элементарная последовательность должна была побудить Военного Министра сообщить мне ответ его на то, что я доложил Государю полгода тому назад, в особенности, если я доложил пристрастно и неосновательно.
Но всего интереснее было то, что почти половина всего отчета была посвящена полемике со мною по поводу моего вывода о слабости Китая и силе и опасности для нас Японии. Тут уж перо Генерала Сухомлинова разошлось без всякого ограничения, и заключены его были настолько нелепы и детски, что Извольский спросил однажды Столыпина, будет ли слушаться отчета Военного Министра в Совете Министров, как слушался отчет Министра Финансов, потому что он не может оставить без разбора его заключении по политической части нашего положения на Дальнем Востоке, настолько они противоречат тому, что он постоянно докладывает Государю и что положено в основу всей нашей политике, освещенной полным одобрением Государя.
Я просто не хочу пересказывать здесь всего, что наговорил. Генерал Сухомлинов, очевидно задавшись одной целью - назвать белым то, что я назвал черным, не справляясь с впечатлением, которое неизбежно получалось от его полемического задора. Мне не хочется давать и повода думать, что я свожу какие-то расчеты за прошлое, когда это прошлое, на самом деле, было и былью поросло.
При этом разговоре Сухомлинов не присутствовал, его заменял Генерал Поливанов, который обещал узнать, как смотрит Военный Министр на свой отчет по поездке, и обещал дать ответ его Председателю Совета Министров.
Через несколько дней П. А. Столыпин получил письмо самого Сухомлинова с сообщением, что его отчет имеет строго конфиденциальный характер и, по указаниям Его Величества, рассмотрению Совета Министров не подлежит, тем более, что все вытекающие из него распоряжения уже сделаны по указаниям Государя Военным ведомством.
{411} На этом все дело и кончилось и за все время последующих лет, до самого моего ухода из активной работы, я более об этом отчете ничего не слышал и никаких инцидентов, связанных с ним, по крайней мере, в открытой форме, не произошло.
{412}
ГЛАВА V.
Бюджетная работа и прения в Думе по государственной росписи на 1910г. - Сухомлиновский проект упразднения крепостей Привислянского края. Поездка Столыпина в Сибирь. Попытка Столыпина и Кривошеина изъять Крестьянский Банк из ведения Министерства Финансов и вызванный этой попыткой конфликт со мною. - Мои аргументы, против изъятия и доклад Государю по этому вопросу. - Моя поездка во Францию. - Инцидент с бумагами, гарантировавшими счет Лазаря Полякова в Государственном Банке.
Возвращение мое из поездки на Дальний Восток совпало, как я уже упомянул, с самым разгаром бюджетной работы Государственной Думы, и мне пришлось буквально без всякой передышки окунуться в эту работу. Государь не уезжал в этом году в Крым.
Бюджетная работа в Думе протекала в этом году в тех же исключительно благоприятных условиях, как и за два предшествующие года.
Бюджет был составлен и подписан мною еще до моего выезда. Впервые, за все время существования Думы, с 1907 года, государственная роспись была сбалансирована без обращения к займам для покрытия даже чрезвычайных расходов. Прекрасный урожай 1909 года отразился самым благоприятным образом на всем поступлении доходов, и нажим на Министерство Финансов всех ведомств под влиянием этого благополучия дал возможность значительно шире исчислить все расходы. Тон моей объяснительной записки к росписи носил поэтому на самом деле очень бодрый характер и повлиял на самую встречу со мною бюджетной комиссии Думы, как только я появился в первом, по моем приезде, заседании ее. Помогло и то, что в пределах общего разговора о том, что я {413} видел и слышал и с каким общим заключением вернулся я из поездки, я имел возможность рассеять впечатления представителей Амурской и Приморской области, которые только повторяли прежние опасения Генерал-Губернатора Унтербергера, но на смогли опровергнуть моего заявления о том, что теперь его мнение о грозящей нам опасности совершенно изменилось.
До моего возвращения Дума не успела рассмотреть еще ни одной сметы, и с 15-го ноября и до половины февраля, за вычетом очень короткого перерыва для Рождественских каникул, я опять почти не выходил из Думы, участвуя во всех заседаниях бюджетной комиссии. Общие собрания были в это время очень редки.
Эти два месяца совместной работы носили на этот раз какой-то исключительный характер. Как будто не было никакой оппозиции. Запросы и замечания, обращаемые ко мне, носили самый мирный и даже лично ко мне предупредительный тон, несмотря на то, что ни Шингарев, ни более крайние его друзья слева не скупились на многочисленные запросы. Обычной придирчивости не было и в самой формулировке вопросов.
Результатом такого настроения было то, что в половине февраля 1910 года бюджетная комиссия внесла в Общее Собрание полный свод рассмотренной ею росписи со всеми исправлениями в доходах и расходах, и 12-го февраля Дума приступила к общим прениям, занявшим три дня, и уже после 16-го прямо перешла к рассмотрению отдельных смет или так называемых №№ по своду росписи.
Начало общих прений предвещало такое же "именинное" отношение, по выражению одного из остряков Думы, депутата от Симбирской губернии Мотовилова, как и то, которое царило в Комиссии.
Я говорил тотчас после Председателя Комиссии Алексеенко, не пустившего по моему адресу опять ни одной шпильки, и говорил совершенно объективно и спокойно.
Столыпин и большинство Министров присутствовало во время моей речи и опять приветствовали меня в павильоне самым дружеским образом. Не было недостатка в очень больших проявлениях симпатий и со стороны членов Думы, в большом количестве заходивших в нашу среду после моей речи. Не было недостатка также и в громких аплодисментах и во время самой речи. Но не успел я сойти с трибуны, как мое место занял и на этот раз мой обычный оппонент Шингарев, а за ним и другие мои друзья из оппозиции, и потекли {414} те же речи, которые раздавались и в два предыдущие года и которых никто не слышал ни от них, ни от кого-либо из представителей оппозиции вообще во время всех прений в бюджетной комиссии.
Удивляться этому не приходилось, но невольно поднимался вопрос - зачем же молчали они раньше, к чему скрепляли своею подписью вполне корректные протоколы заседаний комиссии, не оставивши в них ни малейшего следа своего неудовольствия.
Опять и опять пришлось молчаливо сидеть часами и выслушивать то чему многие сами не верили и, конечно, в душе своей сознавали, что поступают неправильно и делают это только для того, чтобы "насолить" правительству, получить одобрительные отзывы своей же печати и наговорить лично Министру то, что не имело под собою никакой правды.
Два дня прошли в таком времяпрепровождении. Но когда эти нападки дошли, уже до апогея, молчать более не было никакой возможности, несмотря на то, что и оппоненты, как и я, отлично понимали, что из их речей не выйдет ровно ничего, и роспись, которую они так критикуют, будет одобрена ими же, да и сами они прекрасно сознают, что она составлена безукоризненно, что наши финансы находятся в отличном состоянии, и что весь финансовый распорядок не дает им ни малейшего права на то несправедливое и даже обидное отношение, которое ими опять проявлено.
16-го февраля я выступил с моими вторичными объяснениями и не оставил ни одного существенного вопроса, из числа выдвинутых моими противниками, без ответа.
Я имел, по общему признанию, большой успех. Часто моя речь прерывалась бурными аплодисментами и, независимо от того, что судьба росписи была давно решена, я имею право я сейчас сказать, что поле сражения и на этот раз осталось за мною, в смысле моральной правоты.
По поводу рассмотрения в этом году отдельных смет Министерства Финансов не стоит много говорить. В нем произошло, без всяких изменений, все то же, что происходило и но сметам на 1908 и 1909 год; но в прениях Думы по Крестьянскому Банку, и приуроченных, как всегда, в смете Особенной Канцелярии по Кредитной части, мне приходится остановиться потому, что они послужили преддверием к одному обстоятельству, о котором мне придется говорить в моем последующем изложении.
{415} В заседании бюджетной комиссии по указанной смете Крестьянский Банк занял довольно много места. Обычные специалисты по деятельности Банка - Шингарев, Кутлер и наиболее резко настроенный против Банка, как и в прежние годы, ковенский депутат Булат - задали мне, разумеется, и на этот раз длинный ряд вопросов, в особенности, относительно повышенных цен, по которым покупает Банк земли у помещиков и продает их крестьянам, вовлекая их, так сказать, в невыгодную сделку, потому что они должны платить за землю цену, искусственно повышенную в пользу продавцов-помещиков.
Председатель бюджетной комиссии Алексеенко заметил им даже, что возбуждаемые ими вопросы не новы и повторяются ежегодно, но всегда разъясняются Министром Финансов самым убедительным образом и поэтому можно было бы на них не останавливаться слишком долго на этот раз, так как едва ли деятельность Крестьянского Банка могла измениться существенным образом при том же руководителе.
Мои оппоненты были вообще очень благодушны, задали мне ряд вопросов в совершенно приличной форме, получили на них подробные разъяснения, и протокол заседания зарегистрировал эти вопросы и ответы и никаких заключений, неблагоприятных для Банка, вынесено не было.
Но в прениях по той же смете и по тому же предмету в Общем Собрании Думы произошли нечто совершенно иное.
Кутлер и Булат, поддержанные также бывшим акцизным чиновником Дзюбинским, депутатом от Енисейской губернии, - выступили с самыми резкими суждениями о деятельности Крестьянского Банка и перенесли весь вопрос о его политике снова на трибуну, а через нее и на страницы оппозиционной печати.
Мне пришлось принять брошенную перчатку еще и еще раз, и прения, вместо обычно вялых реплик по отдельным номерам росписи, приняли снова приподнятый тон и заняли немало времени у Думы и задали немалое напряжение и моим нервам, хотя они успели уже достаточно притупиться.
Незаметно подошла весна и перед началом летнего ваканта, который в сущности заключался для меня только в том, что не было законодательных палат и была возможность работать более спокойно над текущими делами и углубиться в некоторые из них больше, нежели дозволяло время зимою.
{416} В числе этих дел меня стал озабочивать больше, чем прежде, тот же Крестьянский Банк и не потому, что дела в нем шли плохо, но именно потому, что они шли очень хорошо, и на него стало все больше и больше устремляться внимание Министерства Земледелия и отчасти самого Столыпина и притом в какой-то странной, не договоренной, форме, что указывало на то, что замышляется нечто еще неясное по существу.
С Кривошеиным у меня были наружно прекрасный отношения. Он часто заходил ко мне, оказывал всякого рода внимание моей жене и никогда не возбуждал никаких принципиальных вопросов, всегда выражая мне благодарность за то, что у нас не происходит никаких несогласий ни в разрешении вопросов о покупке Банком отдельных имений, предлагаемых к продаже, ни в определении покупной цены, - несмотря на то, что в Совете Банка представители Кривошеина всегда стояли за повышение цены, а чины Банка скорее сдерживали эти цены, в виду постоянной тенденции Думы обвинять нас в чрезмерной уступчивости помещикам и в недостаточно бережливом отношении к интересам крестьян, покупателей этих земель.
Так же мало поводов к каким бы то ни было разногласиям возникало в работе Банка и с выбором покупателей земель Банка.
Я постоянно твердил моим сотрудникам, что мы должны идти рука об руку с Министерством Земледелия, которому принадлежит вся землеустроительная политика, и вся наша задача должна сводиться лишь к тому, чтобы передавать земля крепким крестьянским элементам и отказываться принципиально от передачи земель слишком многочисленным сельским обществам и многоголовым товариществам, всегда плохим в смысле расчетов с Банком.
Мне, тем легче было проводить эту миролюбивую политику, что Управляющий Крестьянским Банком Хрипунов лично больше тяготел к ведомству Земледелия, нежели большинство членов Совета Банка, потому что сам он вышел из недр этого ведомства. Я не мог, однако, ни в чем упрекать его, так как никогда не замечал с его стороны излишней угодливости по отношению к Кривошеину. Она проявилась несколько позже и создала мне немалые огорчения, в особенности потому, что она была совершенно не нужна и облеклась в неожиданную для меня форму.
После роспуска на лето Думы и Государственного Совета, как-то в половине июня, Хрипунов на очередном своем докладе стал говорить мне, что в среде служащих {417} Крестьянского Банка и, в особенности его провинциальных отделений, назревает мысль обратиться ко мне с адресом для того, чтобы выразить мне благодарность за постоянную, столь открытую защиту их работы на пользу Банка и за ту поддержку, которую они встречают во мне, во всех моих выступлениях перед Государственною Думою, при отражении несправедливых нападений на деятельность Банка.
Он спросил меня какого мое личное отношение к такому настроению. Я решительно просил его найти самый мягкий, но категорический способ устранить это доброе намерение, давши понять и в центре и на местах, что его проявление совершенно недопустимо. Мои доводы были очень просты: никто не поверит искренности и независимости такого движения, всякий скажет, что оно подстроено мною или моими старшими сотрудниками в угоду мне же, что я ищу популярности среди служащих, а найдутся и такие голоса, которые истолкуют его, как протест против Думы, да и в самой Думе произойдет только новое обострение при рассмотрении первого дела, связанного с Крестьянским Банком, и вместо пользы - произойдет только большой вред.
Хрипунов, как несомненно умный человек, быстро понял мою точку зрения; ее разделил целиком и присутствовавший при докладе мой товарищ Н. Н. Покровский, и мы сошлись на том, что Хрипунов найдет возможным потушить это движение и даст понять служащим, почему именно я против него, хотя и проникнут чувством самой искренней к ним благодарности за доброе побуждение.
Тут же Хрипунов стал уговаривать меня совершить небольшую поездку по Востоку России, чтобы заглянуть на два-три интересные имения, только что законченные ликвидацией на землях, купленных Крестьянским Банком. Два из них представляли и немалый интерес, как наглядное доказательство несправедливости нападок Думы на деятельность Банка. Мне эта мысль очень улыбалась.
Поездку эту я и совершил на самом деле в последних числах июня вместе с Хрипуновым и вынес из нее немало поучительного, что дало мне впоследствии возможность еще более решительно защищать деятельность Крестьянского Банка.
Вернувшись из нее я передал и Столыпину и Кривошеину все вынесенные мною впечатления и ни тот ни другой не обмолвились ни одним словом, что ими замышляется определенный поход на Крестьянский Банк, в смысле передачи его из рук Министерства Финансов - в ведение Министерства Земледелия. Не сказал мне также решительно ничего и Хрипунов, хотя он несомненно знал обо всем, что замышлялось в этом последнем ведомстве.
Впоследствии Кривошеин удостоверил меня, что эта мысль созрела у Столыпина только после его сибирской поездки, и что у него самого ее никогда не было и ему пришлось только уступить настойчивому желанию Петра Аркадиевича после многих и многих бесед с ним в пути и по возвращении.
Так ли это было на самом деле - я не могу сказать, но думаю, что вопрос о передач Крестьянского Банка давно зрел в ведомстве Земледелия, и что оно внушило ее Столыпину и постоянно укрепляло его в ней, подготовляя даже и способы поставить меня перед совершившимся фактом, предвидя заранее, что я буду противиться этой мере и даже могу, в случае ее осуществления, поставить вопрос об оставлении мною Министерства Финансов. По крайней мере, два обстоятельства говорят в пользу такого предположения.
Во-первых, внося еще в начале года в Думу свое предположение о преобразовании Министерства Земледелия в ведомство Земледелия и Землеустройства, Кривошеин, ссылаясь на Председателя Совета Министров, высказал в своей объяснительной записке, которой я не читал да и не мог читать, что Крестьянский Банк подлежит преобразованию "в направлении его деятельности в сторону возможно тесного слияния его со всею политикою землеустройства".
Во-вторых - лично мне оказал Столыпин о своей мысли в первый раз только позднею осенью 1910 года и, встретивши категорическое, с моей стороны, возражение, сослался на то, что в этом "решении" с ним солидарен и Кривошеин, и он почти уверен в том, что и Государь будет того же мнения, "по крайней мере, сказал он, я вынес это впечатление из двукратной с Ним беседы на, почве сделанного нами обоими (т. е. им и Кривошеиным) чернового наброска нашей мысли".
После моих возражений он прибавил: "конечно, Государь считает Вас, как думаю и я, незаменимым, и нам с Александром Васильевичем придется только преклониться перед волею Его Величества, если Он узнает о Вашем таком решительном несогласии".
Очевидно из этих немногих слов, что еще до поездки Столыпина в Западную Сибирь мысль об изъятии {419} Крестьянского Банка вполне уже созрела у Столыпина и Кривошеина и даже прошла через предварительное одобрение Государя, но первый разговор со мною был только в самом конце октября. Подробности этого разговора и то, что из него вышло, - впереди.
Во время одного из сметных моих собраний, которые составляли одно из обычных моих занятий во время ваканта законодательных палат, как-то в самых последних числах июля, ко мне обратился по телефону Помощник Военного Министра Генерал Поливанов и спросил меня, не моту ли я принять его по весьма спешному делу. Предполагая, что дело касается, как всегда, какого-либо спора с Военным Министерством, по какой-либо статье нашего военного хозяйства, я сказал, что у меня как раз находятся все мои главные сотрудники, и я прошу его приехать немедленно. Он ответил мне, что дело касается совершенно иного порядка вопроса, и я предложил ему приехать около шести часов. Когда Поливанов прибыл ко мне, то он просил меня дать ему дружеский совет, как ему поступить, и рассказал, что только сегодня утром он прочитал утвержденный Государем всеподданнейший доклад Военного Министра по Главному управлению Генерального Штаба, о котором он не имел ни малейшего понятия, так как все дело держалось в величайшем секрете от него и стало ему известным только благодаря нескромности одного из второстепенных деятелей.
В разработке этого дела Поливанов, по его словам, никогда не участвовал и не допускал даже и мысли, чтобы такой вопрос мог быть поднят в данную минуту и тем более проведен без широкого обсуждения его в недрах Министерства и даже без ведома, по крайней мере, Председателя Совета Министров и Министра Иностранных Дел, если уже не всего правительства, в лице Совета Министров.
Ему стало известно сейчас, что решено и повелено приступить к выполнению, в самом спешном порядке с соблюдением величайшей тайны, упразднения четырех крепостей в Привислянском крае. Он назвал мне из них три: Варшаву, Новогеоргиевск и Ивангород. Несомненно упомянута была и четвертая, но, вероятно, я просто ее запамятовал; думаю, что это был Згерж.
Основанием такой меры, по словам Поливанова, был принятый новый мобилизационный план, известный под № 18, по которому в случае вооруженного столкновения с Германией предусматривается в первый момент отход нашей армии к Востоку, приближение ее к центрам и районам комплектования запасными чинами и уже затем движение вперед усиленными массами мобилизованных и снабженных всем необходимым войск.
Не касаясь того, что при существующем положении вещей такой план просто неосуществим, и что сам Поливанов считает его, как и многие из лучших знатоков нашего военного дела, просто безумием, он обращает мое внимание только на то что приказ о передвижении отдельных воинских частей отдан и началось даже их выступление, а между тем, в тех местах куда им назначено прибыть, не приготовлено ни казарм для людей, ни хранилищ для запасов и артиллерии. Об этом скоро вое станет общеизвестным фактом, а между тем правительство ничего не знает, я никто даже не предварял Министерство Внутренних Дел, чтобы оно оказало помощь в таком исключительном деле. Поэтому Поливанов просить меня только сказать ему, как ему лучше поступить: ограничиться, ли тем, что он передал об этом мне и просить меня принять уже дальние те меры, которые я сочту нужным, или же я посоветую ему доложить непосредственно Председателю Совета Министров, рискуя даже тем, что ему придется, может быть покинуть свой пост в Военном Министерстве.
Я посоветовал ему избрать второй путь и тут же, с его разрешения, позвонил к Столыпину и просил его разрешить Генералу Поливанову, находящемуся у меня в Министерстве, немедленно прибыть к нему по спешному делу. Разрешение было дано, и он немедленно уехал от меня.
Не прошло и часа времени, как Столыпин позвонил ко мне и попросил меня зайти к нему вечером, сказавши, что он просто ошеломлен тем, что только что узнал.
Вечером я пришел в Елагинский дворец и нашел Столыпина в величайшем волнении. Он оказал мне, что просто не знает, как ему лучше поступить: ехать ли немедленно к Государю или обождать два дня до его очередного доклада и попытаться отговорить Государя от принятого решения, а до того повидать Сухомлинова и склонить его на то, чтобы он не торопился передвижением воинских частей, еще не выступивших в путь?
Я высказывал ему, что лучше избрать второй путь, и просил только найти способ, не обнаруживать в этом случай Поливанова, а сослаться хотя бы на то, что он получил донесение одного из губернаторов, сообщившего ему о возникающих затруднениях в спешном приискании и приготовлении помещения для войск. Я привел ему также аргумент, все время волновавший меня, а именно неизвестность того, принята ли такая мера с ведома нашего союзника Франции или она явится сюрпризом для нее, как стала для нас.
Столыпин особенно отметил эту мысль и обещал держать меня в курсе того, что ему удастся сделать.
Через день мы снова свиделись с ним, после того, что он имел возможность переговорить с Сухомлиновым, и он сказал мне только: "этот человек совершенно невменяем. Представьте себе, что он объяснил мне, что никакого упразднения крепостей сейчас и не предполагается, как не предполагается и вывода войск на Восток, а проектирована чисто теоретическая мера о том, как мы поступим, когда у нас будет разработан мобилизационный план 18, что, может быть, последует через 5-6-7 лет, а теперь все остается по старому, только будет выведено на Восток несколько артиллерийских бригад, которые формируются вновь и не имеют себе помещения на Западе". Он прибавил, что говорить с ним безнадежно, так как он, видимо, и сам ничего не знает, а только подписывает то, что ему подсовывают. Остается единственная надежда на то, что, может быть, Государь задержит его бессмысленные бредни или поймет, что без соглашения с союзником мы не имеем права перепутывать наших карт.
Два дня спустя Столыпин опять позвал меня к себе и передал мне, что и Государь смотрит на утвержденный им доклад, как на меру отдаленного будущего, заверил его, что никакого разоружения крепостей Он не допустит и прямо заявил уже будто бы Сухомлинову, что все меры но осуществлению этого плана должны быть заранее доведены до сведения Французского Генерального Штаба и все сношения с последним должны идти при самом близком участии Министра Иностранных Дел и Председателя Совета.
На этом и окончился этот вопрос в его формальном положении. Ни со Столыпиным, ни потом со мною никто не сказал ни одного слова. Не обмолвился со мною и в 1913 году Генерал Жоффр, в бытность его в Петербурге.
На самом же деле разоружение крепостей производилось и в 1911 и в 1912 году, но никаких сведений об этом до меня официально не доходило, и затем мне стало известно лишь уже в 1914 году, что столь же спешно началось восстановление их, {422} когда мы, вне всякого плана №18, не только не оттянули наших войск из Привислянского выступа, а сами, идя на выручку нашего союзника, повели наступление на западном направлении в Восточную Пруссию, оттянули на себя часть Германских корпусов с французского фронта, спасли положение Франции, но затем закончили наше наступление в августе 1914 г. разгромом армии Самсонова при Сольдау.
А когда в 1915 году шли кровавые бои за Варшавою, на Бзуpе и все мы лихорадочно ждали переменчивых вестей о них не раз на ум приходило воспоминание о том, какую роль сыграло в этом отношении то, что произошло у нас в 1910 году.
Судить об этом теперь я на имею никакой возможности, потому что в моем распоряжении ни тогда, ни впоследствии не было никаких сведений - их не признавалось нужным сообщить правительству, а тем более Министру Финансов.
Столыпин уехал в конце августа в Западную Сибирь согласившись со мною, незадолго до отъезда, по главным разногласиям моего ведомства с его сотрудниками, по всем сметным расчетам.
Вернулся он из поездки в прекрасном настроении в половине сентября. Еще до первого заседания Совета Министров, он попросил меня зайти к нему, чтобы поделиться, впечатлениями, и долго рассказывал обо всем, что видел и слышал, не раз повторяя, каким ключом бьет в Сибири жизнь, как богатеет край и как перерождается там все что переселяется с коренной русской земельной тесноты, какое для него будет счастье доложить об этих незабываемых впечатлениях Государю и сказать Ему, что еще 10 лет мира и дружной работы правительства, и Россия будет неузнаваема.
Но уже и теперь ясно всякому, если только он не слепой от рождения, как быстро справилась страна с последствиями войны и революции и какими гигантскими шагами идет она вперед.
"Как отрадно это должно быть Вам, сказал он, кто был главным работником этого подъема и такого превращения за какие-нибудь шесть лет, и как смешно мне слышать когда критикуют Вас и обвиняют в скупости и отстаивании одних казначейских интересов. Я теперь более никого не слушаю, и мне самому бывает стыдно предъявлять к Вам все новые и новые требования, когда я вижу на каждом шагу, как быстро растут у нас расходы по всем ведомствам, и какою щедрою рукою дает казна средства на все, действительно необходимое".
И опять же и тут Столыпин не сказал мне ни одного слова про Крестьянский Банк и про необходимость оторвать его от Министерства Финансов.
Молчал и Кривошеин, как ничего не говорил мне и Хрипунов, хотя я расспрашивал его не раз, что говорили ему спутники Столыпина я Кривошеина относительно виденных ими хуторов поселенных на землях Крестьянского Банка. Ответ его был только-ничего, кроме самого лестного, да вечного припева о необходимости вдохнуть в политику Банка больше землеустроительного увлечения, потому что без него все дело пойдет неизбежно слишком медленно и рутинно.
Прошло еще недели три. Сметная работа была окончена, роспись опять сведена в очень хорошем положении, и объяснительная к ней записка представлена мною для сведения Совету Министров.
В первых числах октября, при одном из посещений Столыпина, он заметил, что я имею очень усталый вид И спросил, не думаю ли я отдохнуть хоть несколько дней перед началом новой страдной поры и прибавил: "все удивляются как Вас хватает на такую работу, но злоупотреблять выносливостью все же не следует".
У меня еще с лета была мысль проехать в Париж, чтобы запастись платьем на зиму, и я даже усиленно звал с нами мою старшую сестру, которая всегда была особенно близка моей жене, проехать с нами на короткое время, а если удастся, даже и не задерживаться в Париже более того, что нужно для заказа платья, и съездить на южный берег, где ни жена, ни она еще не бывали.
Столыпин горячо поддержал меня и сказал об этом Государю, который при следующем моем докладе, прежде чем я спросил Его разрешения, прямо сказал мне в шутливом тоне: "Я командирую Вас в Париж к Вашему портному и прошу Вас не отговариваться недосугом, потому что через месяц опять начнется Ваша ужасная думская работа. Как только Вы ее выдерживаете!"
Через три дня мы втроем с женою и моей сестрою в самом благодушном настроении выехали заграницу.
При прощании со мною Столыпин опять не обмолвился ни одним словом о том, что замышлялось против меня, а Кривошеин приехал даже на вокзал проводить меня.
{424} В Берлине мы узнали, что во Франции разразилась железнодорожная забастовка и поезда с Востока доходят только до Льежа.
Каким путем можно было добраться оттуда до Парижа, мне было совершенно неизвестно, я мы поехали: дальше из Берлина просто наугад, вместо того, чтобы задержаться в Берлине, как нам советовали сделать это те, кто пришел встретить нас на Фридрихштрассе.
Я послал только телеграмму в Париж (телеграф функционировал исправно) находившемуся там Утину с просьбой помочь, если только это возможно, добраться от Льежа, а из Банка Мендельсона послали о том же депешу находившемуся в Париже моему приятелю, представителю этого дома - Фишелю.
В 7 час. утра подъехали мы к Льежу и не успел остановиться поезд, как нас встретил Фишель, ночью добравшийся для встречи нас на автомобиле из Парижа, и передал, что нас просит к себе Директор завода Кокериль, который приготовил нам автомобиль и доставить нас до Парижа без всяких приключений, потому что шоссейные дороги в полном порядке, и даже наш поезд пойдет до границы, но будет ли он иметь возможность продвигаться дальше по Франции этого сказать никто не может, хотя забастовка протекает мирно и никаких нападений на поезда не делается, но рисковать не следует, потому что есть опасения, что просто могут высадить из поезда среди поля.
После обильного утреннего чая, мы выехали в 10 час. утра из Льежа и совершенно благополучно, незадержанные нигде в пути, добрались к 9 часам вечера до Парижа, где нашли приготовленным для нас в гостинице Лондон, на улице Кастильоне, то же самое помещение, которое мы занимали в 1906 году.
Бедный Фишель, выехавший следом за нами, отстал от нас в Седане, проплутал всю ночь, имел несколько остановок из-за поломки автомобиля и только рано утром следующего дня добрался до Парижа.
Мы пробыли в Париже всего одну неделю, в течение которой я имел возможность побывать в очень любопытном заведении палаты депутатов, собранной до срока, чтобы дать объяснение по поводу железнодорожной забастовки и принятых мер к ее прекращению.
Объяснения давал Председатель Совета Бриан, но душою борьбы и тем, кому принадлежала мысль, впервые примененная {425} в данном случае, для срыва забастовки, был Министр труда Мильеран, впоследствии Президент Республики, с которым произошло всем известное столкновение палаты в 1924 году.
Бриан лично давал объяснения. Левые встретили его криками, стучаньем пюпитров и не давали ему говорить. С величайшим спокойствием выдержал он все крики, начиная по нескольку раз одну и ту же фразу, и кончил тем, что заставил себя слушать, имел огромный успех и получил доверие, вопреки бешеных атак левого сектора. Казалось, что Министерство укрепилось и испытанный им первый опыт мобилизации всех военнообязанных железнодорожных рабочих, с призывом их на службу по закону военного времени и с преданием их военному суду в случай неявки, получил одобрение палаты.
Но пути парламентской логики поистине неисповедимы. Два дня спустя, по дороге в Монте-Карло, я прочитал в газетах, что Министерство Бриана преобразовано. Из него выбыл Мильеран, которому принадлежала вся организация борьбы против забастовки, а весь кабинет, кроме него одного, остался у власти.
Мы ехали на автомобиле от Лиона до Монте-Карло два дня и приехали на место поздно вечером. Было совсем темно, и мы с величайшим трудом спустились благополучно с верхней корнишь к гостинице, и как не слетели мы с узкой дороги на одном из крутых виражей, мне совершенно непонятно.
Утром я отошел смотреть дорогу, по которой мы спустились, и не мог достаточно надивиться тому, как мы могли добраться без приключения. Когда мы вошли в гостиницу Париж, то встретившая нас администрация не хотела верить, что мы ночью рискнули опуститься с верхней дороги - там и днем не принято было ездить тогда.
В Монте-Карло, где мы думали спокойно просидеть не более пяти дней, меня ждала немалая неприятность из Министерства, а затем я едва не сломал себе там ногу и вместо развлечения и отдыха получил только жестокую боль в ноге, с которой и вернулся домой через Берлин.
Едва мы успели водвориться в отведенных нам трех прекрасных смежных комнатах, как мне подали длинную шифрованную телеграмму за подписью моего товарища С. Ф. Вебера. Ключ от шифра у меня был с собою, я знал способ расшифровки его, но большим искусством по этой части не обладал. Большая часть ночи ушла у меня на разбор телеграммы, и когда я воспроизвел, уже в четвертом часу утра точный и полный текст ее, то мне пришлось испытать немалое чувство возмущения.
Оказалось, что в первом заседании Совета Министров, тотчас после моего отъезда, П. А. Столыпин после открытая, заседания обратился к Веберу с вопросом - чем объясняется то, что до сих пор остаются непроданными Государственным Банком бумаги Лазаря Полякова, и что он и его Торговый Дом продолжает до сих пор пользоваться такими льготами, которые возмущают всю Москву, и никто не понимает, почему такому неисправимому должнику были оказаны огромные кредиты и, после целого ряда лет явной неисправности, с ним все еще церемонятся и не продают тех ничтожных залогов, на счет которых Государственный Банк все же может выручить часть ссуженных Полякову сумм.
Вебер совершенно не знал Поляковского дела в Государственном Банке, так как он вообще не ведал делами кредита в Министерстве, и ответил поэтому Столыпину, что он совершенно не в курсе этого дела и просит отложить решение этого дела до моего возвращения или, по крайней мере, до собрания им сведений в Государственном Банке.
Столыпин, против всякого своего обыкновения, почему-то сразу вспылил и в очень резкой форме ответил Веберу, что он не считает возможным откладывать дела, ставшего "притчей во языцех", до моего возвращения и настаивает на немедленной продаже бумаг.
Министр Торговли Тимашев, за год перед тем бывший Управляющим Государственным Банком и прекрасно знавший все Поляковское дело, начал было разъяснять его, но Столыпин остановил его и продолжал настаивать на продаже бумаг во что бы то ни стало, и никто из Министров, видя его непонятное раздражение не стал противоречить ему, и Веберу не оставалось ничего иного, как либо подчиниться этому настоянию, либо сделать разногласие и довести дело до представления на усмотрение Государя.
Мягкий по натуре и понимая хорошо, что его голос не будет иметь никакого веса в глазах Государя, - он стал уговаривать Столыпина послать мне подробную телеграмму и просить меня дать мой ответ непосредственно ему по телеграфу же, на что потребуется всего два, дня, и тогда будет достигнуто, по крайней мере, то, что я получу возможность дать свое заключение, а он, Вебер, не примет участия в {427} таком решении, которое, может быть, окажется не согласным с взглядом его Министра.
Любопытно и то, что и такая невинная и вполне законная просьба не была принята Столыпиным сразу, а вызвала ряд колких замечаний, совершенно не привычных для Столыпина.. Любопытно и то, что такой опытный человек, как Государственный Контролер Харитонов, с которым Столыпин всегда считался, молчал как рыба и не проронил ни одного слова. Меня меньше удивляет проявленная уклончивость со стороны Тимашева, хотя он отлично знал почему не продаются бумаги Полякова, но он вообще не считал для себя удобным противоречить Столыпину по чужому делу, так как сразу заметил, что тут имеется какая-то особенная подкладка, при которой лучше предоставить другим расхлебывать неприятное дело.
К 8-ми часам утра у меня был готов ответ, составленный также шифром на имя Вебера с просьбою предоставить его лично Столыпину, тотчас после его расшифрования.
Я сказал в нем, что крайне удивлен тем оборотом, которое приняло Поляковское дело в Совете Министров, очевидно по причине, дошедших до Председателя неверных сведений, придавших всему этому делу ложное освещение. Если Председатель Совета пожелал бы, не дожидаясь меня, принять какое-либо решение, принадлежащее в сущности не власти Совета, а только Министру Финансов, потому что по делам Государственного Банка все решения принадлежат только ему, то я прошу прежде всего вызвать Управляющего Банком и поручить ему доложить, почему не продаются бумаги Полякова.
Со своей же стороны, я должен сказать только, что никаких бумаг Полякова больше не существует, а есть бумаги, принадлежащие Государственному Банку, давно зачислившему эти бумаги в свой портфель по состоявшемуся с Поляковым соглашению при самом открытии кредита. Банк обязан продавать свои бумаги тогда, когда это ему выгодно, и не продавать, когда цена на них слишком низка или когда биржа идет резко на повышение. Следовательно, если Председатель Совета потребует продать бумаги почему либо сейчас, то, помимо неправильности этого распоряжения как не принадлежащего ему, он причинит ущерб и интересам Государственного Банка, чего он, несомненно, не желает.
Я прибавил, что до моего выезда, всего на две-три недели, я дал определенные указания Коншину не ниже какой цены можно продавать эти бумаги и вижу сейчас, что они далеко не дошли до этой цены, хотя со времени моего выезда они поднялись более, чем на 20% и дали выгоды Банку почти полмиллиона против той цены, в которой я их оставил при моем отъезде. Я закончил тем, что возвращаюсь ранее намеченного мною срока, вследствие сильного ушиба ноги, и усердно прошу П. А. оказать мне больше доверия нежели случайным суждениям, часто основанным на малом знании дела.
Самому Столыпину я послал короткую открытую депешу, сказавши в ней только, что я получил подробную депешу от Вебера и по ее содержанию ответил ему шифрованною же телеграммою, которую поручил ему, по разборке шифра, лично привезти ему, а его усердно прошу оказать мне то доверие, которого я ничем не желал нарушить.
Когда через неделю или даже меньше я вернулся в Петербург, то Вебер, встретив меня на вокзале, сказал мне, что моя телеграмма, видимо, имела успех, потому что Коншина Председатель Совета Министров не вызывал, принял его, Вебера, совершенно спокойно и даже сказал ему, что всего лучше дождаться моего возвращения, так как он то знал, что бумаги принадлежат вовсе не Полякову и последний совсем не заинтересован тем, за какую цену они будут проданы.
В дань моего приезда я поехал к Столыпину и думал, что по делу Полякова у нас произойдет крупный разговор, но его совсем не было.
Столыпин просто сказал, что он ошибся в оценке этого дела и ему просто дали совершенно неверные сведения, и он очень сожалеет о том, что причинил мне ненужное беспокойство. На все мои настояния сказать кто дал ему эти сведения и почему он отнесся так необычайно резко к данному вопросу, он сказал мне только: "не стоит больше об этом говорить, я достаточно проучен и буду вперед более осторожен, не доверяя разным глашатаям сенсационных известий, хотя бы они исходили от людей, по-видимому, хорошо осведомленных".
Я так и не узнал, как не знаю и до сих тор, откуда произошел весь этот гром, хотя предполагаю, что источником послужило Новое Время или кто либо из националистов, а может быть тот же Марков 2-ой, который учинил по тому же поводу мне скандал в мае 1913 года.
И в это наше первое свидание после моего возвращения Столыпин опять не сказал мне ни одного слова по Крестьянскому Банку.
{429} Наша первая и решительная беседа произошла через неделю после заседания Совета Министров, когда Столыпин попросил меня остаться у него.
Совершенно спокойно по внешности, но видимо заранее подготовившись к разговору, он начал с того, что никогда не считает себя незаменимым и считает наоборот таковым меня и, тем не менее, он должен переговорить со мною совершенно по дружески, потому что успел прийти к убеждению что между нами должен возникнуть конфликт, и он очень опасается, что ему не удастся убедить меня отказаться от моего взгляда, как и сам он долго и безуспешно проверял себя, может ли он отказаться от того, что ему кажется государственно необходимым, и пришел к заключению, что он не может этого сделать. После такого вступления он прямо перешел к делу и сказал, что вместе с Кривошеиным он решил поднять вопрос о передаче Крестьянского Банка в ведомство Земледелия и даже говорил об этом Государю, потому что считал своею обязанностью предупредить Его, что я вероятно буду против этой меры и даже могу поставить вопрос ребром и покинуть службу, если такая мера будет проведена против моего желания.
Он просит меня поэтому сказать ему совершенно спокойно, как я смотрю на эту мысль и нельзя ли найти почву для соглашения между нами.
Я исполнил его желание и без всякого волнения сказал Столыпину, что до меня стали уже с некоторого времени, доходить хотя и в весьма смутной форме намеки на то, что подобная мера затевается в ведомстве Земледелия, и мне совершенно ясно, что последнее не могло остановиться на ней без поддержки и даже без инициативы его, как. Председателя Совета Министров.
Я давно уже обдумал мое отношение к вопросу, и он, Столыпин, совершенно прав, что я не принадлежу к разряду людей, которые идут на компромиссы в делах, имеющих для меня принципиальное значение. Сложившееся у меня мнение совершено просто и ясно, я не только понимаю необходимость, но и фактически провожу в жизнь самое тесное техническое сближение с ведомством Земледелия во всей деятельности Крестьянского Банка. У нас нет никаких разногласий, и я проникнут полною готовностью идти и еще дальние но пути согласованности работы, если только это фактически возможно. А между тем что же происходит?
Со мною никто не говорит, а рядом со мною созрела, мысль, которая, в самом существе, затрагивает самый {430} коренной и принципиальный вопрос о единстве кредита в государстве, и решают его люди, никогда кредитом не занимавшиеся и даже не дающее себе отчета в том, что какова бы ни была ширoта землеустроительной политики, она не может быть проведена без реализации капитала в виде обязательств Крестьянского Банка, и эту жизненную часть всего дела, зависящую от состояния денежного рынка, хотят решить без Министра Финансов и даже не опрашивают его согласие на такую коренную ломку, а докладывают Государю и заручаются Его сочувствием, не разъяснивши Ему всей неосуществимости такого замысла без самых крупных осложнений.
Разъяснив все стороны этой вредной затеи и всю неисполнимость ее без Министра Финансов, я сказал Столыпину, что как он, так и Кривошеин жестоко ошибаются, если думают, что все дело в настойчивости или упрямстве Министра Финансов. Оно далеко выше этого, и все заблуждение их сводится к тому, что не я, и никакой Министр Финансов, если только он отдает себе отчет в деле, не может согласиться на то, что кто-то другой будет управлять кредитным учреждением, а на нем останется обязанность, как и сейчас, размещать закладные листы Банка и предоставлять Земельному Банку наличные средства вырученные за них. Такой задачи не может исполнить никакой Министр Финансов, а если от него, уйдет и операция по реализации этих облигаций, то кто же будет ее осуществлять? Всякий Министр Земледелия либо станет требовать помещения их в сберегательные кассы, на что не согласится Министр Финансов, либо в конец испортит денежный рынок и государственный кредит, против чего не может не восставать тот же Министр Финансов, и, следовательно, создастся только бесконечная цепь недоразумений и пререканий, в которых страдательным лицом окажется тот же Министр, ведающий делами кредита. Отсюда только один вывод - согласиться на такую меру добровольно, а тем более приложить к ней руку, может только такой Министр Финансов, который цепляется за свое место, а таким Министром я никогда не был, да и не могу быть.
Мы долго обменивались нашими взглядами на ту же тему, и Столыпин не раз говорил мне, что этой стороны дела он совершенно не имел в виду, когда остановился на необходимости коренного преобразования Крестьянского Банка, и никак не может усвоить себе, почему все дело может получить вредное направление от того только, что управление Банком {431} перейдет в другие руки при едином правительстве и почему не может Министр Финансов сохранить за собою все дело размещения обязательств Банка и просто передавать своему соседу по Совету Министров всю выручку от размещения накладных листов, какая бы цена за них ни была получена.
Мне оставалось только опросить его, а если этих листов совсем нельзя разместить, потому что никто за них ничего не даст или они будут постоянно понижаться в цене - то кто же будет нести за это ответственность? И как может именно Министр Финансов, отвечающий за весь государственный кредит, равнодушно смотреть, что обязательства государства обесцениваются и тащат за собою и все другие государственные ценности, а в то же время Министр Земледелия обвиняет его, что он плохо размещает его заем, за который все же отвечает и притом в полной мере государство?
Я указал также на то, что и частные земельные банки, за которые государство не имеет никакой матерьяльной ответственности, все же состоят в ведении Министра Финaнсов и на последнем лежит даже прямая обязанность следить за всею их деятельностью, и за ними установлен прямой контроль правительства в лице уполномоченных того же Министерства именно потому, что нельзя оставить на полную волю этих банков выпуск какого угодно количества закладных листов, без всякой уверенности в том, что их оценочное дело ведется правильно, и под выпущенными листами имеется действительное ипотечное обеспечение.
Я указал и на тот отрадный факт, что мне удалось в последнее время выпустить закладные листы Крестьянского Банка на иностранный рынок, чего до сих пор не было.
Но все эти и многие другие аргументы, разъясняющие ту же азбуку эмиссионного дела и его связь со всем кредитом государства, видимо, не убеждали Столыпина, и он оставался все на своем: ему не понятна вся эта "хитрая механика", и он видит и чувствует только одно, что оставить дело в его нынешнем положении нельзя, и кто-нибудь из двух несогласных между собою должен уступить, - либо он, вместе с Кривошеиным, либо я. Поэтому нужно, чтобы нас рассудил Государь, и чтобы каждая из спорящих между собою сторон заранее согласилась подчиниться Его решению, а если окажется, что оно вышло неудачно, то ведь возможно возвратиться к старому порядку вещей.
Против такого направления дела я стал решительно {432} протестовать, сказавши Столыпину, что нельзя ставить Государя суперарбитром такою дела, и в особенности недопустимо производить эксперименты именно над делом государственного Кредита, который только что начинает крепнуть, и его нужно не расшатывать, а оберегать в интересах того же земледелия и землеустройства, как и всякой другой отрасли государственного управления. Ошибки в этом вопросе залечиваются десятилетиями, а совершаются в одно мгновение необдуманно принятого решения.
Я предложил принять другой способ разрешить выяснившееся уже между нами коренное разногласие, которое, как я вижу, уже доведено до сведения Государя. А именно предоставить мне передать Государю точно все, что я только что сказал и притом в еще более популярной форме и, в том случае, если у Государя уже сложилось окончательное мнение, представить Ему полною свободу действий, согласно принятого Им решения, но не смотреть на состоявшееся разногласие как на вопрос моего недопустимого упрямства и не налагать на меня ответственности за дальнейшую судьбу дела в том направлении, которое грозит одними отрицательными последствиями.
Государь не может не понять, что мною руководят только самые понятные побуждения, и Он, несомненно, не захочет налагать на меня обязанности, которую я не могу выполнить. В таком случае весь ход дела мог бы быть значительно упрощен. Столыпин получил бы от Государя полномочие поручить Кривошеину разработку проекта о передаче Крестьянского Банка в ведомство Землеустройства, на указанных ему основаниях.
При рассмотрении дела в Совете Министров я ограничусь только заявлением о моем принципиальном несогласии, не стану приводить моих доводов и ограничусь лишь тем, что полученные Высочайшие указания ясно указывают на бесцельность возражений против одобренного Государем взгляда Председателя Совета и Министра Земледелия и устраняют самую возможность отстаивать мою точку зрения. Защита всего проекта в Думе и Государственном Совете будет принята на себя Столыпиным или Кривошеиным, а когда проект будет окончательно принят палатами и удостоится Высочайшего утверждения, Государь примет мою отставку и заменит меня лицом, не разделяющим моих взглядов.
Столыпин пытался было уговорить меня еще и еще подумать прежде, чем ставить Государя в такое тяжелое положение, но делал это как-то, что называется, для очистки совести, {433} потому что не раз и сам говорил, что он не имеет никакого права насиловать моей совести, коль скоро я вижу вред от перемены вещей, потому что и сам не хочет насиловать своей совести, разделяя противоположные моим взгляды и не отказываясь от них. Он кончил тем, что согласился со мною и просил меня только, тотчас после беседы с Государем, передать ему вынесенное мною впечатление.
Уходя от него, я спросил его как поступит он, если Государь не примет моего предложения и предпочтет оставить все по старому, в виду доводов о вреде перемены для государственного кредита?
Подумавши довольно долго, Столыпин ответил мне: мое положение иное, чем Ваше, я настаиваю на перемене, не зная так как Вы дело кредита и не неся за его судьбу прямой ответственности. Если Государь возьмет назад свое категорическое обещание по изложенным Вами основаниям, я не имею морального права ставить личный вопрос на карту, и тогда мне придется, по необходимости, согласиться на меньшее - постараться устранить внутренние трения между Крестьянским Банком и Землеустройством, на что Вы, вероятно, охотно пойдете, тем более, что по существу, я не знаю даже велики ли теперь эти нелады, как мне о том говорят, часто не подкрепляя такого заключения действительными доказательствами.
На этом мы расстались, внешне совершенно дружелюбно.
Доклад мой Государю произошел раньше, нежели я предполагал; видимо либо Столыпин, либо Кривошеин предварили Его о моем свидании со Столыпиным.
К ближайшему докладу Государю у меня накопилось много дел, в связи с развитием чумы на линии Китайской железной дороги. Этот вопрос сильно озабочивал Государя, и Он интересовался всеми его подробностями, и мне приходилось как раз на этом моем докладе, тотчас после разговора со Столыпиным, представить Ему целый ряд принятых мер и нимало весьма успокоительных сведений. Я совсем не предполагал затрагивать на этот раз вопроса о Крестьянском Банке и думал отложить его до более подходящей минуты, тем более, что соглашение мое с П. А. отнимало всякую спешность от его разрешения.
Государь отдал много внимания всем доложенным мною вопросам, времени ушло не мало и оставалось еще в приемной несколько человек, ожидавших приема. В 12 часов я собирался уже встать, как Государь удержал меня сказавши, {434} что у Него есть один вопрос, о котором Он давно хотел говорить со мною, но все мешали Ему разные другие, более срочные, дела.
Без всяких оговорок, в самой простой и даже узко-деловой форме Он сказал мне, что уже довольно давно, как Столыпин, так и Кривошеин неоднократно докладывали Ему о созревшем у них мнении о необходимости передать Крестьянский Поземельный Банк в ведомство Землеустройства, которое не может развить своей деятельности без этого условия.
Настояния обоих Министров особенно усилились со времени возвращения П. А. из его поездки в Западную Сибирь, во время которой он получил, по его словам, глубокое убеждение о необходимости этой меры, так как все местные деятели единогласно свидетельствовали ему о целом ряде затруднений, которые тормозят всю работу и не потому, что Банк не идет навстречу нуждам землеустройства, а потому, что это учреждение чужого ведомства, для которого землеустроительное дело не свое дело, и оно просто не в состоянии отрешиться от узко-финансовой стороны и слишком ревниво охраняет ее. Все предоставленные ими доводы настолько убедили Государя, что Он дал положительное обещание, что Он готов встать на их точку зрения, но очень дорожить тем, чтобы я услышал это непосредственно от Него, будучи уверен в том, что я, как всегда, отнесусь к такому решению с точки зрения государственной пользы и помогу довести это дело до благополучного конца.
Государь кончил свое обращение ко мне словами:
"Если Вы не можете ответить Мне сейчас, то Я прошу Вас не стесняться, отложимте его до следующего Вашего доклада, да к тому же сегодня у нас мало времени". Он прибавил, что Ему очень неприятно, что я узнал о Его решении от Столыпина, который "напрасно поторопился" сказать мне. Я сказал Государю, что я мог бы дать мой ответ сейчас, тем более, что имел разговор по этому поводу с Председателем Coветa Министров всего три дня тому назад и обдумал это дело со всех сторон, но опасаюсь, что у самого Государя нет достаточного времени, чтобы дать мне возможность сказать все, что Ему необходимо знать, и потому я прощу разрешить мне взять на мой следующий доклад лишь самое необходимое и посвятить все время разъяснению возбужденного Самим Государем вопроса.
Он охотно согласился на это и прибавил, что знает уже {435} от
П. А. о моей с ним беседе и чрезвычайно встревожен тем, что слышал от него, хотя и отдает мне вперед справедливость в том, что я смотрю на дело как честный человек и если я считаю, что эта мера вредная, то я не только имею право, но даже обязан сказать это своему Государю, и Он со своей стороны никогда не осудить меня за это, как не сочтет Себя в праве требовать от меня, чтобы я сделал то, что считаю вредным и за что не должен нести и ответственности.
Затем, подумавши несколько минут, Государь сказал как бы нехотя: "Я ответил П. А. на переданный им разговор его с Вами, что при таком положении, которое Вы намереваетесь просить моего разрешения занять, и в чем Я Вам препятствовать не могу и не буду, едва ли этот вопрос пройдет гладко, в особенности в Государственном совете, где есть много людей, которые поймут, что без Министра Финансов едва ли можно обойтись в таком дел".
Прямо с моего всеподданнейшего доклада я проехал к Столыпину, не заезжая домой, и передал ему дословно мою беседу с Государем.
Кривошеин ко мне все это время не заезжал и никаких разговоров со мною не вел ни во время двукратных наших встреч до следующей пятницы в заседаниях так называемого малого Совета, ни в очередном заседании Совета Министров во вторник, несмотря на то, что в этом заседании была речь именно об одном из законопроектов, стоявших по Крестьянскому Банку на очереди в Государственной Думе. Как он, так и Столыпин спрашивали меня, надеюсь ли я провести это дело - оно было внесено мною и поступило в Общее Собрание Думы, при неблагоприятном заключении земельной Комиссии.
Мой всеподданнейший доклад следующей пятницы занят был почти целиком моими объяснениями по вопросу о передаче Крестьянского Банка.
Я повторил все, что я говорил Столыпину, и, соблюдая в отношении к Государю всю возможную деликатность, старался развить, главным образом, три положения.
1. Полное отсутствие каких-либо действительных оснований говорить о трениях между ведомствами, когда их нет на самом деле и когда я делаю все мне доступное, чтобы оказывать всякую помощь землеустроительной политике Столыпина которую я искренно разделяю.
2. Совершенную невозможность, не подвергая величайшему {436} расстройству все, с таким трудом налаживаемой положение государственного кредита, отделить эмиссионную операцию по выпуску государственных долговых обязательств, какими являются закладные листы Крестьянского Поземельного банка, и притом на огромные суммы, от близкого надзора и руководства Министра Финансов.
3. Особенною щекотливость для меня возникшего предположения, в возбуждении которого я не принял никакого участия, а доклад по нему, как и состоявшееся, по-видимому, решение Государя последовало при полной для меня неизвестности. Мне остается поэтому только - или подчиниться такому неправильному решению и быть бессильным свидетелем вредных от него последствий для государственного кредита, забота о котором останется все же на мне, или принять решение, глубоко для меня тягостное, которое может встретить осуждение Его, Государя, - просить освободить меня от исполняемых мною обязанностей и передать их человеку, который сумет сделать то, что мне кажется неисполнимым. Это последнее положение я развил в самых деликатных выражениях и старался всеми способами смягчить невыгодное для меня впечатление Государя, потому что я был далек от всякого желания насиловать Его волю и заставлять Его отказываться от обещания данного им по одностороннему докладу.
Государь слушал меня, не прерывая ни разу и не высказав ни малейшего неудовольствия, а тем более какой бы то ни было раздражительности.
Его ответ мне звучал тем же спокойствием, с которым Он обсуждал самые простые вопросы моего управления, и на протяжении почти целого часа очень напряженной беседы я не заметил и тени неудовольствия на меня, а тем более попытки повлиять на то, чтобы я примирился с создавшимся положением и сохранил мои обязанности против моей совести и только во имя доставления Ему личного удовольствия.
При Его выдержке и даже умении скрывать Свое истинное настроение мне трудно было тогда, как трудно и сейчас, сказать по совести: была ли у Него какая-то смутная еще тогда мысль, что дело может получить иное разрешение, потому что окончательная его развязка, при сделанном мною Столыпину предложении, наступала еще не скоро, - или же Он относился без большой тревоги к мысли о моем уходе. Трудно об этом говорить с какою бы то ни было уверенностью.
Начал свой ответ мне Государь с того, что оказал, что {437} Он отчасти сам виноват в том, что этот вопрос принял неправильное направление. Ему следовало, с самого начала, как только Кривошеин и Столыпин заговорили с Ним о Крестьянском Банке, сразу же устроить у Себя совещание при моем участии, и тогда весь вопрос был бы обсужден со всех сторон.
Вышло же то, что все дело велось как бы за моей спиной, и это Ему в особенности неприятно, но за то нельзя винить никого, кроме Него самого. Я не сказал ничего против такого заявления, чтобы не вышло, что я же обвиняю Столыпина или Кривошеина в нарушении корректности по отношению к Государю.
Затем Государь сказал также просто, что Его положительно смущает все, что я сказал по поводу неизбежности вредных последствий от передачи Банка в ведомство Землеустройства для положения нашего кредита, только что начинающего выходить из трудного положения, и это одно соображение кажется Ему настолько важным, что Он опрашивает себя не следует ли приостановить все это предположение, коль скоро оно связано с такими последствиями, о которых Он никогда и не думал. Его смущает только какое отражение вызовет это в Председателе Совета Министров, придающем этому делу, по-видимому, совершенно исключительное значение. Такое заключение вынес, по крайней мере, Государь из двукратной беседы с ним.
Он сказал мне, что не считает, во всяком случае, этого нашего разговора окончательным и будет думать еще о том, не представится ли какой-либо возможности пересмотреть этот вопрос, получивший совершенно неправильное движение, потому что мою точку зрения Он не может не признать совершенно правильною и даже "безупречною". "Никто не имеет права", казал Государь, "упрекнуть Вас в чем-либо, потому что Вы поступили так, как поступил бы Я сам на Вашем месте.
Вас никто не спросил по Вашему делу, и Мне был представлен доклад, о котором Вы даже ничего не знали, и Я обещал дать ему направление, по Вашему мнению, соединенное с большим вредом и для дела и для одного из наиболее важных вопросов государственного управления, порученного Вашей ответственности. Вы довели до Моего сведения Ваш взгляд в самой безупречной форме, и если это не заставит Меня изменить Моего решения, то Я не имею никакого права уговаривать Вас отказаться от Вашего намерения, как бы {438} Мне это ни было больно, тем более, что я хорошо знаю, что Вы далеко не с легким сердцем остановились на таком решении, потому что Вы любите Ваше дело и всегда честно служили ему и Мне. Я не могу этого сделать еще и потому, что, оставаясь на Вашем месте и видя на каждом шагу отрицательные последствия от принятой меры для Вашего же ведомства, Вы действительно попали бы в самое тяжелое положение, из которого был бы только тот же выход".
Наша беседа закончилась тем, что Государь даже благодарил меня за предложенную Столыпину комбинацию вести все дело по ведомству Земледелия и Землеустройства и оставаться спокойно на месте до тех пор, когда будет издан закон о передаче Крестьянского Банка в другое ведомство. Его последние слова были: "До этого пройдет еще много времени и Бог знает чем все это кончится".
От этой длинной беседы у меня сложилось мнение, что Государь считает себя связанным обещанием, данным Столыпину и Кривошеину, и, не вполне разбираясь в таком специальном вопросе, как неделимость заведывания государственным кредитом, Он не отступит от принятого Им решения, если какие-либо внешние обстоятельства, не зависящие от Него, не дадут другого направления всему этому делу.
Вопрос о моем оставлении Министерства Финансов становился для меня, поэтому, только вопросом времени, но я решил никому не говорить об этом, главным образом потому, что не хотел вносить тревогу в ведомство и решил держать себя совершенно в стороне от разработки вопроса до той поры, когда дело поступит, на обсуждение Совета Министров и когда, совершенно помимо моей воли, всплывет наружу мое принципиальное расхождение и неизбежность моей отставки.
Столыпину я передал содержание моего доклада Государю с полнейшей точностью. Он был, на этот раз, как-то особенно сдержан, благодарил меня за точность передачи и сказал только: "Вот победа, которая меня нисколько не радует. Я предпочел бы, чтобы всего этого вопроса вовсе не было и, вместо него, мы могли бы спокойно обсудить только возможность еще более тесного взаимного сближения двух ведомств на практической работе по землеустройству, если бы это оказалось нужным.
А теперь поднимется столько трений и пересуд о Вашем уходе на почве такого принципиального вопроса, как охрана кредита, а в перспективе - еще возможный провал ведомства {439} в совершенно чуждой ему области размещения облигаций банка на внутреннем рынке".
На этом разговор кончился и, до самого июня 1911 года мы ни разу об этом вопросе со Столыпиным не заводили речи.
Кривошеин молчал и все время держал себя так, как будто бы никакого предположения у него и не возникало.
{440}
ГЛАВА VI.
Чумная эпидемия на линии Китайской Восточной жел. дор. Борьба с ней. Запрос в Думе по этому вопросу. - Мои Думские выступления. Дурасовское дело. Благоприятное финансовое положение страны. Моя бюджетная речь то росписи на 1911 год. - Законопроект о введении земства в губерниях Северои Юго-Западного края. Особое значение, придаваемое этой мере Столыпиным. Принятие, законопроекта Думой и отклонение его Государственным Советом. Ультиматум Столыпина: роспуск палат и опубликование закона в порядке статьи 87. Дисциплинарные взыскания против П. Н. Дурново и В. Ф. Трепова. Беседа со мной об этих событиях Императрицы Марии Феодоровны. Удар нанесенный ими, престижу Столыпина. - Отказ Столыпина и Кривошеина от проекта изъятия Крестьянского Банка из ведения Министерства Финансов.
Пока происходили описанные происшествия, немало расстроившие меня, мне пришлось с самого конца октября отдать много времени и забот неожиданно разразившейся на линии Китайской Восточной железной дороги чумной эпидемии.
Осенью этого года случаи чумных заболеваний появились, правда, в весьма небольшом количестве, в Одессе и вызвали принятие экстренных мер Министерством Внутренних Дел. Они были ликвидированы очень быстро. Эпидемия на Китайской дороге появилась ровно год спустя после убийства в Харбине Князя Ито: 13-го октября 1910 года в китайском поселке близ станции Манчжурия появилось первое заболевание среди китайского населения и разом перекинулось на целую группу домов, находившихся в близком соседстве как со станциею, так и с русским поселением.
{441} Серьезность и даже опасность этого положения стала очевидною с первого взгляда. Через нисколько дней после регистрации этого случая, констатированного местным врачебным надзором железной дороги, при участии случайно проезжавшего известного московского врача, начиналось передвижение из Приморской области эшелонов запасных чинов, отбывших сроки их военной службы и возвращавшихся во внутренние губернии России по линии Китайской Восточной, дороги, и передвижение из Poccии в ту же Приморскую область новобранцев на смену уволенных в запас и такая же операция по Заамурскому округу пограничной стражи и железнодорожной его бригады. Опасность занесения чумы в Россию из этого китайского очага стала очевидною, и задача, выпавшая на долю Управления китайской дороги, была оценена всем общественным мнением России по ее действительному значению.
Дорога вышла из этого испытания с величайшею честью. Управление не жалело ни средств ни энергии на борьбу с надвинувшеюся опасностью. Мобилизованы были многочисленные силы медицинского персонала, к руководству его работою привлечен лучший специалист того времени Профессор Заболотный. Военное ведомство предоставило свой санитарный и фельдшерский персонал.
Университеты и Военно-Медицинская Академия дали целые отряды добровольно пошедшей на борьбу с эпидемиею учащейся молодежи. И результаты этих усилий оказались скорее нежели этого можно было ожидать, несмотря на все невыгодные условия представленные китайским населением не столько в полосе отчуждения железной дороги, состоявшей в русском управлении, сколько за ее пределами, но в ближайшем к ней соседстве. Нужно не забывать, что русской власти в отношении этих последних местностей не принадлежало никаких прав, и приходилось действовать в нарушение нашей концессии, так как китайская власть не принимала никаких мер, хотя, надо отдать ей справедливость, и не мешала нам принимать свои.
Пришлось просто сжечь целый ряд китайских домов и уничтожить множество скарба. Сопротивления нигде оказано не было, так как дорога не скупилась на вознаграждение потерпевших. Всего труднее было организовать борьбу в Харбине. Соседний с ним китайский город Фудадзян сделался настоящим очагом заразы. В нем и в самом Харбине было сравнительно много смертных случаев, но в Россию чума допущена не была, все запасные вернулись домой без единого {442} подозрительного по чуме случая, все новобранцы прибыли в свои воинские части совершенно благополучно, и через три месяца после первого заболевания опасность заноса чумы через железную дорогу в коренную Poccию миновала. Жизнь на самой дороге, кроме главного центра - Харбина, вернулась в норму.
В Харбине борьба с чумою была особенно трудна - не только из-за соседства с Фудадзяном, но и потому, что и в самом Харбине некоторые части города, как например особенно торговая его часть, Пристань, представляла собою смешение прекрасных построек совершенно европейского типа, с отвратительными притонами китайского населения, в которых средства обязательной гигиены были совершенно неприменимы, и приходилось брать на средства дороги сравнительно значительные расходы, относящееся собственно до обязанности города, вплоть до выселения целых домов и постройки вместо них наспех новых помещений временного типа и в них подвергать жильцов самому строгому надзору, неудобства которого они сносили, однако, терпеливо.
Большие трудности представляла и сама дорога. Она занимала в своих мастерских и на работах вообще большое количество китайских рабочих, которые в обычное время жили в Фудадзяне, или на Пристани, или даже кругом города в мелких китайских поселках.
С появлением чумы нельзя было удалить их с дороги, по невозможности заменить их в сколько-нибудь короткий срок русскими рабочими из внутренних губерний, так как соседние сибирские губернии и области не имели свободных рабочих рук. Оставлять этих рабочих на работах в мастерских и на дороге и сохранять за ними общение с китайским же населением, в местах их жительства было также невозможно.
Пришлось, поэтому, принять экстренную меру - изолировать их полностью от общения с китайским населением и, сохранивши их на работах дороги, разместить их в особых бараках, спешно выстроенных дорогою и регулировать распоряжением дороги всю их внутреннюю жизнь, вплоть до надзора за доставляемыми им продовольственными продуктами и полного разобщения их от всякого сношения с китайским населением. Справедливость заставляет сказать, что все эти стеснения переносились без всякого ропота и сопротивления китайскими рабочими на дороге, а назначение им несколько повышенной платы, по сравнению с ранее получаемою ими, создало самую мирную атмосферу среди них, доходившую до того, что они установили свой внутренний {443} надзор, значительно облегчавший задачи дороги. Благодаря всем принятым мерам, количество жертв среди русского населения было совершенно ничтожно, как было не велико и число жертв среди врачебного персонала.
При таких обстоятельствах начался 1911 год, который должен был окончиться для меня в совершенно иной обстановке, нежели та, в которой я вступил в него. Я начал год в далеко не радужном настроении.
Мысль о вероятном оставлении мною Министерства Финансов, в связи с необходимостью хранить об этом полное молчание, делала и без того нелегкую вообще текущую работу еще более тяжелою, а она, как нарочно, была особенно велика с первых дней нового года. Еще до начала рождественских вакансий в Думе в нее поступили разом, от разных фракций три запроса по поводу появления в конце года холеры и чумы в разных местностях Poccии. Главный из них был направлен именно на чуму на линии Китайской дороги, другой имел своим предметом вспышку холеры на юге и в окрестностях Астрахани, третий опять же вращался около той же чумы в Манчжурии и ставил вопрос о том, с какими расходами сопряжена борьба с нею и кому предстоит покрыть их.
Первый и главный вопрос соединил немалое количество подписей и был роздан, как и был сообщен правительству, чуть ли не в день роспуска Думы на Рождество. В нем не было недостатка в весьма недвусмысленных неблагоприятных кивках против Китайской дороги и делались столь же недвусмысленные намеки на то, что России и русской казне приходится оберегаться от деятельности этого особливого предприятия. Самое содержание запросов было чисто искусственное: не то правительство обвинялось в незакономерных действиях, не то от него спрашивали разъяснения по делам, находящимся в производстве.
П. А. Столыпин предложил возложить на меня обязанность отвечать от имени правительства, и он был по существу прав.
Все что относилось к холерным заболеваниям в самой России было уже на самом деле ликвидировано и никого более не интересовало, совершенно независимо от того, что размеры этих эпидемических заболеваний были весьма незначительны, a все подробности о них составили уже предмет правительственных сообщений. Иное дело Маньчжурская чума. Она была {444} также ликвидирована в той ее части, которая была наиболее грозною для внутренней России, в смысле заноса заразы с востока, но далеко еще не была потушена в самой Манчжурии и могла всегда снова перекинуться на русские области. Кроме того, вся борьба с маньчжурскою чумою велась официально под моим руководством, и никто из прочих Министров не обладал всею полнотою сведений. Скажу даже, что мало кто интересовался ею. Наконец, кому же как не мне приличествовало отстранить все неблагоприятные намеки, которыми были пересыпаны запросы, на отчужденность управления делами Китайской восточной дороги и взять злополучных "манчжурцев" под свою защиту.
Особенно решительно отстаивал это Столыпин, подробно высказавши в Совете, что, близко следя за всем, что делается в смысле борьбы с эпидемию в Манчжурии, он считает своим долгом горячо благодарить все управление железною дорогою и меня, как отвечающего за нее, за все что сделано для санитарной безопасности России. Он прибавил даже, что если бы кто-нибудь сказал ему, что принятые распоряжения могут быть столь энергичны и разумны, он не поверил бы и думал даже, что это как-то не по-русски, и потому он предлагает Совету не только просить меня взять на себя ответ на все запросы, но и уполномочить меня открыто заявить с трибуны Государственной Думы, что правительство "считает прямым долгом справедливости отметить, что весь персонал железной дороги заслуживает величайшей похвалы за то, что им выполнено в условиях величайшей трудности, и что ему мы обязаны тем, что можем уже и теперь оказать, что опасность от заноса эпидемии в Poccию им устранена". Уже 19-го января Дума возобновила свои занятия, и в тот же день я дал мои объяснения по всем запросам. Что и как я сказал об этом не забыли те, кто пережил эту грозную пору в Манчжуpии и кто вынес всю борьбу на своих плечах. Их мало кто поблагодарил, если не считать того, что услышала от меня Дума с трибуны в этот день.
Пусть скажут себе те, кто когда-нибудь прочтут мои воспоминания, что грозившая России величайшая опасность была устранена усердием и исключительным мужеством в борьбе нею всего управления Китайской восточной железной дороги, до самого низшего персонала включительно. Быть может, они отметят также, что на всю борьбу было истрачено не боле одного миллиона рублей, считая и все расходы Министерства {445} Внутренних Дел, по борьбе с другими эпидемиями в том же году.
С этого запроса, заслушанного 19-го января 1911 года, началось мое, почти ежедневное, присутствие в Государств. Думе, вплоть до половины марта, когда разразился тот неожиданный кризис правительства, о котором речь впереди.
19-гo января я отвечал на запрос о чуме, 22-го на такой же запрос о развитии контрабандного промысла спиртом через маньчжурскую же границу; 24-го мне было поручено правительством выступить по вопросу о размере кредита на нужды начального образования и помочь фиксации размера кредита на длинный ряд лет, то есть принять на себя роль защитника народного образования в то время, когда меня же обвиняли в том, что я будто бы являюсь противником расходов на просвещение; 4-го февраля мне пришлось вести настоящий бой с левым крылом Думы по запросу о деятельности опять того же Крестьянского Банка и одержать бесспорный успех над авторами запроса, а уже с 21-го февраля началось рассмотрение бюджета в Общем Собрании Думы.
Я упоминаю о моем выступлении по делу народного образования потому, что мне хочется снять с себя вечное осуждение меня за слишком скупое отношение к самым неоспоримым нуждам страны, во имя чрезмерно близкого моему сердцу казначейского благополучия.
Вторая моя речь имеет совсем иное значение.
Запрос правительству на этот раз был предъявлен уже без всякого колебания - в смысле обвинения его в явно незаконных действиях, совершенных правительством по ведомству Крестьянского Банка, и предъявлен он был одновременно, как к Председателю Совета Министров, так и ко мне, как руководителю Банка. Запрос получил прозвище "запроса по Дурасовскому делу". Он рассматривался в думской комиссии по запросам очень долго и попал с руки Правительства перед самым Рождеством. Подписан он был левою группой, эсдеков. Первым подписавшим и главным, если неединственным, зачинщиком дела был депутат Покровский 2-ой, который задолго до предъявления запроса неоднократно являлся ко мне и в приемные дни и испрашивал особые аудиенции, постоянно доказывая мне совершенные не только Крестьянским Банком, но и административными властями вопиющие несправедливости в ущерб крестьян, будто бы окончательно разоренных банком.
Мне пришлось, поэтому, войти очень {446} глубоко во все частности этого дела, и я успел изучить его до мельчайших подробностей еще в ту нору, когда вопрос так остро поставленный Столыпиным совершенно не был мне известен. Близко следил за ним и П. А. Столыпин и постоянно просил меня давать все большие и большие подробности, по мере того, что выяснялось из настояний Покровского 2-го и предъявляемых мне Крестьянским Банком данных возмутительная история этого дела, в котором так называемые Дурасовские крестьяне были бесспорно жертвою агитации того же Покровского, сумевшего, однако, скрыть следы своей работы и избежать обнаружения ее.
Всем было, однако, ясно до очевидности, что без него и его сотрудников по агитации никогда не было бы тех осложнений, которых достигло это возмутительное дело. Правда не было бы и того на самом деле настоящего триумфа, которого добилось правительство. После окончания прений по этому делу не только запрос не был принят Думою, но немалый конфуз испытала и Думская комиссия о запросах, разделявшая все заключения интерпеллянтов, но и те члены Думы, правее эсдеков, которые дали ему свои подписи. Мои друзья из кадетской оппозиции были разумеется в числе их и даже не отказали ceбе в удовольствии, как сделал например Аджемов, - пустить в меня, во время моих объяснений, язвительные стрелы.
Когда вопрос правительству созрел и состоялось заключение Комиссии о запросах, не только принявшее запрос, но и пошедшее в своих заключениях дальше самих авторов его, я был уже в курсе предположений Столыпина поднять вопрос о передаче в ведомство Землеустройства Крестьянского Банка.
Моим первым желанием было просить его взять на себя ответ на запрос. Но он сразу же и решительно отказался от моего предложения, сказавши, что никто не положил так много труда, как я, на изучение дела, и даже было бы крайне невыгодно, чтобы выступал от имени правительства кто-либо другой, а не я, потому что первый подписавший - Покровский - будет конечно обосновывать запрос, а ни с кем из членов правительства он не вел таких частых и назойливых переговоров, как со мной. Он прибавил, что лично у него Покровский был всего один раз, и он не входил с ним ни в какие частности, ссылаясь на то, что все дело находилось в руках Крестьянского Банка и никто не должен отвечать за него помимо Министра Финансов.
При заслушании запроса Дума была в большом составе.
{447} Трибуны для публики были полны до отказа. Готовился так называемый большой думский день.
Хотя Покровский 2-ой знал не только мою точку зрения, но и все обстоятельства дела, которые, конечно, будут выдвинуты мною, потому что я не скрывал их от него и даже предупреждал его, что помимо их у меня есть в запасе и другие очень неприятные для его запроса данные, - он повел атаку на правительство в крайне приподнятом тоне и не поскупился на самые резкие выражения, срывая каждый раз дружные знаки одобрения от своих единомышленников и их соседей.
Столыпин на заседание не приехал, хотя я очень просил его не оставлять меня одного, так как нельзя было предвидеть не примут ли прения такого характера, при котором выступление Председателя Совета Министров может оказаться совершенно необходимым. Он сказал мне, однако, что считает не нужным этого делать, так как у меня столько данных, что результат запроса для него вполне обеспечен. Когда мы уходили из заседания, - это было на праздниках, - он задержал меня и просил не думать, что на его отношение сколько-нибудь влияет происшедшее между нами разногласие в вопросе о подведомственности Крестьянского Банкa. Кривошеин все время просидел в Думе пока не окончились прения и не последовало голосование, не только не давшее необходимых двух третей голосов для представления принятого запроса на усмотрение Верховной власти, но просто запрос был значительным большинством голосов отклонен.
Запрос был просто недобросовестный, основанный на данных заведомо для самых интерпеллянтов ложных и даже лживых, разбить их не было особенного труда, и нужно было только не бояться резких выпадов до прямой брани. Но их на самом деле вовсе не было.
Зала носила характер весьма выгодный для меня. С самого начала было очевидно, что я располагаю всеми данными, которые целиком оправдывают деятельность всех органов правительственной власти в этом деле и что встать на сторону интерпеллянтов значило потворствовать самой разнузданной пропаганде насильственного захвата земли, даром, и разжигания крестьянских страстей, что и было на самом деле выполнено скрывшимися за крестьянскими спинами агитаторами. Всем было ясно до очевидности, что главным из них был никто иной, как сам Покровский 2-ой, сумевший, однако, ловко, спрятать концы своего участия в воду. Недоставало только в моем распоряжении возможности вскрыть {448} и эту подоплеку, но когда я сказал, что в руках Крестьянского Банка недостает, к величайшему для меня сожалению, только одного права и возможности сказать кому обязаны Дурасовские крестьяне своими страданиями, то раздались отдельные голоса: "не стоит, это и так ясно".
Невелика была передышка, которую дали мне Думские занятия, потребовавшие почти бессменного пребывания моего в Таврическом Дворце с первых дней января, и уже 21-го февраля мне пришлось снова появиться там же на общих прениях по бюджету на 1911 год.
Они не предвещали ничего исключительного, так как и на этот раз положение правительства было особенно благоприятно: прекрасные урожаи 1909 и 1910 годов отразились самым благоприятным образом на поступлении доходов и дали возможность значительно увеличить и расходную смету, сведя ее не только без особых затруднений, но и давши широкое удовлетворение излюбленным Думою культурным потребностям страны и предупредивши тем самым большинство обычных ее пожеланий. Это был четвертый бюджет, рассматриваемый Государственною Думою 3-го созыва, и я принял, с полного одобрения Совета Министров, за основание моего выступления в составе общих прений естественно напрашивавшееся сопоставление этой четвертой росписи с первою рассмотренною Думою росписью на 1908 год. Сравнение невольно получалось разительно благоприятное в смысле финансового положения Poccии решительно во всех отношениях. К тому же и заключение бюджетной комиссии Думы было на этот раз еще более оптимистическое, нежели и без того чрезвычайно благожелательное для правительства заключения ее по росписи на 1909 и 1910 г.г.
Этому сопоставлению и выводам из него я посвятил всю мою речь, которая невольно звучала самым бодрым и полным веры в будущее тоном и часто, гораздо более часто чем в предыдущие годы прерывалась шумными одобрениями не только правого сектора Думы, но даже временами и части левых групп, их умеренного крыла. Заключительные мои слова были покрыты, как говорит стенограмма, оглушительными продолжительными аплодисментами всего центра и правых скамей.
Когда я сошел с трибуны, меня обступили внизу многие депутаты, а в числе их не мало и таких, которых я лично почти не знал, и не скупились на выражения благодарности, одобрения и сочувствия за все сказанное. Председатель Думы Родзянко своим зычным голосом не постеснялся, стоя рядом с Шингаревым, сказать мне: "а я все-таки держу пари, что {449} Андрей Иванович не откажет себе в удовольствии выступить вслед за Вами и объяснить нам, что Ваша роспись опять никуда не годится, и что наши финансы куда хуже, чем были прежде, и мы по прежнему находимся на краю банкротства".
Шингарев, разумеется, выступил тотчас после перерыва, не сказал ни одною слова против сведения росписи и заключения бюджетной комиссии Думы, нашел, что доходы может быть не преувеличены, а расходы немного лучше сведены, нежели делалось до сих пор, но затем произнес все-таки полуторачасовую речь "рядом с бюджетом", по поводу всего что только попадалось под руку, но не имело решительно никакого отношения к своду росписи и отвечало заранее заготовленной на завтра оппозиционной статье для газет. Я решил просто ничего не отвечать ему и сказал всего несколько слов но поводу одной, обычно допущенной им передержки.
Мне пришлось зато выступить с небольшим ответом по поводу следовавшей за нею речи саратовского депутата Н. Н. Львова, сидевшего тогда среди ближайших к кадетам соседей их, - прогрессистов.
Всегда корректный по форме, но резкий по существу, когда он выступал против правительства, он редко выступал по вопросам о финансах государства в тесном смысле слова. Но на этот раз он сделал почему-то исключение, тогда когда наши финансы и учет их всего меньше давали основания к каким-либо изобличением невыгодного для правительства свойства, и произнес очень красивую по форме, но явно пристрастную по существу речь, обвиняя не только правительство, но и самое Думу в чрезмерном предпочтении расходов на оборону, вместо того, чтобы давать средства на подъем культурного развития страны, которое "тщетно ждет еще удовлетворения самых элементарных своих требований". Слева ему разумеется горячо аплодировали, в особенности когда он сказал под конец, обращаясь к Думскому большинству, направо: "с чем явитесь Вы перед Вашими избирателями, всего через год, и что скажете Вы им в доказательство того, как понимали Вы Ваши обязанности по отношению к стране, и напрасно думаете Вы, что страна не учла уже того, что дали Вы за четыре года Вашей работы".
Тотчас после речи Н. Н. Львова я вышел на трибуну и ответил ему в очень горячей речи, защищая и правительство и Думу и объяснивши ему, а через его голову и всей оппозиции, почему пришлось в истекшие четыре года отдать столько внимания {450} и средств на дело обороны, расшатанное в конец несчастною войною, на сколько несправедливо говорить о том, что мы забыли нужды культурного развития страны, когда они удовлетворяются широкою рукою и в прогрессии во много раз превышающей требования обороны.
Закончил я и оправданием, которое так легко принести членам Думы перед их избирателями, если только последние способны на справедливое и разумное отношение к оценке простого понятия, что "культура и прогресс могут быть обеспечены только тогда, когда страна не оставлена беззащитною в своей внешней безопасности".
Едва успели закончиться эти общие прения и далеко не закончилось еще рассмотрение частностей росписи, как произошло событие, совершенно неожиданное для меня и на много дней сосредоточившее на себе внимание всего правительства. Его последствия имели лично для меня весьма глубокое значение.
В числе дел особенно занимавших внимание Председателя Совета Министров в течение всего 1910 года и даже части 1909 года было дело о введении, на основании особого Положения выработанного при большом личном участии П. А. Столыпина, - земского управления в 9-ти губерниях северо- и юго-западного края. Лично я почти не принимал никакого участия в разработке и прохождении этого дела через Совет Министров. Напротив того, П. А. Столыпин сразу же придал ему чисто личный характер и как три внесении его в Совет, в виде общей схемы, так и при составлении и проекта в окончательном виде защищал его лично самым энергичным образом, не раз указывая на то, что после крестьянской земельной реформы и пересмотра общегубернского управления он придает этому вопросу первенствующее значение, так как - это была его излюбленная формула - "он выносил в своей душе этот вопрос еще со времени своей первой юности и при первом его соприкосновении с местной жизнью в северо-западном крае, которому он отдал лучшие свои годы".
Он относился, поэтому, особенно чутко к каждому замечанию, с которым встречался в среде Совета, так же как и при рассмотрении законопроекта в Думе, лично посещая все заседания ее, пока она не высказала свое сочувствие основным его принципам.
На этом вопросе он, в частности, и сблизился в особенности с фракцией националистов в Думе, которая оказала ему самую деятельную поддержку в частности в вопросе об образовании для выборов земских гласных отдельной русской курии, как {451} "способа устранить поглощение польским элементом русского крестьянства в избирательных собраниях. Из Думы рассмотренный последнею и согласованный во всем законопроект перешел в Государственный совет в половине 1910 года и поступил на обсуждение осенью этого года. Столыпин неизменно участвовал лично при первоначальном рассмотрении дела в Комиссии и хотя сразу же встретился с оппозицией со стороны правых членов комиссии, но не придавал этому большого значения, как не придавал его и образовавшемуся разногласию именно в вопросе о русских куриях, совершенно спокойно заявляя, что он не сомневается в том, что это разногласие исчезнет при обсуждении в Общем собрании, на котором он вполне надеялся одержать верх при его личной защите законопроекта. Он был настолько уверен в успехе, что еще за несколько дней до слушания дела, при разговоре о нем в Совете, он не поднимал вопроса о необходимости присутствия в Государственном Совете тех из министров, которые носили звание членов Совета, для усиления своими голосами общего подсчета голосов. Их было тогда, правда, немного. Лично я ни разу не был в Совете во все время рассмотрения дела и не следил за его прохождением, - настолько много было у меня своего собственного дела, при постоянных моих участиях в Думе. Укрепляло убеждение Столыпина и отношение к делу Председателя Государственного Совета М. Г. Акимова, который сам принадлежал к правой группе и всегда был хорошо осведомлен о ее настроениях.
Велико было поэтому удивление и даже потрясение, вынесенное Столыпиным, когда в начале марта, 7-го или 8-го числа, голосование именно по статье о русских куриях, после решительного, обоснованного и даже красноречивого выступления самого Столыпина дало совершенно неожиданный результат: большинством всего 10-ти голосов статья законопроекта и все зависящие от нее постановления были отвергнуты. Столыпин тотчас же покинул зал заседания, и все поняли, что случилось нечто необычное. Я узнал об этом довольно поздно по телефону и по первому впечатлению не придал особого значения, так как вообще не был в курсе его. На следующий день мне стало известно, что Столыпин поехал в Царское Село. В течение дня меня посетили Тимашев, Кривошеин и Харитонов.
Первый не знал ничего и хотел узнать мою оценку. Я мог сказать ему только, что Петр Аркадьевич не делился со {452} мною ни разу своим отношением к делу и не позвонил мне по телефону. Не сказавши ничего Тимашеву, я подумал только, что он отступил от своего обыкновения все под тем же влиянием - нашей размолвки по Крестьянскому Банку.
Кривошеин был уже очевидно осведомлен непосредственно от Столыпина, так как он сказал мне без всяких оговорок, что Петр Аркадьевич не может примириться с таким "возмутительным решением", под которым несомненно таятся интриги лично против него, и если только не получит согласие Государя на его предложение, то несомненно уйдет в отставку. На мой вопрос в чем же состоит его предположение, Кривошеин отозвался незнанием и сказал только, что вероятно мы все сегодня же будем приглашены в заседание на Фонтанку и узнаем, что все решено. Харитонов, видимо, не видал Столыпина и высказал только, что по впечатлением, полученным им из Государственного Совета нужно ожидать событий не обычного масштаба, так как "уходят из заседания подобным образом или когда подают в отставку, или когда готовят какой-либо ку-д-ета".
В тот же день Столыпин ко мне не позвонил, не позвонил и я к нему, чтобы не быть назойливым, или не давать ему повода подозревать меня в каком-либо личном интересе.
На следующий день действительно состоялось собрание членов Совета, по телефонным вызовам, и мы все собрались не в Обычном помещении, где происходили заседание Совета, а в кабинете П. А.
С его привычною сдержанностью, не обнаруживая никакого волнения в изложении происшедшего инцидента, хотя волнение было заметно в его жестах, Столыпин передал нам, что все происшедшее третьего дня, как это теперь ему совершенно точно известно, было плодом издавна подготовленной интриги, направленной лично против него. Она выразилась в том, что лидер правой группы Государственного Совета П. Н. Дурново, еще задолго до слушания дела в Общем собрании Государственного Совета, подал Государю записку, характеризируя выделение русских крестьян в Северо- и Юго-Западном крае в особые избирательные курии как меру крайне опасную в политическом отношении, которая только оттолкнет от правительства весь класс польских землевладельцев в крае, совершенно лояльно настроенных по отношению к Poссии, и может даже усилить и без того замечающееся противорусское стремление среди отдельных лиц, явно тяготеющих к {453} Австрии.
Под влиянием этой искусственной меры, неизбежно, весь наиболее культурный землевладельческий класс совершенно отойдет от местной земской работы, которую немыслимо построить на одном крестьянстве да на немногих русских чиновниках и т. д.
Ему известно далее, что перед самым рассмотрением дела, после одного из частных собраний у П. Н. Дурново, испросил себе аудиенцию у Государя член Г. Совета В. Ф. Трепов, что подтвердил ему барон Фредерикс, рассказавший ему при этом, что перед аудиенциею он заходил к нему и очень горячо доказывал ему, что эта часть думского проекта есть чисто революционная выдумка, отбрасывающая от земской работы все, что есть культурного, образованного и консервативного в крае, и что это делается исключительно в угоду мелкой русской интеллигенции, которой хочется забрать это дело в свои руки и поживиться на "земском пироге".
Поэтому он, Столыпин, решил доложить вчера Государю, что он не может оставаться на своем двойном посту, если дело, которое он лелеял с молодости, должно погибнуть из-за простой интриги, оправдываемой к тому же прямыми извращениями фактов и обвинением его чуть ли не в потворствовании революционным замыслам, против которых он борется не щадя своей собственной жизни и жизни своих детей. Поэтому, он сказал Государю не обинуясь, что просит Его освободить от должности и разрешить ему вовсе уйти со службы, так как он не может даже представить себя заседающим в Государственном совете вместе с людьми, решившимися обвинить его в таких замыслах.
По словам П. А., Государь был совершенно подавлен его намерение, и все говорил ему, что Он совершенно не представлял себе всей важности этого дела и хорошо понимает его волнения, но считает, что он не имеет права так резко ставить вопрос, и нужно подумать о том, какие меры могли бы быть приняты к тому, чтобы дело могло быть снова рассмотрено и доведено до конца, причем обещает ему заранее употребить все свое влияние, чтобы, при вторичном рассмотрении, не могло случиться ничего похожего на то, что произошло. Тогда Столыпину пришлось войти во все детали этого дела и разъяснить Государю, что никакого вторичного рассмотрения дела не может и произойти, потому что Дума никогда не согласится отказаться от русских курий, из-за которых все дело и провалилось в совете, а последний из-за одного упрямства не сознается никогда в своей ошибке.
{454} Тогда Государь сказал Столыпину самым решительным образом: "Я не могу согласиться на Ваше увольнение, и Я надеюсь, что Вы не станете на этом настаивать, отдавая себе отчет, каким образом могу я не только лишиться Вас, но допустить подобный исход под влиянием частичного несогласия Совета. Во что же обратится правительство, зависящее от Меня, если из-за конфликта с Советом, а завтра с Думою, будут сменяться Министры". "Подумайте о каком-либо ином исходе и предложите мне его" - закончил Государь.
Тогда, по словам Столыпина, он, поблагодарив прежде всего Государя за оказываемое ему доверие, сказал Ему, что для него самое существенное в настоящем случае вовсе не его самолюбие, которым он никогда не руководствуется, а польза Государства и необходимость оживить целый край, который прозябает в невероятных условиях, о которых может судить лишь тот, кто прожил там многие годы.
Отвечая же на вопрос Государя, что можно сделать, чтобы обеспечить проведение земской реформы в жизнь, он сказал, что есть только одно средство - провести закон по 87 статье основных законов, а для этого необходимо принять хотя бы и искусственную меру - распустить на короткий срок обе палаты, обнародовать закон в качестве временной меры в порядке Верховного управления и затем внести его в Думу в том самом виде, в каком он был принят ею. Дума не имеет повода не утвердить его вновь, и когда он дойдет снова до Государственного Совета, то ему не останется ничего иного, как подчиниться совершившемуся факту, тем более, что до этого срока пройдет не мало времени, закон войдет уже в жизнь, а она докажет лучше всяких слов, что все осуждения Государственного Совета ни на чем не основаны, и никогда польские помещики не откажутся от земской работы, как распространяют это его противники, и сами не веря тому, что они говорят.
Государь внимательно выслушал это предложение и спросил Столыпина: "а Вы не боитесь, что та же Дума осудит Вас за то, что Вы склонили меня на такой искусственный прием, не говоря уже о том, что перед Государственным Советом Ваше положение сделается чрезвычайно трудным, Столыпин передал нам, что он ответил Государю: "Я полагаю, что Дума будет не довольна только наружно, а в душе будет довольна тем, что закон, разработанный ею с такой тщательностью спасен Вашим Величеством, а что касается до неудовольствия Государственного Совета, то этот вопрос {455} бледнеет перед тем, что край оживет и пока пройдет время до нового рассмотрения дела Государственным Советом, страсти улягутся и действительная жизнь залечит дурное настроение".
Государь ответил ему на это: "хорошо, чтобы не потерять Вас, Я готов согласиться на такую небывалую меру, дайте мне только передумать ее. Я скажу Вам Мое решение, но считайте что Вашей отставки Я не допущу".
На этих словах Государь встал и протянул Столыпину руку, чтобы проститься с ним, когда П. А. попросил извинения и высказал ему еще одну мысль, изложив ее так:
"Ваше Величество, мне в точности известно, что некоторое время перед слушанием дела о западном земстве, в Государственном Совете, Петр Николаевич Дурново представил Вам записку с изложением самых неверных сведений и суждений о самом деле, скрытно обвиняя меня чуть что не в противогосударственном замысле.
Мне известно также, что перед самым слушанием дела член Гос. Совета В. Ф. Трепов испросил у Вашего Величества аудиенцию с тою же целью, с какою писал Вам особую записку Дурново. Такие действия членов Государственного Совета недопустимы, ибо они вмешивают их личные взгляды в дела управления и приобщают особу Вашего Величества к их действиям, которых я на позволю себе характеризовать, потому что Вы сами изволите дать им Вашу оценку. Я усердно прошу Ваше Величество, во избежание повторения подобных неблаговидных поступков, расшатывающих власть правительства, не только осудить их, но и подвергнуть лип, допустивших эти действия, взысканию, которое устранило бы возможность и для других становиться на ту же дорогу".
Государь, выслушав такое обращение, долго думал и затем, как бы очнувшись от забытья, спросил Столыпина: "что же желали бы Вы, Петр Аркадьевич, что бы я сделал?"
"Ваше Величество, наименьшее чего заслужили эти лица, это - предложить им уехать на некоторое время из Петербурга и прервать свои работы в Государственном Совете, хотя бы до осени. В такой мере нет ничьего жестокого, потому что скоро наступит вакантное время, и они все равно уедут куда каждый из них пожелает, но зато все будут знать, что интриговать и вмешивать Особу Вашего Величества в партийные дрязги недозволительно, а гораздо честнее бороться с неугодными {456} членами правительства и их проектами с трибуны верхней палаты, что предоставляет им закон в такой широкой степени.
По словам П. А. Столыпина, и это его обращение к Государю не вызвало никакого неудовольствия, как не вызвало и опровержения фактической стороны дела. Государь ответил ему только: "Я вполне понимаю Ваше настроение, а также то, что все происшедшее не могло не взволновать Вас глубоко. Я обдумаю все, что Вы Мне сказали с такою прямотою, за которую я Вас искренно благодарю, и отвечу Вам также прямо и искренно, хотя не могу еще раз не повторить Вам, что на Вашу отставку Я не соглашусь".
Передавши нам все, что изложено мною с полнейшею точностью, П. А. прибавил только, что его решение последовало после тяжелого раздумья, и что он принял это решение, от которого не может ни в каком случае отойти, и просить нас всех не судить его, так как он вполне уверен в том, что каждый из нас поступил бы точно также и пожертвовал бы своим положением, во имя достоинства, власти, которая только принижается подобными проявлениями интриги.
По-видимому, он совершенно не желал того, чтобы сообщение его служило предметом каких-либо обсуждений в нашей среде, но они возникли как-то сами и даже приняли в известный момент довольно острый характер. Начал их наиболее экспансивный из нас - Кривошеин, сказавши, что для него решение Государя несомненно, и желание Петра Аркадиевича будет выполнено. Его смущает только, что положение самого Государя в этом случае чрезвычайно щекотливое, так как, если он мог совершенно не знать о содержании записки Дурново, то принявши Трепова и не сказавши ему того, что Он должен был сказать, Он до известной степени сам несет ответственность за случившееся и Ему не может быть не трудным принять второе положение, которое выставлено Столыпиным.
Щетловитов был очень решителен и просто высказал свою полную солидарность с П. А. Большинство остальных министров молчало, чувствуя, очевидно, полную бесцельность всяких дебатов при решении принятом Столыпиным.
Я решил также не высказывать моего взгляда, по совершенной бесцельности этого при занятом Столыпиным непримиримом положении на его всеподданнейшем докладе. Харитонов попытался было спросить его, нельзя ли найти какое-либо смягчение в вопросе о мерах "укрощения", как выразился он, Дурново и Трепова, потому что, зная характер Государя, {457} он думает, что этот вопрос будет наиболее болезненным для Государя, и было бы для положения самого Столыпина крайне желательным найти какой-либо выход. Его осторожное замечание вызвало очень резкую отповедь. "Пусть ищут смягчения те, кто дорожит своим положением, а я нахожу и честнее н достойнее просто отойти совершенно в сторону, если только приходится еще поддерживать свое личное положение среди переживаемых условий".
Перед нашим общим уходом Столыпин просил меня остаться, сказавши, что у него есть одно дело, которое он хотел бы выяснить со мною до того, что его личный вопрос будет ликвидирован Государем. Когда все вышли, и мы остались вдвоем, он спросил меня просто, как я смотрю на все случившееся.
Я ответил ему, что мне трудно говорить об этом, потому что с личной точки зрения я вполне понимаю его, тем более что и сам я не понимаю, как можно цепляться за власть при переживаемых нами условиях. Но с точки зрения, если можно так выразиться государственной, избранный им путь представляется едва ли правильным и способным привести власть к спокойному положению. Искусственный роспуск на три дня обеих палат слишком прозрачен, чтобы сразу же не возникло очень резкое к нему отношение в широких кругах того, что принято называть "общественным мнением". Я не думаю, чтобы и Дума была довольна таким способом проведения хотя бы и одобренного ею решения. Во всяком случае, над законодательным порядком будет несомненно произведено насилие, а его вообще не прощают. Государь примет эту меру, так как для Него не ясны все оттенки ее, и Его успокоит сознание того, что хорошее дело не погибло.
Вторая мера представляется мне еще более сомнительною. Она, конечно, оправдывается как последствие несомненной интриги, но внешне она все-таки очень тяжела для Государя. Трудно требовать от него, чтобы Он не принимал посылаемых Ему записок и не принимал тех людей, которых он знал. Его вина не в том, что он принял, а в том, что Он дал принятым возможность ссылаться их единомышленникам на Его мнение и тем влиять на окружающих. И это Он разумеется теперь прекрасно понимает. Но требовать от Него кары для тех, кого Он принял, - чрезвычайно трудно и щекотливо, так как Он понимает также, что всем будет ясно, что Он поступил таким образом под давлением {458} произведенного на Него нажима, и этого Он никогда не простит, хотя, вероятно, выполнит и это требование.
"Что же то Вашему мне следовало сделать?" опросил Столыпин. "Проглотить пилюлю и расписаться в проделанной надо мною, как Председателем Совета Министров, хирургической операции".
Я ответил ему, что, по моему мнению, был иной путь - путь борьбы без насилия над законом и над самим Государем, а именно: немедленное внесение того же закона в Думу, соглашение с Председателем ее и главами фракций о немедленном рассмотрении его и новое направление принятого проекта в Государственный Совет и там уже следует принять чрез Председателя его и с полномочиями от Государя меры к тому, чтобы на этот раз интрига не была допущена, по крайней мере, среди членов Совета по назначению. Потеря, в этом случае времени, хотя бы в один год или даже более уравновешивалась бы огромными выгодами от соблюдения закона.
Столыпин ответил мне: "может быть, Вы или другой могли бы проделать всю эту длительную процедуру, но у меня на нее нет ни желания, ни умения. Лучше разрубить узел разом, чем мучиться месяцами над работой разматывая клубок интриг и в то же время бороться каждый час и каждый день с окружающей опасностью. Вы правы в одном, что Государь не простит мне, если ему придется исполнять мою просьбу, но мне это безразлично, так как и без того я отлично знаю, что до меня добираются со всех сторон, и я здесь не так долго".
На этом мы расстались, и Столыпин обещал держать меня в курсе всех получаемых сведений.
На самом деле, я не получил от него никакого сообщения в течение четырех дней и решительно ничего из знал о том, в каком положении находится весь этот болезненный вопрос.
Звонить к Столыпину по телефону я не решался, чтобы не дать ему невода предположить, что я лично заинтересован в конечной развязке, тем более, что до меня уже доходила клубные сплетни, что в случае ухода П. А. мне предстоит заменить его. Я знал кроме того, что он был простужен и не выходил из дома. От Крыжановского, отлично вообще осведомленного о всех делах этого рода, я получал ежедневные сообщения, что кризис еще не разрешен, и в Министерстве Внутренних Дел господствует очень подавленное и {459} тревожное настроение. Делал ли сам Столыпин какие-либо попытки к ускоренно решения, я не знал, как не знаю и до сих пор.
В эти дни несомненно тяжелого ожидания я получил по телефону от состоявшего при Императрице Марии Феодоровне Гофмейстера Князя Шервашидзе приглашение явиться к Императрице, которая желает меня видеть. Я не помню числа, но хорошо припоминаю, что это было в субботу.
Императрица приняла меня в три часа дня и сказала, что желала бы узнать от меня, что произошло с П. А. Столыпиным, так как она слышит со всех сторон, что он уже несколько дней тому назад был у Государя и просил уволить его вовсе от службы, но из-за чего все это произошло, она никак не может понять, потому что с разных сторон слышит такие неясные рассказы, что ей просто хочется знать правду, так как она завтра будет обедать у Государя в Царском Селе и хотела бы быть в курсе того, что произошло, так как всегда Государь говорить с нею о том, что Его тревожит.
Мне пришлось рассказать Императрице в самой мягкой форме все, что произошло в Государственном Совете, пояснить ей сущность провалившегося теперь из-за решения Совета законопроекта, рассказать все, что передал нам Столыпин о свидании с Государем и о поданном им заявлении об увольнении его вовсе от службы, как и о том, в каких условиях мог бы он сохранить свое положение. О моем личном мнении по всему этому инциденту я не сказал Императрице ни слова и не упомянул вовсе о моем разговоре с Председателем Совета Министров.
Ее рассуждение поразило меня своей ясностью, и даже я не ожидал, что она так быстро схватит всю сущность создавшегося положения. Она начала с того, что в самых резких выражениях отозвалась о шагах, предпринятых Дурново и Треповым. Эпитеты "недостойный", "отвратительный", "недопустимый" чередовались в ее словах, и она даже сказала: "могу я себе представить, что произошло бы если бы они посмели обратиться с такими их взглядами к Императору Александру 3-му. Что произошло бы с ними я хорошо знаю, как и то, что Столыпину не пришлось бы просить о наложении на них взысканий: Император и сам показал бы им дверь, в которую они не вошли бы во второй раз.
"К сожалению, продолжала она: "мой сын слишком добр, мягок и не умет поставить людей на место, а это {460} было так просто в настоящем случае. Зачем же оба, Дурново и Трепов не возражали открыто Столыпину, а спрятались за спину Государя, тем более, что никто не может сказать, что сказал им Государь и что передали они от его имени, для того, чтобы повлиять на голосование в совете.
Это на самом деле ужасно, и Я понимаю, что у Столыпина просто опускаются руки, и он не имеет никакой уверенности в том, как ему вести дела".
Затем она перешла к тому, в каком положении оказывается теперь Государь, и тут ее понимание оказалось но менее ясным.
"Я совершенно уверена", сказала она, "что Государь не может расстаться со Столыпиным, потому что Он и сам же может не понять, что часть вины в том, что произошло, принадлежит Ему, а в этих делах Он очень чуток и добросовестен. Если Столыпин будет настаивать на своем, то я ни минуты не сомневаюсь, что Государь после долгих колебаний кончит тем, что уступит, и я понимаю почему Он все еще не дал никакого ответа. Он просто думает и не знает как выйти из создавшегося положения. Не думайте, что Он с кем-либо советуется. Он слишком самолюбив и переживает создавшийся кризис вдвоем с Императрицею, не показывая и вида окружающим, что Он волнуется и ищет исхода. И все-таки, принявши решение, которого требует Столыпин, Государь будет глубоко и долго чувствовать всю тяжесть того решения, которое Он примет под давлением обстоятельств.
Я не вижу ничего хорошего впереди. Найдутся люди, которые будут напоминать сыну о том, что Его заставили принять такое решение. Один Мещерский чего стоит, и Вы увидите скоро, какие статьи станет он писать в "Гражданине" и чем дальше, тем больше у Государя и все глубже будет расти недовольство Столыпиным, и я почти уверена, что теперь бедный Столыпин выиграет дело, но очень ненадолго, и мы скоро увидим его не у дел, a это очень жаль и для Государя и для всей России. Я лично мало знаю Столыпина, но мне кажется, что он необходим нам, и его уход будет большим горем для нас всех".
Ея последние слова были: "бедный мой сын, как мало у него удачи в людях. Нашелся человек, которого никто не знал здесь, но который оказался и умным и энергичным и сумел ввести порядок после того ужаса, который мы пережили всего 6 лет тому назад, и вот - этого человека толкают в пропасть и кто же? Те, которые говорят, что они {461} любят Государя и Россию, a на самом дели губят и Его в родину. Это просто ужасно" ...
Чрез два дня после этой аудиенции кризис разрешился. Столыпин позвонил ко мне по телефону и сказал только, что Государь не отпустил его и принял предложенные им меры. Указы о роспуске Думы и Совета были опубликованы 12-го или 13-го марта, а 14-го закон о западном земстве был введен по 67-ой статье основных законов, и через три дня палаты снова раскрыли свои двери. Председатель Государственного Совета был вызван в Царское Село и ему повелено было предложить, именем Государя, Дурново и Трепову взять отпуск до возобновление осенней сессии Совета.
В Совете Министров никаких более разговоров о случившемся не возобновлялось, и наружно все вошло как будто в обычную колею.
П. Н. Дурново подчинился решению Государя, обявленному ему Председателем Государственного Совета, и до осени не появлялся в заседаниях Совета. В. Ф. Трепов этому не подчинился и подал прошение об оставлении им государственной службы вообще. Он был уволен с назначением ему, по докладу Акимова, денег в 6.000 рублей в год и поступил на частную службу.
Пользуясь близкими отношениями к Министру Императорского Двора Графу Фредериксу, через своего зятя Генерала Мосолова, он получил концессию на эксплуатацию недр земли в Алтайском горном округе, составлявшем собственность Кабинета Его Величества. Задуманный им проект представлял огромное промышленное значение; в недрах Кузнецкого откуда таились несметные богатства угля, железа и других металлов, разработка которых сулила округу и всей Западной Сибири величайшее будущее.
Большевики приняли этот проект, начатый разработкою еще при Царском правительстве, перед самою войною, присвоили себе даже честь открытия богатств Округа, как будто до них никто не знал их и не существовало ни научных трудов Менделеева, ни подробных разведок Кабинета, и, в порядке его осуществления, придали этой мысли свойственное им уродливое осуществление, которое сулит в будущем одно величайшее разочарование. Достаточно сказать, что по их плану осуществляется грандиозное металлургическое предприятие, основанное на соединении в одно целое уральской руды и кузнецкого угля, как будто между этими двумя основными факторами {462} предприятия нет расстояния в две тысячи километров, на пространстве которых нужно, либо подвозить кузнецкий уголь к руде, либо руду к углю.
В связи с концессиею Кузнецкого бассейна Трепов явился и одним из соискателей на постройку Южно-Сибирской железной дороги, которому и была дана эта концессия в 1913 году.
Личная судьба В. Ф. Трепова закончилась глубоко трагично. Он был арестован большевиками 22 июля 1918 года, отвезен с целым рядом других захваченных "заложников" в Кронштадт и там расстрелян матросами, одновременно с сотнями других, безвинно, зверски погубленных людей.
Внешне инцидент с законом о Западном земстве был ликвидирован. Но на самом деле реакция от случившегося была, весьма глубокая и приняла самые разнообразные формы.
Из Государственного Совета до меня стало тотчас же доходить много сведений, и все они были однообразны - возмущение было общее. Правые были обижены за своего лидера и сочлена, левые и центр были обижены и за искусственность роспуска и за нарушение свободы голосования. В виде проявления возмущения, охватившего в особенности правых, несколько времени спустя, в начале осени, один из видных членов этой партии по назначению от правительства С. С. Гончаров подал также прошение об отставке, чего вовсе не допускалось раньше - был уволен.
В Думе не было вовсе того, чего ожидал Столыпин, то есть удовольствия от проведенного в жизнь, хотя и с ясным нажимом на закон, утвержденного Думою законопроекта, а напротив того, искренно или только для отвода глаз, но выражалось прямое осуждение принятых мер, и престиж Столыпина как-то сразу померк. Он почувствовал это тотчас же на отношении к его представителям в комиссиях и на сообщениях Куманина о внутренних настроениях в разных фракциях, кроме наиболее близкой к нему националистов, учитывавших возрастание их престижа на местах при введении земства в Западном крае.
Немало пересуд происходило и в чиновничьих кругах, среди которых господствовала в отношении того, что нужно было сделать, то настроение, о котором я говорил Столыпину. Но всего резче выразилась отрицательное отношение в известной части печати, в столичных клубах и в придворных кругах.
Можно сказать без преувеличения, что почти вся печать была враждебно настроена по отношению к Столыпину. {463} Отозвавшись резко о вожаках интриги, она критиковала с полною беспощадностью роспуск палат, проведение нескрываемым искусственным способом в порядке управления, во всяком случае, отвергнутого закона и еще более резко отзывалась о мерах преследования против лиц, хотя бы и замешанных в интриге, но подвергнутых совершенно несвойственным мерам взыскания. Клубы, особенно близкие к придворным кругам, в полном смысле слова, дышали злобой и выдумывали всякие небылицы, который тотчас же доходили до сведения Столыпина и причиняли ему большое раздражение.
У меня не было тогда и нет и сейчас никаких сведений относительно того, как встретил Государь Столыпина после разрешения кризиса в смысле предъявленных им требований. Сам он ничего об этом мне ни разу не сказал, а всякого рода слухи, передаваемые "из самых достоверных источников" стоили не более того, что стоили сами рассказчики.
Но внешняя, видимая обстановка была самая напряженная. Столыпин как-то замкнулся в себя, был очень сдержан в заседаниях Совета Министров, избегал вести беседы после заседаний, вовсе не показывался в Государственном Совете и в Думе показался только один раз после Пасхи, в конце апреля, когда слушался в порядке направления дела, тот же закон о западном земстве, который послужил поводом всего происшедшего. Я не был в заседании Думы, когда он давал свои объяснения в оправдание принятой меры, и не могу передать моего личного впечатления. Но со всех сторон и из самых разнообразных думских кругов я услышал один отзыв - Столыпин был неузнаваем.
Что-то в нем оборвалось, былая уверенность в себе куда-то ушла, и сам он, видимо, чувствовал, что все кругом него молчаливо или открыто, но настроено враждебно. Вскоре мне пришлось и самому убедиться, что так было и на самом деле.
Со мною за все это время Столыпин ни разу более не разговаривал о Крестьянском Банке. Молчал и я.
Не было вообще за это время и особых поводов к отдельным нашим встречам, помимо заседаний Совета Министров. Сметная работа в Думе приходила к концу, и я редко появлялся в ней, а когда приходилось бывать, то я просто избегал всяких разговоров на злободневную тему, да и охочие до собирания всякого рода новостей из административного мира как-то мало {464} сближались с представителями правительства, точно они боялись поставить их в неловкое положение своими расспросами.
Конец марта и весь апрель прошел для меня в стороне от Думы, и наступила сметная работа в Государственном Совете, протекавшая, однако, совершение спокойно и без всяких трений. В начале мая мне пришлось снова вернуться в Думу для рассмотрения законодательных предположений, не знаю уж в который раз внесенных партиею народной свободы все с тою же целью опрокинуть сметные правила, составленные перед открытием первой Думы и служившие постоянным бельмом у всех Дум, не исключая и Думы третьего созыва.
Кадетской партии постоянно хотелось уничтожить так называемую забронированность кредитов и расширить права законодательных палат, предоставлением им права изменять кредиты, не стесняясь предварительною отменою, в законодательном порядке тех законов, на которых они были основаны.
Правительство всегда боролось против этой тенденции: находя решительную поддержку в Государственном Совете который ясно сознавал, что введение у нас такого порядка, грозило бы разрушением всего государственного строя, так как и помимо кадетской партии в Думе нашлось бы немало охотников до расширения своих полномочий. На этом и был построен расчет авторов нового, то есть в сущности старого законопроекта, внесенного еще во вторую Думу, который и оправдался блистательным образом, так как к ним присоединилось немалое количество октябристов, не говоря уже о прогрессистах, давших почти поголовно свои голоса.
Правительство отказалось еще раньше от участия в пересмотре сметных правил, и они вновь поступили из бюджетной и финансовой комиссий в общее собрание Думы, в порядке думской инициативы.
Дело было назначено к слушанию в мае месяце, и мне пришлось снова испросить указавши Совета о том, как мне и Государственному Контролеру держать себя при рассмотрении думского проекта, явно неприемлемого для правительства. Полномочия были нам даны все те же, что и раньше, и мне пришлось, вместе с Харитоновым, вынести повторение прежних натисков и, по большинству внесенных предположений, заключение большинства было против правительства. Атака на последнее была поведена весьма энергичная и заняла не мало времени совершенно бесплодных прений, потому, что также как и мы Дума знала, что Государственный Совет поддержит правительство и, {465} из всех их усилий отнять у последнего самое могущественное средство для спокойного управления не выйдет ничего. Так оно и вышло на самом деле. Перекроенные правила были приняты Думою в ее проекте, поступили в Государственный Совет, пролежали там немало времени и уже гораздо позже были им отвергнуты.
Я отмечаю только об этом в связи с событиями мая 1911 года потому, что в заседании Совета Министров по внесенному мною и Харитоновым вопросу о наших полномочиях Столыпин спросил нас обоих: полагаем ли мы, что Государственный Совет поддержит правительство при несомненном провале его в Думе, и не опасаемся ли мы, что в настоящую минуту и Совет может учинить свой расчет с правительством под влиянием событий недавнего времени.
В этом вопросе было слышно совершенно ясно, что Столыпин оценивал отношение к нему Совета как резко враждебное, но наше общее мнение было проникнуто убеждением в том, что минутное неудовольствие не изменит основных взглядов Совета, уж много раз высказавшегося в этом вопросе в полном соответствии со взглядами правительства и притом подавляющим большинством голосов. Последующее событие, когда уже П. А. Столыпина не было в живых, вполне доказали справедливость взгляда Совета Министров.
В половине мая Столыпин переехал с семейством, как и всегда, в Елагинский дворец. Вскоре и мы с женою перебрались на нашу дачу на Елагином же острове, и заседания Совета возобновились в обычных условиях летнего времени.
Как-то в конце мая, после долгого перерыва, вызванного бесспорно нашим расхождением осенью по делу Крестьянского Банка, Столыпин позвонил вечером ко мне и спросил свободен ли я теперь, так как он хотел бы зайти поговорить по некоторым текущим вопросам.
Я предложил придти к нему, зная, что он не охотно выходит из дома по вечерам. Встретил меня Столыпин, как бывало прежде, с большою сердечностью, не обмолвился ни одним словом о предмете нашего делового расхождения и сказал только, что он хотел поставить меня в известность о его планах на летнее время и узнать от меня, каковы мои предположения, и может ли он, не стесняя меня, привести в исполнение свое предположение, на которое он имеет уже разрешение Государя.
{466} Я ответил ему, что у меня нет никаких планов, так как я едва успею после роспуска Думы и Совета справиться с новою росписью на 1912 год, которую придется составить несколько на иной образец нежели все предыдущие, потому что этот год будет последним для полномочий Думы третьего созыва я необходимо представить, до известной степени, сравнительный обзор того, что сделано за пять лет, и в каком положении представляется теперь финансовое положение России, по сравнению с тем, каким оно было при начале думской работы в 1907 году.
Тогда Столыпин перешел к сообщению мне о его предположении и просил оставить пока все между нами, так как он не хотел бы говорить о нем в Совете, чтобы не вызывать лишних пересуд. Предположение это сводилось к тому, что все происшедшее с начала марта его совершенно расстроило; он потерял сон, нервы его натянуты и всякая мелочь его раздражает и волнует. Он чувствует, что ему нужен продолжительный и абсолютный отдых, которым для него всего лучше воспользоваться в его любимой ковенской деревне, где он может изолировать себя от всего мира и избавиться от всяких дрязг и неприятностей.
Он предполагает отправить семью еще в мае, перевести туда часть своей охраны, уехать туда же в самом начал июня, провести там неотлучно весь июнь, вернуться всего на несколько дней в начале июля на Елагин, чтобы приготовиться к поездке в Киев, вернуться снова в деревню и оттуда уже прямо проехать в Киев и только после окончания киевских торжеств уже вернуться окончательно в Петербург. Если же все будет благополучно, а он увидит, что его здоровье требует еще отдыха, то может быть проведет конец сентября где-либо на юге и только к 1-му октября вернется прямо в город.
По словам Столыпина, он получил уже от Государя согласие и на то, чтобы все дела по Совету Министров шли к Нему за моею подписью, так как он понимает, что нельзя откладывать дел, также как не следует вызывать его с отдыха для решения отдельных, хотя бы и существенных вопросов. Я просил его только написать мне в этом смысле письмо, для того, чтобы я мог предъявить его в том случае, если бы отдельные Министры пожелали рассмотреть какое-либо дело непременно под его председательством, что легко может случиться именно по сметным разногласиям, всегда острым, особенно по крупным вопросам. Когда этот вопрос был таким {467} образом улажен между нами, Столыпин сказал мне, что он имеет ко мне еще одну просьбу личного характера и заранее надеется, что я ему в ней не откажу.
Он сказал, что в конце августа, как это впрочем было уже известно всему Совету Министров, назначено открытие в Киеве памятника Императору Александру 2-му и состоится в то же время представление Государю земских уполномоченных от 9-ти губерний Северо- и Юго-Западного края, выбранных на основании только что введенного положения. Из Министров, кроме него, как Председателя Совета Министров и Министра Внутренних Дел, будет присутствовать Министр Народного Просвещения Кассо, прочим же Министрам Государь предоставляет приехать по их собственному желанию.
Столыпин просил меня, самым дружеским образом, приехать в Киев не только потому, что я состою его постоянным заместителем, но потому, что ему дорого мое присутствие там в особенности в виду того, что всем известно, что я не сочувствовал способу проведение дела в порядке Верховного управления. Я и не скрывал моего несочувствия и от него самого. Между тем, теперь, когда закон уже введен и начал функционировать, - отсутствие мое могло бы быть истолковано, как несочувствие мое самому делу западного земства, а это было ему особенно больно, да и всякому ясно, что отношение Министра Финансов имеет слишком существенное значение, чтобы можно было пренебрегать даже внешним впечатлением.
Я поспешил дать мое согласие на это и сказал только, что просто не знаю, как я вырвусь в Киев даже на несколько дней при сметной лихорадке, обещающей быть особенно интенсивной но Военному Министерству, в виду известной ему враждебности ко мне Сухомлинова. Он обещал устроить так, чтобы я мог уехать из Киева, как только Государь примет земских гласных. На этом мы расстались, и в начале июня Столыпин уехал в свое имение я вернулся в Петербург в начале июля всего на несколько дней.
В первые же дни после отъезда Столыпина ко мне позвонил как-то утром по телефону Кривошеин и спросил меня, где и когда могу я принять его на несколько минут по одному довольно спешному делу, по которому ему необходимо условиться со мною перед его ближайшим всеподданнейшим докладом, назначенным ему через два дня. Так как в этот {468} день я должен был ехать в город, то я предложил ему приехать ко мне в Министерство на Мойку, чтобы не заставлять его предпринимать более далекий путь на острова.
Кривошеин прибыл ко мне с целым портфелем бумаг, сказавши, что он захватил все необходимые документы, которые мне должны быть известны. Он рассказал мне подробно всю историю возникновения вопроса о передаче Крестьянского банка в его ведомство и заявил, что ему известно все мое отношение к этому вопросу вплоть до моего заявления, что я покину пост Министра Финансов в тот самый день, когда будет утвержден закон о передаче банка в ведомство земледелия.
От Государя лично он знает также, что я просил и Его разрешения оставить Министерство в связи с намеченною реформою, причем Государь сказал ему, что мое заявление было сделано в такой деликатной и убедительной форме, что Государь не только не хранит какого-либо неудовольствия на меня, но даже прямо оказал, что понимает вполне мою просьбу об увольнении, коль скоро я убежден, что такая мера принесет большой вред кредиту государства, и Он не имеет даже нравственного права требовать, чтобы я оставался Министром и нес ответственность за такую важную задачу, как охрана кредита, коль скоро будет издан закон вредный, по моему мнению, для дела кредита.
Государь будто бы сказал ему даже, что мое заявление было сделано в такой убежденной форме, что, зная мою преданность долгу, Он начинает и сам колебаться, правильно ли задумано все дело и нет ли возможности обеспечить интересы землеустройства, на рискуя разрушением кредита. Он прибавил, что ему неизвестно, говорил ли Государь в том же смысле с Петром Аркадьевичем, также как и то, остается ли Столыпин и теперь при его прежнем взгляде, или события последнего времени заслонили собою его увлечение осени 1910 года.
Целью его приезда сейчас ко мне, оказал Кривошеин, является необходимость пересмотреть весь этот вопрос потому, что и сам он видит теперь, что это дело было задумано Столыпиным слишком спешно и без соображений всех сторон вопроса, в особенности в той плоскости, в которую я поставил его в разговоре с Столыпиным и затем с Государем. По его словам, его ближайшие сотрудники уже давно указывали ему, что он думает взяться за крайне рискованное дело, с которым ему просто не справиться, а теперь они твердят ему все то же и положительно не дают ему покоя, чтобы {469} он пересмотрел этот вопрос пока не поздно.
Тут он привел мне целый ряд аргументов, высказанных ему его "друзьями" и из финансового мира, которые прямо говорят ему, что с переходом Крестьянского банка в ведомство земледелия у него не будет никаких способов размещать закладных листов, потому что никакой Министр Финансов не станет загружать ими сберегательных касс, не зная как можно продать их в случае надобности, а биржа, несвязанная с ним, будет просто их обесценивать.
Под влиянием всех этих сомнений, по словам Кривошеина, у него явилось решение доложить все эти сомнения Государю на ближайшем своем всеподданнейшем докладе, на этой же неделе и просить Его отказаться от этого намерения и позволить ему войти со мною в новое соглашение о большем сближении Крестьянского Банка с ведомством земледелия, главным образом в отношении выбора земель, приобретаемых банком за свой счет и в отношении выбора крестьян покупающих земли, продаваемые банком.
Если я принципиально согласен на это, то он не сомневается в том, что для Государя это будет большим облегчением, потому что он видел насколько Он обеспокоен мыслью о моем уходе.
Еще лучше было бы, сказал он, чтобы я согласился представить Государю наш совместный верноподданнейший доклад, коль скоро он увидит готовность Государя встать на новый путь. Кривошеин закончил свое длинное объяснение, котором я ни разу не прерывал, сказавши, что напрасно я избегал все время говорить с ним об этом деле и чуждался его. Все было бы давно направлено как следует и не было бы того длящегося недоразумения, которое тягостно для нас обоих.
В моем ответе, я начал с того, что не понимаю прежде всего, каким образом я мог говорить с ним, когда все дело было представлено Государю и испрошено даже предварительное Его решение, совместным соглашением его с Председателем Совета Министров, даже без простого, внушаемого элементарною деликатностью по отношению ко мне, оповещения меня об этом.
Я узнал о состоявшемся всеподданнейшем докладе только от Столыпина уже после того, что вопрос оказался решенным. Мои подчиненные были привлечены к работам по приготовлению всего дела и им было запрещено говорить мне хотя бы одно слово, и они точно выполнили взятое с них обещание. Я тогда же ответил Столыпину моим категорическим {470} несогласием и, по его же совету, доложил о нем Государю, поставивши ребром всю мою служебную судьбу. В Государе я встретил решительную поддержку взглядов их обоих, с открытым Его заявлением, что если даже я прав, то Он все-таки не может взять назад обещания данного им обоим и понимает и ни мало не осуждает меня за то, что я отказываюсь сохранять управление Министерством Финансов, если вредная, для него, по моему мнению, мера будет проведена.
Об этом я в тот же день передал Столыпину, а последний рассказал ему. Следовательно, кто из нас может обвинять другого в неделикатности отношений. Он ли меня или я его за то, что все дело, принадлежащее моему сведению, предположено быть изъятым от меня, a мне никто ни слова не оказал. От предложения подписать наш совместный всеподданнейший доклад я категорически отказался, заявивши, что я не хочу встретиться с упреком Столыпина, что я за его спиною представил Государю новую меру по делу доложенному и одобренному Государем по его докладу. По существу же предложения о еще большем сближении Крестьянского Банка с его ведомством я напомнил ему только, что никто иной, как я, предложил Столыпину весьма выгодные для ведомства Земледелия уступки, но получил его ответ: "это совершенно недостаточно, да и поздно об этом говорить, после того, что мы с Александром Васильевичем доложили Государю этот вопрос и получили полное Его одобрение".
Мы расстались с Кривошеиным на том, что я отказываюсь от всякого выступления по этому делу перед Государем что он совершенно свободен от каких-либо обязательств передо мною и доложит Государю свой изменившийся взгляд вполне самостоятельно. Я просил его только сообщить мне результаты его доклада, как взять на себя и инициативу поставить обо всем в известность Столыпина, которому я не скажу ни слова, пока он меня не спросить. Он обещал мне прислать сегодня же проект своего всеподданнейшего доклада, если только успеет его набросать. Это свое обещание он выполнил очень точно и уже поздно вечером того же дня я получил его проект доклада, составленный исключительно от его имени, без всякого упоминания обо мне, и только было вскользь высказано им, что я всегда шел навстречу всем интересам землеустройства и, несомненно, не изменю своего отношения ни в чем, лишь бы не было ущерба для охранения государственного кредита.
Через два дня Кривошеин приехал ко мне прямо {471} из Петергофа в самом радужно-возбужденном настроении. Он показал мне одобренный Государем его всеподданнейший доклад и сказал, что давно не видал Государя в таком прекрасном настроении. По его словам, Государь горячо благодарил его за предложенное разрешение вопроса, устраняющее всякий повод к моему уходу, и выразил уверенность в том, что и П. А. Столыпин будет также доволен устранением кризиса, так как у него всегда польза дела стоит выше вопросов личного самолюбия, а выставленные мною аргументы представляются Ему настолько серьезными, что можно только пожалеть, что Министр Финансов с самого начала был устранен от обсуждения вопроса. Но - прибавил Государь "все эти вопросы имеют теперь только историческое значение и нужно их окончательно ликвидировать и как можно скорее забыть то, что случилось".
В самом начале июля Столыпин, как и предполагал, вернулся в Петербург, тотчас же был принят Государем, которому он доложил все частности предстоящей Его поездки с семейством в Киев, с посещением затем Чернигова. Государь сказал ему, что из Киева Он проедет на продолжительный срок в Ливадию. Обо всем этом Столыпин передал мне тотчас по возвращении своем от Государя, но снова не заговорил со мною по вопросу о Крестьянском Банке. Я объяснял себе это только тем, что и Государь не сказал ему ничего о докладе Кривошеина, просто позабывши об этом.
Прошло после этого всего один или два дня, как Столыпин позвонил ко мне на дачу и спросил, не могу ли я придти к нему теперь же, так как ему нужно поговорить со мною по неожиданно выяснившемуся для него вопросу. Я тотчас же пошел к нему и застал в его кабинете Кривошеина очень взволнованного и продолжавшего, по-видимому, давно начавшийся разговор. При моем входе он был очень смущен, тогда как Столыпин в очень сдержанной форм обратился ко мне с следующими словами:
"Я вас побеспокоил Вл. Ник. потому, что только что узнал от Александра Васильевича о том, что сильно взволновавший Вас одно время вопрос о судьбе Крестьянского Банка получил в мое отсутствие совершенно неожиданное разрешение, которое меня очень радует, потому что оно дает Вам полное удовлетворение, а с меня слагает большую тяжесть, так как перспектива возможного Вашего ухода меня сильно волновала, и я сам все время искал какого-нибудь выхода,
{472} Теперь этот выход найден именно Александром Васильевичем, который все время был того мнения, что без коренной перемены интересы его ведомства не будут ограждены, а теперь встал на Вашу точку зрения и считает даже, что ему было бы не справиться с таковым делом, если бы состоялась задуманная нами обоими реформа. Ну, что же, тем лучше. Я нисколько не намерен настаивать более перед Государем на одобренном Им моем и Александра Васильевича взгляде, но не могу не сказать Вам в присутствии его и за этим я и просил Вас придти ко мне, - что Вы всегда действовали открыто и честно, возражая мне против того, что мы с ним задумали, и, считая наше мнение ошибочным, Вы не постеснялись поставить на, карту Ваше служебное положение, находя невозможным нести ответственность за чужие ошибки.
Я Вас только сердечно благодарю за все, как вы себя держали, а Александру Васильевичу не могу не сказать при Вас то, что я уже сказал ему без Вас, а именно, что он меня предал и не подождал даже моего возвращения. Пусть так и будет и не станемте больше говорить об этом неприятном для нас обоих вопрос. Алекс. Вас. согласился с Вами, и я обещаю только помочь Вам обоим довести это дело до благополучного конца, но буду еще более рад, если Вы найдете время довести его до такого конца, под Вашим Председательством в Совете Министров, еще до моего окончательного возвращения в Петербург.
Судьба судила иное. Петр Аркадьевич не вернулся в Петербург, и весь вопрос был ликвидирован yже значительно позже, когда мне пришлось заменить его.
После этой тягостной для меня беседы мы больше ни разу не говорили с П. А. Столыпиным об этом несчастном деле. Вышли мы с Кривошеиным из Елагина дворца вместе.
Он проводил меня до моей дачи и оказал мне только, что когда-нибудь можно будет восстановить правду и оказать, кто был во всем виноват, а "пока пусть буду я виноват во всем".
Я ответил ему только, что нисколько не боюсь никакого восстановления истины и прошу его удостоверить, что моей вины в этом деле не было, и никто не может упрекнуть меня в том, что я когда-либо противоречил себе, а тем более производил какое-либо давление на Государя в личных моих интересах.
Последними словами Кривошеина перед тем, что мы расстались, были: "об этом не может быть и речи. Еще третьего дня Государь сказал мне, что Вы говорили с ним только {473} один раз, когда объяснили Ему, в самой деликатной форме, почему Вы не сможете оставаться в Министерстве, если от Вас отойдет Крестьянский Банк, и более никогда об этом и не упоминали.
Все произошло оттого, что П. А. решил развязать этот узел своею властью, а я соблазнился легким способом достигнуть того, что мне казалось гораздо проще, чем это есть, на самом деле. Виноваты мы оба, а правы только Вы, за то Вы и имеете основание торжествовать".
Над чем спросил я? Мой вопрос остался без ответа.
{474}
ГЛАВА VII.
Прибытие в Киев на открытие в Высочайшем присутствии памятника Императору Александру II-му. - Парадный спектакль в городском театре. Покушенье на Столыпина. Меры принятые мною для предупреждения еврейского погрома. - Молебствие в Михайловском Соборе. - Возвращенье Государя. Посещение меня националистами. - Депутация от евреев. - Смерть Столыпина. Назначение меня на пост Председателя Совета. - Вопрос о Министре Внутренних Дел. - Мое письмо Государю о Макарове и других кандидатах. - Ответное письмо Государя.
27-го августа в сопровождении моего Секретаря Л. Ф. Дарлиака я выехал, как желал того Столыпин, в Киев и прибыл туда вечером 28-го числа. Я остановился в уступленной мне части казенного помещения Управляющего конторою Государственного Банка Афанасьева на Институтской улице, наискосок от дома Генерал-Губернатора, в нижнем этаже которого остановился Столыпин.
На утро 29-го, получивши печатные расписания различных церемоний и празднеств, я отправился к Столыпину и застал его далеко не радужно настроенным.
На мой вопрос почему он сумрачен, он мне ответил: "да так, у меня сложилось за вчерашний день впечатление, что мы с Вами здесь совершенно лишние люди, и все обошлось бы прекрасно и без нас".
Впоследствии, из частых, хотя и отрывочных бесед за 4 роковые дня пребывания в Киеве мне стало известно, что его почти игнорировали при Дворе, ему не нашлось даже места на Царском пароходе в намеченной поездке в Чернигов, для {475} него не было приготовлено и экипажа от Двора. Сразу же после его приезда начались пререкания между Генерал-Губернатором Треповым и Генералом Курловым относительно роли и пределов власти первого, и разбираться Столыпину в этом было тяжело и неприятно, тем более, что он чувствовал, что решающего значения его мнению придано не будет.
Со мною он был необычайно любезен и даже несвойственно ему не раз благодарил меня за приезд, за улажение сметных разногласий по почтовой части, и, выходя в первый раз вместе со мною из поезда, сказал своему адъютанту Есаулову, чтобы мой экипаж всегда следовал за его, на стоянках становился бы рядом, а когда мы выходили в этот и на следующий день 30-го августа откуда бы то ни было, он всегда справлялся: "Где экипаж М-ра Ф-сов". Так прошли первые 2 дня моего пребывания в Киеве в постоянных разъездах, молебствиях, церемониях.
На третий день, 31-го, как было условленно, я опять приехал утром в моем экипаже к Столыпину. Он тотчас же вышел на подъезд и предложил мне сесть с ним и с Есауловым в закрытый автомобиль.
На мой вопрос почему он предпочитает закрытый экипаж открытому в такую чудную погоду, он сказал мне, что его пугают каким-то готовящимся покушением на него, чему он не верит, но должен под- чиниться этому требованию.
Меня удивило то, что он приглашает меня в свой экипаж, как бы для того, чтобы разделить его участь, я не сказал. ему об этом ни слова, тем более, что был уверен, что у него не было мысли о какой-либо опасности, иначе он нарочно не присоединил меня к себе, и два дня мы объезжали город и его окрестности вместе, а в моей коляске ездил Л. Ф. Дорлиак, или в одиночестве, или с каким бы то ни было случайным спутником. Мы буквально не разлучались эти 2 дня. Вместе мы были на скачках, где также легко могло совершиться покушение Багрова, вместе были в Лавре, вместе вошли и вышли вечером из Купеческого сада, где покушение Багрова благодаря темноте, толкотне и беспорядку, могло удастся еще гораздо проще и как оказалось потом, Багров находился в толпе, заполнявшей Купеческий сад.
Вместе же мы приехали в 8 ч. вечера 1-го сентября в городской театр на парадный спектакль, с которого я должен был прямо ехать на вокзал для возвращения в Петербург, так как решено было, что более мне делать было нечего.
{476} 2-го сентября утром Государь должен был ехать на маневры, вернуться к вечеру, 3-го или даже вечером в тот же день уехать в Чернигов, вернуться в Киев 6-го рано утром и днем того же числа уехать совсем в Крым через Севастополь.
Эта программа была целиком и пунктуально выполнена; смертельное поранение Столыпина и его кончина ни в чем не нарушили заранее составленного расписания.
В театре я сидел в первом же ряду, как и Столыпин, но довольно далеко от него. Он сидел у самой Царской ложи, на последнем от нее кресле у левого прохода, а мое место было у противоположного правого прохода.
Как я уже упомянул, я должен был прямо из театра ехать на поезд, вещи мои были отправлены на вокзал с курьером, а моего секретаря Дорлиака я просил во время последнего антракта оправиться, где стоит наш экипаж, чтобы попытаться легче найти его при выходе.
Во время первого антракта я выходил в фойе разговаривать с разными лицами, а затем, желая проститься с Столыпиным, я подошел к нему во втором антракте, как только занавес опустился, и Царская ложа опустела. Я застал его стоящим в первом ряду, опершись на балюстраду оркестра. Театральная зала быстро опустела, так как публика хлынула в фойе, и на местах остались по преимуществу сидевшие в задних рядах кресел.
Столыпин стоял в пол-оборота от Царской ложи, разговаривая с стоявшим около него Бар. Фредериксом и Военным Министром Сухомлиновым, кое-кто еще оставался в первом ряду, но кто именно, я не заметил.
Когда я подошел к нему и сказал, что прямо из театра, после следующего акта, я еду на поезд и пришел проститься, спрашивая нет ли чего передать в Петербург, он сказал мне: "нет, передавать нечего, а вот если Вы можете взять меня с собою в поезд, то я Вам буду глубоко благодарен. Я от души завидую Вам, что Вы уезжаете, мне здесь очень тяжело ничего не делать, и чувствовать себя целый день каким-то издерганным, разбитым".
Я отошел от перо еще до окончания антракта, прошел по правому проходу, между креслами и подошел к старикам Афанасьевым проститься и поблагодарить за гостеприимство. Они сидели ив последнем ряду кресел перед поперечным последним проходом.
{477} Едва я успел наклониться к М-м Афанасьевой и сказал ей несколько слов на прощанье, как раздались два глухих выстрела, точно от хлопушки.
Я сразу не сообразил в чем дело и видел только, что кучка людей столпилась в левом проходе, недалеко от первых рядов кресел, - в борьбе с кем-то сброшенным на пол.
Раздались крики о помощи, я побежал к Столыпину, стоявшему еще на ногах, в первом же ряду у своего места у самого прохода, с бледным лицом, на кителе показалось в нижней части груди небольшое пятно крови. С правой стороны к нему подбежали еще люди, кто именно, я не мог заметить, видел только с обнаженною шашкою у самой Царской ложи Ген. Дедюлина.
Столыпин шатаясь обернулся к Царской ложе, совершил крестное знамение в ее сторону и стал опускаться на кресло. Все окружающее помогли ему сесть, и поднялась страшная суматоха. Столыпина понесли на кресле к проходу, а перед тем толпа увела того, кто был сброшен на пол. Зал моментально наполнился публикой, Государь и вся Царская семья появились в ложе, взвился занавес и раздались звуки Народного Гимна, исполненного всею театральною труппою, весь зал стоял в каком-то оцепенении, никто не давал себе ясного отчета в совершившемся, и громовым "Ура" встретила растерявшаяся публика конец Гимна.
Государь, бледный и взволнованный, стоял один у самого края ложи и кланялся публике, затем быстро начался разъезд. Я вышел одним из первых из зала, узнал, что преступник задержан и подвергается уже допросу в одном из нижних помещений театра, что Царская семья выехала благополучно и встречена публикой на улице с величайшим подъемом, а Столыпин отвезен в клинику Доктора Маковского. Я выехал тотчас же туда и застал там массу всякого народа, заполнявшего лестницу и все коридоры. Я распорядился прежде всего установить какой-либо внешний порядок.
Следом за мною приехавшему сюда же, после проводов Царской семьи во дворец, Генерал-Губернатору Трепову я сказал, что по закону я автоматически вступаю в права Председателя Совета Министров, так как состою его заместителем и прошу его удалить всю публику, поставить полицейскую охрану снаружи и внутри лечебницы и указать тому, кто будет {478} исполнять полицейские обязанности, помогать мне в чем я встречу надобность.
Генерал Трепов приказал полицмейстеру все это исполнить, а сам скоро уехал, условившись со мною, что будет ждать меня у себя, как только я сочту возможным уехать из лечебницы. Врачи были в сборе, тотчас же приступили к осмотру ранения и заявили, что пуля нащупывается близко к поверхности сзади, и к вынутию ее будет приступлено не позже следующего утра. Столыпин был в полном сознании, видимо, сильно страдал, но удерживал стоны и казался бодрым.
Не помню теперь, кто именно из врачей, их стояло там много, сказал мне однако тут же: "дело скверно, судя по входному отверстию пули и месту, где она прощупывался, при выходе, должно быть пробита печень, разве что ударившись об крест пуля получила неправильное движение и обошла по дуге, но это мало вероятно".
Его слова оказались пророческими. Больного перенесли в другую комнату, обставили всем необходимым, он дважды звал меня к себе, но так как доктора настаивали на абсолютном покое, то я прекратил всякую попытку разговора, оказал ему в шуточной форме, что доктора возложили на меня обязанности диктатора, и что без моего разрешения никого к нему пускать не будут, и сам он должен подчиниться моей власти.
Это было и фактически так. Доктора, видя, что нас окружает масса высокопоставленных лиц, буквально боялись распорядиться, и я предложил им выручить их в трудном положении и перенести всю ответственность на меня, за что они и ухватились с величайшей благодарностью.
В 2 ч. ночи, после того, что врачи заявили мне, что до утра они не приступят ни к каким действиям и будут лишь всеми способами поддерживать силы больного, - я уехал из лечебницы прямо к Генералу Трепову и застал его в подавленном настроении. Ему только что донес полицмейстер и охранное отделение (полковник Кулябко, главный виновник всей этой драмы), что в населении Киева, узнавшем, что преступник Багров - еврей, сильнейшие брожение и готовится грандиозный еврейский погром, предотвратить который он не в силах, так как войск в городе совсем нет, ибо все части ушли на маневры и на парад там в присутствии Государя, завтра днем, что полиции и жандармов совершенно недостаточно даже для очередных нарядов, усиленных вследствие пребывания Царской Семьи, и он буквально не знает что делать...
Я решил действовать сам, как умел. Тут же, {479} узнавши от Генерала Трепова, что Командующий войсками Генерал Н. И. Иванов уехал уже на маневры, и в городе его заменяет его Помощник Ген. Барон Зальца, я снесся с ним, несмотря на ночной час, по телефону и получивши от него ответ, что он не имеет права вызвать кавалерию, предложил ему сделать это по моему распоряжению, как заступившего место Главы Правительства и за моею ответственностью. Он согласился без всяких возражений и быстрым приказом отданным по телефону же - спас положение; три казачьих полка были вызваны обратно с маневров и к 7-ми часам утра вступили уже в Киев и заняли весь Подол и все части города, заселенные сплошь евреями.
Среди евреев было невообразимое волнение; всю ночь они укладывались и выносили пожитки из домов, а с раннего утра, когда было еще темно потянулись возы на вокзал. С первыми отходящими поездами выехали все, кто только мог втиснуться в вагоны, а площадь перед вокзалом осталась запруженною толпою людей, расположившихся бивуаком и ждавших подачи новых поездов.
Появление казаков, занявших также улицы, ведущие к вокзалу, - месту скопления готовившихся к выезду евреев, - быстро внесло успокоение. К вечеру волнение почти улеглось, выезд прекратился и с
3-го числа жизнь также незаметно вошла в обычную колею, как незаметно всколыхнули ее тревожные слухи.
2-го сентября, с 9-ти часов утра я был уже снова в лечебнице Маковского. Столыпина я застал в бодром состоянии, но страдания его, видимо, усилились и присущее ему мужество минутами оставляло его. Меня он немедленно позвал к себе, передал ключи от своего портфеля, просил разобрать в нем бумаги и доложить наиболее спешное Государю в этот же день в назначенное для него время, в 4 ч. дня, а затем высказал желание повидать на минуту Генерала Курлова и переговорить с ним наедине. Я убедил его не делать этого, потому что врачи не допускают нарушения покоя, и осторожно спросил его не желает ли он уполномочить меня в самой деликатной форме дать знать Ольге Борисовне.
Получив его согласие, я тут же набросал телеграмму, показал ее ему и немедленно отправил. Он пошутил при этом, что с ее приездом около него не будет такой сильной власти, какую я олицетворяю.
В течение первой половины дня в лечебницу приехал Генерал Курлов, чтобы осведомиться не выражал ли Столыпин желание видеть его; врачи сказали ему, {480} что такое желание им было выражено, но они не считают возможным допускать к нему кого-либо и прибавили, что они просили моего содействие к тому, чтобы это условие было строго соблюдаемо. Тогда он просил доложить мне о его желании явиться ко мне. Я тотчас же принял его в отдельной комнате, внизу, где я проводил многие часы в эти дни для того, отчасти, чтобы лично не допускать наплыва публики в лечебницу.
Он спросил меня, как вступившего в исполнение обязанностей Председателя Совета Министров, "угодно ли мне, чтобы он немедленно подал в отставку, так как при возложенной на него обязанности руководить всем делом охраны порядка в Киеве, я могу считать его виновным в случившемся". Я ответил ему на это, что не считаю нужным обсуждать в данную минуту степень виновности кого-либо в происшедшем, и что этот вопрос будет в свое время выяснен тем следствием, которое будет назначено, решение же вопроса об увольнении кого бы то ни было из чинов ведомства Министерства Внутренних Дел, в административном порядке, зависит от лица, которое Государю Императору угодно будет назначить на должность Министра. До этой минуты, сказал я Генералу Курлову, ему надлежит выполнять обязанности, возложенные на него Высочайшею властью впредь до выбытия Его Величества из Киева, когда эти обязанности фактически будут с него сняты.
В 12 ч. было назначено молебствие в Михайловском соборе об исцелении Петра Аркадьевича; на него собрались все съехавшиеся в Киев земские представители и много петербургских чиновников.
Никто из Царской семьи не приехал и даже из ближайшей свиты Государя никто не явился. Не успели ли им дать знать, или же просто никто не получил распоряжение от своего начальства, этого я не могу сказать.
Едва я успел войти в храм, когда еще не все оказались в сборе и духовенство не вышлю из алтаря, - во мне подошел один из избранных представителей вновь учрежденного земства, Член Государственной Думы 3-го созыва, впоследствии Член Государственного Совета по выборам, и в довольно развязной форме обратился со следующими словами: "вот, Ваше Высокопревосходительство, представлявшийся прекрасный случай ответить на выстрел Багрова хорошеньким еврейским погромом, теперь пропал, потому что Вы изволили вызвать войска для защиты евреев". Меня это глубоко возмутило, и я сказал нарочно громко, чтобы слышали все:
"Да, Ваше Превосходительство, я вызвал военную силу, {481} чтобы защитить невинных людей от злобы и насилия, и за это возьму на себя ответственность перед Государем и перед моею совестью, а Вам могу только выразить удивление, что в Храме Христа, Пострадавшего за грехи человека и Завещавшего нам любить ближнего, Вы не нашли ничего лучшего, как выражать сожаление о том, что не пролита кровь неповинных людей".
Эта выходка, помимо возмутительного ее цинизма, навела меня на мысль, что принятие мною по Киеву меры недостаточны и нужно предупредить возможность эксцессов повсеместно в черте еврейской оседлости. Я решил заготовить и послать тотчас по окончании молебствия, открыто, не шифром, всем губернаторам этой черты решительную телеграмму, требуя энергичных мер к предупреждению погромов, и предлагая им - я хорошо помню текст этой телеграммы, и теперь, мною лет спустя: "в выборе этих мер прибегать по обстоятельствам ко всем допустимым законом способам, до употребления в дело оружия включительно".
Текст этой уже отправленной телеграммы я захватил с собой на всеподданнейший доклад. Государя я нашел совершенно спокойным. Он не высказал мне никакого неудовольствия по поводу вызова с маневров 3-х казачьих полков, заметив только, что полкам, конечно, было неприятно не быть на смотру после маневров; горячо благодарил за телеграмму губернаторам и за самую мою мысль вызова войск для предотвращения погрома, сказавши при этом: "какой ужас за вину одного еврея мстить неповинной массе", и вообще утвердил по обыкновению все, что ему было предложено именем Столыпина.
Характерен был при этом один разговор. Сославшись на то, что, по мнению врачей, Столыпин опасно ранен, вероятно погибнет и, во всяком случае, на долго выведен из строя, я просил разрешения вызвать по телеграфу из-за границы старшего Товарища Министра Внутренних Дел Крыжановского и поручить ему временное управление Министерством. Я указал при этом на то, что помимо старшинства, на других Товарищей возлагать этой обязанности нельзя, т. к. А. И. Лыкошин совершенно не годится на роль руководителя, а Ген. Курлов уже по первым следственным действиям настолько скомпрометирован в покушении на Столыпина его непонятными действиями, что едва ли он вообще сможет оставаться на службе.
Такое мое заявление удивило Государя. Я передал все что успел узнать об обстоятельствах, при которых преступник {482} оказался в театре, обещал докладывать и далее обо всем по мере хода следствия, чего я в Киеве исполнить, однако, не мог, потому что почти не видел Государя и не имел с ним более деловой беседы, - но по поводу вызова Крыжановского Государь сказал мне: "Я не имею основания доверять этому лицу и не могу назначить его Министром Внутренних Дел, потому что мало его и знаю, без этого условия мне трудно решиться на такое назначение".
Я разъяснил Государю, что дело идет не о назначении Министром, а о необходимости поручить кому-либо одному из Товарищей временно управлять Министерством, потому что теперь каждый Товарищ ведает своей частью, общее же руководство лежит на умирающем Столыпине, и оставить дело так нельзя. Назначение Министра, очевидно, последует только тогда, когда решится участь Петра Аркадьевича, чего, прибавил я, вероятно долго ждать не придется, так как, по-видимому, шансов на выздоровление не много, и явления, выяснившиеся за ночь, указывают на то, что внутренние органы сильно пострадали. На мои последние слова Государь ответил: "Я узнаю и тут Ваш обычный пессимизм, но я уверен, что вы ошибаетесь. П. А. поправится, только не скоро, и Вам долго придется нести работу за него".
3-го сентября утром приехал вызванный по желанию врачей, по совещанию co мною, проф. Цейдлер и, осмотревши больного, стал слоняться более в сторону врачей, смотревших мрачно на ход болезни, хотя еще не мог высказать окончательное заключение. Приехал зять Столыпина - А. Б. Нейдгард и с меня спала часть личных забот о больном, но зато прибавились лишние разговоры по существу совершенного преступления, так как А. Б. Нейдгард и приехавший на другой день брат его Дм. Б. Нейдгард стали усиленно наседать на меня в смысле необходимости поручить следствие какому-либо особому лицу и непременно сенатору. Министр Юстиции Щегловитов, тоже приехавший в Kиев, был того же мнения и, по соглашению с ним, выбор пал на Сенатора Трусевича, бывшего недавно Директором Департамента Полиции, т. к. следствие успело уже выяснить вопиющую халатность в действиях Охранного Отделения, Генерала Курлова и его ближайших подчиненных.
Утром 4-го приехала О. Б. Столыпина. Я встретил ее на вокзале, привез в лечебницу и сдал больного всецело в ее руки. Его состояние становилось все хуже, и даже слабая надежда на благополучный исход стала исчезать. В тот же день ее навестил Государь, причем всем дано было знать, {483} что нежелательно присутствие в лечебнице посторонних лиц.
Больного Государь не видел; он начинал терять сознание, бредил и стонал. Пробыл Государь в лечебнице недолго, вынес впечатление, что я преувеличиваю опасность, тем более, что доктор Боткин продолжал уверять его, что ничего грозного нет, и под вечер того же числа Государь ухал в Чернигов, откуда возвратился в 6 ч. утра 6-го сентября, не заставши уже Столыпина в живых.
Его не стало в ночь с 5-го на 6-е число. Уже со второй половины дня 4-го числа было ясно, что минуты его сочтены. Температура понизилась, страдания усилились, стоны почти не прерывались, и появилась страшная икота, которая была слышна даже на лестнице. Сознание державшееся довольно ясным еще до утра 5-го числа, постепенно затемнялось, голос падал, и около 5-ти часов дня больной впал в забытье, не выходя из которого он и перешел в вечность.
С минуты приезда Ольги Борисовны Столыпиной я стал проводить в лечебнице несколько меньше времени, хотя ежедневно, не менее трех раз, бывал там.
Мои нервы от переживаемых тревог и полной бессонницы по ночам, - я все ждал телефонных звонков из лечебницы, - были крайне напряжены. С утра до ночи я получал сведения о ходе следствия, все более и более укреплявшие меня в том, что никакой организации в охране не было, и что худшие последствия могли произойти, если бы только было желание их причинить, и, кроме того, мне приходилось принимать множество всякого рода людей, добивавшихся свидания со мною.
Из этих посещений два заслуживают особого упоминания.
Третьего или четвертого числа ко мне явилась депутация националистов Юго-Западного края в лице моих знакомых членов Государственной Думы П. Н. Балашова, Д. Н. Чихачова, Потоцкого и ранее мне неизвестного Профессора Чернова.
Говорил со мною от имени депутации глава ее Балашов, другие же молчали и только под конец, видимо желая загладить неловкость положения, сказал несколько примирительных слов Проф. Чернов.
Балашов начал с того, что партия националистов взволнована покушением на Столыпина, не только как на выдающегося и благородного Государственного человека, незаменимого в настоящую минуту, но и как на человека, всем своим существом слившегося с национальной партией, проникнутого ее {484} идеалами и оказывающего ей свое могущественное покровительство, потому что в ней он видит единственную здоровую политическую партию в России, не борющуюся с Правительством во имя захвата власти. Волнение партии, - по словам Балашова, - увеличивается еще более от того, что преемником Столыпина назначен или назначаюсь я, потому что мне партия не доверяет и очень спасается, что моя политика будет совершенно иная, чуждая ясным национальным идеалам, и проникнутая слишком большими симпатиями к западу, следовательно, к элементам международного капитала и - инородческим.
"Позвольте договорить до конца", сказал Балашов, "мы Вас поддерживать не можем, если только не получим от Вас уверенности, что, заменивши Петра Аркадьевича, Вы будете честным и открытым продолжателем его политики".
Выслушавши это не обычное и мало любезное обращение, я начал мой ответ с чисто формального отвода, сказавши, что я отнюдь не назначен Председателем Совета Министров, а только вступил по закону в исполнение его обязанностей, по причине тяжелой болезни Петра Арк. Вместе с ними я искренно молился в соборе о его исцелении, хотя с грустью думаю, что наша молитва не будет услышана, потому что вижу, что Петр Аркадьевич угасает. Я не имею решительно никакого желания быть руководителем общей политики России и буду очень благодарен их партии, если она, в размерах доступных ее влиянию, примет меры к тому, чтобы отвратить ту опасность, которую она видит в моем назначении, а мне окажет великую ycлугу, избавивши меня от той тяжести, нести которую я вовсе не стремлюсь.
Я прибавил к этому еще видимо не понравившиеся Балашову слова: "но только было бы гораздо проще и, во всяком случае, деликатнее по отношению ко мне, если бы Вы обратили Ваши опасения туда, где может решаться мое назначение, если Вы имеете туда доступ, а не говорить мне прямо в лицо "мы Вам не верим", ибо не можете же Вы ожидать от меня такого шага, чтобы я сам пошел к Государю и сказал: "мне не верит самая крупная политическая партия, и поэтому я не могу принять такого назначения". Тем более не могу я этого доложить Его Величеству, что у меня нет никаких оснований полагать, что такое назначений будет мне предложено".
После этого вмешался проф. Чернов и желая поправить своего лидера, сказал мне: "Петр Ник. не совсем ясно выразил Вам нашу мысль, или Вы поняли ее не так, как мы {485} хотели ее высказать. Мы понимаем хорошо, что всякая политическая партия, которая занимается борьбой с Правительством, приносит несомненный вред и себе и стране. В Poccии нужно не бороться с властью, а работать вместе с нею, но работать можно только с такою властью, которую уважаешь, и помогать только той, которая помотает партии и ведет страну по правильному пути. Если бы мы имели не только уверенность, но даже надежду на то, что Вы поведете Poccию по тому пути, по которому ее вел Петр Аркадьевич, мы открыто стали бы на Вашу сторону, как стояли на его стороне".
Поблагодаривши профессора за то, что его обращение ко мне, во всяком случае, отличалось меньшею нелюбезностью, нежели выступление их лидера, я высказал моим посетителям прежде всего, что они придают власти Председателя Совета гораздо больше значения, нежели она имеет на самом деле.
И сейчас, спустя много лет, я могу воспроизвести то, что сказал я им в подтверждение мой мысли я сохранил заметку о нашем свидании, записанную по горячим следам, а именно,
- "что прочной, всеобъемлющей власти сейчас в России никто, кроме Государя, не имеет и иметь не будет. Она дается только в минуту катастрофы и кризиса, когда приходится даже проявлять готовность поступиться многими существенными прерогативами. Но как только гроза проходит, все полномочия существенно видоизменяются и чем больше пользовался носитель власти своими полномочиями, тем скорее наступает его падение. За примером, сказал я, ходить не далеко. Вот тот же Петр Аркадьевич, который теперь умирает, и которого вы считали осуществляющим программу Вашей партии, разве он, при всей своей кажущейся силе был вполне самостоятельным и в особенности прочен на своем посту. Неужели вы сами не видели, что после проведения Западного Земства он вовсе не остался столь же влиятельным, как был прежде.
Ведь несколько месяцев спустя после, одержанной им победы он уже был конченным человеком, в смысле влияния, и если бы пуля Багрова не пресекла его дней, то он все равно очень скоро сошел бы с политической арены, и никакая поддержка вашей партии не уберегла бы его. Он сознавал это лучше всякого, и уже почти накануне постигшей нас катастрофы прямо говорил мне об этом. Поверьте мне, что все наши уговоры с вами, если бы даже мы могли заключить с Вами предлагаемый договор, не имели бы существенного значения. "Я никогда не был хвастуном и никогда не решусь сказать Вам, что я сумею {486} провести ту или иную политику. Если мне суждено, - от чего упаси меня Господь, - сменить Петра Аркадьевича, то я обещаю исполнить одно - никогда не лгать моему Государю и не быть игрушкою в руках какой-либо партии. Я не знаю, буду ли я располагать свободою действий, но так как я в этом сомневаюсь, то буду исполнять мой долг только до тех пор, пока обстоятельства не заставят маня действовать против моей, совести, а что касается до вашей партии, то я скажу вам прямо, что вашей программы я в точности не знаю, слышал очень часто от Петра Аркадьевича много красивых, но туманных слов, а практической сущности ее не вижу и усвоить себе еще не мог.
Если, как Вы говорите, Вашим лозунгом является величие Poccии и освобождение ее от всякого чужого засилья, то поверьте мне, что на этой почве нам сойтись более чем просто. Но вашей политики угнетения инородцев я не разделяю и служить ей не могу. Это политика вредная и опасная. Оказывайте какое хотите покровительство русскому элементу, будемте вместе возвышать его во всех отношениях и давать ему первые места, но преследовать сегодня еврея, завтра армянина, потом поляка, финляндца, и видеть во всех их врагов России, которых нужно всячески укрощать, этому я не сочувствую и в этом нам с вами не по пути".
Наша беседа продолжалась еще несколько минут, и мы расстались, конечно, недовольные друг другом. Я повторил при расставании то, что сказал вначале, что я буду рад и благодарен им, если они сумеют отстранить мое назначение, и прибавил даже, что готов, с своей стороны, быть верным сотрудником всякому Председателю Совета Министров, который будет продолжать дело П. А. Столыпина, лишь бы только и он не мешал мне делать мое дело управлять финансами так, как я это понимаю.
Следом за этой депутацией и, кажется, даже столкнувшись с нею в дверях, ко мне пришла другая депутация - от Киевских евреев. В составе ее не бы то никого из именитого Киевского еврейства, и секретарь мой Дорлиак, говоря мне об ней, сказал мне даже, что пришли какие-то несчастные мелкие еврейчики, совершенно растерянного вида, и он хорошенько не может разобрать, что им нужно, так бессвязна их речь.
Я вышел к ним в переднюю и действительно, нашел 4-5-х немолодых евреев в длинных сюртуках, с всклокоченными бородами. Один из них подошел ко мне, поцеловал руку, другие хотели было встать на колени, но я их {487} удержал, и после довольно продолжительных расспросов мог только понять, что это представители торговцев с базара на Подоле, что они не успели выехать из города, подобно другим более крупным торговцам, и что они умоляют меня защитить их от погрома.
Я старался успокоить их, оказал, что главная опасность миновала,
т. к. казачьи полки вовремя пришли в Киев. Они ушли, видимо, успокоенные, по крайней мере, на следующий день Л. Ф. Дорлиак показал мни заметку "Киевской Мысли", в которой говорилось, что прием мой внес успокоение, базар открывается, и жизнь постепенно входит в свою колею. Эта заметка, однако, не обошлась для меня даром. Она была передана по телеграфу "Новому Времени", и эта газета встретила мое назначение ядовитою заметкою о моей чрезмерной заботливости о благе и спокойствии евреев.
К вечеру 5-го сентября я снова поехал в лечебницу Маковского и было уже ясно, что роковая развязка приближается. Нервы не выдержали слушать звуки ужасной икоты, и я в десятом часу вернулся домой, прося, чтобы мне позвонили по телефону, если бы мое присутствие оказалось бы почему-либо нужным. Прошло немного времени и мне сообщили о кончине Петра Аркадьевича. Я тотчас же послал телеграмму Барону Фредериксу по пути следования Государя обратно из Чернигова в Киев.
6-го сентября, в 6 часов утра я был уже на пароходной пристани, где и ожидал возвращения Государя. Кроме Гр. Бенкендорфа и Генерала Трепова, не было никого. Охраны также никакой выставлено не было, так как Трепов передал мне, что Государя повезут окольными дорогами, куда бы он ни приказал ехать. Вскоре подошел пароход. Государь принял мня на палубе, молча выслушал мой краткий доклад и сказал, что едет прямо поклониться праху Столыпина. Он сел в открытый автомобиль с Бар. Фредериксом, я сел в такой же другой автомобиль с Треповым, и мы поехали в лечебницу. Город был пуст, мы быстро совершили довольно длинный кружный переезд. В больнице нас встретил др. Маковский и еще один врач, и следом за Государем я вошел в угловую большую комнату, наверху налево, по коридору, где лежало еще на кровати, но уже поставленной в переднем углу комнаты тело Столыпина.
У изголовья сидела вдова покойного, Ольга Борисовна Столыпина, в белом больничном халате. Когда Государь вошел в комнату, она поднялась к нему на встречу, и громким голосом отчеканивая каждое {488} слово, произнесла известную фразу: "Ваше Величества Сусанины не перевелись еще на Руси".
Отслужили панихиду, Государь оказал тихо несколько слов О. Б. и, не говоря ни с кем ни слова, сел в автомобиль также с Бар. Фредериксом, и в сопровождении второго автомобиля, в котором я ехал с Генералом Треповым, вернулся в Николаевский дворец. От ворот дворца, мы с Треповым уехали обратно; он довез меня до своего подъезда, я прошел к себе в банк и стал готовиться к отъезду Царской семьи из Киева, который был назначен в тот же день, в 12 ч. утра.
Город имел совершенно праздничный вид, масса народа на улицах; войска стояли шпалерами до самого вокзала.
Я приехал с моим секретарем несколько раньше, чтобы не опоздать из-за какой-нибудь случайной задержки. На вокзале я встретил массу народа мужчин в белых кителях с лентами и орденами, дам в светлых нарядах, и я смешался с толпою, ожидая прибытия Царского кортежа.
Через несколько минут ко мне подошел И. Г. Щетловитов и спросил меня, не знаю ли я, зачем его зовут во дворец по телефону, как ему только что сказал это князь Орлов. Я высказал ему предположение, что Государь вероятно желает знать подробности о производстве следствия об убийстве Столыпина, как в ту же минуту ко мне подошел тот же Орлов, и сказал, что произошла ошибка, и что во дворец требуют меня, и при том как можно скорее, так как Государь задерживает свой отъезд из дворца в ожидании моего прибытия.
Понимая, что на моих плохих лошадях скоро не доедешь, я спросил дать мне чей-нибудь автомобиль. Мне предложил его городской голова Дьяков; для беспрепятственного проезда мне дали на козлы жандармского унтер-офицера, и мы помчались с невероятной быстротой. По дороге едва не случилась катастрофа, так как шофер не задержал на повороте, задние колеса закатились, и автомобиль едва не опрокинулся, но все дело ограничилось тем, что мы боком машины оттеснили часть шпалеры солдат.
Подъехавши ко Дворцу, я нашел Императрицу сидящую внизу на подъезде в кресле. Едва успел я поцеловать ей руку, как ко мне подошел Бар. Фредерикс и сказал по-французски: "Государь Вас давно ждет".
Я застал Государя в кабинете, стоящим перед выходной дверью, с фуражною в руках. Со своей обычной улыбкой он {489} обратился ко мне со следующими словами: "Я прошу Вас быть не председательствующим, а Председателем Совета Министров, оставаясь, разумеется, и Министром Финансов. Надеюсь, Вы мне в этом не откажете".
Я ответил на это: "мой долг повиноваться Вашему Величеству, если Вы оказываете мне Ваше доверие и считаете меня достойным его, но в трудных условиях управления Россиею мне необходимо знать, кого Ваше Величество изберете Министром Внутренних Дел". Государь ответил мне на это: "Я уже думал об этом и остановил мой выбор на Нижегородском Губернаторе Хвостове".
Меня это известие просто ошеломило, и я сказал Государю: "Ваше Величество, я знаю, что Вы спешите уехать, и у Вас нет времени подробно выслушать меня, но верьте моей чести, что мне больно противоречить Вам. Я по совести не могу исполнить моего долга перед Вами, если моим сотрудником по Мин. Вн. Дел будет такой человек, как Хвостов, которого никто в России не уважает, и назначение которого в особенности вредно для Вас, Государь, в данную минуту, когда от Министров требуется то, чего Хвостов дать не в состоянии. Дозвольте просить Вас оказать мне особую милость не считать моего назначения окончательным, если Вы решили бесповоротно назначить Хвостова.
По приезде в Петербург я изложу Вам в письме самым откровенным образом мой взгляд на назначение Хвостова, предложу Вам на выбор ряд других кандидатов и, если Вы, тем не менее предпочтете им всем или кому-либо из других кандидатов Вашего выбора, того же Хвостова, то не прогневайтесь на меня и освободите меня от высокого назначения. Я слишком хорошо знаю условия нашей государственной деятельности и по чести докладываю Вам, что никакой Председатель Совета не может помешать тем неосмотрительным действием, на которые способны люди подобные Хвостову.
Государь, видимо, терял терпение, дверь дважды приотворялась, и Бар. Фредерикс, видимо, указывал на необходимость отъезда. Государь, подумав немного, оказал без всякого чувства раздражения, своим обычным, ласковым голосом: "нет, Я считаю, что Вы назначение приняли, напишите все откровенно, и знайте, что я уезжаю совершенно спокойно, передавши власть в Ваши руки".
При этом он обнял и перекрестил меня. Следом за ним я пошел вниз, Царская Семья двинулась в автомобилях в дорогу, за ними поспешили другие экипажи, так что мой автомобиль попал на 6-ое или 7-ое место, и когда я подъехал к вокзалу, то Императрица, {490} видимо, уже некоторое время поджидала меня на перроне, не входя в вокзал, протянула мне руку и когда я, сняв фуражку, поцеловал ее, она сказала мне тихо, по-французски: "благодарю Вас и да хранит Вас Бог". Обычная сутолока при отъезде продолжалась на вокзале лишь несколько минут. Царский поезд скоро ушел, ко мне подошел Трепов и спросил назначен ли я. Я ему ответил: "еще не совсем, потому что не со всяким Мин. Внутр. Дел я могу вместе служить".
На окружающую публику эта весть, по-видимому, не произвела особого впечатления, ко мне мало кто подходил и я, условившись с железнодорожным начальством о назначении мне в тот же день в 6 час. экстренного поезда для выезда в Петербург, поспешил вместе с моим секретарем вернуться в моем экипаже домой, докончить укладку вещей и проститься с моими хозяевами. К моему отъезду собрались на вокзал очень немногие: Ген. Иванов, Ген. Трепов, Щегловитов, кое-кто из его сотрудников, а также довольно многие чины Министерства Финансов.
Обратный путь я совершил в одном поезде, хотя и в разных вагонах с Ген. Сухомлиновым, который, видимо был несколько удивлен состоявшемуся моему назначению Этот легкомысленный человек, как выяснилось впоследствии, рассчитывал сам занять эту должность, по крайней мере, его же клеврет того времени, князь Андронников, уверял меня, что жена Сухомлинова, имевшая неотразимое влияние на него посылала ему в Киев настойчивые телеграммы, советуя добиться назначение на должность Председателя Совета Министров.
Как знать, не удалось ли бы ему это невероятное предположение, если бы Государь не поспешил уехать. Ведь на вокзале же он поздравил Оренбургским Губернатором к Наказным Атаманом оренбургского казачьего войска родного брата Сухомлинова, по общим отзывам самого заурядного из всех бригадных командиров. Впоследствии, уже по моем увольнении, этот ген. Сухомлинов был назначен Степным Генерал-Губернатором, так велико было обаяние его брата на Государя.
В Петербург я приехал рано утром 8-го сентября; меня встретили жена а также чины М-ва Ф-сов, Градоначальник Губернатор, прочитавшие уже, что я возвращаюсь фактическим Председателем Совета Министров, кое-кто из Канцелярии Совета.
Публики было мало, из представителей печати не было {491} никого. Прямо с вокзала мы проехали в Часовню Спасителя, помолились и вернулись домой.
Как и следовало ожидать, первые дни были необычайно. утомительны от множества посетителей. Пришлось потратить много времени на всевозможные разговоры, начиная с беседы с Танеевым, которому я передал в тот же день Высочайшее повеление об отсылке указа о моем назначении и предупредил его, что я решил послать Государю подробное письмо по поводу его мысли о назначении Хвостова Министром Внутренних дел, и просил ею даже замедлить отсылкою Указа, так как раньше 2-3-х дней мне не справиться с этим письмом, а получение указа и письма было бы необходимо одновременно, так как если бы Государь все-таки остановился на назначении Хвостова, то вероятно моего Указа вовсе и не последовало бы.
Составлению и переписке письма мне пришлось отдать ночи с 8-го на 9-го и с 9-го на 10-ое, так как днем не было никакой возможности найти свободное время. 10-го сентября это письмо пошло к Государю в Ливадию.
Я привожу его здесь целиком по сохранившейся у меня копии, - как потому, что считаю, что этим письмом я исполнял свой долг, так и потому, что не хочу перелагать на кого-либо вину в совершенной мною ошибке, если только она действительно была сделана. Назначение А. А. Макарова Министром Внутренних Дел было, несомненно, результатом моего письма.
Кроме того, этому письму суждено было впоследствии сыграть известную роль. В сентябре 1917-того года, за месяц до октябрьского переворота, меня допрашивала Чрезвычайная Следственная Комиссия, назначенная Временным Правительством, - по самым разнообразным вопросам политической жизни минувшего 10-тилетия и особенно подробно она останавливалась на назначении Макарова М-ром Внутренних Дел.
Во время допроса председатель Комиссии Муравьев перечитывал какое-то дело, и по мере моих ответов на заданные вопросы особенно внимательно читал какую-то бумагу, переписанную на пишущей машине, и постоянно останавливал меня на разных деталях. Затем, когда по какому-то ничтожному поводу, я сослался на запамятование одной мелкой подробности, он прочитал мне часть этой бумаги, сказавши: "вот передо мною копия Вашего письма от 10-го сентября. Вы совершенно точно воспроизводите обстоятельства того времени, хотя уже прошло ровно 6 лет". Оказалось потом, как оказал мне на другой {492} день один из следователей, состоявших при комиссии, кажется член Московской судебной Палаты или Товарищ прокурора Голеновский, что Государь передал в чрезвычайную следственную Комиссии, по требованию, переданному Ему Керенским, целый ряд документов, хранившихся лично у него, и в том числе переписку с отдельными Министрами. Среди этих переданных Государем бумаг оказалось и мое письмо от 10-го сентября 1911 года, копия с которого сохранилась меня. Вот оно:
"Ваше Императорское Величество.
С той минуты, что я вышел из Вашего кабинета в Киеве, перед отъездом Вашего Императорского Величества, меня не покидает самое тяжелое, гнетущее раздумье. Верьте мне, Государь, что меня смущает не тяжесть ответственной задачи, возложенной на меня Вашим безграничным ко мне доверием, в столь трудную пору жизни Вашей страны. Не наполняет страхом моего сердца и мысль о том, что мои силы не достаточны для того, чтобы поднять на мои плечи, с верою в успех, столь великое дело служения родине и Вашему Императорскому Величеству.
Я принял Ваше повеление спокойно, и перед лицом Вашим, Государь, и пред всевидящим взором Царя царствующих, перед своею собственною, никогда не изменявшею Вам совестью сказал себе: "Да будет воля Божья и воля Вашего Императорского Величества". Не в моих руках, Государь, результаты моих трудов, не мне провидеть грядущее.
Знайте одно, Государь, что как до настоящей минуты, во всю мою уже теперь долгую жизнь, так и впредь до моего последнего вздоха, все силы моего разумения принадлежат Вашему Императорскому Величеству, и я буду счастлив, говорю это без колебания, отдать жизнь Вам и родине...
Смущает мою душу то, что В. И. В. благоугодно было сказать мне относительно замещения должности покойного Петра Аркадьевича, на посту Министра Внутренних Дел. Простите мне Государь, все, что я сказал Вам по этому поводу. Не усмотрите в моих словах недостатка готовности сообразоваться с Вашими велениями или затруднять Вас в приведении в исполнении Ваших намерений мне больно думать, Государь, что в минуту Вашего отъезда, я огорчил и, быть может, расстроил Вас. Таких намерений у меня не было, и тогда, как и сейчас, как и впредь я готов отдавать всю мою душу на то, {493} чтобы облегчить Ваши заботы и принять на себя хоть частицу их.
Но, как в ту минуту, под первым впечатлением, так и сейчас, после упорного и честного раздумья в течение двух суток, я видел и вижу, что я не мог поступить иначе, и если бы я поступил иначе, под влиянием столь естественного желания не противоречить Вашему намерению, - я поступил бы просто нечестно.
Судьба поставила меня, Государь, в непосредственное сношение со многими людьми; она научила меня распознавать их, оценивать их не по словам, и отзывам других, а по их собственным делам, по их личным способностям и внутреннему достоинству, и, руководствуясь этими основаниями, я должен быль сказать Вашему И. В. с полным убеждением, как повергаю сейчас на Ваше благовоззрение спокойно, искренно и. с упованием на Вашу милостивую снисходительность к моей смелости, что указанное мне Вашим И. В. лицо (Нижегородский Губернатор Хвостов) не отвечает ни одному из тех требований, которые должны быть предъявлены к Министру Внутренних Дел, не только теперь, в переживаемую Вашею страною тяжелую и сложную минуту, но и при самых обыденных и нормальных условиях.
У него нет никакого административного, а тем более государственного опыта; он никогда не прикасался ни к одному из элементов сложной административной машины, - вне чисто провинциальных исполнительных. действий; он человек всем известных, самых крайних убеждений, находящихся в полном противоречии с тем строем государственной жизни, которой насажден державною волею Вашего И. В.; он успел на второстепенном губернаторском посту обострить в самом нежелательном направлении целый ряд вопросов, чреватых своими последствиями; по своему возрасту и по всему своему прошлому, он не может внушить к себе ни малейшего авторитета, в столь обширном и далеко не устроенном ведомстве, как М-во Внутр. Дел, и, наконец, что всего важнее, его назначение было бы принято всем общественным мнением, и в особенности нашими законодательными учреждениями с полным недоумением и даже недоверием, побороть которое у него не хватило бы ни умения, ни таланта, ни знаний, ни подготовленности.
Не судите меня, Государь, за эти слова. Ваше Величество изволите знать, что я никогда не искал популярности, не заискивал перед общественным мнением, и открыто отстаивал {494} свои взгляды перед законодательными учреждениями. Но я не хочу умолчать перед Вашим И. В., что лицам, окружающим престол, несущим перед Вами и перед страной ответственное бремя, заведования крупнейшими отраслями государственного управления, нельзя действовать с самою слабою надеждою на успех, если только к ним нет, на первом месте, доверие Вашего И. В. и, затем, уважения общественного мнения.
Без этих двух условий все дело управления обращается в безрезультатное, и государство и Ваше И. В. неизбежно несут невознаградимый ущерб. Простите мне, Государь, эти слова, они идут из глубины безгранично преданного Вам сердца, для которого дорого только одно - не утаить перед Вами ничего, что может быть прямо или косвенно вредно для В. И. В.
Я понимаю вполне, что Ваше В. не могли разом остановиться на том единственном имени, которое было произнесено мною. Недостаток времени лишил меня возможности шире доложить B-му В-ву этот вопрос. Дозвольте же мне, Государь, теперь несколько восполнить этот пробел.
Как тогда в Киеве, так н теперь, после долгого и упорного размышления, я дерзаю довести до Вашего сведения, что назначение Государственного Секретаря Макарова отвечало бы многим из задач настоящей минуты. У него достаточный государственный опыт. Ему близко знакомо полицейское дело, и он издавна изучал борьбу с политическими преступлениями. Почти трехлетнее его сотрудничество Петру Аркадьевичу, именно по полицейской части, дало ему возможность близко изучить все частности этого дела и приступить к заведыванию им не теряя времени на его изучение, для чего переживаемый Россиею момент представляется особенно неблагоприятным, так как он требует от главного начальника ведомства Внутренних Дел не методической подготовки, а неотложных распоряжений.
Макаров - человек безусловно твердых убеждений, научившийся, однако, за свою продолжительную службу подчинять свои взгляды уважению к закону. Его выступление в Государственной Думе в бытность Товарищем Министра Вн. Дел, и притом но делам крайне щекотливого свойства, отличались всегда большим тактом, эрудицией и определенностью и снискали ему то уважение, без которого участие в работе законодательных учреждений, для представителя Правительственной власти, просто невозможно. В Государственном Совете Макаров {495} имеет совершенно исключительное и благоприятное положение по занимаемой им должности Государственного Секретаря, и есть полное основание надеяться, что ему более чем кому-либо удастся восстановить то нормальное положение М-ва Вн. Дел, в верхней палате, которое было крайне осложнено за последнее время.
Таковы, Ваше И. В., те истинные основания, которые побуждали меня остановить Высочайшее Ваше внимание на этом должностном лице. Не дерзаю повергать на благовоззрение Вашего В-ва моих соображений о других лицах, не зная в какой мере на них могло бы остановиться избрание Ваше. Круг этих лиц чрезвычайно ограничен, а требование, предъявленные к должности М-ра В-них Дел вообще и в настоящую минуту в особенности, столь сложны и многоразличны, что сделать правильный и безошибочный выбор крайне трудно. В особенности затруднительно избежать самой большой опасности, избрание такого лица, предшествующая деятельность которого успела создать около него атмосферу более или менее справедливой предвзятости и враждебности. При этих свойствах спокойная работа немыслима, производительность ее совершенно ничтожна.
Я позволил бы себе доложить Вашему И. В. еще о двух молодых деятелях, Черниговском Губернаторе Маклакове и Киевском, - ныне Директоре Департамента Земледелия - Гр. П. Н. Игнатьеве, но опасаюсь, что в лице первого из них Ваше Вел. не найдет достаточно подготовленного деятеля. Маклаков должен быть лично известен Вашему Вел. по недавнему посещению Черниговской губ. - Мне он известен по его службе по Министерству Финансов. - Это человек совсем молодой, по-видимому энергичный, но еще совершенно неопытный; всего лишь второй год он занимает должность губернатора.
Он вовсе не знаком со службой Центральных Управлений, не достаточно образован, мало уравновешен, легко поддается влияниям людей, не несущих ответственности, но полных предвзятых идей, и едва ли сумет снискать себе уважение в ведомстве и Законодательных учреждениях.
Граф Игнатьев мне мало известен, но он пользуется репутацией человека умного, осторожного, вдумчивого, и в бытность свою Киевским Губернатором был признаваем покойным Статс-Секретарем Столыпиным, вместе с бывшим Саратовским Губернатором, Графом Татищевым, - одним из лучших Губернаторов. Простите мне Ваше {496} Императорское Величество, столь длинное мое изложение. Взгляните милостиво на мои побуждения; в них нет и тени чего-либо личного. Руководит мною одно желание сказать перед Вами, по чистой совести, то, что подсказывал мне мой разум, и устранить на первых же шагах моей ответственной, тяжелой деятельности неудачу в выборе лица на самый трудный пост.
Ошибочность выбора не может не оставить после себя самых тягостных последствий, которых следует избегать всеми доступными способами".
Ответ на мое письмо последовал очень быстро.
Вечером 14-го сентября я получил от Государя шифрованную телеграмму от того же числа, из Ливадии такого содержания: "Обдумав содержание Вашего письма, нахожу назначение Государственного Секретаря Макарова на должность Министра Внутренних Дел вполне подходящим. Желая его видеть до назначения, вызываю его сейчас по телеграфу в Ялту, прошу ему не сообщать о предположенном".
На другое утро Макаров рано приехал ко мне, показал вызывную телеграмму и спросил меня не знаю ли я причины вызова. Связанный полученным указанием, я ответил ему, что ничего не знаю, и просил немедленно по прибытии в Ливадию сообщить мне шифром причину вызова, который не может меня не интересовать живейшим образом, и в тот же вечер Макаров выехал в Крым, а Танеев доставил мне подписанный 12-го сентября Указ о моем назначении. Через 6 дней Макаров вернулся сияющий и довольный своим назначением Министром Внутренних Дел. По-видимому, все испытывали большое чувство облегчения от миновавшегося осложнения. Доволен был и Государь, написавший мне самое милое, ласковое письмо, к сожалению, не сохранившееся у меня, и всего вероятнее, не возвращенное мне в числе бумаг, взятых при обыске 30-го июня 1918 года. Но я хорошо помню не только содержание, но даже и отдельные выражения этого письма.
В нем Государь писал мне, что остался очень доволен двукратной беседой с Макаровым, что нашел в нем человека совершенно подготовленного, очень здраво смотрящего на вещи и высказавшего ему все те взгляды на задачи М-ва Вн. Дел, которые казались безусловно правильными и самому Государю, что он уверен, что при нем Министерство войдет в "свои рамки" и будет заниматься разрешением таких вопросов, которые давно запущены, и внесет больше "делового спокойствия" туда, где слишком развилась "политика и разгулялись {497} страсти различных партий, борющихся, если не за захват власти, то, во всяком случае, - за влияние на Министра Внутренних Дел.
В этих словах было явное, неодобрение политики только что сошедшего столь трагическим образом со сцены Столыпина, которому уже не прощали ни его былого увлечения Гучковым и Октябристами, ни последующего перехода его симпатий к Националистам, к которым питали тоже, по-видимому, малое доверие и даже сочувствие и наверху.
Доволен был, конечно, и я, первой, одержанной мною крупной победой, и столь счастливым, казалось, мне в ту пору, разрешением кризиса, и мог спокойно вступить в должность Председателя Совета.
Действительно, кризис разрешился в ту пору совершенно благополучно, потому что без этого мое положение становилось сразу совершенно невыносимым, и я хорошо понимал, что при Министре Внутренних Дел Хвостове мне не было бы никакой возможности показаться в Думе и пришлось бы волей или неволей уходить с места при первой представившейся возможности.
Довольна была даже к печать, встретившая назначение Макарова без всякой враждебности; даже "Гражданин" Мещерского отзывался на первых порах довольно милостиво, пытаясь, однако, всячески взять нового Министра под свою опеку, и недвусмысленно предлагал свое "благоволение" за уступку ему таких корифеев того времени, как Белецкий и Харузин, для осуждения которых у Мещерского не было достаточно резкостей. Это отношение скоро, однако, сменилось на самое враждебное, когда Макаров не только не уволил Белецкого, но даже назначил его Директором Департамента Полиции, а Харузина приблизил к себе, поручив ему заведовать всем делом по подготовке выборов в Государственную Думу.
С разрешением этого критического вопроса наступила сравнительно спокойная пора. Пришлось спешить доканчивать бюджет на 1912 год и закончить массу текущих дел по Совету Министров, накопившихся за время летнего затишья и отсутствие Председателя из Петербурга. Город был пуст, членов Государственного Совета и Думы почти не было налицо, и работа имела характер совершенно спокойный и будничный, перемежающийся с довольно бесцельными и многочисленными беседами с постепенно возвращавшимися из поездок и отпусков Министрами и наезжавшими в большем, чем обычно {498} количестве, провинциальными деятелями.
- Из этого общего серого тона выделилась только резко враждебная позиция, сразу же занятая по отношению ко мне газетою "Новое Время". Уже в № от 10-го сентября появилась телеграмма, посланная из Киева
9-го, в день похорон П. А. Столыпина, А. И. Гучковым, в которой отражалось выражение его личного взгляда на современное положение России и высказывалось что: "Россия попала в болото, вытащить из которого, конечно, не под силу В. Н. Коковцову".
Вскоре же появилась статья Меньшикова, с резким выпадом против меня за покровительство евреев, повторившая заметку "Киевлянина", что на выстрел Багрова я ответил защитою "Киевских жидов".
Гучков также вернулся в Петербург, но ко мне не показывался и уже гораздо позже, около 10-го декабря, написал мне письмо с просьбою принять его, а все время до этого до меня доходили только упорные слухи о том, что в Редакции "Нового Времени", к совету которой Гучков принадлежал, велись собеседования о походе против меня. Несмотря на это меня посетили от этой газеты 2 лица: Михаил Суворин и правая рука редакции, типичный приказчик неважного магазина, - Мазаев.
Беседа наша протекала совершенно дружелюбно, хотя я и указал им обоим, что не знаю основания их враждебного отношения ко мне, и хотел бы выяснить, что именно им особенно не нравится, и на какой почве могло бы последовать сближение со мною. Ответа я никакого не получил, если не считать совершенно бессвязного лепета того и другого, ссылки на невозможность для руководителей Редакции следить за статьями отдельных сотрудников, и откровенного заявления об отсутствии солидарности и дисциплины среди их сотрудников. Характерны были, между прочим, слова Суворина по поводу Меньшикова. "С этим господином никакого сладу нет; он и нас каждый день ругает, так что мы просто стараемся не показываться ему на глаза".
Несколько дней после этих визитов газета как-то замолчала, а потом возобновила те же нападки, намеки, булавочные уколы или самое сухое упоминание о том, что было сделано, без всяких комментарий. Долгое время я так и не понимал, в чем заключается причина столь недружелюбного ко мне отношения, и лишь много времени спустя мне разъяснили мои прегрешения. Их оказалось два.
Во-первых, я не сделал первым визита братьям Сувориным - Михаилу и Борису, {499} и даже не поехал к ним после посещения меня Михаилом. Во-вторых, они знали мое отрицательное отношение к системе всякого рода льгот за счет средств казны и были уверены, что за ними трудно обращаться ко мне, как нет надежды и на мое воздействие на частные банки в смысле выдачи ссуд как, было сделано после меня.
Как только выяснилось назначение Макарова Министром Внутренних Дел, Крыжановский, вызванный мною из заграницы и управлявший Министерством, заявил мне, что он с Макаровым вместе служить не может, так как их отношения за время их совместной службы на должностях Товарищей Министра были очень натянуты, и просил меня устроить его судьбу "хотя бы назначением в Сенат", если не представится другой возможности.
Желая устранить на первых порах ведомственные трение и зная Крыжановского за человека очень ловкого, способного, могущего при известных условиях принести большую пользу, я уговорил Председателя Государственного Совета Акимова взять его в Государственные Секретари и тем самым достигнуть двойную цель - дать видное назначение человеку, далеко не заурядному, и предупредить всякие посторонние влияния на случайное и притом нежелательное назначение в Государственные Секретари какого-нибудь неожиданного фаворита.
Зная отношение Государя к Крыжановскому, я написал совершенно откровенный доклад, получил согласие Акимова на представление Указа о назначении Крыжановского к подписи и очень быстро, менее чем через неделю, - получил этот Указ подписанным.



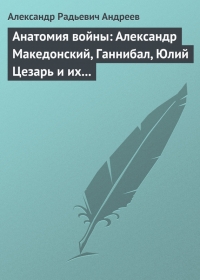


Комментарии к книге «Из моего прошлого 1903-1919 годы (Часть 4)», В. Коковцев
Всего 0 комментариев