Дора Штурман • У края бездны
Корниловский мятеж глазами историка и современников
Среди множества стереотипов советского исторического мышления, которые бессознательно воспринимались нами еще в детстве и затем сопровождали нас всю жизнь, представление о генерале Лавре Георгиевиче Корнилове как о белогвардейце-монархисте, реакционере и потенциальном диктаторе было одним из самых устойчивых. Оно долго не вызывало у большей части моего поколения никаких сомнений (разумеется, я говорю о тех, кого знала). Мелкий эпизод эпохи керенщины, одно из доказательств правоты Ленина и большевиков, свергнувших Временное правительство, не более. Между тем не только за рубежом с начала 20-х годов выходили объемистые тома недоступных для нас материалов и документов, но даже в СССР конца 20-х и начала 30-х годов еще публиковались документы и материалы, опровергавшие стереотипные советские представления о так называемой корниловщине, октябрьском перевороте и гражданской войне.
Ленин уже в июле 1917 года обвинял правительство Керенского в бонапартизме. Вместе с тем он характеризовал «диктатуру» Керенского до июля как «диктатуру бутафорскую», лишь после июля устремившуюся к обретению настоящей, реальной власти.
«Корниловщина» выглядела в ретроспективной большевистской интерпретации как попытка свергнуть Временное правительство справа. Хотя в 1917 же году еще и большевики не оперировали такой трактовкой безоговорочно.
В 1928 году в ленинградском издательстве «Красная газета» в серии «Из белых мемуаров» вышла книга «Мятеж Корнилова». В ней после вступительных статей А. Ильина-Женевского и Вл. Лаврецкого были опубликованы отрывки из воспоминаний А. И. Деникина, А. Ф. Керенского, П. Н. Краснова, А. С. Лукомского, П. Н. Милюкова, В. Д. Набокова, Б. В. Савинкова и В. Б. Станкевича о Корнилове и его попытке изменить роковое течение революции. Все высказывания мемуаристов даются по этому изданию. В ряде случаев в тексте указаны источники, из которых брали отрывки составители сборника.
Итак, предоставим слово тем людям, которым советская историография более шестидесяти лет (1929–1991) в слове отказывала.
Прежде всего мы видим в этих воспоминаниях картину того развала воюющей армии, который большевики скоро объявят основой своей разрушительно-завоевательной тактики. Картина эта не могла не потрясать и не возмущать до глубины души тех, чьи судьбы были кровно связаны с российской государственностью, с российской армией, а именно таковы многие авторы сборника. Они хотели спасения армии от разложения и России — от поражения в войне. Некоторые из них были безоговорочными противниками левого экстремизма, и бесхребетной покорности Временного правительства этому экстремизму. Не разбираясь в тонкостях партийной политики, они не могли не восставать против движения армии и страны к неизбежному поражению в войне. Другие авторы входили во Временное правительство и были левыми радикалами (Савинков, Керенский). Но пораженцами не были и они. Как же видятся им из эмиграции Корнилов и его неудавшаяся акция?
Вот что говорит В. Б. Станкевич («Воспоминания 1914–1919 годов», гл. IV, V, VI. Берлин. Изд. И. Ладыжникова), выполнявший по поручению Временного правительства обязанности комиссара Северного фронта, которым командовал генерал Деникин: «Деникин показался мне олицетворением трагедии русской армии. Он был слишком военным, может быть, даже узко военным человеком, настолько, что, быть может, даже старые недочеты уже не бросались в глаза. Но зато теперь он понимал, что армия разваливается. Сжившийся с определенными условиями в армии, он внезапно увидел ее в новом свете: карикатурным извращением всех прежних устоев и оснований. Но что же делать? Уйти и очистить место более покладистым и подлаживающимся? Уйти из армии, еще стоящей на фронте, еще не окончившей войны? Пусть сами обстоятельства заставят сделать это, пусть бунтующие солдаты арестуют или новое правительство само устранит. Но Деникин добровольно из армии не уйдет. Но он, конечно, не дорожит своим местом, не подлаживается, наоборот, он ищет конфликта, он старается быть резким, он отводит душу горьким, хотя часто заведомо бессильным словом… Он не был против революции. Но он не был связан с революцией настолько, чтобы понимать или даже стараться понять ее трагедию. Он понял бы революцию, которая заключила бы мир, и боролся бы с нею, если бы видел, что этот мир гибелен для России, и, может быть, примирился бы с нею, если бы мир был бы „сходен“… Но революцию, которая требовала наступления, а в то же время разрушала устои, на которых покоилась вся сила армии, — такой революции он не мог и не хотел понять…»
Спросим себя: кто на месте Деникина мог бы понять такую революцию, обнаружить логику в поведении такого правительства?
Станкевич очень подробно рассказывает о настроении солдатской массы, не желающей воевать, о большевистской фронтовой газете «Окопная правда» (после ее запрещения — «Окопный набат»), большевистских агитаторах в каждой части, в каждом подразделении, о безуспешной пропагандистской борьбе комиссаров Временного правительства против дезорганизации, дезертирства, антивоенных и антиправительственных устремлений солдат. Отметим то, что часто отмечали комиссары Временного правительства в своих отчетах: вся большевистская печатная и устная пропаганда велась на языке народной массы. Смысл ее всегда сводился к простейшим вещам, понятным и близким массе солдат: мир, земля, вольная воля, достаток. Комиссары, листовки и циркуляры Временного правительства говорили языком книжным («барским») и мысли излагали противоречиво-заковыристые и отвлеченные (война до победы — ради торжества справедливости, честь, верность союзникам, патриотизм, дисциплина во имя революции и т. п.).
Временное правительство звало солдат умирать за революцию, за «землю и волю», большевики звали солдат бросить фронт, чтобы жить, чтобы немедленно идти делить землю соседей-помещиков.
Для людей естественно уходить от войны, от горя, от смерти. Что может гнать человека на войну? Чувство ее неизбежности для него и его близких или железное принуждение. Чувства необходимости этой войны ни у солдат, ни у большинства офицеров к тому времени уже не было. Большевистские агитаторы непрерывно внушали солдатам, что их гонят умирать ради обогащения буржуазии. Офицерский корпус дезориентировали отречения царя и Михаила. А принуждение было снято легкомыслием советской (первой самокооптации) и «временной» (самокооптированной же) демократии. Вот типичное рассуждение правительственного комиссара Станкевича о «новых», «правильных» взаимоотношениях между солдатами и офицерами в условиях тяжелой войны: «В ротах, полках и дивизиях выдвигались новые офицеры, действительные руководители солдат. Начиналось сближение часто с совершенно неожиданной стороны: с чтения газеты ротой, с организации развлечений, спортивных игр. Научились пользоваться новыми порядками и учреждениями с выгодой для дела и без всякого ущерба для себя. Повыписали себе библиотеки. Но дело все же шло очень медленно, и офицерский вопрос оставался сложным до последних дней».
Пока большевики его не «упростили».
И все это — на позициях, во время войны и, главное, под разрушительным напором большевиков «и примкнувших к ним».
Настроенный очень благожелательно по отношению к своему правительству, комиссар фронта Станкевич тем не менее вынужден делать вывод: «И все-таки армия, быть может, могла бы выдержать натиск ослабленного войной противника… Но она не могла выдержать комбинированного удара в тылу и на фронте».
Большевики понимали, что без армии правительство не устоит ни перед какой мало-мальски организованной силой. Правительство старалось не понимать, что теряет армию и вместе с нею — все гарантии прочности своего режима.
Когда под натиском Ставки и генералитета правительство вроде бы и попыталось принять некоторые меры к упорядочению дел в армии, развал в ней достиг такой степени, что уже нельзя было обнаружить виновных и подлежащих каре. От Ставки до последней инвалидной команды нельзя было определить и уточнить, кто в самой армии виноват в ее развале, в ее расползании, растекании во все стороны вязкой, киселеобразной массой, которую нельзя ни остановить, ни повернуть вспять…
Генерал П. Н. Краснов, человек и деятель совершенно иного, чем Станкевич, типа, иного ранга, сословия, мировоззрения, рассказывает о том, что происходило в армии и в Войске Донском после того, как «комитеты стали вмешиваться в распоряжения начальников, приказы стали делиться на боевые и небоевые. Первые сначала исполнялись, вторые исполнялись по характерному, вошедшему в моду тогда выражению постольку поскольку». Это относится даже к казачеству, казалось бы, далеко не революционному.
Армия устала воевать, не видела цели этой войны и воевала плохо еще до февральской революции 1917 года. Может быть, Временному правительству и следовало заключить мир, сохранив верные ему подразделения армии для внутренних целей. Солженицын («Красное Колесо»), знающий этот вопрос в совершенстве, полагает, что не надо было и вступать в эту войну, что мир уже в 1916 году был России необходим. Но если уж Временное правительство намеревалось идти со своими союзниками в войне до конца, следовало бы прежде всего укрепить тыл и фронт, дисциплинировать армию и не осчастливливать ее одиозно несвоевременной демократизацией. Это укрепление армии и тыла было бы, по всей очевидности, невероятно трудным, но возможным — вплоть до августа 1917 года. Именно такое укрепление фронта и тыла и предлагал Временному правительству Корнилов.
Советская историческая традиция внушала поколениям советских людей представление об агрессивно-буржуазном Временном правительстве и о «соглашательстве» добольшевистских Советов. Между тем санкционировали развал армии именно эти добольшевистские Советы, а соглашательским было Временное правительство, которое шаталось между генералитетом и Советами, но, как правило, оказывалось на поводу у Советов. Советы же действительно стали не только соглашательскими, но и фиктивными (вплоть до августа 1991 года) — после победы большевиков. Только тогда установилась настоящая диктатура. Ничего подобного и не снилось не только позирующему перед объективом истории Керенскому, но и Корнилову, пытавшемуся всего-навсего остановить развал армии и крах воюющего государства, верховным военачальником которого он был. Краснов так описывает несостоятельность первых корниловских попыток навести необходимый армии для войны порядок пропагандистскими и административными средствами (письменные обращения, призывы, приказы): «Психология тогдашнего крестьянина и казака была проста до грубости: долой войну. Подавай нам мир и землю. Мир по телеграфу» (разрядка Краснова). А приказ настойчиво звал к войне и победе.
Именно по причине несоответствия обращения и приказов Корнилова настроению армии Керенскому, решившему после долгих переговоров с ним и многих шатаний предать Корнилова, а потом и большевикам так легко было объявить законопослушного генерала мятежником и предателем, монархистом, искателем личной власти и т. д. и т. п. Армия хотела это услышать и в это поверить. Далее Краснов пишет: «Делалось страшное, великое дело, а грязная пошлость выпирала отовсюду». Это по поводу «бросков» Керенского от совдепа к корниловцам и обратно.
Все в стране жаждали «сильной власти», в том числе и железнодорожники, которые на исходе драмы остановили своим саботажем Корнилова. (Сарказм исторической судьбы: они попадут под Троцкого; он наведет порядок на транспорте.) Но тогда достаточно было довести до пролетарского слуха, что Корнилов требует введения чрезвычайного положения, необходимого, чтобы продолжать войну до победы, как широкие массы народа его возненавидели от всей души. И только лозунги большевиков, подкрепленные растущей организованностью и централизацией их пропагандистских и штурмовых отрядов, попадали, как говорится, в струю.
Солженицын в последних Узлах «Красного Колеса» показал: шла исторически роковая тяжба, победить в которой могла только та из сил, которая делала ставку на распад, а не на укрепление и оздоровление армии, жаждущей самоликвидации. Эта сила ради своей победы была готова на все: на поражение России в войне, на любой мир с немцами, на какие угодно аннексии своих территорий — лишь бы лишив правительство армии и одолев его, сформировать затем новые, собственные вооруженные силы с целью завоевания родной страны.
Корнилов долго пытался договориться с Керенским в июле — августе 1917 года; генерал Духонин не отказался признать законным даже большевистское правительство, и только бессудное, зверское убийство Духонина в присутствии Крыленко окончательно восстановило большую часть генералитета и офицерства развалившейся армии против большевиков. Но и тогда нашлось немало офицеров различных рангов, готовых сотрудничать с большевиками по разным причинам, в том числе и из надежды спасти российскую армию и воссоздать крепкую российскую государственность.
Приведу еще одно высказывание генерала Краснова, точнее, его обращение к солдатам полка на станции Дно по дороге к Пскову, куда предполагалось стянуть войска, идущие за Корниловым:
«Я прочел и разъяснил им приказ Корнилова.
— Мы должны исполнить приказ нашего верховного главнокомандующего как верные солдаты, без всякого рассуждения. Русский народ в Учредительном собрании рассудит, кто прав, Керенский или Корнилов, а сейчас наш долг повиноваться».
Солдаты не возражали, но «солидный подпрапорщик, вахмистр со многими георгиевскими крестами», ответил Краснову: «Только вишь ты, какая загвоздка вышла. И тот изменник, и другой изменник. Нам дорогою сказывали, что генерал Корнилов в Ставке уже арестован, его нет, а мы пойдем на такое дело. Ни сами не пойдем, ни вас под ответ подводить не хотим. Останемся здесь, пошлем разведчиков узнать, где правда, а тогда — с нашим удовольствием, мы свой солдатский долг отлично понимаем».
И Краснов ничего не смог противопоставить большевистскому тезису «и тот изменник, и другой изменник». Кому изменники — над этим солдат не задумывался. Керенский гнал его на войну с немцами. Корнилов не только гнал на войну, но еще и хотел взять в ежовые рукавицы уже привыкшую к неповиновению солдатскую вольницу, пьяную своей свободой. «Солдатская правда» была, безусловно, с большевиками: «Долой войну, даешь землю, волю и буржуйские капиталы!» Под аккомпанемент этой «правды», в которой все было ложью, кроме тождественности ее настроению армии, генералитет не мог уже осуществить своих планов.
Краснов рассказывает и о положении в Петрограде, об одинаковой растерянности и Керенского и сторонников Корнилова, о пустоте вокруг и правительства и Корнилова, одиноких — одно в своей нерешительности, другой в решимости.
Социалист Керенский, хотя и чувствовал необходимость мер, предлагаемых Корниловым, с которым вел переговоры два месяца, не решался на эти меры. Они так или иначе сводились к военной диктатуре над обеими столицами, транспортом и фронтом, к борьбе с Советами, главными защитниками Приказа № 1, к уничтожению двоевластия и к тотальной войне против большевиков. Если бы Керенский и Корнилов действовали заодно, даже в августе 1917 года победа над левой контрреволюцией и разрушительными тенденциями для них была еще мыслимой. Но Керенский пребывал в характерной для всей социалистической (необольшевистской) демократии России позиции сидения между двух стульев. Первый — сильная правовая демократическая государственность с вводным периодом диктатуры; второй — «свобода, равенство, братство» в трактовке прекраснодушных социалистических и прогрессистских литераторов, возомнивших себя политиками. И Корнилов был принесен Керенским — главой государства в жертву престижу Керенского-революционера, утопическому предрассудку безграничной свободы. Принеся эту жертву, Керенский утратил свою последнюю реальную опору и защиту от могучего натиска контрреволюции слева — от большевизма.
В. Б. Станкевич следующим образом описывает ситуацию июля-августа 1917 года (в его терминологии «левые» — это Керенский и Ко, «правые» — все, кто стоит правее Керенского):
«Аграрные беспорядки, падение производительности на заводах параллельно со всё растущей требовательностью рабочих, понижение личной безопасности, постоянные случаи грабежей и убийств, совершаемых безнаказанной и вооруженной толпой, словом, все признаки, что война национальная начинала переходить в войну социальную, напугали правые и умеренные круги. На демократизм, на волю народную, на Учредительное собрание надежды были уже отброшены: ведь муниципальные выборы по всей России дали подавляющее большинство социалистам. И выдвигается формула: выборы при современных условиях не могут дать точной картины разумной воли народа. К личным мотивам напуганных, терроризированных, идущих навстречу материальному разорению людей присоединились и для многих безусловно доминировали мотивы государственного порядка: власть слишком слаба, не хочет и не умеет приказывать массе, которая стала нестойкой на фронте, и это грозит русскому государству и всему будущему страны величайшими бедствиями. Не спрашивать, не советоваться, не убеждать, а приказывать и принуждать надо. И начинаются судорожные поиски власти, которая могла бы не убеждать, а только приказывать».
Крайности будто бы сходятся, и чисто формально политическая позиция «правых» кажется близкой к позиции большевиков. Но: 1) «правые» (напоминаю: все, кто стоял правее социалиста Керенского) хотели бы сохранить государство и не посягали на его экономический уклад. Более того: многие среди них стремились, во-первых, модернизировать этот уклад, очищая его от пережитков докапиталистических, во-вторых, по наведении устойчивости в стране и в армии восстановить и расширить демократические-правовые основы государственной жизни; 2) «правые» и особенно «умеренные» (кадеты) искали сильной власти, а большевики намеревались и готовились такой властью стать (сильную власть не ищут — ею становятся; в противном случае смешно надеяться на исполнение собственной программы «искателей», а не программы признанной ими над собой власти). Но сила с порядочностью, гуманностью и уважением к чужим интересам и правам совпадают редко. В больших движениях мировой истории, представленных документами, это случалось считанные разы. Вытащить же страну из глубочайшего хаоса в терпимый порядок без мер твердых и резких вообще возможно ли?
«Правые» и «умеренные» хотели (от кого-то, не от себя) сильной власти и поэтому тяготели к Корнилову, но не поддержали его на деле ничем существенным. Они слишком боялись «безумного настроения» массы, «когда кронштадтские матросы собирались идти походом, всем флотом, на Петроград, когда приходилось вступить в дипломатические сношения с Красноярской республикой, основанной солдатчиной, опьяненной революцией и бездельем» (Станкевич). Иными словами — когда с безумцами уже надо драться всерьез.
Как тут не запросить у судьбы сильной власти?.. И как в то же время осмелиться поддержать эту сильную власть, не будучи уверенным в победе? «Как раз противоположную эволюцию проделывало левое крыло общественности, — пишет Станкевич, имея в виду Керенского, себя и других более „правых“, чем большевики, социалистов. — С таким же беспокойством следя за признаками растущей анархии и болезненными психическими процессами в массах, левые круги сочли наиболее правильным идти на уступки в социальной области, в особенности в аграрной, дать так много, чтобы не оставалось ничего требовать, подкупить массы, купить у них повиновение».
Уточним: «„Левые круги“ пытались „купить массы“ не реальными уступками, не действительным разрешением аграрного вопроса, а лишь посулами, прикрывавшими самую реальную защиту интересов буржуазии. Массы это отлично поняли и отвернулись от Керенского», — комментируют Станкевича его издатели-коммунисты (знать бы, где и чем они кончили, эти комментаторы). Разумеется, это очередная псевдоисторическая тенденциозная подтасовка: «левые круги» (Керенский и Ко) до того дозащищали «буржуазию», что отдали ее и себя на самосуд устроителям и участникам бунта, ничего доброго народу не давшего. А большевики на гребне этого бунта (который они сперва развязали, а потом беспощадно усмирили) вошли в историю (и еще из нее не вышли).
Не решаясь твердо связать себя с умеренно-консервативными кругами, с патриотическим офицерством, способным противостоять бушующей, разлагающейся стихии, «левые круги» подписали приговор и себе и своему народу.
Станкевич, поклонник Керенского, комиссар правительства, с одной стороны, уверяет, что никогда не придавал значения «всяким планам справа — реальной опасности там не было, и можно было надеяться, что после урока корниловского восстания никто не подумает повторить его». С другой стороны, он вслед своему кумиру Керенскому оплакивает «ошибочный шаг» Корнилова, после которого возникли «полная дезорганизация и расстройство» в армии, «так как приходилось с величайшим трудом уговаривать солдат встать под команду своих офицеров… Солдатская масса, увидевшая, как генерал, Верховный главнокомандующий, пошел против революции, почувствовала себя со всех сторон окруженной изменой, а в каждом человеке, носящем погоны, — предателя». Но ведь это неправда, — это сознательное или подсознательное искажение фактов ради самооправдания и оправдания своих партийных лидеров! Армия развалилась до выступления Корнилова, а выступление это было отчаянной попыткой остановить развал армии; «мятежный генерал» выступил не против республики, а против ее распада, развала и уже совершенно отчетливого призрака идущей на смену бессильной керенщине беспощадного российского якобинства. Станкевич не мог не знать о долгих переговорах, которые Корнилов и Крымов вели с Керенским и Савинковым: об этом писали в газетах вслед за событиями. Ошибкой было не выступление Корнилова, а затяжка, неорганизованность этого выступления, оставленного в фазе замаха. Операция проведена не была.
Керенский же, предав своего Главковерха и призвав на помощь против него большевиков, совершил не ошибку, а преступление. Но он до своей (весьма благополучной и поздней, «при враче и нотариусе», как писал Роман Гуль) смерти в Нью-Йорке этого не понял и не признал.
От человека, пытавшегося спасти положение, открестились все.
Выдвиженец ЦИК Совета генерал Черемисов, назначенный командующим Северного фронта, начал ликвидацию последствий корниловской попытки с того, что принялся распекать войсковой комитет за… «правизну».
Все тот же Станкевич воспроизводит диалог:
«— Вы придерживаетесь слишком правой линии поведения. Поэтому солдаты не доверяют вам, и вам нужна воинская сила. Будьте немного левее и тогда обойдетесь без всяких броневых дивизионов.
— Самый правый в комитете я, — ответил Виленкин. — Что же касается других, то, если сложить года, проведенные членами комитета на каторге за левизну их убеждений, получится число большее, чем число ваших лет, г-н генерал. И если бы задача теперь была в том, чтобы быть левым и подыгрываться под настроение масс, то я давно сидел бы здесь на вашем месте, внесенный на руках солдат».
Вися над пропастью, правительственные, но не управляющие ничем специалисты произносят ошеломительные маниловские монологи о проникновении в душу солдата посредством спортивных игр и военных университетов. Они не воюют и не заключают мира с немцами. Они стараются подкупить солдат (и большевиков) своей покладистостью. Они говорят о деталях и оттенках будущего, которого у них нет. Они заняты всем чем угодно, кроме поисков путей спасения собственной власти и своей страны.
Казалось бы, можно было понять обстановку, когда в сентябре 1917 года, после ареста Корнилова, Станкевичу, по его же собственным словами, «пришлось столкнуться со стихией чистого большевизма» на матросском собрании в Ревеле (Таллинне). Незадолго до этого генерал Черемисов объявил матросам, что армии не нужна дисциплинарная власть, что сознательные солдаты могут сражаться и побеждать и без таковой. «Волны негодования, ненависти и недоверия сразу захватили всю толпу» при малейших попытках заговорить о каком-то упорядочении военной жизни, свидетельствует Станкевич. Но вместо того чтобы сожалеть о нелепом отказе Керенского своевременно объединиться с Верховным для нормализации положения, Станкевич прежалко оправдывается в попустительстве… Корнилову со стороны Временного правительства, словно до корниловской попытки навести порядок в армии и в тылу дела шли лучше, словно недопущение правительством корниловского посягательства на вмешательство в дела тыла изменило течение событий в пользу Временного правительства. Более того: Станкевич и позже, уже из эмиграции, оглядываясь на минувшие события, ставит Корнилова на одну доску с… большевиками:
«Но если после большевистского восстания, в июле месяце, многие находили, что необходимо было на страх массе обрушиться карами на лидеров большевизма, не особенно разбираясь, кто прав, кто виноват (!), то так же законны были требования суровой репрессии теперь по отношению к тем, кто был с Корниловым. Государственная власть, которая хотела быть достойной этого имени, должна была железной рукой расправиться с мятежниками, не останавливаясь даже перед невинной жертвой (?!), лишь бы суровостью запугать массы, лишь бы не превратиться в пугало, на которое не боятся садиться птицы. Это, может быть, было бы злодеянием, но таким, которым создается сильное правительство. Керенский не пошел на такое злодеяние. Прав он или нет?»
Комментарий редакторов ленинградского издания: «Керенский не пошел на это (что Станкевич называет „злодеянием“ и что в действительности было самой элементарной мерой обороны. — Д. Ш.), т. к. он был слишком тесно связан с правыми кругами, которые были ему необходимы для борьбы с большевиками и которых он боялся отшатнуть „расправой“ с Корниловым и другими мятежниками».
Если Керенскому нужны были «правые круги» «для борьбы с большевиками», то почему он не принял протянутой за два месяца до «мятежа» руки Корнилова и не обрушился на большевиков в армии и вне армии, когда еще имелись островки организованности во всеармейском хаосе? Почему он так медлил с арестом большевистских лидеров, что дал им скрыться в те дни, когда играючи мог с ними справиться? Ведь это действительно были бы «элементарные меры обороны»! Временным правительством они предприняты не были. Зато на разгромленный корниловский генералитет правительство накинулось со всей доступной ему суровостью.
Станкевич — сподвижник Керенского — отождествляет большевистское июльское выступление с мятежом Корнилова, как безграмотные нынешние публицисты отождествляют ГКЧП и генералов Франко или Пиночета, словно не видя, не понимая диаметральной противоположности в направленности этих событий. Он приравнивает попытку большевиков разрушить государственный строй уже республиканской России и взорвать ее государственную машину к попытке Корнилова эту машину усилить, укрепить, ввести в правовые рамки военного времени российскую жизнь.
Потеряв армию, не справляясь с тылом. Временное правительство потеряло все. Станкевич, вероятно, спросил бы нас: «А вы хотели бы увидеть в революционном демократическом правительстве Ленина или Сталина?» Нет, почему же? К примеру, человека типа и масштаба Столыпина, но облеченного доверием верховной власти и общества и не отторгаемого ни первой, ни вторым, человека твердого, практичного, решительного, нравственного…
Но Россия 1917 года его не выдвинула: на одном полюсе она сконцентрировала безволие и близорукость, на другом — безнравственность и тактическую изощренность. Безволие не рискнуло опереться на силу, протянувшую ему руку. Зато безнравственность и тактическая изворотливость не остановились ни перед чем. Народ, в котором не успело сложиться мощное третье сословие, мощный средний класс, легко входит в экстремистские колебания — от «правой» стены к «левой» пропасти. Парадокс этот и заставляет, по-видимому, Солженицына с 70-х годов снова и снова говорить о том, что стране, лишенной демократических правовых традиций, нужен плавный переход к либеральному образу мыслей и жизни, необходимо в переходный период правительство не деспотическое, не свирепое и не беспощадное, но достаточно твердое, чтобы осуществить такой переход. Необходимо, но где его взять? Тогда не нашлось. Столыпин был в свое время убит накануне отставки; Корнилов — предан теми, кому достаточно долго предлагал защиту.
Чего же конкретно хотел Корнилов? Что могла принести России его победа или совместная деятельность с ним правительства, судя по документам движения?
Генерал Деникин («Очерки русской смуты», т. II. Изд. Поволоцкого. Париж), издаваемый наконец и в России, подробно рассказывает историю корниловского движения. Точно и метко звучит первое же замечание Деникина, включенное советскими издателями в их сборник, очевидно, с целью опорочить Керенского близостью к потенциальному диктатору: «В борьбе между Керенским и Корниловым, которая привела к таким роковым для России результатам, замечательно отсутствие прямых политических и социальных лозунгов, которые разъединили бы борющиеся стороны».
Корнилов не боролся с политической программой правительства, крайне расплывчатой: он хотел остановить развал фронта и тыла.
Свою программу Корнилов изложил уже 30 июля, совещаясь с министром путей сообщения. Тогда же он развернул ее в своей записке Керенскому. Верховный предлагал своему правительству провести мероприятия, обязательные во всякой стране, ведущей тяжелую, длительную войну, тем более в стране, переживающей в военное время грандиозный политический переворот. Характерно, что Ленин, едва захватив государственную власть, немедленно и беспощадно осуществил в интересах своей диктатуры все предложения Корнилова плюс такие репрессивно-террористические нововведения и преобразования, которые Корнилову и не снились (они просто не лежали в области представлений Корнилова о возможном и нужном). Смотрите хотя бы следующую ленинскую директиву:
«ЧЛЕНАМ СОВЕТА ОБОРОНЫ… Хлеб перестал подвозится. Чтобы спастись, нужны меры действительно экстренные… Наличный хлебный паек уменьшить для неработающих по транспорту; увеличить для работающих. Пусть погибнут еще тысячи, но страна будет спасена» (разрядка моя. Д. Ш.).
Нет никаких оснований сомневаться в том, что слово «страна» в данном контексте означает «большевистская власть».
30 июля 1917 года Корнилов сказал: «Для окончания войны миром, достойным великой, свободной России, нам необходимо иметь три армии: армию в окопах, непосредственно ведущую бой, армию в тылу — в мастерских и на заводах, изготовляющую для армии фронта все ей необходимое, и армию железнодорожную, подвозящую это к фронту». Похоже ли это на директиву Ленина? Требования Верховного главнокомандующего элементарны — в том случае, если Россия намерена была продолжать войну (а Керенский вроде бы намеревался ее продолжать).
На том же совещании 30 июля 1917 года Корнилов предложил, «не касаясь вопроса — какие меры необходимы для оздоровления рабочей и железнодорожной армий», предоставить «разобраться в этом вопросе специалистам… для правильной работы этих армий они должны быть подчинены той же железной дисциплине, которая устанавливается для армий фронта».
Корнилов составил докладную записку для Временного правительства, в которой, по словам генерала Деникина, «указывалось на необходимость следующих главнейших мероприятий: введения на всей территории России в отношении тыловых войск и населения юрисдикции военно-революционных судов, с применением смертной казни за ряд тягчайших преступлений, преимущественно военных; восстановления дисциплинарной власти военных начальников; введения в узкие рамки деятельности комитетов и установления их ответственности перед законом».
Можно задумываться над тем, было ли в конце июля 1917 года правительство Керенского еще в состоянии осуществить эти меры, но бесспорная необходимость этих мер для восстановления боеспособности армии и сохранения режима не вызывает сомнений.
С полным к тому основанием говорит генерал Деникин о «двоедушии, которое проявил Керенский и которое сделало неизбежным окончательный разрыв между ним и верховным командованием».
Это даже не двоедушие (то есть не сознательно лживое маневрирование), а органическая двойственность российского «левого» интеллекта, стремящегося совместить несовместимое, не делая решительного выбора между более или менее определенными позициями своих ближайших соседей справа и слева. Быть демократом, не защищая свободы от посягательств; быть сильным, не принимая мер для своего укрепления. Боясь скатиться до практики диктаторской, не принимать вообще никаких мер во имя стабилизации своего политического положения; страшась чрезмерной, на его взгляд, крутости и прямоты Корнилова, опасаясь, что Корнилов в своем стремлении дисциплинировать, упорядочить фронт и тыл может смести и соглашательского премьера с его кабинетом, Керенский начинает подумывать о принятии на себя обязанностей Верховного главнокомандующего. Между тем вся его нынешняя и предыдущая министерская и председательская деятельность уже доказала его полную неспособность вывести страну и армию из тупика. И он не без оснований боится, что Корнилову и его сподвижникам это ясно.
3 августа Керенский, Савинков и Корнилов безрезультатно обсуждают записку Корнилова, которую затем перерабатывает и смягчает военное министерство. Обо всем, что происходит между Керенским, военным министерством и верховным командованием, становится сразу же известно Совету, и в начале августа в газетах поднимается буря против еще не принятой (даже в ее существенно смягченной форме) записки Корнилова. Особенную ярость вызывает пункт о введении смертной казни в тылу за деяния, опасные для страны и армии.
9 августа Керенский наотрез отказался подписать законопроект о введении смертной казни в тылу (за военные преступления). Военное министерство под давлением Керенского несколько раз переделывало докладную записку Корнилова, оставив неизменной (по общему смыслу) только ее теоретическую преамбулу и сведя на нет все практические предложения. Тем не менее Корнилов подписал и эту записку, дабы не разрывать отношений с Керенским и не компрометировать перед ним военное министерство. Он еще надеялся на возможность убедить правительство в своей правоте и действовать исключительно легитимно.
10 августа после нового обсуждения принимается следующее «решение»:
«…правительство соглашается на предложенные меры, вопрос же о их осуществлении является вопросом темпа правительственных мероприятий; что же касается… милитаризации железных дорог и заводов и фабрик, работающих на оборону, то до обсуждения этого вопроса ввиду его сложности и слишком резкой постановки в докладе он подвергнется предварительному обсуждению в надлежащих специальных ведомствах».
Можно ли считать каким-то решением это изворотливо-бессодержательное резюме?
Керенскому, вероятно, казалось, что в этом «решении» он ловко совместил позиции и «правых» (Корнилова), и «левых» (Советов), и собственную. В действительности же это административное блудословие было тождественно смертному приговору, вынесенному Временным правительством самому себе.
После новых устных и письменных доказательств со стороны Корнилова необходимости срочно противопоставить какие-то энергичные меры развалу армии и деятельности большевиков на фронте и в тылу Керенский дает 20 августа согласие на «объявление Петрограда и его окрестностей на военном положении и на прибытие в Петроград военного корпуса для реального осуществления этого положения, то есть для борьбы с большевиками» (Б. Савинков, «К делу Корнилова»). Нет ли в этих словах согласия на то, что неделей позже попытался совершить Корнилов, решившийся действовать самочинно, поскольку правительство и не подумало провести это свое же собственное решение в жизнь?
В какой мере Корнилов изменил Временному правительству, если согласно одному из протоколов Ставки (с участием Савинкова как управляющего военным министерством) день объявления военного положения приурочивался к подходу к столице конного корпуса, причем все собеседники — как чины Ставки, так и Савинков, и полковник Барановский (начальник военного кабинета Керенского) пришли к заключению, что «если на почве предстоящих событий кроме выступления большевиков выступят и члены Совета, то придется действовать и против них»; причем «действия должны быть самые решительные и беспощадные» (А. И. Деникин, «Очерки русской смуты»)? Но накануне эсеры (партия Керенского!) провели в Петроградском Совете резолюцию о полной отмене смертной казни как в тылу, так и на фронте.
Судя по ряду источников, Керенский, с одной стороны, петушился перед членами правительства и офицерами Ставки, утверждая, что он только и ждет выступления «левых, дабы умыть руки», снимая с себя ответственность за их разгром. С другой стороны, он до 26 августа не представляет проекта о введении в Петрограде и его окрестностях военного положения на обсуждение своего правительства, всячески оттягивая то или иное решение этого вопроса, уклоняясь даже от прямых, лобовых требований Корнилова и правительства ответить что-либо определенное по этому поводу.
«Мерами правительственной кротости» (Деникин) Керенский надеялся сдержать натиск «слева». Путем лавирования и проволочек он пытался остановить натиск «справа».
Но у него и его коллег оставалось всё меньше и меньше реальной власти. Правительство не могло говорить всерьез ни о каких государственных мероприятиях и нововведениях прежде всего потому, что не имело силы для их осуществления. Оно вроде бы не собиралось подчиняться программе большевиков, но и не приняло из рук Корнилова единственно возможного орудия упрочения своего положения — пока еще верных Ставке войсковых подразделений.
Мы уже говорили, что только большевики из всех сил, соперничавших в политической жизни России, не жаждали сильной власти над собой, а хотели и готовились стать ею сами. Готовились сознательно, с момента основания своей партии, следуя «Коммунистическому манифесту» Маркса и Энгельса и не гнушаясь в борьбе за власть никакими средствами. Зато либерально-демократические круги и движения, как правило, уповали на положительные процессы во властных структурах, ждали от них перспективной и благородной политики, наконец решительности и силы. Но даже и став (без особых своих усилий) якобы властью, они не проявили твердости сами.
Значит ли это, что демократам и либералам, участникам борьбы за власть или вошедшим в нее, следовало бы воспринять свойства и методы большевиков?
Отнюдь нет. Но и либерально-демократические и либерально-консервативные силы имели (тогда, как и теперь) гораздо более перспективную для России программу, чем большевики (а сегодня — коммуно-«нашисты»): одни из них хотели не насильственного скачка в неведомое, а утверждения в русской жизни правовых и экономических начал, освоенных Англией, Францией и Америкой — их союзниками; другие — развития плодотворных начал органически русской жизни (в конечном счете — той же либерализации, но в русских традиционных терминах, при сохранении монархии). Но вершина власти ко времени переговоров с Корниловым была, к несчастью, социалистической, то есть утопистской. И жесткие утописты-большевики были ей ближе либералов-прогрессистов и консерваторов. К этому идеологическому родству следует прибавить тщеславно-позерский характер, поверхностность и недальновидность Керенского-человека, его маниловское фразерство.
Генерал Деникин среди причин провала корниловского движения называет и «нравственную подавленность офицерства, укоренившуюся интуитивно в офицерской среде внутреннюю дисциплину и отсутствие склонности и способности к конспиративной деятельности». Последним качеством в российском обществе 1917 года обладали только профессиональные «левые» экстремисты (большевики и «левые» эсеры, причем первые — с более далеко идущими планами, чем вторые). Утопизм крайних сил относился к их программе-максимум, к строительной, мнимоконструктивной части их идеологии. В политической же тактике они (по крайней мере большевики) были реалистами. Все остальные политические движения постфевральской России просто жили — большевики и те, кто примыкал к ним вплотную, жили, чтобы захватить власть.
Укрепить положение Временного правительства эсер Керенский генералу Корнилову не позволил, опасаясь, по-видимому, реставрации монархии и потери власти. Между тем, по свидетельству генералов — участников движения, в нем было очень мало монархистов; большинство готовилось лишь оказать сопротивление ожидаемому большевистскому выступлению или предупредить его. «Один только лозунг выяснился совершенно твердо и определенно — борьба с Советами» (все более большевизирующимися), — пишет Деникин.
По-видимому, судя по ряду воспоминаний и фактов, последнее царствование скомпрометировало себя в России настолько, что и монархисты по убеждениям «никакой нежности к династии не питали» (генерал Краснов). Даже крайний из «правых», В. Пуришкевич, говорил на суде большевистского трибунала: «Но как мог я покушаться на восстановление монархического строя — который, я глубоко верю, будет восстановлен, — если у меня нет даже того лица, которое должно бы, по-моему, быть монархом? Назовите это лицо. Николай II? Больной царевич Алексей? Женщина, которую я ненавижу больше всех людей в мире? Весь трагизм моего положения как идеолога-монархиста в том и состоит, что я не вижу лица, которое поведет Россию к тихой пристани».
Среди приверженцев Корнилова в Петрограде были и трехсторонние провокаторы: от Керенского, от Советов, от большевиков. Об аморфной петроградской «организации», так и не оказавшей корниловцам-армейцам никакой действенной помощи, Деникин пишет: «Состав ее был немногочисленным и чрезвычайно пестрым; политическая программа весьма растяжима, и даже само наименование группы не выражало точно существа политических взглядов ее членов, так как, по словам руководителя группы, „в республиканском центре разговоров о будущей структуре России не поднималось; казалось естественным, что Россия должна быть республиканской, отсюда и пошло название Республиканский центр“» (разрядка моя. Д. Ш.).
При приеме в организацию «„никого не спрашивали, во что веруешь; достаточно было заявления, о желании борьбы с большевизмом и о сохранении армии“. Первоначально руководители Республиканского центра ставили себе целью „помощь Временному правительству, создав для него общественную поддержку путем печати, собраний и проч.“, потом, убедившись в полном бессилии правительства, приступили к борьбе с ним, участвуя в подготовке переворота».
К концу августа Республиканский центр числил в Петрограде до 4 тысяч человек и располагал известными средствами, предоставленными ему рядом состоятельных лиц. Кроме этой расплывчатой группы, организационно почти не оформленной, существовал еще Главный комитет офицерского союза с конспиративным центром во главе. О нем генерал Деникин говорит: «Не задаваясь никакими политическими программами, комитет этот поставил себе целью подготовить в армии почву и силу для введения диктатуры — единственного средства, которое, по мнению офицерства, могло еще спасти страну».
Работа комитета в основном велась незаконспирированно. Временное правительство знало о ней и относилось к ней отрицательно; Керенский и Брусилов (до вступления Корнилова в должность Верховного главнокомандующего) попытались даже связать работу Главного комитета офицерского союза с… Советами рабочих и солдатских депутатов, так что к моменту выступления Корнилова офицерский союз не располагал ничем, кроме намерений и предполагаемого сочувствия фронтовых офицеров. Генерал Деникин, перечисляя имевшиеся, по его убеждению, в августе 1917 года «реальные средства в руках тех, кто хотел перестроить тонувшую в дебрях внутренних противоречий верховную власть, чтобы спасти страну от большевизма», заключает: «Но в пределах этих ничтожных технических средств всякая активная и тем более насильственная борьба была заранее обречена на неуспех, если она не имела широкого общественного основания». Она его не имела — вот основной ключ к трагедии.
Со стороны умеренных и либеральных кругов, от октябристов до членов партии народной свободы (кадетов), представлявших буржуазию, бюрократию и широкие слои разнообразной интеллигенции (деятелей умственного труда), Деникин определяет это отношение так: «Сочувствие, но не содействие» (разрядка моя. — Д. Ш.).
Со стороны всех слоев общества, расположенных влево от кадетов, от либеральной интеллигенции, — неприязнь, антипатия, ненависть, непроходимые дебри неведения и безразличия в толщах народа, не затронутых фронтовыми интересами и политическими страстями.
«Сочувствие, но не содействие» — характернейшее отношение тогдашней и нынешней российской «публики» (образованной части общества) к лицам и группам, пытающимся делом, энергично, твердо отстаивать ее же, этой части общества, идеи. Антипатия (но не противодействие, не борьба) по отношению к лицам и группам, чьи устремления носят роковой для общества, для страны и для них, либералов и демократов, характер.
Февральская демократия непрерывно оглядывалась то вправо, то влево, без конца (умозрительно, наугад) подсчитывала, какое количество людей думает так, как она, а какое иначе. А в жизни (и, следовательно, в истории) бывают минуты, когда человек не вправе изменять самому себе, своему чувству правды и целесообразности, даже если с ним не согласны все. Такая решимость, разумеется, не оправдывает наперед вершителя злого дела, которое не становится лучше от убежденности преступника в своей правоте. Дело должно быть достойным. Но отсутствие такой решимости не оправдывает и человека, не посмевшего отстаивать правое дело только потому, что он не решился драться с его противниками, составлявшими некое большинство (или меньшинство). По-видимому, пассивность или активность (безответственность и ответственность) сами по себе ничего не решают: в каждом случае они неотделимы от дела, которое осуществляется или не осуществляется тем или иным человеком (группой или организацией).
В корниловском движении вся сочувствующая ему часть общества не действовала, а выжидала, не беря на себя ответственности за резкий поворот событий. Кроме того, как и по отношению к антитеррористической политике Столыпина, преобладающая часть даже и умеренно либеральной общественности не принимала и самого «военно-полевого», «чрезвычайного» языка требований Корнилова. Между тем они, эти его требования, «в простом преломлении военного мышления получали форму весьма элементарную: с большевиками или против большевиков» (Деникин). И следовало быть против.
«Как же определялась политическая физиономия предполагавшейся новой власти? За отсутствием политической программы мы можем судить только по косвенным данным: в составленном предположительно списке министров, кроме указанных выше лиц, упоминались Керенский, Савинков, Аргунов, Плеханов; с другой стороны — генерал Алексеев, адмирал Колчак, Тахтамышев, Третьяков, Покровский, граф Игнатьев, князь Львов. По свидетельству князя Г. Трубецкого, этот кабинет должен был, по словам Корнилова, „осуществлять строго демократическую программу, закрепляя народные свободы, и поставить во главу угла решение земельного вопроса“. А включение в кабинет Керенского и Савинкова должно было служить для демократии гарантией, что меры правительственного принуждения не перейдут известных границ и что „демократия не лишается своих любимых вождей и наиболее ценных завоеваний“» (Деникин).
Где же здесь реакционно-реставраторские устремления и планы?
Мы не будем приводить свидетельств (вплоть до сочинений Троцкого и показаний Керенского и Савинкова по делу Корнилова включительно) того, что Керенский и его военное министерство знали все о подготовке Корнилова к «оккупации» большевизированного Петрограда, к разоружению боявшегося отправки на фронт петроградского гарнизона и к введению военного положения в обеих столицах, на военных предприятиях, на транспорте и, уж конечно, на фронте (последнее звучало бы юмористически, если бы не было столь трагично). Знали, двусмысленно соглашались, уклончиво санкционировали или, по крайней мере, не вмешивались — и беззастенчиво предали в последний момент.
Большевики, конечно, не включили «в свой кабинет» «любимых вождей» демократии, и ее «наиболее ценные завоевания» не были большевиками сохранены. Предатели не получили своих сребреников: их ославили пособниками и орудием корниловского «мятежа». Лишь через шестьдесят лет начала в России приподниматься железная завеса над тем, как все это было. О чем думал в предсмертные дни на родине (в советской тюрьме) Савинков, я не знаю. История его возвращения и гибели общеизвестна. Но Керенский, дожив в эмиграции до глубокой старости, так и не понял своей роковой роли (я не знаю лучшего исторического портрета, чем Керенский в «Красном Колесе» Солженицына: весь как на ладони).
Керенскому только путем передергивания фактов и подтасовки свидетельств и документов удалось на следствии по делу Корнилова (сентябрь 1917 года) квалифицировать попытку корниловского наступления на Петроград как мятеж против Временного правительства, не как попытку действовать в его защиту решительней, чем действовало оно само. Во всяком случае, 27 августа Ставка, по ряду свидетельств, была потрясена, когда телеграф передал ей распоряжения, свидетельствующие об отказе Керенского от сотрудничества с Корниловым.
Положение Корнилова в те последние дни августа, когда он от томительных переговоров с правительством попытался перейти к делу, было уже безнадежным: за время, которое было потеряно из-за проволочек Керенского, окончательно разложилась армия, в том числе и войска, на которые надеялся опереться Корнилов. Потеряв терпение, Корнилов в своем воззвании от 27 августа объединил Временное правительство с большевиками, чем вызвал обиду и всех членов правительства, и той части общества, которая знала истинное положение дел. Корнилов писал, что «Временное правительство под давлением большевистского большинства Советов действует в полном согласии с планами германского генерального штаба и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на Рижском побережье убивает армию и потрясает страну внутри».
Это обращение должно было испугать Керенского и его окружение смертельно: оно заключало в себе прямое обвинение в государственной измене в военное время. Союз с большевиками против Корнилова стал, таким образом, для социалистов Временного правительства окончательно оправданным.
Если бы в воззвании было сказано, что не «действует в полном согласии», а «действует словно бы в полном согласии» или «действует объективно в полном согласии», то корниловская характеристика вполне соответствовала бы политическому и историческому смыслу поведения Временного правительства и Советов, хотя, разумеется, так или иначе их раздражила бы. Они действительно «убивали армию и потрясали страну внутри». Это не могло не радовать большевиков и военных противников России и очень облегчало задачи тех и других. Но беда была в том, что доводы и обвинения Корнилова пугали, раздражали и восстанавливали против него и Временное правительство, и неуклонно левеющие Советы, и солдатскую массу. Корниловские воззвания производили на солдат впечатление, обратное замыслу и надеждам их автора: Корнилов боролся за боеспособность армии, которая не хотела воевать и видела возможность не воевать в победе главных противников Корнилова — большевиков.
Российская трагедия — одно из самых ярких свидетельств того, что народы ошибаются не реже, чем отдельные люди, из которых они состоят. Оценка представителями демократии действий генерала Корнилова свелась к нелепой формуле: после «подавления (?.) мятежа» они констатировали «преступность способов борьбы, правильность целей ее» («…подчинение всей жизни страны интересам обороны»). Так передает эту формулу генерал Деникин; так звучит она в показаниях Керенского, в уклончивых, изворотливых периодах Савинкова, в кадетских газетах того времени и в других документах.
Но правительство в лице Керенского и Савинкова именно о таких «способах борьбы» и договаривалось с генералом Корниловым, ибо все предыдущие «способы» разбились о пропаганду большевиков, о нежелание армии воевать, о тот режим, который насадили в армии Советы и само Временное правительство! Речь велась в первую очередь о применении новых способов стабилизации власти: Корнилов ни о чем, кроме введения чрезвычайного положения, кроме ужесточения стабилизирующих фронт и тыл репрессий, и не говорил с правительством.
Каких еще способов «подчинения всей жизни страны интересам обороны» ждала от Корнилова «публика» (в правительстве и вокруг него), если Савинков характеризует ситуацию так: «Начало июля было началом так называемого тарнопольского разгрома. За исключением кавалерийских частей, ударных баталионов и немногих пехотных полков, наши войска бежали перед втрое слабейшим противником. Я был свидетелем этого бегства, свидетелем, как доблестные защитники родины умирали, не поддержанные резервами, брошенные на произвол судьбы своими товарищами. Большие дороги, проселки, даже поля были покрыты толпами беглецов, бросавших винтовки, бросавших орудия и если не бросавших обозы, то лишь потому, что у противника не было кавалерии. Стихийное бегство невозможно было остановить речами и резолюциями. Оно было остановлено броневыми машинами. Это был уже не первый случай, когда на Юго-Западном фронте пришлось применить вооруженную силу».
Это из одной телеграммы Савинкова, комиссара Юго-Западного фронта, военному министру и в Ставку (№ 124, от 7 июля 1917 года). А это из другой его телеграммы по тем же адресам (№ 125, от 9 июля 1917 года): «Дороги запружены. Много дезертиров. Большая часть без винтовок, с ранами в левую руку. Посетил позиции по Серету. Настроение пестрое. Неудачи отношу на большевистскую пропаганду, на не редкую неудовлетворенность командного состава, на нерешительность и колебания полномочных органов революционного большинства по отношению к армии».
Только один вопрос был бы уместен, если бы судить пришлось не Корнилова, а тех, кто спровоцировал Корнилова своими переговорами и доверием на почти безнадежное предприятие и ему же в решающий момент изменил: хотели вы сохранить свою власть и довоевать до победы над Германией в союзе с Антантой или не, хотели? Если хотели, как вы могли надеяться остановить развал «словами и резолюциями»? Почему позволили анархии и демагогии перейти роковую грань распада армии? Если не хотели воевать, почему не нашли в себе смелости прекратить войну миром? Но бессмысленно задавать вопросы теням прошлого. Надо задавать их себе и пытаться на них ответить.
Временное правительство не смогло дать стране ни мира, ни войны. Оно не сделало выбора, не посмело быть честным с самим собой и сказать себе и другим, как сказал себе и другим генерал Корнилов, что вне введения чрезвычайного положения, вне военной диктатуры — на время войны и в определенных областях жизни — выхода нет.
Послушайте, как рассуждает Савинков (комиссар фронта, а потом управляющий военного министерства в правительстве Керенского):
«Нерешительность и колебания попытался прекратить генерал Корнилов (разрядка моя. — Д. Ш.), 10 июля вечером генерал Корнилов пригласил меня и М. М. Филоненко к себе в ставку. Мы нашли там г-на Завойко. Г-н Завойко прочитал нам текст составленной им телеграммы на имя министра-председателя, в которой генерал Корнилов требовал введения смертной казни на фронте. Когда г-н Завойко кончил читать, генерал Корнилов обратился ко мне и М. М. Филоненко с вопросом, разделяем ли мы мнение, изложенное в телеграмме. Мы ответили, что разделяем вполне (разрядка моя. — Д. Ш.). Однако я счел нужным прибавить, что нахожу, что телеграмма составлена в таких ультимативных выражениях, что дает повод истолковать ее как угрозу Временному правительству в смысле неизбежности утверждения единоличной диктатуры в России. Я отметил также, что в этом случае генерал Корнилов встретит во мне врага».
И Савинков предложил смягчить текст телеграммы, на что Корнилов, как и много раз позднее, согласился без спора. Он часто и долго шел на уступки правительству и людям правительства, надеясь разбудить в них энергию и чувство ответственности за Россию.
Затем, с участием Савинкова, был составлен новый текст телеграммы (жаль, что у нас нет первого, не смягченного по требованию Савинкова):
«Армия обезумевших темных людей, не ограждавшихся властью от систематического развращения и разложения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. На полях, которые даже нельзя назвать полями сражений, царит сплошной ужас, позор и срам, которых русская армия еще не знала с самого начала своего существования. Это бедствие может быть прекращено, и этот стыд будет смыт или революционным правительством, или если оно не сумеет этого сделать, то неизбежным ходом истории будут выдвинуты другие люди, которые, сняв бесчестие, вместе с тем уничтожат завоевания революции и потому тоже не смогут дать счастья стране. Выбора нет: революционная власть должна стать на путь определенный и твердый. Лишь в этом спасение родины и свободы. Я, генерал Корнилов, вся жизнь которого от первого дня сознательного существования доныне проходит в беззаветном служении родине, заявляю, что отечество гибнет, и потому, хотя и не спрошенный, требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах в целях сохранения и спасения армии для ее реорганизации на началах строгой дисциплины и дабы не жертвовать жизнью немногих героев, имеющих право увидеть лучшие дни. Необходимо немедленное, как мера временная, исключительная, вызываемая безвыходностью создавшегося военного положения, введение смертной казни и учреждение полевых судов на театре военных действий. Не следует заблуждаться: меры кротости правительственной, расшатывая необходимую в армии дисциплину, стихийно вызывают беспорядочную жестокость ничем не сдержанных масс, и стихия эта проявляется в буйствах, насилиях, грабежах, убийствах. Не следует заблуждаться: смерть не только от вражеской пули, но и от руки своих же братьев непрестанно витает над армией. Смертная казнь спасет многие невинные жизни ценою гибели немногих изменников, предателей и трусов. Сообщаю вам, стоящим у кормила власти, что время слов, увещаний и пожеланий прошло, что необходима непоколебимая государственно-революционная власть. Я заявляю, что, занимая высокоответственный пост, я никогда в жизни не соглашусь быть одним из орудий гибели родины. Довольно! Я заявляю, что если правительство не утвердит предлагаемых мною мер и тем лишит меня единственного средства спасти армию и использовать ее по действительному ее назначению защиты родины и свободы, то я, генерал Корнилов, самовольно слагаю с себя полномочия главнокомандующего. 1917. Генерал Корнилов.
Со своей стороны вполне разделяю мнение генерала Корнилова и поддерживаю высказанное им от слова до слова. Комиссар Савинков».
Эта телеграмма, которую когда-нибудь вырежут наши потомки на цоколе памятника Корнилову, была позднее дополнена требованием (со стороны Корнилова) введения военных законов на транспорте и в военной промышленности, а также привлечения к военно-революционному полевому суду лиц, совершивших военные преступления в тылу. Можно ли удивляться тому, что человек с такой силой убежденности в своей правоте (непоправимо подтвержденной историей) рискнул выступить самостоятельно, когда окончательно убедился в бездеятельности правительства? И кем бы он был, если бы даже не попытался этого сделать?
Была ли надежда на успех в июле и даже в августе, если бы правительство мыслило и действовало решительно, заодно с Корниловым?
Напоминаем: в конце октября 1917 года Ленин требовал от ЦК РСДРП(б) осуществления переворота немедленно — до того, как обольшевиченный петроградский гарнизон будет отправлен на фронт и заменен частями, не распропагандированными большевиками. Мы неоднократно встречаем в собраниях сочинений Ленина и Троцкого и в приложениях или комментариях к ним проговорки о том, что петроградцы не хотели возвращаться на фронт и готовы были на все ради победы большевиков, обещавших немедленный мир. Если 25 октября (7 ноября) 1917 года в армии еще были части, способные защитить правительство, что же говорить об июле и августе!
Интересна оценка Б. В. Савинковым армейских большевиков:
«В сущности, „большевиков“ в настоящем значении этого слова в действующей армии почти не было, то есть почти не было убежденных людей, защищающих определенную политическую программу. „Большевизм“ выражался в неисполнении боевых приказаний и в подстрекательстве к такому неисполнению, в попытках братания и в пропаганде немедленного и на любых условиях мира с Германией. Подстрекателями и пропагандистами являлись или бывшие жандармы и городовые, или социалисты, до переворота принадлежавшие к „Союзу русского народа“ и другим подобным организациям, или демагоги из офицеров, надеявшиеся сделать быструю и построенную не на боевых заслугах карьеру. Эти „большевики“ имели в полках успех, потому что эксплуатировали естественное и труднопреодолимое нежелание рядового солдата идти в бой и рисковать своей жизнью». «Идейные» большевики, знакомые Савинкову по эмиграции, партийным дискуссиям и т. п., эксплуатировали то же самое «естественное чувство» (а заодно и много других «естественных чувств»).
Керенский всячески доказывал позже, что он не провоцировал действий Корнилова своими полуторамесячными с ним переговорами и перепиской. Он неоднократно отводил от себя обвинение в том, что в самоубийстве генерала Крымова, конный корпус которого должен был по заданию Ставки войти в Петроград и ввести в нем военное положение, немалую, возможно, решающую роль сыграло эффектно разыгранное Керенским недоумение и возмущение акцией Корнилова-Крымова. Знакомство с фактами и документами доказывает, что двойственность поведения и мироощущения Керенского и его окружения, путаность их политического и исторического мышления обеспечили победу большевиков.
П. Н. Милюкова невозможно, сохраняя хоть какую-то объективность, обвинить в белогвардейско-монархистской идеологии, однако и он в 20-х годах симпатизирует Корнилову, а не Керенскому, не, «правительству, подчинившемуся большевизму». У Милюкова и его единомышленников есть, по-видимому, все основания утверждать, что, «несмотря на неумелость в ведении заговора, на многие неблагоприятные обстоятельства, сыгравшие роковую роль, заговор до последнего момента мог бы увенчаться успехом, если бы не трусость и нечестность петроградских руководителей…».
Керенский двинул на транспорт и в армию массу агитаторов от правительства и Советов, в том числе множество большевиков, которым ничего не стоило дезорганизовать окончательно и транспорт, и движущиеся к столице войска Корнилова. Таким образом, Керенский ударил дубиной по руке, протянутой ему из Ставки с целью его спасения.
После своей бескровной, но роковой для Временного правительства победы над испугавшим его своей решительностью Корниловым Керенский пытается сам внести упорядоченность и государственную дисциплину в армейскую и гражданскую жизнь России. Он добивается лишь того, что те же советские и большевистские агитаторы, которые помогли ему, объявив генерала изменником, разложить и остановить войска Корнилова, теперь с удесятеренной наглостью саботируют правительственные распоряжения и предложения, объявляя (в которой раз!) предателем самого Керенского.
По свидетельству П. Н. Милюкова, после «неудачной попытки провести корниловскую программу» (уже под началом нового Верховного главнокомандующего — самого Керенского) «произошли ужасные сцены самосуда над офицерами в Выборге, в Гельсингфорсе и в Або». Как только солдаты узнали о попытке Корнилова установить военную диктатуру, солдатская извечная ненависть к «белой кости» и всеобщее нежелание воевать обрушились на первых попавшихся офицеров. Мы не будем ужасать читателя сценами кровавых расправ над офицерами в присутствии их жен и детей…
Уже после явной неудачи своей попытки Корнилов, которому правительство предлагает капитулировать, посылает Керенскому пять условий своей капитуляции, больше похожих на ультиматум победителя, чем на прошение побежденного (впрочем, Корнилова никто и не побеждал: ему просто не удалось ни на кого опереться в своей попытке спасти Россию, и эта попытка захлебнулась, увязла в трясине безвластия и безволия). Вот эти условия, которые, по-видимому, должны были заставить правительство одуматься на краю пропасти:
«1) Если будет объявлено России, что создается сильное правительство, которое поведет страну по пути спасения и порядка, и на его решения не будут влиять различные безответственные организации, то он немедленно примет со своей стороны меры к тому, чтобы успокоить те круги, которые шли за ним. Генерал Корнилов еще раз заверяет, что лично для себя он ничего не искал и не ищет, а добивается лишь установления в стране могучей власти, способной вывести Россию и армию из того позора, в который они ввергнуты нынешним правительством. Никаких контрреволюционных замыслов ни генерал Корнилов, ни другие не питали и не питают.
2) Приостановить немедленно предание суду генерала Деникина и подчиненных ему лиц.
3) Считает вообще недопустимым аресты генералов, офицеров и других лиц, необходимых армии в эту ужасную минуту».
И еще два-три пункта в том же духе и стиле.
Очевидно, всей меры, всей полноты беспомощности, бессилия, близорукости и самовлюбленной беспринципности Керенского Корнилов с его прямолинейно честным мироощущением еще не представлял себе даже 30 и 31 августа.
Начальник военного кабинета Керенского генерал Барановский телеграфирует от его имени в Могилев, где генерал Алексеев медлит с арестом Корнилова:
«Главковерх требует, чтобы генерал Корнилов и его соучастники были арестованы немедленно, ибо дальнейшее промедление грозит неисчислимыми бедствиями. Демократия (?) взволнована свыше меры, и все грозит разразиться взрывом, последствия которого трудно предвидеть. Этот взрыв, в форме выступления Советов и большевиков, ожидается не только в Петрограде, но и в Москве и в других городах. В Омске арестован командующий войсками, и власть перешла к Советам. Обстановка такова, что медлить больше нельзя. Или промедление — и гибель всего дела спасения Родины, или немедленные и решительные действия и аресты указанных вам лиц. Тогда возможна еще борьба. Выбора нет. А. Ф. Керенский ожидает, что государственный разум подскажет генералу Алексееву решение, и он примет его немедленно: арестуйте Корнилова и его соучастников. Я жду у аппарата вполне определенного ответа, единственно возможного, что лица, участвующие в восстании, будут арестованы… Для вас должны быть понятны те политические движения, которые возникли и возникают на почве обвинения власти в бездействии и попустительстве. Нельзя дальше так разговаривать. Надо решиться и действовать»
Генерал Алексеев (повторяется март семнадцатого?) решился, «задействовал» и арестовал… того человека, который с начала июля 1917 года хотел и пытался спасти Керенского и Россию от угрозы «в форме выступления Советов и большевиков».
Корнилов был убит в гражданской войне, в 1918 году на Кубани. Он бежал из-под ареста по настоянию своих соратников и семьи и погиб, не узнав той дальнейшей судьбы России, которую Керенский, доживший до восьмидесяти девяти лет, наблюдал из Европы и США.
П. Н. Милюков так заканчивает свои воспоминания о крахе корниловского движения: «Подача отставки всеми министрами в ночь на 27 августа и окончательный уход некоторых министров в ближайшие дни положили конец существованию второго коалиционного правительства и начали собой новый кризис власти, еще более затяжной и болезненный, чем предыдущий. Отношение Керенского к движению Корнилова и добровольная сдача Корнилова Алексееву вечером 1 сентября глубоко изменили положение в этом кризисе самого Керенского и тех „соглашательских“ элементов, на которых держалась самая идея коалиции. Третья коалиция после целого месяца переговоров кое-как наладилась. Но все понимали, что это будет уже последняя попытка сохранить государственность на той позиции „буржуазной революции“, которую все считали необходимой, но слишком немногие проявили готовность защищать последовательно и серьезно».
Началась агония власти.
Есть очень заманчивая ловушка на пути познания: отыскание аналогий, параллелей, симметрии между познаваемым и уже известным. С одной стороны, как же без этого? Сравнительный метод — сколько открытий на его счету, сколько сходного в людях и в их деяниях! С другой стороны, сравнительный метод велит видеть не только сходство, но и различия, не одну повторяемость, но и, неповторимость, единственность каждой частности бытия. А между тождественным и неповторимым — третья особенность: группы, типы — категорийная близость явлений, не снимающая ни индивидуальной неповторимости, ни моментов всеобщего в них (давно исследуемое философией триединство).
В «перестройке» и августе 1991 года есть нечто от февраля и августа 1917 года, но нет между этими четырьмя историческими феноменами тождественности, которую им иногда придают по обе стороны бывшего железного занавеса. Алкснис, Макашов, Стерлигов (равно как и гекачеписты) не Корниловы не только из-за совершенной несопоставимости личных уровней. Они не Корниловы также и по причине решительной несимметричности исторических обстоятельств, хотя, конечно, некоторые из этих лиц себя Корниловым ощущают. Мужественными спасителями отечества и его традиционных устоев от разрушительной демагогии либеральных болтунов. Но они не продолжают и не возобновляют дела Корнилова по спасению отечества, а завершают дело большевиков по его разрушению. При этом им уже не удастся, как удалось большевикам, собрать распадающуюся империю и установить свою железную власть на семьдесят лет (с 1985–1987 годов власть уже не железная). Победив, они принесли бы с собой нечто еще более худшее, чем даже большевики, и не для одной только России.
Каковы основания утверждать, что они, субъективно (как и многие другие решительные и сотрясенные люди) жаждущие восстановления былой мощи отечества и несомненно в большинстве своем — его благоденствия, по крайней мере для русских, толкают его к жестокому и необратимому краху?
Прежде чем попытаться ответить на свой вопрос, замечу: возникает впечатление, что ни непреложности причин, ни близкой возможности такого краха не видят не только решительные сторонники реставрации коммунистической империи, которых не впервые парадоксально поддерживает и часть монархистов. Не осознают этих причин и опасного автоматизма их действия и многие сторонники либеральных реформ. Эти либералы и демократы полагают, что в экономике можно с реформами не спешить. Они уповают и по сей день на их, плавность и постепенность. Время, четвертое измерение земного бытия, не воспринимается ими как нечто неумолимое и объективное. Они не видят, что резервы времени для плавности и постепенности экономических преобразований, которые имелись еще даже в 1985–1986 годах, исчерпаны.
В 1917–1921 годах большевики разрушали не только политические, культурные, духовные, психологические формы существования, присущие Российской империи. Они разрушили окончательно в 1917–1933 годах (с короткой заминкой нэпа) все нормальные для современного общества способы хозяйственного существования огромной страны. Не скупясь на чужую кровь, они заменили все органичные способы этого бытия — формами хозяйствования, для больших социальных систем противоестественными.
С помощью насилия, лжи, демагогии можно одни политические установления заменить другими; можно долго насиловать и убивать культуру; можно посредством принуждения, лжи, воспитания вменять обществу в неукоснительный долг исповедание тех или иных идеологических догм. Хотя, конечно же, общество, человек будут повреждаться в этих тисках, но физическая сила власти, при ее информационно-идеологической монополии, может сохранять это уродливое бытие, то есть длить вырождение общества и человека, сравнительно долго.
В 20-40-х годах то одному, то другому эмигрантскому движению и деятелю чудилось, что большевики возродили и увеличили имперскую и национальную мощь России. Именно это обстоятельство во многом обусловило причудливые и зачастую трагические судьбы российской эмиграции, не миновавшие и некоторых авторов приведенных нами отрывков. Признал «великую историческую роль» Сталина на закате своих дней, в 1942–1943 годах, П. Н. Милюков; позволил заманить себя в СССР и то ли покончил с собой, то ли был выброшен из окна (или в лестничный пролет) на Лубянке Савинков. Станкевич, по словам глубоко привязанного к нему, но этих взглядов его не разделявшего Р. Гуля, в своей выходившей в Берлине газете «Жизнь» в сентябре 1920 года писал: «„Ни к красным, ни к белым! Ни с Лениным, ни с Врангелем!“ — так звучит лозунг русской левой демократии. Но если можно отрицать всю Россию, то почему же нельзя ее всю принять и признать? Что, если рискнуть и вместо „ни к красным, ни к белым!“ поставить смелое, гордое и доверчивое: „и к красным, и к белым!“ — и принять сразу и Врангеля, и Брусилова, и Кривошеина, и Ленина!» Дальше Станкевич слал панегирики и «гению и гиганту» Ленину, «сотрясающему мир», и «чудесному герою Врангелю».
Из-за этой иллюзии часть первой эмиграции отвернулась от второй, военного времени: последняя, знавшая большевизму цену, была воспринята многими бывшими белыми как изменница делу России. А эти «белые» большевиков с великой Россией успели к тому времени в своем сознании отождествить. Один из самых трагических сюжетов, воплотивших в себе эту подмену понятий, — судьба семьи Эфрона-Цветаевой: муж — сначала белый офицер, потом агент и террорист органов в Европе, возвращенец, кончивший арестом пыточным следствием и расстрелом; дочь — французская совпатриотка, возвращенка, многолетняя узница и ссыльная в СССР; сын — пропавший без вести то ли советский солдат, то ли узник… Судьба великого русского поэта Марины Ивановны Цветаевой, ее путь от «Лебединого стана» до петли в Елабуге, известна…
Долго большинству наблюдателей не было понятно, что власть эта, в политике не просто твердая, а беспощадная, стремящаяся к оруэлловскому абсолютному произволу, в других фундаментальных отношениях совершенно бессильна, бесплодна и неотвратимо всеразрушительна. Саморазрушительна в том числе. Поразительно, что огромная «перестроечная» публицистика этому обстоятельству, наукой давно открытому и объясненному, не придает существенного значения. Разработка этой проблемы начата политико-экономической мыслью еще в конце XVIII века и завершилась на строгой математической основе на стыке экономики, политической экономии, биологии, теории информации, общей теории управления (кибернетики), учения о «больших системах», этики, истории, философии во второй половине XX века.
Огромный статистический материал, его анализ и обобщения в методологиях и методиках ряда наук сводятся к простому выводу: системам такого уровня сложности, как организм, общество, биоценоз и т. п., свойственна определенного рода внутренняя самоорганизация. При ее разрушении они удовлетворительно решать задачи своего выживания не могут. Способы, этой самоорганизации (соотношения авторитарности и либерализма, коллективизма и индивидуализма, патернализма и независимости, дискретности и непрерывности, суверенитета и централизма и т. п.) варьируются в разных культурах и при различных национальных менталитетах по-разному. Но главное остается общим: импульсы хозяйственной самоорганизации должны быть сильнее воли (произвола) общесистемного центра.
Воля потому приравнивается здесь нами к произволу, что никакой центр не может действовать в таких обстоятельствах иначе как слепо. Ибо количество заключенной в «больших системах» информации бесконечно. К тому же они еще и динамичны, и заключенная в них информация непрерывно и неуловимо меняется. Всеобъемлюще управлять ими расчетно-математическими методами из поставленного над ними центра невозможно: удовлетворительных команд для такой сложной и динамичной структуры нельзя за конечное время рассчитать. Нельзя даже собрать для них необходимую и достаточную информацию и ее проанализировать в реальные сроки. С того момента как в системе уничтожается самоорганизация (в современном обществе последнюю осуществляют политическая демократия и конкурентные рынки: товарный, ценных бумаг и капиталов; рабочей силы; информационный, культурно-эстетический), в ней начинается накопление неполадок («шумов»), которые, достигнув критического, катастрофического уровня, систему неизбежно разрушают.
В России этот процесс начался в ноябре 1917 года и продолжается до сих пор.
По мере нарастания «шумов» вырождение системы неотвратимо ускоряется. Автоматических механизмов пресечения, смягчения или замедления кризисных процессов она в себе не несет. О бессилии поставленного над системой центра регулировать необъятное мы уже говорили. «Перестройка» началась потому, что Горбачев и его тогдашние единомышленники были осведомлены о катастрофическом нарастании темпов и масштабов вырождения экономики и природной среды СССР.
Надо было немедленно начинать вносить в еще централизованную, еще политически относительно покорную систему элементы хозяйственной самоорганизации, способные постепенно вывести ее из тупика социализма. В конце же тупика зияла пропасть и пламенел ядерный гриб. Об этом предупреждали многие ученые и мыслители. Горбачев в своей книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира» (ни больше ни меньше!) писал, что получает такие предостережения, и даже не отказал им в благонамеренности, но просил подобных трудов ему более не присылать: он решительно не намеревался изменять «социалистическому выбору». И не намеревается (конец 1992 года) по сей день. Ельцин уже в 1988–1989 годах, а в 1990 году — четко, с твердой личной убежденностью и с трезвым инженерным пониманием структурной причины движения системы в тупик, заявил о принятии им вышеупомянутых научных выводов и о своем разрыве с социализмом и коммунизмом. Он был первым с 1917 года российским лидером, это сделавшим, и тем вошел в историю навсегда. Понял он и неотложность вмешательства в естественный для данной системы ход событий.
Все же те, кто независимо от своих целей утверждает, что они сначала наведут порядок (?) в экономике, политике, межнациональных и прочих внутриобщественных отношениях, то есть стабилизируют ситуацию, а уже потом пойдут к рынку, что они остановят зашедшую в тупик (на наш взгляд, еще по-настоящему и не начавшуюся) реформу, перепроверят ее, продумают другие ее пути и двинутся к рынку постепенно, медленно, менее болезненно для народа, — в очередной раз впадают в утопию. Действительно, надо и стабилизировать обстановку, и корректировать пути реформы, а может быть, и менять их, но все это необходимо делать на ходу, не замедляя, а ускоряя темпы воссоздания самоорганизации. Иначе не поспеть за ростом темпов распада.
Так что Стерлиговы-Анпиловы в данном случае продолжают дело не Корнилова-Крымова-Деникина, а большевиков. Они объективно (быть может, и сами того не ведая) стремятся завершить большевистское дело, ибо доводят распад, задействованный ленинцами, до фазы необратимости.
То же и самые благонамеренные замедлители реформ, их неторопливые, беспечные переигрыватели и постепеновцы из корпуса технократической и военно-промышленной номенклатуры. Они не могут (или делают вид, что не могут) понять главного: думать и действовать необходимо с минимальным разрывом во времени между этими процессами. Времени на долгие раздумья нет.
В нынешней России и в преобладающей части русской публицистики зарубежья господствует роковое заблуждение, которого избежал, наверное, лишь один Солженицын. Но чтобы охватить миропонимание Солженицына, надо без предубеждений прочесть хотя бы его «Красное Колесо». У современников для этого нет времени. Условия их быта и бытия не способствуют душевной сосредоточенности. Мысля урывками, с чужих слов, проще всего принимать желаемое за сущее, В годы смуты желанней всего стабильность. Поэтому (и со знаком «плюс» и со знаком «минус», в зависимости от политической ориентации) потомкам видятся как в Столыпине, так и в Корнилове в качестве главных достоинств сила, твердость, решимость. На самом же деле Столыпин был царским чиновником, государственным служащим и силы (полномочий) реализовать твердость своего характера, свою прямоту и ясность своих представлений не имел. Он был блокирован со всех сторон. Рукой Богрова двигало, по меткому выражению Солженицына, «идеологическое поле» общественного сознания, прежде всего — радикального. Способствовала осуществлению геростратова комплекса Богрова киевская охранка, то есть вроде бы махровые ретрограды. А завтрашний день нависал над Столыпиным неотвратимой отставкой (царской чете было с ним дискомфортно). Так что достаточной силой в административном смысле слова Столыпин не обладал. Кроме того, и ему и Корнилову было в высшей степени свойственно чувство субординации. Не конформизма и угодничества, а именно субординации как синонима государственной дисциплины, чувства долга и уважения к правопорядку.
Обобщенно — сила обоих была в объективно неутопическом характере их позиций. Конкретно необходимых полномочий и сроков для достаточно радикальных действий Столыпину судьба не отпустила, а Корнилов не взял на себя ответственности вовремя перешагнуть через субординацию.
Слабость же и «право-левых» оппонентов Столыпина, и растерзавших вырытое из могилы тело генерала Корнилова красных, и нынешних псевдоконсерваторов (невозможно и, главное, нечего уже им консервировать), мнящих себя Столыпиными и Корниловыми, — в безнадежном утопизме их планов и намерений. Им суждено только растлевать, убивать и разрушать.
Пользуясь случаем, возражу (не впервые) еще одному распространенному заблуждению: Русь, Россия вовсе не кружилась по замкнутому циклу «застой — реформы — революция — деспотия — застой» (начать можно с любой точки) тысячу лет. Циклические смены более или менее стабильных, подвижных, смутных, жестоких и относительно свободных (или мягких) периодов характерны далеко не только для России. До 1917 года, в особенности после реформ Александра II, обобщенная историческая траектория России в экономическом и правовом отношении представлялась сочетанием все ускоряющегося роста — и колебательного процесса с его подъемами и спадами. 1917 год эту линию перерубил. История страны потекла по другим законам. Корнилов попытался остановить этот поворот малой кровью. Чуть позже не удалось и большой.
Как это на первый взгляд ни странно, дело генерала Корнилова старались продолжить глубоко штатские и сугубо легитимно действующие люди — Ельцин и его единомышленники, хотя в своем политическом поведении они больше напоминают Керенского. Но ведь и Корнилов очень долго, непростительно долго пытался сообразовать свои действия с беспринципной нерешительностью Керенского и его окружения. Так что нет здесь никаких безоговорочных аналогий и антитез. Ясно одно если Ельцин и его помощники и сторонники, подобно Корнилову, будут слишком долго пытаться согласовать свои действия с силами сознательно или бессознательно разрушительными, то крушение — неизбежно. И оно будет страшней, чем тогда. Тех ресурсов, того колоссального запаса моральной, экологической, экономической прочности, которые были у России 1917 года, у нынешней России нет. Из нее немыслимо выжимать соки еще семьдесят пять лет. И не подо что это делать: иллюзии тоже на исходе. Точнее, если какие-то стойкие мифологемы и иллюзорные цели и остались, то они у разных групп, группок и единиц — свои, разные, стимулирующие взаимные столкновения, а не соподчиненность одной силе. Кроме того, перечисляя опасности, начинать следует с главного дефицита — с дефицита морали, рождающего немотивированную агрессию всех против всех.
Говоря о неотложности реконструктивно-созидательных мер, направленных против распада (в том числе и распада под маской стабилизации), я не имею в виду неизбежности силового вмешательства. Я говорю об овладении ходом событий. В июле-августе 1917 года невоенные меры были уже заведомо обречены на провал. В наше время — чем более отодвигается овладение ситуацией со стороны неподдельно реконструктивных и здравомыслящих сил, тем более вероятными становятся, во-первых, силовой характер вмешательства, во-вторых, бессилие любого его варианта. Время работает против прекраснодушного и бездеятельного оптимизма.
Я не хочу заниматься натяжками, поэтому не буду искать современных аналогов остальным участникам тогдашней драмы. Но и тогда казалось, и теперь видится так, что жизнь стала намного свободнее по сравнению с предыдущей эпохой. Тогда свобода оказалась прологом небывалого рабства. Прологом к чему она окажется на этот раз? Мы постоянно забываем о том, что свобода — это не более (но и не менее) чем возможность выбора, а значит, и синоним личной ответственности. Керенский в свое время выбрал предательство, Корнилов промедление в необходимой акции, общественность — перекос «влево». Будущее возникло как равнодействующая всех выборов. Всегда приходит момент, когда люди или их потомки платят за выбор.
Если только остаются потомки…


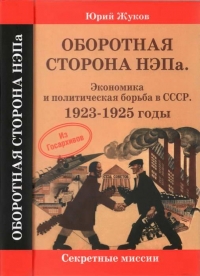
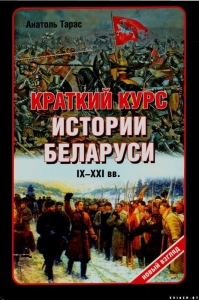
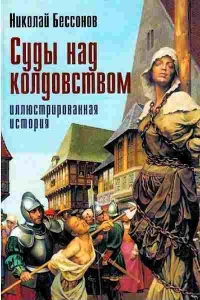
Комментарии к книге «У края бездны», Дора Моисеевна Штурман
Всего 0 комментариев