В. Б. Кобрин ИВАН ГРОЗНЫЙ
СПОР, КОТОРОМУ ЧЕТЫРЕ ВЕКА (Вместо предисловия)
Мало найдется в отечественной истории людей с такой стойкой популярностью в массовом сознании, как Иван Грозный. Вероятно, в этом феномене соединилось многое. И неизбывное чувство преклонения перед сильной личностью, от которого мы подчас не можем избавиться и до сих пор. И несомненная яркость этого человека, особенно по сравнению с посредственностями, которых так много перебывало после него на русском престоле. И ужас перед садизмом и жестокостью, перед страшными казнями. Быть может, из-за того, что в отношении к царю Ивану сплелись столь разные чувства и настроения, так разнообразна всегда была его оценка: и в народном сознании, и в исторической науке, которая тоже несвободна от влияния массовых представлений.
Спор о царе Иване Васильевиче идет уже четыре с лишним века: ведь начался он еще при жизни Грозного. Одна из первых его общих характеристик дана в начале XVII века младшим современником царя то ли князем Катыревым-Ростовским, то ли князем Шаховским (авторство - предмет спора в научной литературе). В этом портрете ужились противоречивые оценки личности царя Ивана. Автор начал с внешности (а в литературном обычае средневековья внешность тесно связана с душевными качествами): некрасивый ("образом нелепым"), с длинным и кривым носом ("нос протягновен и покляп"), царь вместе с тем высок, у него "сухо тело" и толстые мышцы, высокие плечи и широкая грудь. А дальше начинается настоящий панегирик: "Муж чюднаго рассужения, в науке книжнаго поучения доволен и многоречив зело, ко ополчению дерзостен и за свое отечество стоятелен".
Но восхваление внезапно обрывается, и мы читаем слова сурового осуждения: "На рабы своя, от бога данный ему, жестосерд вельми, и на пролитие крови и на убиение дерзостен и неумолим; множество народу от мала и до велика при царстве своем погуби, и многия грады своя поплени... и иная многая содея над рабы своими..." Кажется, не может быть человека хуже. Но нет: "Той же (не какой-то другой, а тот же, тот же!) царь Иван многая благая сотвори, воинство вельми любяше и требующая ими от сокровища своего неоскудно подаваше". А вывод? Его автор предоставил сделать читателю, заключив коротко и нейтрально: "Таков бо бе царь Иван". Похоже, современник стал в тупик перед многогранностью человеческого характера.
Разнообразен царь Иван и в фольклоре. В одних песнях он - герой, взявший Казань. Правда, и под стенами вражеской крепости он проявляет необузданный, жестокий нрав: стоило чуть-чуть запоздать взрыву подкопа под городские стены по сравнению с царскими расчетами, как уже "государево сердечко рассердитовалось, приказал он пушкарев казнить-вешать". И только нашедшиеся "в полку люди умные, люди умные, люди разумные" сумели уговорить царя не торопиться. И все же здесь он хоть и вспыльчив, но отходчив. В другой песне народ горько оплакивает Грозного: "Ты восстань, восстань, ты, наш православный царь... царь Иван Васильевич, ты наш батюшка!" При желании можно при помощи этих текстов сконструировать образ этакого народного царя (и конструировали!). Только пришлось бы замолчать другие.
Ведь "при Грозном царе Иване Васильевиче были годы те недошлые (неудачные - В. К.), времена были студеные". А как фольклорный царь Иван разговаривает с собственным сыном:
Тут стемнел царь, как темна ночь,
Зревел царь, как лев да зверь:
"Сказывай, собака, про измену великую!
Ты на братца скажешь, так братца не видать,
На себя ты скажешь, то свою головку потеряешь".
В другом же случае Грозный похваляется:
Первого боярина в котле велю сварить,
Другого боярина велю на кол посадить,
Третьего боярина скоро велю сказнить.
Песенный Грозный по вздорному обвинению приказывает казнить родного сына. А в одной из былин скоморохи идут "во инишное царство переигрывать царя Собаку". Скоморохи эти - не обычные бродячие актеры, они "не простые люди, а святые, веселые люди скоморохи".
"У того царя да у Собаки
а около двора да тын железный,
а на каждой-та да на тычинке
по человечьей-то сидит головке".
"Царь Собака" не назван по имени: узнать в нем грозного царя и так не составляло труда.
Множество легенд ходит в народе про царя Ивана: только Петр Первый может сравниться с ним в этом отношении. Ивану Грозному приписывают строительство многих сооружений, связывают с его именем эпизоды местной истории... В Рузском районе Московской области в селе Аннине жители лет тридцать тому назад были твердо уверены, что их село получило название от того, что Иван Грозный заточил в местную .церковь свою сестру Анну. Напрасно я убеждал своих собеседников, что у Ивана Грозного не было ни одной сестры, что в церкви никого никогда не заточали, а темницами для женщин служили монастыри, монастырь же не может быть назван по имени монахини-узницы... Жители села твердо стояли на своем. Такая прочность легенды - одно из свидетельств популярности Ивана Грозного.
Разнообразие оценок дел и личности царя Ивана нашло продолжение и в науке. У замечательного историка начала XIX века Николая Михайловича Карамзина, который стремился прежде всего к моральной оценке исторических событий и деятелей, отношение к Ивану Грозному однозначно: "герой" в первый период своего царствования, он превращается в тирана во втором.
Во второй половине XIX века набирает силу уже не дворянская, а буржуазная историческая наука.
Историки так называемой "государственной школы" подошли к оценке царствования Ивана IV по-новому. Эти ученые изучали уже не столько события, сколько явления, стремились не только ярко описывать прошлое и находить в нем хорошие и дурные примеры, а познавать причины явлений, вскрывать закономерности хода истории. Историк этого типа как бы вонзал в живую ткань истории хирургический скальпель холодного анализа. Для своего времени такой подход был необходим, он помогал преодолеть царивший в истории произвольный психологизм, сделать историю наукой.
Самым ярким ученым этой школы был великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев (1820-1879). По его представлениям, в ходе исторического развития России шла постепенная смена начал "родовых" новыми, "государственными". В этом, как полагал Соловьев, и состоял прогресс истории. Соловьев считал, что при всех жестокостях царя Ивана его деятельность была шагом вперед, к победе "государственных" начал.
Но если Соловьев резко и недвусмысленно говорил о казнях невинных людей, писал, что "не произнесет историк слово оправдания такому человеку", то многие последующие историки (например, выдающийся ученый конца XIX - начала XX века С. Ф. Платонов), за исключением, пожалуй, Василия Осиповича Ключевского, порой как бы даже бравировали своей свободой от эмоциональных и моральных оценок прошлого. Всякое привлечение в историю нравственных критериев почиталось ненаучным. Распространилось бытующее и сегодня мнение, что задача историка в том, чтобы не судить, а лишь понять людей минувших веков.
Такая позиция, на мой взгляд, противоречит самой сути истории, превращает ее в социологию прошлого, науку не о людях, а об абстрактных схемах.
Вероятно, наши человеческое достоинство и нравственное чувство были бы оскорблены, узнай мы, что через четыре века историк будет пытаться лишь "понять" гитлеровцев, не осуждая их преступлений. Так вправе ли мы отказывать в справедливости тем, кто жил и страдал за четыре века до нас? Говорят, что историю надо писать без гнева и страсти, "sine ira et studio", по выражению древних римлян. Берут даже себе в союзники Пушкина: "Добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева", забывая, что у Пушкина эти слова произносит не летописец Пимен, а Григорий Отрепьев. А летописец-то как раз не равнодушен, он описывает для потомков "земли родной минувшую судьбу". Да, историк, разумеется, обязан понять прошлое. Но как понять без "гнева и страсти", без сочувствия людям?
С конца 30-х годов оценка деятельности Ивана Грозного становится почти единодушной. На страницах учебников, и ученых трудов, и романов, и на киноэкранах и театральных подмостках царя Ивана стали изображать только как великого патриота Русской земли, борца за правое дело, который беспощадно, но справедливо расправлялся с изменниками-боярами. Многие писатели и режиссеры - и бездарные, и, к сожалению, талантливые приложили к этому руку, А. Н. Толстой написал драматическую дилогию о Грозном, отнюдь не принадлежащую к лучшим творениям его пера. Замечательный режиссер С.М. Эйзенштейн снял фильм, в котором живописность кадров, изысканность монтажа, филигранная игра актеров были мобилизованы, чтобы показать, какие гнусные и грязные заговоры плели бояре против царя, такого романтичного и обаятельного в прекрасном исполнении Николая Черкасова. Сценарий написал сам режиссер. Фильм должен был кончаться апофеозом: царь и умирающий от боевой раны Малюта Скуратов смотрят на расстилающееся перед ними "море русское".
В чем же дело? Почему все рассказы современников о жестокостях Ивана Грозного были объявлены вражеской клеветой на выдающегося деятеля? Причины лежали за пределами науки. Террор Ивана Грозного показался привлекательным И. В. Сталину. Именно поэтому Эйзенштейн еще в годы войны написал сценарий своего трёхсёрийного фильма и снял первую серию. Созданная же сразу после войны вторая серия Сталину не понравилась (из третьей успели снять лишь отдельные эпизоды). Эйзенштейн пытался показать, что террор необходим, несмотря ни на что. Но это "несмотря" оказалось в фильме неожиданно ярким: казни, пьяный разгул опричников были изображены живописно и производили сильное впечатление. В постановлении ЦК ВКП(б) о киноискусстве, принятом в сентябре 1946 года, авторов фильма обвинили в том, что "прогрессивное войско опричников" (так и было сказано!) получилось чем-то "наподобие американского ку-клукс-клана".
Два месяца спустя Эйзенштейн отправил Сталину письмо, а еще через три месяца, в феврале 1947 года Эйзенштейна и Черкасова вызвали в Кремль. Там их приняли Сталин, Молотов и Жданов. С 11 часов вечера до начала первого ночи три высших руководителя страны обсуждали, каким должен быть фильм об Иване Грозном. Вернувшись домой, Эйзенштейн и Черкасов по свежим следам записали эту беседу.
Сталин и его приближенные объясняли режиссеру и актеру, как им надлежит показать личность царя. "Царь Иван был великий и мудрый правитель, - наставлял Сталин и продолжал: - Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограждал страну от иностранного влияния". Тем Иван Грозный был выше Петра I, хотя и он тоже "великий государь": "Петруха открыл ворота в Европу и напустил слишком много иностранцев".
Видно, Сталин неважно знал историю: ведь не допускали в Россию иностранных специалистов как раз ее тогдашние враги, чтобы ослабить страну. Например, в 1548 году Ганс Шлитте набрал по приказу Ивана IV в Германии более ста мастеров разных профессий. Однако в Любеке местный магистрат их задержал, а самого Шлитте заточил в тюрьму: о такой услуге попросил городские власти Ливонский орден. Да и среди опричников процент иностранных выходцев был выше, чем среди всего русского дворянства той поры. Сталин защищал свою политику: ведь именно он закрыл петровское "окно в Европу". Поскольку культура, наука и техника не могут развиваться в условиях изоляции, страна за сталинский страх перед "коварными иноземцами" заплатила не преодоленным до сих пор отставанием во многих областях.
Сталин дошел до того, что сравнил Ивана Грозного с Лениным: "Замечательным мероприятием Ивана Грозного было то, что он первым ввел монополию внешней торговли. Иван Грозный был первый, кто ее ввел, Ленин - второй". Кто знает, откуда почерпнул Сталин этот удивительный факт? Ведь этой монополии не только не было, но при феодализме и быть не могло.
Молотов и Жданов вставляли замечания, говорили о частностях: Молотов - о том, что "нет шума Москвы, нет показа народа", Жданов - о том, что "Иван Грозный получился неврастеником", что режиссер "отвлекает зрителей от действия и бородой Грозного" (Эйзенштейн "обещает в будущем бороду Грозного укоротить")... Сталин заговорил о главном:
"Иван Грозный был очень жестоким. Показывать, что он был жестоким, можно. Но нужно показать, почему нужно быть жестоким. Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он недорезал пять крупных феодальных семейств. Если он эти пять семейств уничтожил бы, то вообще не было бы Смутного времени. А Иван Грозный кого-нибудь казнил и потом долго каялся и молился. Бог ему в этом деле мешал. Нужно было быть еще решительнее".
Откуда Сталин взял эти пять семейств? Почему именно пять и какие пять? Ведь десятки боярских родов пережили опричнину, да и в ней самой, как убедится читатель, прочтя эту книгу, служили многие аристократы. Где источник этой лжеэрудиции? Как-то я печатно признался в своем неведении. Один читатель подсказал: а не было ли сталинское утверждение ошибочным выводом из шедшей во МХАТе классической пьесы А. К. Толстого "Царь Федор Иоаннович"? Князь Иван Петрович Шуйский там говорит, что царь Иван, "умирая, Русь пятерым боярам приказал". Похоже, что и впрямь мхатовский спектакль стал для Сталина источником его познаний в истории России XVI века.
Высказался Сталин и о Малюте Скуратове, который, по его словам, "был крупным военачальником и героически погиб в войну с Ливонией". (Действительно, Малюта погиб в бою, но крупным военачальником он никогда не был; и прославился все же как палач.)
Постановление ЦК ВКП(б), в котором говорилось о "прогрессивном войске опричников", было опубликовано в 1946 году, но какие-то негласные, идущие явно с самого верха указания появились значительно раньше, вероятно, в конце 30-х годов.
С этой точки зрения наводит на многие размышления судьба книги известного специалиста по истории античности и раннего средневековья Р. Ю. Виппера "Иван Грозный". Первое ее издание вышло в 1922 году в частном издательстве "Дельфин". Автор восхищался внешней политикой царя Ивана, называл его одним из "великих организаторов" Москвы и приходил к выводу, что "исторический приговор об Иване Грозном, во всяком случае, не должен быть строже, чем о Петре I". В 1924 году Виппер уехал из СССР в буржуазную Латвию и стал профессором Рижского университета.
В 1933 году молодой историк, будущий академик М. В. Нечкина в статье "Иван IV" в Большой советской энциклопедии (издание 1-е) писала: "Эмигрировавший в 1924 г. проф. Р. Ю. Виппер в своей книге "Иван Грозный" (1922) создает контрреволюционный апофеоз И. IV как диктатора самодержца, прикрывая "историчностью" темы прямой призыв к борьбе с большевизмом". Прошло всего шесть лет, и в том же издании энциклопедии неподписавшийся автор статьи "Опричнина" уже утверждал, что "С. Ф. Платонов и Р. Виппер правильно усматривали в О. крупную реформу служилого землевладения, имевшую и большое военное значение", что "кровавый террор", связанный с "искоренением боярской измены, заслонил как для современников, так и для многих исследователей существо О.". В том же 1939 году вышел вузовский учебник истории СССР, в котором опричнина, "несмотря на ряд темных и отрицательных сторон", названа "явлением положительным".
В марте 1941 года в "Известиях" появилась статья горьковского писателя В. И. Костылева, который отрицал как клевету иностранцев рассказы о жестокости Ивана Грозного и оценивал его как выдающегося государственного деятеля. Пухлый .роман Костылева, беспомощный художественно и откровенно фальсифицирующий историю, стал своего рода "бестселлером" и был удостоен вскоре Сталинской премии.
Незадолго до того, в 1940 году, Латвия стала советской, Виппер вернулся в Москву и двумя новыми изданиями (1942 и 1944) выпустил свою книгу. Концепция осталась прежней, но появились цитаты из одной работы И. В. Сталина, несколько ссылок на новые источники и литературу, да еще и целая новая глава с многозначительным названием "Борьба с изменой". Автор был избран академиком.
Итак, кампания по возвеличиванию Грозного явно разворачивалась. Мы не знаем точно, в какой форме Сталин давал свои указания об оценке Ивана Грозного, но можем себе до некоторой степени представить их механизм по воспоминаниям кинорежиссера С. Юткевича. Он рассказывает, как после просмотра Сталиным фильм Юткевича по пьесе Н. Погодина "Кремлевские куранты", уже принятый художественным советом, был обвинен в идейно-политических ошибках. Прочитав список обвинений, Юткевич спросил, принадлежат ли эти замечания Сталину? Ему ответили, что Сталин во время просмотра не произнес ни слова, но министр кинематографии Большаков зафиксировал, где вождь неодобрительно хмыкнул, а потом при помощи А. А. Жданова расшифровал эту запись "хмыканий". Такая негласность составляла особую силу идеологических указаний тех лет: границы дозволенного не очерчены четко, а потому и авторы, и их многочисленные контролеры стараются их максимально сузить.
Неудивительно, что большинство историков включилось в кампанию по восхвалению Грозного царя: это была как бы демонстрация благонадежности. Вслед за Р. Ю. Виппером аналогичные книги выпустили и крупные ученые, специалисты по истории средневековой России С. В. Бахрушин и И. И. Смирнов. Горько сегодня читать эти сочинения тому, кто знает и ценит другие труды этих маститых ученых, кто с восторгом слушал в студенческой аудитории лекции Бахрушина и сохранил о них благодарную память. Неужели большой историк сам верил, что "в лице Ивана Грозного мы имеем... крупного государственного деятеля своей эпохи, верно понимавшего интересы и нужды своего народа и боровшегося за их удовлетворение"? Впрочем, не мне через сорок с лишним лет судить - у каждого времени свои компромиссы.
Но на такие и тогда шли не все. Например, Степан Борисович Веселовский (1876-1952), замечательный советский историк. В тяжелые годы этот ученый спасал честь и достоинство отечественной исторической науки. Опричнина была вроде далека от его традиционно сложившихся научных интересов: предмет его исследований составляла история социально-экономических отношений. Но преданность научной истине и отвращение ко лжи заставили его взяться за большой труд. Первые его работы об опричнине еще успели выйти в свет: они были опубликованы до издания постановления о киноискусстве, а малотиражные научные сборники и журналы оказались не в такой жесткой зависимости от негласных указаний. Но основная часть трудов Веселовского по истории опричнины дошла до читателей лишь через 11 лет после смерти ученого, в 1963 году. Историк решительно отвергал "прогрессивность" опричнины, острым пером создал достоверную картину жизни России XVI века. Это был подвиг - и научный, и гражданский. Но подвиг тем и подвиг, что недешево обходится герою.
Вскоре против Веселовского началась травля. Повод нашелся. В 1947 году вышел в свет его фундаментальный труд "Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси". Книга была далека от острых политических или хотя бы мировоззренческих вопросов, но тем не менее не просто попала под огонь критики, а стала объектом настоящей "проработки". Представление о ней дает хотя бы уже название рецензии И. И. Смирнова в "Вопросах истории": "С позиций буржуазной историографии". А некто А. Кротов в "Литературной газете" негодовал: "Читая книгу С. Б, Веселовского, трудно поверить, что автор ее - советский ученый". Не была ли эта кампания завуалированной расправой за борьбу против восхваления Ивана Грозного, средством замазать рот ученому? Ведь в самом деле, после 1948 года для Веселовского оказались закрыты почти все печатные издания. Лишь одна подготовленная им публикация документов вышла в свет в 1951 году.
Так факторы, основанные на вненаучных соображениях, сделали надолго запретной правду об Иване Грозном. Лишь со второй половины 50-х годов, после исторического XX съезда КПСС, наука стала возвращаться к истинным, взвешенным оценкам. Но человеческая природа такова, что многие ученые успели привыкнуть к, определенным стереотипам и с трудом отказывались от них. Следы прежних представлений до сих пор можно найти и в учебниках, и в научных исследованиях, и в романах.
Цель этой книги - попытаться разобраться в личности царя Ивана, в его времени, в том, какой отпечаток они наложили друг на друга: время на Грозного и Грозный на время. Не хотелось бы, чтобы читатель был вынужден верить автору на слово. Ведь мой вариант ответа на вопрос, каков "бе царь Иван", разумеется, лишь вариант. Поэтому свою задачу я вижу в том, чтобы представить читателю максимум четких, научно выверенных фактов. На их основе он будет вправе принять или оспорить мои взгляды.
Глава I НАЧАЛО
Наследство
Чтобы понять деятельность Ивана IV, надо знать, какую страну он получил в наследство, когда в 1533 году трехлетним ребенком вступил на престол и стал государем великим князем всея Руси.
К исходу первой трети XVI века Россия была большой страной, но все же намного меньше, чем в последующее время. На западе пограничной областью была Смоленская земля, да и то она совсем недавно, в 1514 году, была отвоевана у Великого княжества Литовского. На юго-западе только начинали заново осваивать районы вокруг Орла, Курска, Тулы. Калуга была пограничным городом. Дальше простиралось Дикое поле - степь, находившаяся под постоянной угрозой нападения крымского хана. На востоке Россия кончалась Нижегородским и Рязанским уездами. Трудно себе представить, что еще не только не было ни Тамбова, ни Пензы, ни Саратова, но и их округа еще не входила в состав России. На востоке с Россией граничили Казанское и Астраханское ханства. Лишь на севере рубежи страны, как и сейчас, доходили до Ледовитого океана, до Белого моря. На северо-западе в руках России было и побережье Финского залива, в том числе те места, где теперь стоит Ленинград: Петру I пришлось лишь отвоевывать то, что было потеряно в конце XVI - начале XVII века.
Это государство уже было единым, но объединение русских земель закончилось лишь недавно. К 1533 году со времени присоединения Новгородской земли к единому государству прошло немногим более полувека (для средневековых темпов жизни срок совсем небольшой), меньше полувека - от присоединения Твери (а до того уже Клин был зарубежьем!). Всего за 12 лет до вступления Ивана IV на престол потеряла самостоятельность Рязань.
Политическое объединение было отнюдь не равнозначно централизации. Сохранялось живое и красочное разнообразие жизненных укладов в разных землях. Эту ситуацию гениально точно отразили наши великие архитекторы Барма и Постник в соборе Покрова "что на рву" (чаще его называют храмом Василия Блаженного) на Красной площади: мощный центральный шатер объединяет восемь разнообразных главок. Каждая из них неповторима, но все вместе они составляют нерасторжимое единство. Так, быть может, интуитивно в художественной форме воплотилось сочетание политического единства с сохранением особенностей отдельных земель, то, что В.И. Ленин называл "живыми следами прежней автономии"[1].
Церковный писатель рубежа XV-XVI веков Иосиф Волоцкий, говоря о Василии III (отце Ивана IV), как-то назвал его "всея Русский земля государем государь". Разумеется, в этом определении содержится и обыкновенная лесть: великий князь предстает своего рода "царем царей", этаким шахиншахом. Но вместе с тем эта формулировка отражала и истинное положение вещей: под верховной властью государя всея Руси сохраняли свою долю власти многие "государи" рангом пониже. Князья многих из тех территорий, что вошли в состав единого государства, владели обломками своих прежних княжеств как вотчинами, сохраняли частички своей былой власти.
Василий III
Но жизнь брала свое, и черты прошлого постепенно бледнели. Представим себе одного из таких князей. От его былого удела (части княжества) у него осталось два села с двумя-тремя десятками деревень. Был ли он врагом централизации? Нет. После присоединения княжества к Москве он женился на московской боярышне и получил в приданое вотчины на старой территории Русского государства, далеко за пределами своего родового гнезда. Еще в нескольких уездах он прикупил вотчины, вдобавок благодаря своим связям и положению ему удалось получить бесплатно поместье еще в одном уезде. Такой князь постепенно превращался в обычного, хотя и богатого и знатного, московского служилого человека. Вотчина в былом родовом гнезде составляла теперь лишь небольшую часть его владений. В конце XV - первой трети XVI века русский господствующий класс интенсивно перемешивается. Феодалы из разных частей страны перемещаются, получают вотчины и поместья в новых местах. Постепенно складывается единый общерусский класс феодалов. Впрочем, в первой трети XVI века этот процесс только начался.
Да и вообще до централизации было далеко. Ведь не существовали еще центральные отраслевые правительственные учреждения - приказы. Только чуть-чуть намечалась специализация на тех или иных вопросах управления государевых "дьяков" - незнатных чиновников. Это была только тенденция, каждый дьяк занимался разнообразными делами.
Архаичной и неуклюжей была система местного управления. На местах власть принадлежала наместникам и волостелям. Они были кормленщиками: получали уезды (наместники) или их части - волости и станы (волостели), как тогда говорили, в кормление. Это означало, что кормленщику полагалась определенная часть податей с его уезда или волости. Кроме того, в его пользу шли судебные, пошлины. Но этим вознаграждалась не административная и судебная деятельность наместника или волостеля. Ведь само кормление было наградой или платой за прежнюю военную службу. Получал его служилый человек раз в несколько лет. Потому-то к своим прямым административным и судебным обязанностям кормленщики относились спустя рукава. Подчас наместники передоверяли свои функции своим холопам, а сами уезжали домой и спокойно занимались хозяйством. Сложилась парадоксальная ситуация: в феодальном государстве реальная власть на местах оказывалась подчас в руках холопов.
Да и в получении кормлений не было порядка. Вероятнее всего, чтобы получить кормление, надо было дать взятку распределявшему их дьяку. Если же взятку не хотелось давать, могла возникнуть ситуация, в которой уже при Иване IV оказался один служилый человек - Суббота Стромилов-Шолохов. Он рассказывал, за что побывал в тюрьме: "Бил есми челом царю государю о кормленье, и докуки моей было государю много, и про то меня в опальную тюрьму не одиножда посылывали - пятья и шестья (пять-шесть раз.- В. К.) Да таки есьми у государя кормленья добился!"
Власть великого князя была достаточно суровой. Он мог "за непригожие речи" о себе приказать отрубить голову любому. Так был казнен придворный Василия III Берсень Беклемишев, который в беседе с выезжим с Афонской горы монахом Максимом Греком жаловался, что государь "встречи (возражений.- В. К.) против собя не любит". Раз, когда Беклемишев осмелился дать совет Василию III, тот ему сказал: "Пойди, смерд, прочь, не надобен ми еси". Но эта суровая власть была на самом деле слаба, ибо у нее не было своего аппарата, а потому ни один закон никогда до конца, полностью не выполнялся. Ведь кормленщики - еще не аппарат власти. Вопрос о централизации стоял на повестке дня. Его и предстояло решать в середине - второй половине XVI века.
Пережитком прошлого были и существовавшие еще удельные княжества, полусамостоятельные государства. К концу княжения Василия III их осталось всего два; принадлежали они младшим братьям великого князя: Юрию, владевшему Дмитровом и Звенигородом, и Андрею, в удел которого входили Старица в Тверской земле и Верея на юго-западе.
Братья - удельные князья тем более беспокоили Василия III, что у него долго не было наследника. Брак его с Соломонией Юрьевной из боярского рода Сабуровых оказался неудачным: у супругов в течение 20 лет не было детей. Великий князь и его княгиня и на богомолье ездили постоянно, и ко всем возможным чудотворным иконам прикладывались. Все напрасно. В конце концов Василий III решился на неслыханный поступок - развод.
Официальные летописи, льстивые и придворные, описывают развод великокняжеской четы в слезливо-сентиментальных тонах. В одном из текстов можно прочитать, как на охоте государь видит гнездо с птенцами, и глаза его увлажняются слезами: у птицы, мол, птенчики, а у меня - нет. Плачут, глядючи на великого князя, бояре, плачет и великая княгиня и просит отпустить ее в монастырь. Еще пуще плачет государь, не желающий расстаться с супругой... Не плачет лишь митрополит Даниил, который сурово поучает: "Неплодную смоковницу посекают и измещут из вертограда".
На самом же деле, судя по другим источникам, не зависимым от официальной версии, мы знаем, что хотя слез и вправду было много, но все они текли из глаз только одного человека - Соломонии. Она отказалась идти в церковь для пострижения. Приведенная туда насильно, растоптала монашескую одежду, не стала произносить монашеский обет, криком заглушала слова женщины, произносившей обет за нее. Тогда приближенный Василия III Иван Юрьевич Шигона-Поджогин ударил великую княгиню плетью, чтобы она замолчала. Бывшую государыню, ставшую "старицей Софьей", отвезли в Суздаль, в Покровский женский монастырь,[2] который с тех пор стал традиционным местом заточения постылых жен русских монархов. Впоследствии его невольной постоялицей была первая жена Петра I Евдокия Лопухина.
В монастыре Соломония не смирилась и даже распускала слухи, что ее будто постригли беременной, что в монастыре она родила сына. Проведенное тогда же расследование не подтвердило этого невероятного происшествия: рождения сына после 20 лет бесплодного брака. Тем не менее и сегодня эту придворную сплетню усиленно гальванизируют падкие до сенсаций дилетанты.
Новой женой Василия III стала княжна Елена Васильевна Глинская - молодая красавица. Недаром летописец прямо говорит, что государь прельстился красотой ее лица и фигуры (женился "лепоты ради ея лица и благообразия возраста"). Происходила княжна Елена из своеобразной семьи. Заинтриговывает уже родословная легенда князей Глинских. Рассказывали, что после того, как разбитый на Куликовом поле Мамай погиб в борьбе со своим соперником Тохтамышем, сыновья свергнутого правителя Орды бежали в Великое княжество Литовское, крестились, получили в удел город Глинск и стали князьями Глинскими. Если легенда верна, то получается, что Иван IV был одновременно потомком Дмитрия Донского и Мамая.
Отец княжны - Василий Львович Глинский ничем выдающимся себя не прославил. Зато дядюшка молодой великой княгини Михайло Львович был одним из самых блестящих авантюристов Европы XVI века. В молодости князь Михайло перешел из православия (Глинские были традиционно православными) в католичество, получил образование в одном из европейских университетов и стал дипломированным врачом. Но медицинская карьера была не для князя; Михайло Львович стал рыцарем Германской империи, успешно сражался в войсках саксонского курфюрста, воевал и где-то в Испании. Его личными друзьями были магистр Тевтонского ордена Фридрих и сам великий князь литовский и король польский Александр Казимирович. При короле Александре Глинский был фактически правителем Великого княжества Литовского. Православные литовские феодалы - русские и белорусские считали его, несмотря на католичество, своим вождем.
В 1506 году король Александр умер, на престол вступил его младший брат Сигизмунд, и влияние Глинского кончилось. Он превратился в одного из многих литовских князей. С таким падением Михайло Львович не мог смириться. В 1508 году князь возглавил восстание русских, украинских и белорусских феодалов против Великого княжества Литовского, за воссоединение с Россией. Русским войскам не удалось пробиться на соединение с восставшими, мятеж был подавлен. Обширный клан Глинских и приближенные к ним феодалы - вожди восстания бежали на Русь. Среди новых подданных Василия III была и маленькая (лет двух) княжна Елена.
В Москве Михаило Глинский стал одним из тех, кто руководил русской внешней политикой на западном направлении. Ведь его имя оставалось знаменем для православных феодалов Украины, Белоруссии и Смоленщины, у него были давние личные контакты с видными деятелями и Великого княжества Литовского, и Германской империи, и Тевтонского (Ливонского) ордена. Велика была роль Глинского в том, что в 1514 году удалось отвоевать у Великого княжества Литовского Смоленскую землю. Но князя подвело честолюбие. Ходили слухи, что он рассчитывал стать не подданным, а лишь вассалом Василия III, князем (или даже герцогом) смоленским. Когда же оказалось, что великий князь и не думает превращать Смоленщину в новое удельное княжество, Глинский совершил новый поворот в своей политической карьере: вступил в тайные переговоры со своим еще вчера злейшим врагом королем Сигизмундом и попытался бежать в стан противника. По дороге его поймали, в оковах привезли в Москву и приговорили к смертной казни. И тут князь Михаило вспомнил, что был рожден в православии и пожелал умереть в вере предков. За "новоприсоединенного" к православию "печаловался" митрополит и его "от казни взял". Глинского помиловали, но оставили в тюрьме. Дважды посол Германской империи барон Герберштейн передавал великому князю личную просьбу императора: освободить имперского рыцаря князя Глинского и отпустить в Германию. Тщетно. Но то, что не удалось императору и его послу, сумела сделать красивая племянница. Дядя государыни был не только освобожден, но занял почетное место при дворе, стал снова одним из советников Василия III.
В новом браке первое время опять не было детей. Только через четыре года Елена наконец родила первенца - Ивана. Радость государя не поддавалась описанию. В подмосковном великокняжеском селе Коломенском в честь рождения наследника была построена великолепная церковь Вознесения. В далеком Кирилло-Белозерском монастыре воздвигли церковь Иоанна Предтечи, небесного патрона новорожденного. Неподалеку оттуда, в Ферапонтове монастыре, по этому же случаю создали церковь с удивительным, даже, пожалуй, кощунственным, с точки зрения христианина, названием - церковь Благовещения. Вспомним, что Благовещение - это посланная деве Марии "благая весть" о предстоящем рождении Иисуса Христа. А родился-то всего лишь сын великого князя. В Новгороде по повелению архиепископа Макария был отлит огромный колокол. Впоследствии в нем видели даже некую примету будущего характера младенца: ведь звук его "яко страшной трубе гласящи"... Итак, ликуй, Россия, дождалась: Иван Грозный родился!
Вскоре Елена родила и второго сына - Юрия. Он оказался глухонемым, а поскольку в те времена еще не умели развивать таких детей - обреченным на умственную неполноценность, был, как тогда говорили, "умом прост".
Ребенок в шапке Мономаха
Всего три года было будущему Ивану Грозному, когда внезапно тяжело заболел его отец. Болезнь поначалу была пустяковой - царапина. Но царапина стала нарывать, нарыв перешел в карбункул, а дальше (ведь антисептики еще не знали) - общее заражение крови, сепсис. И 54-летний великий князь, только вчера еще "тешившийся" охотой, умер, успев перед смертью благословить старшего сына на великое княжение. Впоследствии Иван IV очень гордился тем, что он монарх всю свою жизнь, что не помнит даже, как его "батюшка пожаловал благословил государством".
Василий III во время последней болезни.
Миниатюра из Лицевого свода XVI века
Разрушительная для неокрепшей детской психики ситуация: сочетание формальной власти самодержавного государя с детской беспомощностью. Ребенок, перед которым стоят на коленях, которому целуют руку почтенные, взрослые люди. Недаром замечено, что из тех, кто стал монархом в детстве, чаще вырастают деспоты. Но первые пять лет при ребенке была мать, которая твердо и решительно правила страной.
Сначала великая княгиня на всякий случай заточила в тюрьму брата Василия III - дмитровского князя Юрия Ивановича. Ему очень хотелось стать самому великим князем. Князя Юрия можно понять. Ведь он был всего на один год моложе Василия III. Долгие годы бездетности старшего брата укрепляли его в надеждах самому занять трон. Почему же государем должен был стать его трехлетний племянник? Почему страной будет править иноземка из Литвы, а не он, такой же сын Ивана III, как и его покойный брат? Боярам и митрополиту пришлось запереть дмитровского князя на замок, пока он не принесет присягу, не поцелует крест своему племяннику. Но такую невольную клятву легко объявить недействительной. В свое время дед Юрия - великий князь Василий Темный, свергнутый своим двоюродным братом Дмитрием Шемякой, тоже поцеловал крест, что не будет искать великого княжения. Но услужливый игумен Кирилло-Белозерского монастыря "снял" с него клятву. Потому-то Елена Глинская решила не испытывать судьбу, даже не дала Юрию Ивановичу уехать после похорон в Дмитров, а оставила в Москве. Правда, в тюрьме. Там он и умер через три с половиной года.
Но борьба за власть только начиналась. Василий III умирая, особенно рассчитывал на Михайла Львовича Глинского. 0бращаясь к боярам, он говорил что хотя князь Михайло "человек к нам приезжей" бояре должны держать его "за здешняго уроженца" ибо он государю "прямой слуга". А самому Глинскому напоминал, чтобы он за малолетнего великого князя с братом и великую княгиню "кровь свою пролиял и тело свое на раздробление дал". Михайло Львович, опытный государственный муж, думал, что пришло его время, что станет он правителем огромный страны. Но иначе думала его молодая племянница, которая, кстати, нашла себе другого советника: боярина князя Ивана Федоровича Овчину-Телепнева-Оболенского. Поговаривали, что князь Овчина не только советник, но и возлюбленный великой княгини.
Глинский был крайне недоволен, пытался все же добиться власти, вступил в конфликт с племянницей. И та, некогда освободившая дядю из тюрьмы, отправила его туда же. Со дня смерти Василия III прошло меньше года. В темнице Михайло Львович и умер через два года. Обвинения ему были предъявлены самые вздорные: он-де хотел овладеть престолом и отравить Василия III. Один из летописцев прямо говорит, что заточен был Глинский "по слову наносному от лихих людей".
Трудно найти более богатое событиями время, чем 30-е годы ХVI века. Меньше чем через три года после ареста М.Л. Глинского возникла новая коллизия. Пока был жив дмитровский князь Юрий, старицкий князь Андрей не имел никаких прав на престол, а потому выступал как союзник Василия III, а затем и его вдовы. Но после смерти Юрия Андрей Иванович сам понимал что теперь стал опасен, оказался под подозрением как реальный претендент на трон. Значит, ему может прийтись плохо. Надо было принимать меры предосторожности. Когда в начале 1537 года князя Андрея вызвали в Москву, чтобы возглавить войска в походе, он на всякий случай решил не ехать и сказался больным. Посланный в Старицу врач пришел к выводу, что болезнь князя не так уж и тяжела. Симуляция показалась Москве подозрительной, а потому от Андрея Ивановича снова потребовали ехать. В свою очередь, повторный приказ ехать в Москву вызвал законные опасения у старицкого князя, тем более что до него доходили зловещие слухи, что в Москве его "хотят... поимати" (арестовать.- В. К.). Андрей резко отвечал: "...прежде сего... не бывало, что нас к вам, государем, на носилках волочили". В Москве теперь окончательно уверились, что удельный князь что-то замышляет и на всякий случай арестовали его посланца. У Андрея Ивановича не выдержали нервы, и он поднял мятеж.
Традиционно в нашей науке этот мятеж рассматривался как борьба удельного князя против центральной власти. Это было бы верно, если бы князь Андрей добивался независимости своего Старицкого княжества или хотя бы расширения своих прав. Но цели-то мятежного князя были обширнее: захватить всю страну, сесть на великокняжеский престол. Недаром он обратился к новгородским помещикам с таким призывом: "Князь великий мал, а держат государьство бояре. И вам у кого служити? А яз вас рад жаловати!" Следовательно, речь шла не о том, будет или нет Россия единым государством, а о том, кому в этом государстве будет принадлежать верховная власть. Недавние исследования выявили, что, как это ни покажется парадоксальным, любой результат мятежа укреплял централизацию. Победи Андрей, стань он великим князем, его княжество было бы тем самым ликвидировано так же, как и при его поражении. От исхода междоусобия зависели судьбы Ивана IV, Андрея Старицкого, Елены Глинской, а не страны.
Старицкий князь проиграл. Овчина-Телепнев-Оболенский, выведший навстречу мятежному князю московские войска, "поцеловал крест", что волос не упадет с головы Андрея Ивановича, если он добровольно приедет в Москву. Удельный князь поверил. В Москве Елена Глинская разыграла удивление: как мог боярин Иван Овчина дать такое обещание сам, "с великим князем не обослався", для виду даже наложила на него опалу. А Андрея Старицкого бросили в темницу, где он и умер "страдальческою смертью" через полгода.
А через год скоропостижно скончалась и Елена Глинская. Почему тридцатилетняя, полная сил женщина умерла? Естественно, возникли слухи, будто великую княгиню отравили. Вряд ли они справедливы. Медицина в те времена была еще в зачаточном состоянии, люди умирали от тех болезней, которые сегодня без труда вылечивает свежий выпускник медицинского института. Любопытно, что сам царь Иван никогда нигде не писал о том, что его мать умерла насильственной смертью. А ведь он был готов обвинить бояр в любых грехах, он даже утверждал, что не может без слез вспомнить о судьбе своих дядьев - Юрия и Андрея, которых, оказывается, замучили в тюрьме бояре, а не его мать. Уж он не упустил бы повод еще раз поговорить о "боярских изменах", верь он хотя бы немного этому слуху.
Итак, с 3 апреля 1538 года Иван IV - круглый сирота. Восьмилетним мальчишкой он восседает на троне в шапке Мономаха, со скипетром и державой, а вокруг - ожесточенная борьба боярских кланов за власть. В наши дни много пишут о том, как вредно детям видеть на экранах кинотеатров и телевизоров сцены насилия. Малолетнему Ивану Васильевичу привелось наблюдать эти сцены не на экране, а вживе. При нем люди из враждующих группировок врывались во дворец, избивали, арестовывали, убивали, не обращая внимания на просьбы малолетнего государя пощадить того или иного боярина. В этой обстановке насилия выковывался характер государя.
Венчание на царство Ивана IV.
Миниатюра из Лицевого свода XVI века.
Окружающие не только публично выражали малолетнему великому князю чувство покорности, но даже раболепно льстили ему, потакали любой детской прихоти. Политический противник царя Ивана бежавший за рубеж князь Андрей Михайлович Курбский писал: "Питаша его велицые гордые паны, по их языку боярове, на свою и своих детей беду, ретящеся (соперничая.- В. К.) друг другом, ласкающе и угождающе ему во всяком наслаждении". Но это были корыстные, неискренние восхваления, а потому ребенок-государь часто чувствовал себя забытым и оскорбленным. Бояре заискивали перед великим князем, но пренебрегали мальчишкой. И о своем детстве царь Иван вспоминал иначе, чем пишет Курбский. "Нас же (Ивана и его брата Юрия. - В. К.), - пишет царь, - питати начаша, яко иностранных (чужих.- В. К.) или яко убожейшую чадь (беднейших детей. - В. К.). Мы же пострадали во одеянии и в алчбе (еде. - В. К.). Многажды поздо ядох не по своей воле", - т.е. не раз мальчика забывали вовремя накормить. Через два с лишним десятка лет Иван не мог без негодования вспомнить одну сцену своего детства: он и брат Юрий играют, а князь Иван Васильевич Шуйский, "седя на лавке, локтем опершися о отца нашего постелю, ногу положа на стул, к нам же не прекланяяся", не только как родитель, но даже и не как властелин. Мол, играют себе мальчишки, и пусть. А ведь один из мальчишек - государь.
А мальчишка рос очень приметливым и сообразительным. Причем замечал он то, на что обычно дети обращают внимания. Ему все время казалось, что его обворовывают, растаскивают великокняжескую казну. Впоследствии он писал, что Шуйские и другие бояре украли из казны золото и серебро, сделали из него себе посуду и вычеканили на ней, чтобы замести следы, свои имена. А если начнут говорить, что посуда не ворованная, а наследственная, то (удивительно, что это воспоминания о детстве мальчишки, а не сельской сплетницы): "А всем людем ведомо: при матери нашей у князя Ивана Шуйского была шуба мухояр (полушерстяная ткань. - В. К.) зелен на куницах, да и те ветхи; и коли б то была их старина, и чем было сосуды ковати, ино лутчи шуба переменити".
Мальчишка был не только наблюдателен, но и жесток и злобен. По воспоминаниям Курбского, лет в двенадцать Иван начал "безсловесных крови проливати", сбрасывая их с высоких крылец. Далеко не все те, кто любит животных, - добрые и хорошие люди. Но хорошо известно, что все мучители животных - люди злобные и жестокие. Курбский же продолжает: когда Ивану подошло уже к 15-ти годам, начал "человеков уроняти". И Курбский описывает те забавы, которым предавался юный государь. С компанией молодых аристократов великий князь начал по площадям и рынкам "на конех ездити и всенародных человеков (людей из простого народа .- В. К.), мужей и жен бити и грабити, скачюще и бегающе всюду неблагочинне". Такие невинные забавы нравились боярам, которые, по словам Курбского, на свою беду, восхваляли подростка: "О, храбр будет сей царь и мужествен!"
Может быть, Курбский, политический антагонист Ивана Грозного, клевещет? Но вот официальная московская летопись. Из нее мы узнаем, что первый свой смертный приговор великий князь Иван Васильевич вынес в возрасте 13-ти лет, когда приказал своим писарям схватить ненавистного ему боярина князя Андрея Михайловича Шуйского и убить, что и было исполнено. Официальный летописец сообщает этот факт с подхалимским восторгом: «И от тех мест начали бояре боятися, от государя страх имети и послушание». Еще бы! Мало ли что взбредет в голову тринадцатилетнему мальчишке, обладающему всей полнотой власти. Конечно, казнь А.М. Шуйского была не совсем самостоятельной акцией великого князя: на него влияли родственники по матери - Глинские, которым удалось таким образом сбросить господствующую боярскую группировку Шуйских и прийти к власти самим. Но их приход к власти, естественно, не означал окончания боярского правления.
Малолетство Грозного - тяжелое время для страны. В науке по-разному оценивают этот период. Есть точка зрения, согласно которой злонамеренные бояре целеустремленно пытались разрушить аппарат государственной власти и вернуть страну к временам феодальной раздробленности. Однако, если бы это было так, то, вероятно, князья Шуйские, потомки суздальско-нижегородских князей, захватив власть, первым делом попытались бы восстановить независимость своего бывшего княжества. Впрочем, непонятно, как бы вернулись к временам феодальной раздробленности одно время стоявшие у власти князья Бельские - их родовые земли находились за рубежом, в Великом княжестве Литовском, откуда они перебрались на службу в Москву и получили в награду вотчины. Мы не знаем в годы боярского правления никаких попыток двинуться по направлению к сепаратизму. Но все же процесс централизации затормозился. Ведь шла острая, абсолютно беспринципная борьба за власть. А такая борьба дезорганизует правительственный аппарат, который и без того был слаб. Недаром современники говорили, что тогда наместники были «сверепы аки львове». Их произвол ничто не сдерживало.
Но тем не менее даже в те годы медленно, непоследовательно, но продолжались начавшиеся еще при Елене Глинской, а то и при Василии III реформы, которые шли в направлении централизации государства. Так, при Елене Глинской была сделана попытка изменить систему местного управления. Правда, наместники и волостели, получавшие кормления, не были отменены, но наряду с ними начали вводить выборных из поместных дворян, так называемых губных старост, которые должны были бороться с «разбоями» и с «лихими людьми». Эту реформу проводили постепенно, сначала лишь в отдельных уездах. В годы боярского правления губные старосты появились и в некоторых уездах, где их раньше не было.
При Шуйских было роздано невиданно много поместий. Так, в Тверском уезде всего за один-два года помещики получили больше земли, чем за предшествующие четыре десятилетия. А ведь развитие поместий системы (о ней подробнее см. ниже) укрепляло централизацию.
И все же реформы проводились медленно и нерешительно: все силы правителей поглощала борьба за власть, было не до больших государственных дел.
Царь и великий князь
С конца 40-х годов XVI века Иван IV переходит уже к самостоятельному правлению. В те времена люди взрослели куда раньше, чем сейчас. Мужчина становился совершеннолетним в 15 лет. До этого возраста юный феодал был еще «недорослем», т. е. подростком, а к 15-ти годам он, как тогда говорили, «поспевал» к службе и становился «новиком». Через год после совершеннолетия, в 16 лет, Иван Васильевич собрал бояр и сообщил, что хочет жениться. Привести жену «из ыного государства» ему кажется неверным, так как он опасается не сойтись с иностранкой характерами («нечто норовы будут розные»), а потому решил взять себе жену «в своем государьстве». Должно быть, великий князь считал, что жену из своих подданных легче, чем иноземку, отправить в монастырь, если вдруг «норовы будут розные». Бояре и митрополит, по словам летописи, которая часто изображает их людьми сентиментальными, даже всплакнули от умиления («от радости заплакаху»), что государь, хоть и молод, а уже сам догадался жениться. Но государь порадовал своих слушателей еще одним сообщением: он желает «наперед своей женитвы поискати прежних своих прародителей чинов». Конкретно же речь шла о том, чтобы принять новый титул.
Почему Иван IV прародительским чином называл титул царя, которого на самом деле не носили его предки? Ведь все они были лишь великими князьями, только иногда, не столь в официальных документах, сколь в публицистике, их для пущей торжественности именовали царями. Причина состоит в том, что особое уважение к старине, традиции, «пошлине» характерно для средневековой идеологии. В наше время говорят, что новое - хорошо забытое старое, ибо у нас часто старое маскируется под новое: так велико наше уважение к прогрессу, к новаторству. Средневековый темп жизни, когда человек обычно оставлял мир почти таким же, каким застал при рождении, диктовал традиционность общественного сознания. Наша пословица не могла сложиться в те времена, когда новое обязательно маскировалось под старое, под восстановление нарушенного обычая. Основанием же была популярная легендарная повесть «Сказание о князьях Владимирских». В ней рассказывалось, что византийский император Константин Мономах (византийских императоров на Руси называли царями), родной дед киевского князя Владимира Всеволодича Мономаха, прислал внуку свой царский венец – «шапку Мономаха» и все права на царский титул. Нужды нет, что тот головной убор, который называли шапкой Мономаха, на самом деле - золотая тюбетейка среднеазиатской работы, опушенная соболем и увенчанная уже в Москве крестом, как полагают, подарок хана Узбека Ивану Калите.
Вряд ли 16-летний Иван IV сам был инициатором принятия царского титула. В его окружении важную роль играл митрополит Макарий, один из самых образованных людей России того времени. Он активно участвовал во всей государственной деятельности в 40-е и 50-е годы. Поднять авторитет государя при помощи нового титула, должно быть, стремились и его родственники - Глинские.
Принятие царского титула было очень важно. Само слово «царь» происходит от латинского термина «цезарь», который из личного имени Кая Юлия Цезаря постепенно превратился в составную часть императорского титула. Потому-то на Руси и называли царями императоров Византии, называли так и ханов Золотой Орды, а затем и выделившихся из ее состава ханств. Естественно, «великий князь» казался стоящим ненамного выше просто князя, тем более что среди служивших Ивану IV бояр-князей было немало сыновей и внуков великих князей же (ярославских, суздальских и т. п.). Великий князь мог еще восприниматься как первый среди равных. Царь - резкое выделение из ряда, принципиально иной титул. В Византии императоры фактически возглавляли церковь, В произведениях византийских богословов и проповедников, провозглашенных «святыми», «отцами церкви», немало места уделено поучениям о том, что нужно почитать царя и воздавать ему честь. Эти поучения теперь как бы автоматически переходили на личность государя всея Руси.
Важную роль играл царский титул в международных отношениях. Ведя переговоры с Казанским, Крымским или Астраханским ханствами, русский государь выступал теперь с тем же титулом, что и его партнеры. В сношениях с Западной Европой титул царя был не менее важен. Титул «великий князь» обычно переводили словами «принц» или «герцог», иногда - с добавлением определения «великий». Но оба эти титула ниже королевского, не говоря уже об императорском. Слово же «царь» либо оставляли непереведенным, либо передавали как император.
Сама коронация торжественно состоялась в январе 1547 года. А вслед за тем, в марте, «государь царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси» вступил в брак с боярышней Анастасией, дочерью отпрыска старого московского боярского рода Романа Юрьевича Захарьина. Брат Анастасии - Никита Романович Юрьев, а также другие родственники молодой царицы вскоре заняли видное место в правительственной верхушке.
Однако после коронации и свадьбы сначала мало что изменилось: как и раньше, правили Глинские, а молодой царь предавался разнообразным забавам. Не раз проявлял он и свой жестокий нрав. Смертный приговор Андрею Шуйскому был только началом серии опал и казней. В сентябре 1545 года по приказу 15-летнего великого князя Афанасию Бутурлину отрезали язык «за невежливое слово». Через месяц попали в опалу (кто знает почему - летопись молчит о причинах) четверо бояр, но были прощены всего через месяц.
Летом 1546 года государю пришлось испытать неприятные ощущения: под Коломной (там ожидали прихода крымского хана) к великому князю, отправившемуся на увеселительную прогулку, пришли с какими-то жалобами новгородские «пищальники» (стрельцы). Не выслушав жалоб, Иван приказал им через своих посланников уходить. Пищальники оказали сопротивление и вступили в бой с дворянами. Потери были немалыми - по 5-6 человек с каждой стороны. Великий князь немедленно приказал найти подстрекателей: «Проведати, по чьему науку бысть сие супротивство». Ведший следствие дьяк Василий Гнильевский нашел виновных в своих личных врагах - боярах Воронцовых и князе Иване Кубенском. Перед тем они были любимцами государя, но это не помешало 16-летнему монарху приказать отсечь им головы. В тюрьмы и ссылку были отправлены еще двое.
Все это происходило еще до венчания на царство и свадьбы. А в начале июня 1547 года молодой царь вновь продемонстрировал свой крутой характер. 70 самых почтенных, самых уважаемых псковичей приехали в подмосковное село Остров к царю Ивану с жалобой на злоупотребления наместника - князя Ивана Ивановича Турунтая-Пронского. Царь пришел в негодование: как смеют простые «посадские мужики» бить челом на князя! Псковская летопись рассказывает, что царь псковичей «бесчествовал, обливаючи вином горячим (спиртом. - В. К.), палил бороды и волосы да свечею зажигал, и повелел их покласти нагых по земли». Представим себе эту отвратительную сцену: 17-летний юнец в царском венце не просто строго наказывает ослушников, а жестоко, садистски издевается над почтенными стариками. Кстати, этот эпизод - одно из доказательств ошибочности распространенной легенды о том, что Иван IV ненавидел знать и стремился возвышать людей низкого происхождения. На самом деле он был аристократом до мозга костей. Но об этом впереди.
«Вниде страх в душу мою»
Волнения пищальников, жалобы псковичей были первыми сигналами о неблагополучии в стране, о народном недовольстве. Но особенно ярко проявилось оно в конце июня 1547 года.
Весна и лето в том году были на редкость жаркими. В Москве то и дело вспыхивали пожары. Во время одного из них, еще в апреле, от высокой температуру взорвался порох в кремлевской башне, и ее кирпичу разлетелись по берегу Москвы-реки. Но тот пожар, который бушевал 21 июня, современники недаром назвав «великим».
День был не только жарким, но и ветреным. По словам летописца, «бысть буря велика, и потече огнь якоже молния». Ураган смахивал горящие крыши и разносил их по городу. Современник пишет, что языки пламени вздымались к небу «великия яко горы». Пожар продолжался, пока было чему гореть: около десяти часов. Казалось бы, в каменных зданиях Кремля можно было спастись, переждать разгул стихии. Но в Кремле стояла нестерпимая жара, горели иконы деревянные части зданий, «от дымного духа» люди задыхались. Многие из тех, кто был в Кремле, погибли. Царь вместе с молодой женой и приближенными успел вовремя перебраться в свое подмосковное село Воробьево (там, где ныне Ленинские горы). С высокого воробьевского холма царь видел, как гибнет вся охваченная пламенем его столица.
Запоздал митрополит Макарий: он еле выбрался из Успенского собора (двое сопровождавших его погибли), пытался покинуть Кремль через подземный ход, но там уже был «дымный дух тяжек и жяр велик». Пришлось спускать митрополита со стены на веревке. Недалеко от земли канат оборвался, Макарий упал, расшибся, и его «еле жива» отвезли в Новоспасский монастырь.
Результаты пожара были устрашающими. Несколько тысяч человек погибло, у уцелевших сгорело имущество; все население города осталось без крова. Горе требовало выхода, хотелось найти виноватых. И весь гнев обратился на бояр, поскольку других провинностей, реальных, было за ними достаточно. Их ненавидели за притеснения, за взяточничество, за безнаказанность. Считали особенно виновными тех бояр, которые стоят у власти, от бесчинств которых страдают сейчас, - Глинских. Ведь, по словам официальной летописи, «в те поры Глинские у государя в приближение и в жалование, а от людей их черным людем насилство и грабеж, они же их от того не унимаху».
По городу ползут слухи о Глинских. Тогда была еще жива бабушка царя, мать Елены Глинской - Анна, дочь сербского воеводы Якшича. Возможно, старость в сочетании с иностранным акцентом делали ее в глазах москвичей, настроенных к тому же недоброжелательно, похожей на колдунью, ведьму. Может, были и другие обстоятельства, но, во всяком случае, о ней рассказывали, что она вынимала из мертвых тел сердца, «клала в воду да тою водою, ездя по Москве, кропила, и оттого Москва выгорела». Какова должна была быть ненависть к Глинским, чтобы поверить такому нелепому слуху.
Восставшие москвичи убили одного из дядьев царя - Юрия Глинского, а с ним и многих дворян, другой дядя - Михайло Васильевич пытался даже бежать за рубеж, был пойман, но прощен, так как бежал не по политическим мотивам, а «обложася страхом» из-за убийства своего брата. Толпа же москвичей двинулась к царю в Воробьево - требовать выдачи Глинских.
Подготовились к этому походу на совесть: несли с собою метательные копья-сулицы и щиты, предводительствовал толпой городской палач: должно быть, чтобы тут же привести в исполнение смертный приговор. Молодой царь перепугался до смерти. Через несколько лет в выступлении на церковном соборе, вспоминая о тех днях, он признавался: «...вниде страх в душу мою и трепет в кости моа и смирися дух мой». Насчет смирения духа царь Иван явно слукавил: у него хватило его присутствия, чтобы успокоить толпу, уговорить, что Глинских в Воробьеве нет (это была правда). Толпа разошлась, успокоенная тем, что царь «не учинил им в том опалы». То была лишь уловка. Уже вскоре Иван IV «повеле тех людей имати (арестовывать. - В. К.) и казнити».
Московское восстание 1547 года. Убийство Ю. Глинского.
Миниатюра из Лицевого свода XVI века.
Московское восстание лета 1547 года было не единственным народным движением той поры. Помимо уже упоминавшихся волнений пищальников и псковичей известно восстание в Опочке против сборщика податей. На его подавление пришлось отправить двухтысячную рать. Неспокойно было и в Новгороде.
О восстаниях горожан мы знаем, а о том, что происходило в селах, точные сведения в источниках не сохранились. Но косвенные данные заставляют предполагать, что и там не было спокойствия. Как раз в те годы священник Ермолай-Еразм писал, что «ратаи» (пахари, крестьяне. - В. К.) «всегда в волнениях скорбных пребывающа, еже не единаго ярма тяготу всегда носяща». Во многих источниках этого времени отмечается, что умножились разбои. Было бы крайне примитивным считать, каждого разбойника классовым борцом, тем более что известны разбойники и из числа феодалов. Но вместе с тем мы знаем, что для крестьянских движений эпохи феодализма всегда типичен разбойный характер.
Недаром благородный разбойник, который грабит богатых и помогает бедным, герой фольклора многих народов: и Робин Гуд у англичан, и Степан Разин у русских (видимо, не столько реальный Степан Тимофеевич, сколько песенный Стенька), и тот добрый молодец, которого судит царь Иван Васильевич и говорит ему: «Я пожалую тя, молодец, в чистом поле, что двумя, тебя столбами да дубовыми, уж как третьей - перекладинкой кленовою, четвертой тебя - петелькой шелковою». Так что «умножение» разбоев это все же свидетельство усиления волнений и в деревне. Да иначе и не могло быть: после времени всевластия олигархов, борьбы за власть бесконтрольности местных администраторов не могло не ухудшиться положение народных масс.
Избранная рада
Народные движения поставили правящие круги перед необходимостью принять решение. Что-то надо было делать. И вскоре после московского восстания, вероятно около 1549 года, к власти пришла новая группировка, которая вошла в историю под названием Избранной рады.
Одним из видных деятелей этой группы был священник Сильвестр, служивший в Благовещенском соборе Московского Кремля: это была придворная, «домовая» церковь государя. Известен нам Сильвестр и как древнерусский автор. Его перу, видимо, принадлежит знаменитый «Домострой». Не исключено, впрочем, что он был автором лишь окончательной редакции.
Произведение это пользуется сегодня дурной репутацией. «Домостроевские нравы», «жизнь по Домострою» - всегда обвинение. Однако «Домострой» никоим образом нельзя свести к тому, что нужно наказывать телесно детей и жену. Совершенно естественно, что «Домострой» предусматривает такие наказания: ведь они были тогда общераспространенными, батогами (розгами) и кнутом били даже князей. Сечение не считалось позорящим. «Домострой» же рекомендует здесь некоторую умеренность: не бить жену ни палкой, ни кулаком «ни по уху, ни по виденью (глазу.- В. К.)» , чтобы она не оглохла и не ослепла, а только за великое и за страшное ослушание... «соймя рубашка, плеткою вежливенко (осторожно. - В. К.) побить... да поучив, примолвити», причем «побить не перед людьми, наедине поучити». Но такие наставления - не самое главное в этой книге.
В переводе на современный язык «Домострой» недаром означает «домоводство», это своеобразный сборник «полезных советов», вплоть до того, как просушивать платье. Самое существенное то, что божественным авторитетом здесь освящаются самые простые практические наставления. Даже расточительная жизнь не по средствам («не разсудя себя») объявляется греховной: живущему «не по силе», влезающему в долги – «от бога грех, а от людей посмех». В этом уже проявился некоторый отход от ортодоксального церковного аскетизма.
По рассказу князя Андрея Курбского, с первым поучением к царю Ивану Сильвестр обратился еще во время пожара 1547 года. Он гневно обвинял молодого царя в «буйстве», в «детских неистовых нравах». Страшный огонь, уничтоживший столицу, был, по словам Сильвестра, наказанием царю за грехи. Такое поучение соответствовало давней церковной традиции: все несчастья объяснялись божьим гневом на людей за их прегрешения, говорили, что Бог карает людей «овогды гладом, овогды трусом (землетрясением. - В. К.), овогды мором, овогды нахождением иноплеменных». Впоследствии Курбский, который был близок к Сильвестру и восхищался им, говорил, что Сильвестр намеренно запугивал царя, как, бывает, отцы «повелевают слугам детей ужасати мечтательными страхи», чтобы унять «от излишних игор презлых сверстников».
Иван Грозный, впоследствии возненавидевший Сильвестра, тоже писал, что «поп» хотел его «детскими страшилы устрашити». Таким образом, два противника - Иван Грозный и Курбский по-разному оценивают, но одинаково характеризуют наставления Сильвестра. Похоже, он в самом деле произнес такую речь. На 17-летнего царя «детские страшилы» подействовали. Сильвестр стал влиятельным лицом. Летописец отмечает, что он был «у государя в великом жаловании и в совете духовном и в думном и бысть яко всимогий (всемогущий. - В. К.) и все ево послушаху».
Другим деятелем Избранной рады был Алексей Федорович Адашев, человек еще молодой, из рода не слишком знатного, но «доброго». Адашев, несомненно, обладал умом и талантом. Через двадцать с лишним лет после его падения в Польше вспоминали, что «был у прежняго государя Алексей Адашев, и он государство Московское... правил», а человек был «просужий», разумный. Был он суров и властен. Известен случай, когда человека, не подчинившегося приказу, он распорядился отправить на службу «сковав». Вместе с тем Адашев славился своей глубокой религиозностью и аскетизмом. Бывало, за весь день он съедал лишь одну небольшую булочку - просфору. Рассказывали, что у него в доме постоянно жило человек десять тяжело больных, с тел которых он своими руками смывал гной.
О самом названии «Избранная рада» единственное известие содержится в сочинении политического противника царя князя Курбского «Истории о великом князе Московском». Говоря о том, что Сильвестр и Адашев собирают к царю «советников, мужей разумных и совершенных», он пишет: «И нарицались тогда оные советницы у него Избранная рада». В русских же источниках того времени, когда Сильвестр и Адашев стояли у власти, этот термин не употребляется.
Дело в том, что Курбский свой памфлет писал уже за рубежом, в Великом княжестве Литовском, и рассчитывал на тамошнего читателя, украинского и белорусского шляхтича, а потому и применялся к его языку, употребляя «западнорусские» термины. Слово «рада», происходящее от немецкого «рат» - совет, перешло сначала в польский язык, а оттуда уже в украинский и белорусский. Высший правительственный совет Великого княжества Литовского, аналогичный русской Боярской думе, назывался «паны-рада». На Руси же слово «рада» не употреблялось. Предполагали, что термином «Избранная рада» Курбский передал русский термин «Ближняя дума», круг наиболее близких к царю бояр, с которыми он советуется постоянно. Однако источникам XVI века Ближняя дума еще неизвестна, она появляется только в XVII веке.
Кроме того, Сильвестр, будучи священником, не мог входить ни в Боярскую думу, ни тем более в ее часть - Ближнюю. Отсюда порой делают вывод, что Сильвестр не входил в Избранную раду. Но ведь вопрос можно поставить и иначе: раз Сильвестр входил в Избранную раду, она не была Ближней думой. Ведь об участии Сильвестра в правительственной деятельности сохранилось немало известий, возникших самостоятельно, независимо друг от друга. О Сильвестре как об одном из правителей страны пишет Курбский. Иван Грозный, возненавидевший Сильвестра и Адашева после разрыва с Избранной радой, постоянно говорит о совместной деятельности «попа» и «Алексея», прямо обвиняет в узурпации власти и Сильвестра, и сторонников Курбского: «...с попом положисте совет, дабы аз словом был государь, а вы б с попом делом». Наконец, есть сообщения так называемого «Пискаревского летописца», не официального, а частного происхождения, в котором собраны разнообразные придворные слухи. В этом источнике говорится, что Сильвестр «правил Русскую землю» с Адашевым «заодин, и сидели вместе в ызбе у Благовещения (у Благовещенского собора в Кремле. - В. К.), где ныне полое место межу полат». Таким образом, соправительство Сильвестра совершенно неоспоримо: Вполне возможно, что этот правительственный кружок был неофициален и не имел твердого, прочного названия. Помимо Сильвестра и Адашева, в него, несомненно, входили князья Курбский и Курлятев. Вероятно участие и других лиц.
Десятилетие реформ
В истории средневековой России, пожалуй, не было такого десятилетия, в которое было бы проведено столько реформ, как в годы правления Избранной рады. Тогда шла напряженная, постоянная реформационная деятельность. Прежде всего начали постепенно создавать первые приказы - органы, которые управляли отдельными отраслями государственной жизни. Правда, называли их первоначально еще не приказами, а избами.
Один из первых известных нам приказов - Посольский, который возглавил дьяк Иван Михайлович Висковатый. Он около двадцати лет руководил внешней политикой России. В ведении А.Ф. Адашева была Челобитная изба. Может быть, это и есть та самая «ызба у Благовещения», где сидели «заодин» он и Сильвестр? Это учреждение должно было принимать челобитные на имя государя и производить по ним расследование. Среди этих челобитных были, разумеется, и просьбы, и доносы. Таким образом, Челобитный приказ оказывался высшим контрольным органом, расследующим все дела, о которых шла речь в челобитных. Отсюда вытекала и особая власть Адашева. Говорили, что боярин, который «челобитной волочит» (т. е. слишком долго ее рассматривает), «не пробудет без кручины от государя»; если же Адашев на кого разгневается, то «больши того не бей челом, то бысть в тюрьме или сослану».
В те же годы возник Поместный приказ, который ведал распределением поместий между служилыми людьми. Разрядный приказ был своего рода штабом вооруженных сил, он подготавливал назначения на важнейшие должности в войсках. Разбойный приказ занимался борьбой против «разбоев» и «лихих людей». Земский приказ управлял Москвой, отвечал за порядок в ней.
В 1550 году был создан свод законов – Судебник. До него существовал Судебник 1497 года, принятый при Иване III, но к середине XVI века старый Судебник подзабыли, кое в чем он и устарел. В старом Судебнике не было даже деления текста на статьи. Новый был гораздо лучше систематизирован, точнее отредактирован. В нем впервые вводились наказания для взяточников - начиная от мелких канцелярских служителей - подьячих, кончая боярами. Специфика феодального права сказалась здесь в том, что наказания для бояр, решающих дела неправильно, по «посулам» (взяткам), были куда мягче, чем для подьячих.
Не забыли и церковную реформу. Церковь единого государства нуждалась в более жесткой централизации. От времен феодальной раздробленности остались в наследство мелкие различия в обрядах в разных землях. Была необходима их унификация. Еще существенней было то, что в разных землях молились подчас разным святым: в каждом княжестве, наряду с общерусскими, поклонялись и своим, «местночтимым» святым: ярославским, ростовским, новгородским... Можно было, конечно, «разжаловать» местных святых, оставив лишь общерусских и московских. Но возглавлявший церковь митрополит Макарий поступил гораздо умнее: все местные святые стали общерусскими, был создан общерусский пантеон.
В 1551 году был созван церковный собор. Он вошел в историю под названием Стоглавого, так как его решения были сведены в 100 глав и получили название «Стоглава». Собор не только унифицировал все обряды, но и поставил задачу улучшить нравы духовенства и тем самым поднять его авторитет.
Весьма активную роль в этом соборе играл сам царь Иван. Решения собора даже озаглавлены: «Царския вопросы и соборные ответы о многоразличных церковных чинех». Название отражает форму соборных заседаний: царь задавал вопросы участникам собора, а они давали свои ответы. Нередко вопрос предрешал ответ, когда царь, спрашивая, уже говорил о каком-то нарушении морали, церковных правил и т. д. Так, вряд ли кто-нибудь ответил бы, что хорошо, что люди идут в монастырь, «чтобы всегда бражничать». Кстати, борьба с пьянством в монастырях была предметом особой заботы Стоглавого собора. Правда, осуждали лишь злоупотребление хмельными напитками, а не их употребление. На соборе говорили, что издавна монахи пили вино, но «в славу божию», умеренно - по одной, две, три чаши. Теперь же в русских монастырях установился неписаный закон: «...аще имеем питие пьянственное, не можем воздержатися, но пием до пьянства». Поэтому монахам было запрещено употреблять водку («горячее вино») и дозволены квас и виноградные («фряжские») вина.
Собор предписал протопопам (старшим священникам) следить, чтобы рядовые священники «не билися и не лаялися и не сквернословили и пияни бы в церковь и во святый олтарь не входили, и до кровопролития не билися». Такое правило было необходимо ведь в царских вопросах рассказывалось, что попы «в церкви всегда пьяни и без страха стоят и бранятся и всякие речи неподобные всегда изо уст их исходят», что они «в церквах бьются и дерутся промеж себя».
Очень серьезные реформы касались организации класса феодалов. Одной из них было ограничение местничества. Здесь будет уместно остановиться на этом явлении. Сейчас это слово у нас употребляется в совершенно ином значении: местничеством называют соблюдение интересов местных в ущерб общегосударственным. В России же XVI-XVII веков местничество состояло в том, что феодалы получали служебные назначения не столько по личным заслугам, сколько по своему происхождению, «породе». А. С. Пушкин в одном из стихотворений, говоря о дворянском роде Езерских, пишет:
Из них Езерский Варлаам
Гордыней славился боярской;
За спор то с тем он, то с другим
С большим бесчестьем выводим
Бывал из-за трапезы царской,
Но снова шел под тяжкий гнев
И умер, Сицких пересев.
К последнему слову Пушкин сделал примечание: «Пересесть кого - старинное выражение, значит занять место выше».
Иной раз авторы исторических романов и пьес, чьи представления о прошлом не выходят за рамки массового сознания, изображают боярские споры о местах, как нечто забавное и донельзя глупое. Выпуча глаза и суя друг другу кукиши, бояре спорят, кто знатнее. Читатель остается в убеждении, что бояре были забавными и спесивыми недоумками. Кому выше сидеть за столом? Подумаешь, велика важность. Исследователи порой видели в местничестве старую привилегию независимых от центральной власти аристократов. Чем знатнее, тем выше положение! Это и так, и не так.
Действительно, современному человеку споры из-за мест кажутся невероятными. Позорным считалось не занять место повыше, но не позорным было быть публично выпоротым за упрямство. Не позорно было даже прослыть дураком. Один из князей Хворостининых, когда его младший брат проиграл местническое дело, потребовал пересмотреть решение, так как, по его словам, брат его глуп и не умел отвечать. Но этого глупого человека он считал вполне достойным высокого поста в войсках.
Проигрыш местнического дела был трагедией. Михайло Андреевич Безнин (из Нащокиных), в прошлом опричник, проиграв тяжбу о местах, «от той обвинки боярской хотел в монастырь постритца». Другой крупный воевода, Петр Федорович Басманов (из бояр Плещеевых), «патчи на стол, плакал с час горько».
Почему же служилые люди так цепко держались за свое местническое положение? Дело в том, что местнический счет был основан на прецедентах, или, как говорили тогда, на «случаях». Если когда-то служили вместе два дворянина и один из них был первым воеводой, а другой - вторым, то через 50 лет их внуки за пиршественным столом государя должны сохранять это же соотношение: внук первого воеводы - выше, внук второго - ниже. Поэтому, приняв «невместное» назначение, служилый человек наносил урон своим потомкам и другим родичам: их много десятков лет будут «утягивать» этим «случаем», ссылаться на него в ущерб роду.
«Случаи» были так важны еще потому, что ведь далеко не всегда соприкасались на службе прямые потомки тех, кто когда-то служил вместе. Тогда выстраивали длинную цепочку «случаев»: мне непригоже быть меньше князя Ивана, ибо его дядя князь Петр был некогда меньше Семена, Семен в другой раз был меньше Федора, Федор - меньше Гаврилы, а Гаврила - меньше моего отца. Пропустив «невместное» назначение, служилый человек давал в руки чужаков мощное оружие против своего рода. Однажды один из князей Оболенских был назначен на службу вместе с близким другом, решил не ссориться с ним из-за мест и не «бил телом в отечестве о счете». Тогда к государю обратились его родственники, жалуясь, что князь «тем своим воровским нечелобитьем всему их роду князей Оболенских поруху учинил».
Почему же государи терпели местничество? Почему Иван Грозный, который любое местническое дело, если ему хотелось, прекращал одним суровым окриком: «Не дуруй!», сам охотно влезал в местнические счеты, допускал их даже среди опричников, умело пользовало ими, чтобы возвысить тех, кто у него «во времени» (в фаворе), и унизить тех, кто близок к опале? Дело том, что, поскольку все местничество основано на прецедентах, выше оказывались не столь самые знатные, сколь те, чьи предки раньше начали служить московским великим князьям.
Как-то и Роман Васильевич Алферьев (из рода Нащокиных) местничался с князем Василием Васильевичем Мосальским. Мосальские - Рюриковичи, потомки черниговских князей. Но Алферьев подчеркивал другое: Нащокины - вечные холопы государей, не служивали никому, опричь московских князей, а Мосальские служили когда-то князьям Воротынским. Он таким образом противопоставлял род, который не служил никому, кроме московских государей, потомкам Рюрика, которые когда-то служили удельным князьям. Местничество выдвигало роды давних вассалов московских великих князей, традиционно поддерживавшие власть потомков Ивана Калиты. Поэтому местничество даже поощряли.
Но приходилось терпеть и неудобства. Перед каждым походом составляли «разряд» - список всех воевод, а иногда и голов - начальников «сотен» - по полкам. И сразу начинался поток местнических челобитных. А ведь военная обстановка не терпит промедления. Недаром царь Иван жаловался как-то: «С кем кого ни пошлют на которое дело, ино всякой розместничается на всякой посылке и на всяком деле, и в том у нас везде бывает дело некрепко».
В 1550 году был принят указ, несколько ограничивающий местничество. Первое ограничение касалось молодых аристократов. Ясно, что даже самого знатного человека не назначишь воеводой в 15-18 лет. Но как быть, если такой «новик», только начинающий службу, куда знатнее воеводы, под командованием которого ему предстоит сражаться? Было принято великолепное решение: для знатных людей их служба на малых должностях, пока они не стали воеводами, не считается прецедентом: «...в том их отечеству (местническое достоинство.- В. К.) порухи нет». Таким образом, юные отпрыски боярских родов могли теперь спокойно, без урона для чести своего рода проходить стажировку в войсках, набираться воинского опыта.
Второе ограничение относилось к местническим расчетам. Они были крайне сложны. Между пятью полками, на которые делилось обычно войско, существовало определенное старшинство. Самый почетный - большой полк, потом - передовой правой руки, левой руки и наконец - сторожевой. Ясно, что, например, первый воевода передового полка выше воевод полков правой и левой руки и ниже первого воеводы большого полка. Ясно также, что первый воевода большого полка выше всех прочих воевод. Понятно, что каждый первый воевода выше своего второго. Но вместе с тем неясно соотношение между, например, вторым воеводой большого полка и первыми воеводами остальных полков. Из-за этого вспыхивали лишние споры, запутывались отношения. Было принято удачное решение: считаются находящимися на совместной службе все первые воеводы, затем - все вторые и, наконец, каждый первый со своим вторым. Вторые же воеводы не могут спорить о местах с первым воеводами других полков, их назначения не становятся прецедентами. "Приговор" о местничестве таким образом сохранил местничество, но ослабил его негативные последствия для практической деятельности.
В 1555-1556 годах было принято «Уложение о службе», которое ввело точный порядок службы феодалов. Была установлена норма, какого количества земли - поместья или вотчины - должен выходить один вооруженный воин на коне. С первых ста четвертей (около 170 гектаров) выходил сам феодал, со следующих - его вооруженные холопы. Говорили, что государевы служилые люди выходя на службу "конно, людно и оружно". Было также предусмотрено, что тот, кто выведет людей больше, чем положено, получит за это денежную "помогу", своеобразную премию; тот же, кто выведет меньше, заплатит штраф.
Откуда же брались деньги на помогу? Ведь их хронически не хватало в государственной казне. Вероятно, именно потому реформа устного управления была проведена одновременно с принятием "Уложения о службе". Согласно этой реформе кормления были отменены. Население теперь должно было платить не кормленщикам, а государству: вводился новый налог - "кормленичий окуп". Эти деньги распределялись между феодалами, выходящими на службу. Тем самым для них компенсировалась утрата кормлений.
Власть на местах полностью переходила в руки выборных из местного населения. Государство еще не располагало ни кадрами администраторов-специалистов, ни возможностями платить жалование за гражданскую службу. Поэтому и пришлось пойти на передачу власти представителям сословий. В тех уездах, где было развито феодальное землевладение, власть принадлежала дворянским выборным - губным старостам; там, где жили крестьяне, платившие подати непосредственно государству ("черносошные крестьяне" ), администраторами стали крестьянские представители - земские старосты. Земских старост избирали посадские люди в городах.
И губные, и земские старосты существовали и раньше. Выше уже говорилось, что при Елене Глинской началась передача губным старостам дел о наиболее ужасных уголовных преступлениях. Земские же старосты первоначально были представителями крестьянских и посадских общин в их отношениях с властью. Например, они должны были присутствовать при разборе тяжб о земле. Теперь те и другие стали полновластными администраторами.
Однако эта новая система была еще далека от идеала. Из-за обычной нехватки денег губные старосты не получали вознаграждения. К тому же на эти должности предписывалось избирать тех, кто по возрасту и здоровью был уже непригоден для воинской службы. Должно быть, поэтому многие губные старосты тяготились своими обязанностями. Пожилым и не очень здоровым людям вовсе не хотелось бросать свои вотчины и поместья и носиться по уезду в поисках "лихих людей".
В 1555 году был принят "Приговор о разбойном деле" - закон, направленный на борьбу с разбоями. Из него мы узнаем, что некоторые губные старосты отказываются "целовать крест" - приносить присягу, без которой нельзя было приступить к исполнению своих обязанностей, "и дел не делают". Было велено "по тех старост посылати на подводах и сажати их в тюрму. А ис тюрьмы их выпущати да на них прогоны имати. А им велети впредь быти у разбойных дел". Другие же губные старосты, хотя и целовали крест, "живут на Москве за своими делы, а с Mосквы не едут. И тех старост ссылать с Москвы за поруки (с поручительствами. - В. К.), а появятца опять, а Москвы не поедут, ино их сажати в тюрму на время".
Только на время: ведь их все же надо отправить в свои уезды и заставить ловить разбойников!
Любопытная вырисовывается картина: главное административное лицо уезда исполняет свои обязанности лишь под угрозой тюрьмы и даже, отсидев в ней, по-прежнему должно руководить розыском уголовных преступников.
Таким образом, эти реформы хотя и шли в направлении централизации, еще не создали ее.
У Избранной рады, видимо, не было тщательно разработанной программы действий. Идеи рождались у правителей в самом процессе преобразований, они учились у жизни как бы на ходу. Вот характерный пример. В 1550 году был принят Судебник, в котором были подробнейшим образом расписаны все обязанности и права кормленщиков наместников и вoлocтелей. По сравнению с предыдущим Судебником - 1497 года - их власть несколько ограничили. А всего через пять-шесть лет кормления полностью отменили, многие из статей Судебника оказались устаревшими, ненужными. Вероятно, в 1550 году Иван IV, Адашев, Сильвестр и их сотрудники еще не представляли себе, что кормления доживают последние годы.
Не все Избранной раде удалось осуществить. Например, в 1550 году было решено отобрать тысячу "лутчих слуг" из числа дворян, которые должны быть постоянно готовы для выполнения царских поручений. Чтобы они могли быстро приехать по первому зову царя, им было предписано дать поместья в радиусе не более 60-70 верст от Москвы. Составили список, в который вошло чуть больше тысячи - 1078 человек. А вот земли не нашлось. Появился исключительно ценный для будущих историков источник - "Тысячная книга", перечень всей верхушки класса феодалов страны, с указанием их рангов ("тысячников" разделили на три статьи ). Но поместья, судя по всему, большинство из них так и не получило.
Кто же правил страной!
Возникает вопрос; какова степень личного участия Ивана IV в правительственной деятельности 50-х годов XVI века? Что из достижений этого времени мы можем поставить в заслугу царю? Ответ нелегок: ведь в официальных документах невозможно отделить то, что сделано лично Иваном IV, от результатов деятельности его советников. В летописях и правительственных указах даже трехлетний великий князь Иван Васильевич предстает как самостоятельный правитель, который налагает опалу, выносит приговоры, заключает международные соглашения... Таковы обычные порядки монархического государства. К тому же сам Иван IV приложил все силы, чтобы отказаться от чести осуществления реформ этой первой половины своего царствования. Позже, разойдясь с Избранной радой, он обвинял ее в полной узурпации власти.
Царю Ивану противоречит Курбский, а он вроде не должен идеализировать монарха, против которого пишет памфлет. Но именно князь Андрей стоит у истоков концепции "двух Иванов": мудрого государя в начале и тирана во второй половину своего царствования. Когда Ивана IV окружали хорошие советники, он и сам, по Курбскому, был царем "добрым и нарочитым", имел "от всех добрую славу"; Курбский обращается к Ивану как к царю, "от бога препрославленному", "во православии пресветлу". Лишь во второй половине царствования он переменился радикально, "сопротивным обретеся". Таким образом, Курбский нисколько не отрицал, что Иван IV, хотя и под влиянием мудрых советников, но действовал для падения Избранной рады на благо страны.
До нас дошли некоторые публичные выступления, своего рода правительственные декларации царя Ивана. Обратимся к ним. Вот, например, его речи на Стоглавом соборе. Разумеется, не исключено, что многое в них написано митрополитом Мавдарием и Сильвестром. Но все же порой явно чувствуется слог самого царя Ивана. Такова, например, бытовая зарисовка нравов монахов: "Старец на лесу келью поставит или церковь срубит да пойдет по миру с иконою просити на сооружение. У меня земли и руги (денежное пособие от правительства на содержание церкви или монастыря. - В. К.) просит. А что собрав, то пропьет".
В речи, произнесенной при открытии собора, явно ощущаются те мотивы, которые потом будут пронизывать все его сочинения: он обвиняет бояр в том, что они давали ему "совет не благ", что, делая вид, "яко мне доброхотствуют, но паче же себе самовластие улучающе".
Наконец, трудно себе представить, чтобы такой властный и активный человек, как царь Иван, мог даже в молодости оставаться равнодушным зрителем чужой деятельности. Это совершенно противоречило бы его натуре. Нам даже известны случаи, когда еще совсем юный царь лично занимался теми делами, для которых вовсе не обязательно было его участие. Так, семнадцатилетним он сам разбирал запутанную тяжбу боярина Ивана Шереметева с князьями Звенигородскими. Правда, дело было интересно, как детектив: при внезапном обыске в княжеском доме был найден подложный документ, при помощи которого князья надеялись захватить шереметевскую вотчину. А вместе с фальшивкой был даже схвачен заснувший в княжеском доме незадачливый фальсификатор.
Участие Ивана IV в правительственной деятельности в 50-х годах не противоречит тому, что многие реформы (возможно, даже их большинство) были задуманы деятелями Избранной рады. Главной заслугой Ивана IV в эти годы было то, что он призвал к правлению таких политиков, как Адашев и Сильвестр, и, видимо, действительно подчинялся их влиянию. Вряд ли случайно, что от этих лет жизни грозного царя у нас нет известий о вспышках царского гнева (расправа с псковичами была последней), казнях и т. д. Впрочем, как мы увидим, события не всегда развивались ровно.
Разбуженное общество
Реформаторская деятельность сочеталась с культурным подъемом и с расцветом публицистики. Одним из главных культурных деятелей эпохи был митрополит Макарий. Прежде чем занять митрополичий престол, Макарий много лет был новгородским архиепископом. Еще в Новгороде он затеял широкое предприятие - создание "Великих четьих миней".
В то время все душеспасительные, церковные книги делились на две категории: книги служебные, которые использовались при богослужении, и четьи, предназначенные для назидательного чтения. Минеями же называли сборники, в которых сочинения были расположены по месяцам, а внутри - по дням. Обычно создавали минеи служебные. Священнику было очень удобно открыть минею на сегодняшнем дне и найти все те тексты, которые он сегодня должен прочитать вслух во время богослужения. Макарий же задумал составить минеи четьи, в которых православный читатель мог найти то произведение, которое ему именно сегодня рекомендуется прочитать. Например, в день памяти святого - его житие или написанное им сочинение. Впрочем, объем Великих четьих миней таков, что за год их прочитать почти невозможно: 12 (по числу месяцев) объемистых томов, более 14 тысяч листов, 28 тысяч страниц большого формата, густо исписанных четким почерком. Макарий поставил задачу собрать здесь "все книги чтомые, которые в Русской земле обретаются". Действовал Макарий не в одиночку: сбором материала для Четьих миней занимался целый кружок образованных людей - и духовных, и светских. Говорят иногда даже о своеобразной академии Древней Руси.
Предприятие было грандиозным. В Четьи минеи вошли многочисленные жития и поучения, повести и сказания, монастырские уставы и исторические сочинения. Но сборник этот был полностью лишен даже оттенка вольнодумства: ортодоксальность была одним из главных критериев отбора произведений. Четьи минеи стали своеобразным сводом дозволенной благонамеренному читателю литературы. Те произведения, которые не попали в макарьевское собрание, оказались уже под подозрением. Замечено, что памятники древнерусской литературы, оставшиеся за пределами Четьих миней, во второй половине XVI и в XVII веке переписывали редко.
В середине XVI века книгопечатание, изобретенное за век до того в Германии Иоганном Гутенбергом, появилось и в России. На здании историко-архивного института на улице 25 Октября (бывшая Никольская) можно видеть мемориальную доску с надписью, сообщающей, что на этом месте находилась типография, в которой Иван Федоров напечатал первую русскую книгу. Надпись, увы, не совсем точна, хотя типография Ивана Федорова действительно работала на этом самом месте. Дело не только в неточной редакции текста (печатные книги не были первыми книгами: рукописные книги существовали на Руси, как и во всем мире, задолго до книгопечатания). Ведь выпущенный Иваном Федоровым в 1564 году "Апостол" - первая книга его типографии, но вовсе не первая печатная книга в России. Еще в 50-х годах в Москве уже работала типография, мастера которой неизвестны нам по именам, так как они не называли себя в своих изданиях. Поэтому эту типографию в науке принято называть анонимной. Печатный двор Ивана Федорова был уже второй типографией, организованной, видимо, после пожара, уничтожившего анонимную.
Иван Федоров, дьякон кремлевской церкви Николая Гостунского, был удивительным человеком, не только толковым ремесленником (как печатники анонимной типографии, которых, впрочем, он намного превзошел в мастерстве), а и просветителем. В печатном деле он видел не источник заработка, а призвание. Каждую книгу он снабжал послесловием, в котором обращался к читателю, рассказывал об обстоятельствах издания книги, писал о высоком предназначении печатного слова. Недаром литературоведы их изучают как памятники русской литературы. Перебравшись затем по невыясненным причинам в пределы Великого княжества Литовского, Иван Федоров напечатал и первый русский букварь с изложением основ грамматики (к сожалению, единственный его экземпляр сохранился не в нашей стране, а в библиотеке Гарвардского университета в США).
В те же годы, в конце 40 - начале 50-х, интереснейшие, дерзкие проекты государственных преобразований выходят из-под пера Ивана Семеновича Пересветова. Русский человек, он родился в Великом княжестве Литовском, много путешествовал, служил в Польше, Венгрии, Чехии, Молдавии, а потом прибыл на Русь. "Служил есми... трем королем, а такия обиды ни в котором королевстве не видал", - с горечью пишет Пересветов. На Русь он попал в годы боярского правления, по службе ему не повезло, поместье его запустело "от великих людей обид". "И ныне, государь, от обид и от волокит наг, бос и пеш", - жалуется Пересветов.
Конечно, не только рядовой дворянин, но даже и знатный боярин не решился бы прямо поучать государя, как ему надлежит действовать. Такие "непригожие речи" даже в сравнительно мягкие времена правления Избранной рады привели бы автора в лучшем случае в тюрьму. Поэтому свои советы Пересветов облек в иносказательную форму. Так, он рассказывает, что, когда служил в Молдавии у тамошнего господаря "Петра, воеводы волосского" (господарь Петр Рареш), тот много ему говорил "про тебя, государя благовернаго царя, и про твое царство государство". И Пересветов эти слова Петра-воеводы да еще слышанные им "мудрости греческих философ и латынских дохтуров" доносит до государя. Вместе с тем он создает повести о Магмет-салтане турецком, идеальном монархе, который установил у себя в царстве полный порядок.
Нет возможности в этой книге рассказать подробно о всех проектах Пересветова, стоит остановиться лишь на элементах вольнодумства в его мировоззрении. Так, Пересветов рассказывает, что у Петра-воеводы служил "москвитин Баска Мерцалов". Воевода спросил у него, есть ли в "царстве Московском" правда. Мерцалов отвечал: "Вера, государь, христианская добра всем сполна, и красота церковная велика, а правды нет". И тут Петр заплакал "и рек тако: «Коли правды нет, то и всего нет». А потом добавил: «Бог не веру любит, - правду»". Конечно, ни один самый ортодоксальный христианский автор никогда не сказал бы, что правда не нужна. Но кто и когда рискнул противопоставить правду и веру и сделать выбор не в пользу веры?
Мало того. В повестях о Магмет-салтане и о царе Константине слабого монарха, погубившего свое царство, Пересветов вывел в лице последнего византийского императора, православного государя Константина; он предстает перед читателем как пример нравоучительный, но отрицательный. А кто же образец государя, введшего "правду" в своем царстве? Мусульманин Магмет-салтан турецкий. Конечно, печально, что он не христианин; Пересветов даже замечает: "...да естьли бы к той правде да вера християнская, ино бы с ним ангели беседовали". Но ведь общеизвестно, что человек - не ангел, а потому выходит, что сочетание турецкой правды с христианской верой - недостижимый идеал. Поскольку же "бог не веру любит, - правду", мусульманин "безбожный царь" Магмет-салтан более угоден богу, чем православный и "благоверный" царь Константин.
Резко выступал Пересветов и против холопства. "Которая земля порабощена, - говорит Пересветов устами Петра воеводы, - в той земле все зло сотворяется: татба, и разбой, и обида, и всему царьству великое оскужение".
Еще дальше в вольнодумстве пошел Матвей Семенович Башкин. Дворянин высокого ранга, прихожанин придворного Благовещенского собора, он однажды пришел к своему "отцу духовному" попу Семену и принес книгу "Апостол", всю "навощенную": то, что сейчас отмечают карандашом, тогда отмечали на полях капельками воска.
Разговор с Башкиным напугал и удивил попа Семена, и он кинулся с докладом к всесильному Сильвестру. Что за странный "сын духовный" пришел ко мне, недоумевал Семен: "... от мене поучения требует, а иное мене и сам учит". Кое-что священнику показалось неплохим, а кое-что - "развратным" (то есть опасным для веры, идеологически невыдержанным). Сильвестр коротко заметил, что о Башкине "слава недобрая носится", и поручил Семену продолжать беседы.
С тех пор каждое слово, сказанное Башкиным, становилось частью его следственного дела. А говорил он вещи, с точки зрения ортодоксов, ужасные. Матвей Семенович недоумевал: как так, называемся христианами, а своих братьев держим у себя в рабстве. Сам он все кабалы-документы на холопов порвал и отпустил холопов на волю. Отрицал Башкин обряды, иконы, творения "отцов церкви"... В конце концов Башкин предстал перед церковным судом. Измученный пытками, он долго не мог прийти в себя: "...язык извеся, непотребная и нестройная глаголаша на многи часы". Вчерашний придворный был заточен в монастырскую тюрьму - в Иосифо-Волоколамский монастырь, где заправляли наиболее жестокие и рьяные преследователи всякого религиозного разномыслия.
Появление таких вольнодумцев, как Пересветов и Башкин,- свидетельство не только культурного роста, но и того, что общество было как бы разбужено реформами.
Большие успехи были достигнуты и во внешней политике. В 1552 году закончился победой очередной поход на Казань - многие предыдущие кончались неудачами. Казанское ханство, мощное государство, перестало существовать и вошло в состав России. Это было первое ордынское государство (а ханство было одним из осколков бывшей Золотой Орды), которое оказалось под суверенитетом русского государя. К присоединению Казанского ханства стремились феодалы. Выразитель их настроений Пересветов писал, что Петр-воевода советовал "послати войско на Казань" и недоумевал, "что таковая землица не велика, вельми угодна, у таковаго великаго царя под пазухою, а в недружбе" и не без цинизма добавлял, что "хотя бы таковая землица и в дружбе была, ино бы ея не мочно терпети за такое угодие" (полезность, высокое качество. - В. К.). Ведь эту "землицу" можно было бы раздать "воинникам". Именно они, феодалы, рассчитывали на земельные раздачи в Казанском крае. О торговом пути по Волге мечтали купцы.
Было бы ошибкой, помня о прогрессивном в целом значении присоединения Казанского ханства, закрывать глаза на национально-колониальную политику царизма, которая проявила себя и во времена Ивана Грозного. Да, казанская знать в своем большинстве перешла на русскую службу. Нельзя сказать, чтобы ее дискриминировали. Татарская конница, возглавлявшаяся перешедшим в православие последним казанским ханом, стала важной составной частью русских вооруженных сил. Но вот из самого города Казани татар, коренных жителей, старались выселять, чтобы сделать город русским. Стали проводить и насильственную христианизацию татар и других народов Поволжья. Казанское ханство было многонациональным государством, включавшим в свой состав также мордву, башкир, марийцев, удмуртов, чувашей. Эти народы стали платить тяжелую дань, а их земли раздавали русским помещикам. Поэтому если вначале часть этих народов помогала русским войскам, стремясь освободиться от власти казанских ханов, то вскоре после 1552 года начались восстания, которые жестоко подавляли царские воеводы.
Вслед за Казанью в 1556 году удалось бескровно присоединить Астраханское ханство, владетель которого не решился вступить в бой с русскими войсками и капитулировал. Все течение Волги - от верховьев до устья - оказалось в русских руках.
После присоединения Казани и Астрахани Иван IV принял титулы царя казанского и астраханского. Если до того были возможны сомнения в законности царского титула Ивана IV, то теперь они должны были исчезнуть: за казанскими и астраханскими ханами на Руси прочно утвердился царский титул, а Иван Васильевич выступал как их правопреемник.
Глава II ПУТЬ ТЕРРОРА
Конец рады
В 1560 году правительственный кружок Сильвестра и Адашева был устранен от власти, а сами его деятели оказались в опале. Этот разрыв царя с советниками только подвел черту под давними разногласиями и взаимными неудовольствиями. Первые предвестники охлаждения обозначились в 1553 году. В марте царь тяжело заболел; кто знает, что это была за болезнь, известно лишь, что она была “тяжка зело”. Казалось, молодой государь умирает. Встал вопрос о наследнике. Царь к тому времени был отцом единственного сына - Дмитрия (впоследствии то же имя получит последний сын Ивана IV - несчастный царевич, погибший в Угличе ребенком почти через 40 лет), первенца, которому было всего около пяти месяцев от роду. Царь Иван хотел, чтобы бояре присягнули как наследнику именно Дмитрию. Однако среди приближенных началось брожение.
Известия об этих спорах “у постели” царя Ивана крайне разноречивы и тенденциозны. В официальной летописи рассказ об этих событиях дважды редактировали. Кто бы ни был этим редактором (высказывалось предположение, что сам царь), он действовал в полном согласии с волей Ивана IV, по его поручению. А от редакции к редакции меняются позиции некоторых придворных, да и обстоятельства споров излагаются по-разному. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, был ли это боярский “мятеж”, как потом утверждал царь Иван, острый спор или просто какие-то разговоры, о которых царю стало известно впоследствии.
Похоже, что последнее предположение ближе к истине. Дело в том, что через год с небольшим после царской болезни в Великое княжество Литовское задумал бежать один из участников этих споров князь Семен Ростовский. Он был арестован, оправдывался “малоумством”, и “скудотой разума”, а затем признался, что, как и многие бояре, был против присяги царевичу Дмитрию и за то, чтобы наследником стал старицкий князь Владимир Андреевич. Бежать же он надумал, поскольку испугался, что не удастся это “дело укрыть”. Выходит, только тогда до царя дошли сведения о боярских спорах.
Самым печальным для царя было то, что среди тех, кто поддерживал кандидатуру Владимира Андреевича и сомневался, присягать ли “пеленочнику”, были и некоторые деятели Избранной рады. Так, Сильвестр, хотя и не выступал прямо за то, чтобы Владимир Андреевич стал наследником, все-таки защищал его, ибо он у старицкого князя “советен и в велицей любви бысть”. Отец Алексея Адашева боярин Федор Григорьевич, согласно официальной летописи, говорил царю, что хотя он и поцеловал крест царевичу Дмитрию, но все же испытывает сомнения: “...сын твой, государь наш, ещо в пеленицах, а владети нам Захарьиным, Данилу збратиею. А мы уже от бояр до твоего возрасту беды видели многия”.
Казалось, инцидент был исчерпан: все в конце концов присягнули младенцу царевичу, включая и самого князя Владимира Андреевича, царь выздоровел, а сам царевич не дожил до года: летом кормилица уронила его в реку, когда входила с ним на царское судно при поездке на богомолье. Колебавшиеся не только не пострадали, но многие вскоре даже получили повышения по службе. Но осадок остался, и муть от него поднялась со дна несколько лет спустя.
Через 11 - 12 лет после своей болезни Иван Грозный в послании Курбскому писал, что те, кого Курбский называет его “доброхотами”, во время царской болезни вместе с Сильвестром и Адашевым “возшаташася яко пиянии” и, забыв царские благодеяния, “младенца... нашего... хотеша подобно Ироду погубити...воцарив князя Володимера”. А еще позднее, в другом послании Курбскому снова обвинял: “А князя Володимера на царство чего для естя хотели посадити, а меня и з детьми известь?”
Взрыв в отношениях царя с его советниками произошел около 1560 года. Тогда пало правительство Избранной рады. Сильвестра постригли в монахи, отправили сначала в Кирилло-Белозерский, а потом еще дальше - в Соловецкий монастырь. Иван Грозный очень гордился тем, что не казнил Сильвестра и даже оставил на свободе его сына, с тем лишь, чтобы тот не видел царского лица, не бывал при дворе. Алексей Адашев и его брат Данило были посланы на службу в Ливонию, где шла тогда война. Вскоре туда прибыли люди для их ареста. Алексея в живых уже не застали: должно быть, сердце не выдержало тяжелых переживаний, связанных с падением Избранной рады. Данило же был заключен в тюрьму и через два-три года казнен.
В чем же причины такой резкой смены правительства? Нередко утверждают, что расхождения между Иваном IV и Избранной радой лежали прежде всего в области внешней политики, что правительство Адашева и Сильвестра настаивало, чтобы после взятия Казани и Астрахани продолжать действия на этом же, юго-восточном, направлении: вести войну против Крыма, а в перспективе и против Турции. Потому якобы эти деятели были против Ливонской войны, которую с 1558 года вела Россия против владевшего Прибалтикой Ливонского ордена. Откуда идут сведения об этих расхождениях? Исключительно от самого царя Ивана.
Так, в 1563 году русскому послу было приказано сообщить крымскому хану, что “ближние люди” - Иван Шереметев, Алексей Адашев и Иван Висковатый - “ссорили” Ивана IV с ханом, и он “ради того сыскал и опалу свою на них положил”. (Заметим, что И.М. Висковатый после этого еще около семи лет возглавлял русскую внешнюю политику.) В посланиях же Курбскому царь Иван обвинял Сильвестра и Адашева в том, что они выступали против Ливонской войны и в “супротисловии”.
Однако факты говорят иное. В 1558 году, когда началась Ливонская война, именно Адашев был реальным руководителем внешней политики (Висковатый - его подчиненный), именно Адашев вел те переговоры с ливонскими послами, срыв которых привел к началу военных действий. Иван Грозный впоследствии обвинял Адашева в том, что по его инициативе было заключено перемирие с Ливонским орденом, которое дало противнику возможность оправиться от поражений. Когда результаты известны, всегда легко обвинить в злонамеренности того, кто совершил ошибку. Еще легче и приятнее списать свою ошибку на другого: ведь перемирие не могло быть заключено без санкции царя, а он был мастером перекладывать ответственность на чужие плечи.
Наконец, еще одно соображение: Адашев и Сильвестр, умные и одаренные политики, разумеется, могли через некоторое время после начала конфликта с Ливонией, когда стало ясно, что Великое княжество Литовское и Польша будут в этой войне противниками России, убедиться в бесперспективности этой войны (что было правдой) и советовать царю найти пути, чтобы с честью выпутаться из тяжелой ситуации.
Они могли выступать против авантюризма в ведении Ливонской войны. Ведь война эта к тому же была, видимо, непопулярна. Свидетельство - фольклор. Он часто поминает взятие Казани, в нем народ видел основную заслугу Ивана Грозного; но ни в одной песне нет ни слова о Ливонской войне.
Однако защита умеренности в проведении политики на западе не означает обязательно стремления к активности на юге и востоке. Чувство реальности вряд ли позволило бы Сильвестру и Адашеву настаивать на продолжении на юг прежнего восточного направления внешней политики. Они должны были не хуже позднейших историков знать, что за спиной крымского хана стояла могучая Османская империя, одна из самых сильных военных держав мира. Только оборона, - никаких наступательных действий против Крыма - этот вариант внешнеполитической ориентации был единственно возможным. Недаром в посланиях Курбскому царь Иван не решился повторить ложь о том, что Адашев ссорил Россию с крымским ханом, а обвинял своих прежних советников лишь в сопротивлении западному варианту внешней политики.
Чтобы разобраться в причинах падения Избранной рады, обратимся сначала к двум самым осведомленным, хотя и не самым объективным свидетелям: Ивану IV и Курбскому. Удивительно: расходясь в оценках фактов, эти два противника сходятся в самих фактах.
Иван Грозный связывает свой разрыв с советниками со смертью первой жены - царицы Анастасии, прямо обвиняя вчерашних временщиков в убийстве: “А и з женою вы меня про что разлучили? Толко бы вы у меня не отняли юницы моея, ино бы Кроновы жертвы (жертв свирепому древнегреческому богу времени - Хроносу. - В. К.) не было”. В другом же послании царь обвиняет своих противников в том, что они желали смерти Анастасии и сравнивали ее с Евдоксией, византийской императрицей, гонительницей одного из “отцов церкви” - Иоанна Златоуста.
В свою очередь Курбский в “Истории о великом князе Московском” говорит, что еще при жизни Анастасии ее братья “клеветаша” на Сильвестра и Адашева и “во уши шептаху заочне” доносы (“сикованции”) и обвинения против них. Он гневно называет Захарьиных “нечестивыми губителями тамошнего царства”. После смерти Анастасии они же обвинили Сильвестра и Адашева в том, что царицу “счеровали (околдовали. - В. К.)... оные мужи”. Видимо, эти обвинения побудили Эйзенштейна ввести в свой фильм эпизод, в котором специалист явно ощутит фальшь: зловещая старицкая княгиня Ефросинья (С. Бирман) подсыпает яд очаровательной царице Анастасии (Л. Целиковская).
На чем могли основываться обвинения в околдовывании или отравлении Анастасии? Заметим, что царь Иван обвинял Сильвестра и Адашева не только в смерти Анастасии, но и в пренебрежении к ней. В плохих отношениях с деятелями Избранной рады были родственники Анастасии - Захарьины, что ярко проявилось в дни болезни царя. Мелкие неудовольствия и придворные ссоры между Захарьиными и временщиками после смерти царицы, должно быть, приобрели в глазах царя зловещий оттенок. Ведь смерть близкого человека всегда заставляет вспоминать и свою вину перед ним, и вины окружающих. Что же касается царя Ивана, то он всегда особенно охотно припоминал чужие вины. То, что казалось нормальным, когда речь шла об общении с живым человеком, воспринималось совсем по-другому, когда близкого уже нет в живых. Импульсивная натура царя Ивана могла гипертрофировать эти события.
Однако раздоры из-за Анастасии, видимо, стали лишь последней каплей в разладе между царем и советниками. Именно охлаждение в отношениях, разочарование в Сильвестре, Адашеве и других деятелях правительственного кружка могли заставить Ивана IV поверить вздорным обвинениям. Между ними и царем возникла психологическая несовместимость. И Адашев, и Сильвестр, и их сподвижники были людьми очень властными, с сильной волей. Но крайне властолюбив был и царь Иван. Как человек, легко поддающийся впечатлениям, быстрый в переходах от симпатии к антипатии, царь Иван мог какое-то время терпеть подчинение чужой воле, находя даже в нем своеобразную прелесть: так-де я самовластен, что могу даже себе позволить слушаться советов подданных.
Недаром временщик - постоянный спутник диктатора.
Но потому он и временщик, что его со временем меняют на нового.
Иван легко и быстро привязывался к людям, но так же легко расправлялся со вчерашними любимцами, и тем более жестоко, чем больше был к ним привязан прежде. Должно быть, Адашев и Сильвестр переоценили свое влияние, не заметили того рокового момента, с которого царь стал подчиняться им со все большей неохотой. И тогда привязанность царя к своим советникам превратилась в жгучую ненависть.
Курбский рассказывает, что один из монахов, Вассиан Топорков, нашептал царю Ивану на ухо совет: не держи около себя “советника ни единаго мудрейшего собя, понеже сам еси всех лутши”. Трудно сказать, дал ли действительно Вассиан этот совет царю, но главное состоит в том, что Грозный вряд ли нуждался в таком совете. Как и большинство деспотов, он и без того следовал этому правилу. Другое дело, что не все властолюбцы имеют возможность казнить тех, кто умнее их, а бывают вынуждены просто отправлять их в отставку, подчас даже почетную, награждая орденами, чинами, титулами. Как-то было замечено, что английский король Генрих VIII (современник Грозного) полагал, что уволить министра можно, только отрубив ему голову. Его же наследники сообразили: достаточно и простой отставки. Царь Иван тоже был убежден, что единственный, или во всяком случае лучший, способ удалить от себя приближенного - казнить его, в крайнем случае, из особой милости - отправить в пожизненное заточение в монастырь.
Но и этот психологический конфликт между царем и Избранной радой был только следствием другого, более существенного конфликта - между разными представлениями о методах централизации страны.
Структурные реформы, которые проводило правительство Избранной рады, как и всякие структурные реформы, шли медленно, их плоды созревали не сразу. Нетерпеливому человеку (а царь Иван был нетерпелив) в таких обстоятельствах обычно кажется, что и результатов-то никаких нет, что ничего и не сделано. Ускоренный путь централизации в условиях России XVI века был возможен только при использовании террора. Кто знает, не общая ли это закономерность, действующая в условиях разных социально-экономических формаций? На печальном опыте своей недавней истории мы убедились, как жестко оказались связаны ускоренная индустриализация и сталинский террор. Но вернемся в более далекие времена.
Ускоренная централизация требовала террора прежде всего потому, что еще не был сформирован аппарат государственной власти. В годы правления Избранной рады суд кормленщиков на местах был заменен управлением через выборных из местного населения. Но выполняющие свои управительские функции “на общественных началах” и фактически из-под палки губные и земские старосты - это еще не аппарат власти. Центральная власть была еще очень слаба, не имела своих агентов на местах.
Как так, слышу я возражения, это власть-то Ивана Грозного слаба? Чья же власть тогда сильна? Дело в том, что часто путают силу власти и ее жестокость. На самом же деле они противоречат друг другу. Сильная власть не нуждается в жестокости. Жестокость, террор - показатель слабости власти, ее неумения добиться своих целей обычными путями, то есть компенсация слабости. Вместо длительной и сложной работы по созданию государственного аппарата царь Иван пытался прибегнуть к самому “простому”, наиболее понятному методу: не делают то, что надо? - Приказать. Не слушаются? - Казнить. Чему удивляться, если даже в наше просвещенное время очень многие тоскуют по командно-репрессивным методам, наивно полагая, что если расстрелять 20 и посадить 200 жуликов из торговой сети, то все остальные немедленно начнут честную жизнь. Тем более понятен такой ход мыслей для людей средневековья. Но этот путь террора, который только и позволял надеяться на быстрые результаты, был неприемлем для деятелей Избранной рады.
Нет, они не были, конечно, тихими интеллигентами-просветителями, стремившимися лаской привлекать сердца подданных. Суровость и более того - жестокость наказаний вполне умещались в систему ценностей века. Людей вешали даже по подозрению в разбое, а признание добывали при помощи страшных пыток, официально узаконенных. Единственным видом тюремного заключения считалось пожизненное. От служилых людей требовалось беспрекословное повиновение. Суровый и непреклонный Адашев не был добреньким. Но все же не массовый террор, не атмосфера всеобщего страха и массового доносительства, а жесткое и по сегодняшним меркам, быть может, жестокое наказание виновных. Но только виновных! Вот что характеризовало правление Избранной рады.
Отсюда вытекает и сопротивление Сильвестра и Адашева тем или иным начинаниям царя и упорство в проведении в жизнь собственных предначертаний. Так столкнулись две силы, два властолюбия. Увы, властолюбивый подданный не может надеяться на победу в конфликте с властолюбивым монархом. Конфликт разрешился падением Избранной рады.
Опричнина надвигается
Первое время дела, казалось, шли не так уж плохо. Так, на фронте Ливонской войны удалось одержать крупную победу. А ведь положение России было сложным. После падения Ливонского ордена под ударами русских войск рыцарей взяло под покровительство Великое княжество Литовское. Военные действия против России начала Швеция. Страна оказалась перед лицом двух могучих противников. Однако осенью 1562 года русские войска выступили в поход и осадили крупную литовскую крепость - белорусский город Полоцк. Важную роль сыграла артиллерия: этот род войск был тогда особо развит на Руси, что составляло одно из главных преимуществ русских войск. Сильная бомбардировка заставила гарнизон Полоцка в феврале 1563 года капитулировать. Царь очень гордился этой победой - ведь она была одержана уже после того, как он избавился от «попа» и «собаки Алексея» и тем самым как бы доказывала его правоту. Недаром до конца своих дней Иван IV особо благоволил к большинству участников взятия Полоцка, лишь немногие из них попали на плаху, зато многие - в опричнину. Полоцкая победа стала для царя надолго приятным воспоминанием, и на людей, окружавших его под стенами осажденного города, ему было и посмотреть отрадно.
Но новых побед не было. Зато в январе 1564 года русские войска были разбиты в битве у реки Улы, недалеко от Полоцка; главный воевода князь Петр Иванович Шуйский погиб, несколько воевод и сотни служилых людей попали в плен. Последовали и новые неудачи.
Царь Иван быстро нашел виноватых, хотя они и находились за сотни верст от театра военных действий. Перекладывать ответственность за свои ошибки на других стало с тех пор обыкновением царя. Впрочем, и здесь он - не исключение. Таков обычай многих деспотов. За поражение ответили два двоюродных брата из рода князей Оболенских - Михайло Петрович Репнин и Юрий Иванович Кашин. Репнин, герой известной баллады А.К. Толстого, согласно рассказу Курбского отказался плясать на пиру в маскарадной маске: счел это унизительным для себя. Царь убил его собственноручно. Кашина убили по царскому приказу, когда он шел в церковь, говорили, что даже на самом ее пороге. Тогда же за ссору с царским любимцем Федором Алексеевичем Басмановым поплатился жизнью еще один из Оболенских - князь Дмитрий Федорович Овчинин (племянник фаворита Елены Глинской). Казнен был и известный воевода Никита Васильевич Шереметев. Это было начало казней.
В те же годы царь начинает наступление против старицкого князя Владимира Андреевича. Грозный опасался своего кузена с тех пор, как тот выступил в роли династического соперника для царевича. В 1563 году дьяк старицкого князя Савлук Иванов, посаженный своим государем в тюрьму, сумел оттуда переслать царю донос. Кто знает, за что был в действительности заточен Савлук Иванов, но изображал он дело так, будто арестован за то, что хотел открыть царю “великие изменные дела” Владимира Андреевича и его матери княгини Ефросиньи.
Савлука доставили в Москву, царь быстро убедился в виновности своей удельной родни (а убедиться очень хотелось), князь и его мать повинились (в невиновных, признающихся в преступлениях, в годы террора никогда нет нехватки). Царь их милостиво простил: должно быть, раскаяние было условием прощения. Но все же княгиню Ефросинью сослали в Горицкий монастырь на берегу Шексны, неподалеку от Кирилло-Белозерского монастыря, а у Владимира Андреевича забрали часть его удела, дав, впрочем, взамен другие земли. Это был первый звонок для старицкого князя.
В апреле 1564 года происходит новое событие. Видный деятель Избранной рады, опытный воевода князь Андрей Михайлович Курбский из Юрьева Ливонского (ныне Тарту) бежал в Великое княжество Литовское, заранее договорившись с королем Сигизмундом II Августом. Оттуда он прислал царю свое “злокусательное” послание. В конце его читаем: “Писано во граде в Волмере (ныне Валмиера в Латвии) государя моего Августа Жигимонта короля, от него же надеюся много пожалован быти и утешен от всех скорбей моих”. В послании Курбский гневно обвинял царя в казнях невинных людей и угрожал ему небесным судом.
Было ли бегство Курбского изменой? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим причины побега. До августа 1562 года, несмотря на опалу Сильвестра и Адашева, в судьбе Курбского вроде мало что изменилось. Весной 1560 года он был назначен главнокомандующим русских войск в Ливонии, но в августе 1562 года потерпел поражение в битве под Невелем. Полученная в сражении рана спасла его от опалы, но все же царь запомнил эту неудачу. Впоследствии он издевался над тем, что с пятнадцатью тысячами войска Курбский не мог одолеть четырех тысяч литовских воинов.
Когда Курбский оправился от болезни, его назначили наместником в Юрьев Ливонский: это было уже опасно. Ведь и Алексей Адашев, когда попал в немилость, был сначала отправлен наместничать в другой крупный ливонский город - Феллин (ныне Вильянди). В те же годы, что и Курбский, в Великое княжество Литовское бежал Тимофей Пухов-Тетерин, до того насильно постриженный в монахи.
Упрекавшему его в измене юрьевскому наместнику Михаилу Яковлевичу Морозову Пухов-Тетерин язвительно писал: “А и твое, господине, честное юрьевское наместничество не лутчи моего, Тимохина,чернечества”. Как прелюдию к опале справедливо воспринял свое назначение Курбский. Именно тогда он написал монахам Псково-Печерского монастыря: “...паки напасти и беды от Вавилона (так торжественно называет Курбский Москву. - В. К.) на нас кипети многи начинают”.
Впоследствии Курбский писал, что бежал из-за грозившей ему казни, говоря, что тот, кто “прелютаго ради гонения не бегает”, подобен самоубийце. Царь отрицал, что собирался казнить Курбского, писал, что тот “убоялся” ложных слухов о предстоящей казни, переданных ему друзьями, называл сами эти слухи “злодейственным солганием”. Впрочем, Грозный не отрицал, что князя ждала опала. Русским дипломатам в Великом княжестве Литовском рекомендовалось говорить, что Курбский “учал государю...делати изменные дела, и государь хотел был его понаказати... и посмирити”. Курбского же в послании царь упрекал в том, тго князь Андрей бежал “единаго ради малаго слова гневна”.
Так, значит, было “слово гневно”, а опасность для того, в чей адрес бросал царь Иван такое слово, была исключительно велика. Это-то уж Курбский знал хорошо. Да и сам царь потом как-то проговорился, когда издевательски спрашивал Курбского, почему он, такой праведный и благочестивый, “убоялся... неповинныя смерти” и “не изволил от мене, строптиваго владыки, страдати и венец жизни наследити”? Ведь такая невинная смерть - “несть смерть, но приобретение”. Так что не будем торопиться осуждать того, кто не пожелал подставить свою шею под топор палача, но предпочел громко сказать правду о тиране.
Но не будем торопиться и в другом: не стоит превращать беглого боярина в ангела. Пройдет несколько месяцев, и Курбский возглавит литовские войска в походе на Русь. Но, повторяю, само бегство не было изменой. Да и понятия о верности тогда были иными: служили не стране, а ее государю. Вступив в конфликт с Грозным, Курбский, естественно, вел против него войну.
Бегство Курбского было еще предысторией опричнины. История ее началась на исходе 1564 года.
Странное учреждение
Василий Осипович Ключевский более ста лет тому назад написал об опричнине: “Учреждение это всегда казалось странным как тем, кто страдал от него, так и тем, кто его исследовал”. За последние сто лет ситуация в науке мало изменилась. Степан Борисович Веселовский писал по поводу изучения эпохи Грозного: “Созревание исторической науки подвигается так медленно, что может поколебать нашу веру в силу человеческого разума вообще, а не только в вопросе о царе Иване и его времени”.
Чтобы понять, что такое опричнина, для чего ее создавал герой нашего повествования, каковы были ее результаты, имела ли она какой-нибудь смысл, и если имела, то какой, нужно сначала познакомиться с основными фактами, с канвой событий.
Итак, 3 декабря 1564 года царь отправился на богомолье. Что ж, дело для государя обычное. Царские “объезды” монастырей были одновременно и исполнением религиозного долга, и инспекционными поездками. Но этот выезд был совершенно необычен. “Подъем” царя “не тако был, якоже преже того езживал”, - сообщает официальная летопись. Боярам и “дворяном ближним”, которым государь велел ехать с собою, было приказано взять жен и детей. Сопровождали царя и дворяне из всех городов, которых он “прибрал” быть с собою. Те должны были взять слуг, запасных коней и весь “служебный наряд”, то есть вооружение, доспехи, припасы. Повез царь на богомолье и все драгоценности, золотую и серебряную посуду, иконы и кресты, всю одежду, деньги, казну. Казна же была хранилищем не только чисто материальных ценностей, но и государственного архива.
Только царь добрался до Коломенского, как пришлось остановиться: внезапно настала удивительная для декабря оттепель, а с ней - распутица. Только через две недели царский “поезд” снова двинулся в путь. К 21 декабря Иван IV с приближенными приехали в Троице-Сергиев монастырь. Вроде поездка проходила стандартно: царь помолился, отпраздновал память святого Петра-митрополита, а затем двинулся дальше, в старое великокняжеское охотничье село Александрову слободу (ныне город Александров Владимирской области). Там любил “тешиться” охотой еще его отец - Василий III, не раз туда наезжал и царь. Последний раз он побывал в Слободе (так часто называли это село) всего полгода тому назад. Сейчас электричка идет до Александрова часа два, царь Иван добирался туда почти месяц.
3 января 1565 года из Слободы в Москву приехал гонец и привез две грамоты. Обе были оглашены перед всем народом. Первая содержала список “измен” бояр и дворян. Иногда говорят, что речь в ней шла только о боярах. Это не так. Царь Иван не забыл ни одной категории класса феодалов, начиная от церковных иерархов и кончая рядовыми дворянами. Он “гнев свой положил” на всех - “на архиепископов и епископов и на архимандритов и на игуменов, и на бояр своих и на дворецкого и конюшего и на околничих и на казначеев и на дьяков и на детей боярских[3] и на всех приказных людей[4]”.
В грамоте содержался страстный и тенденциозный обзор злодеяний бояр, воевод и приказных людей, которые не только “тощили” царскую казну, но и “измены делали”, не желали воевать против недругов. Когда же царь хотел кого-нибудь из них “вь их винах понаказати”, то духовенство в стачке с боярами и дворянами начинало их покрывать. Потому государь “от великие жалости сердца, не хотя их многих изменных дел терпети, оставил свое государьство и поехал где вселитися, иде же его, государя, бог наставит”, то есть уехал от изменников куда глаза глядят.
Вторая грамота была адресована “всему православному крестиянству града Москвы”, то есть всему посадскому населению столицы. Эта грамота изложена в летописи куда менее подробно, но главный ее смысл передан отчетливо: царь пишет посадским людям, “чтобы они себе никоторого сумнения не держали, гневу на них и опалы никоторые нет”.
Это был потрясающе точно рассчитанный политический маневр.
В самом деле, представим себе московского посадского человека, который по сравнению с любым подьячим считался человеком второго сорта. В феодальном государстве он был сословно неравноправным человеком. Вместе с тем, как и все люди средневековья, он верил в “батюшку-царя”, в “надежу-государя”. Вдруг он узнаёт, что как раз те, перед кем он только что должен был ломать шапку, все эти бояре, дети боярские, дьяки, все они прогневали государя до такой степени, что тот должен уйти, оставить государство. А он, “посадский мужик” - и есть главная опора трона, на него нет ни гнева, ни опалы. Но как быть государству без государя, царству - без царя?
Ведь государство тем и государство, что государь во главе. “Ныне х кому прибегнем и кто нас помилует и кто нас избавить от нахожения иноплеменных?” - говорили, по утверждению официальной летописи, на площади. Народ единодушно потребовал от бояр упросить государя вернуться, “а хто будеть государьских лиходеев и изменников, и они за тех не стоят и сами тех потребят”. Так царь Иван обзавелся согласием народных масс на террор.
Делегация из духовенства и бояр отправилась в Александрову слободу. Прибывших под стражей, как вражеских лазутчиков, привели пред светлые царские очи. Царь повторил свои обвинения и после некоторого времени размышлений милостиво согласился вернуться на государство, но на следующих условиях: изменников казнить по своему усмотрению и учредить опричнину.
Термин “опричнина” был известен задолго до Ивана Грозного. Происходит он от слова “опричь” - кроме. Эта этимология дала Курбскому повод для мрачноватого, но удачного каламбура. Опричников он называл кромешниками; в аду же, как считалось, господствовала “тьма кромешная”. Так опричники становились под пером Курбского адовым воинством.
В Древней Руси опричниной называли ту часть княжества, которую после смерти князя выделяли его вдове, “опричь” всех уделов. Эта вдовья опричнина после смерти княгини заново делилась между сыновьями. Вдовья часть, таким образом, выделялась “опричь” всего княжества. “Опричь” всей земли выделялась и территория царской опричнины.
А была она значительной. Прежде всего в нее вошли уезды, близкие к границе с Великим княжеством Литовским, густо населенные помещиками, выходцами из центральных уездов: Вяземский, Козельский, Белевский, Лихвинский, Малоярославецкий, Медынский, частично Перемышльский и т.д. В центре опричными стали Суздальский и Можайский уезды. Опричными были и земли Аргуновской волости вокруг Александровой слободы (она входила в Переславль-Залесский уезд). Отдельные волости были отписаны в опричнину и в других местах, в том числе и неподалеку от Москвы: Гжель, Олешня и Хотунь на Лопасне (на границе с Дмитровским и Коломенским уездами), Гусевская волость Владимирского уезда, Домодедовская волость на реке Пахре, наконец - окрестности озера Селигер, где ловили рыбу для царского стола. Финансовую базу опричнины должны были составить платящие большие налоги северные земли: Поморье, Двинской край, Вологодский уезд.
Была отписана в опричнину и часть самой Москвы. Никитская улица (нынешняя улица Герцена) служила границей: левая ее сторона (если идти от Кремля) была опричной, правая - земской. С другой стороны опричная слобода доходила до берега Москвы-реки, вне ее были оставлены только слободы нескольких монастырей. От Кремля опричную часть города отделяла река Неглинная (ныне течет в трубе под Александровским садом). Таким образом, в опричную часть Москвы входили районы нынешних Арбата, улицы Фрунзе (Знаменки), проспекта Калинина (Воздвиженки), Кропоткинской улицы (Чертольская, впоследствии Пречистенка). Здесь были поселены опричники, земских же полностью выселили. Не исключено, что именно с тех пор этот район Москвы стал традиционным местом расселения русского дворянства, “сен-жерменским предместьем Москвы”, как писал выросший здесь П.А. Кропоткин.
Кроме того, в Москве в опричнину попали три стрелецкие слободы в районе Воронцова поля (ныне улица Обуха). Видимо, расквартированные там стрельцы вошли в опричное войско. В это особое войско, которое царь “учинил” в опричнине, вошло “1000 голов” дворян и князей. Впоследствии его численность увеличилась в 5 - 6 раз.
На расходы по созданию опричнины (“за подъем же свой”) царь взял с земщины 100 тысяч рублей. Чтобы представить себе, что означала в XVI веке эта сумма, можно вспомнить, что село с несколькими деревнями продавали за 100 - 200 рублей. Вклада в монастырь в 50 рублей было достаточно, чтобы вкладчика и его родных поминали ежедневно до тех пор, пока “бог велит сей святой обители стояти”. За 5 - 6 рублей можно было купить шубу на куньем меху. Годовой оклад денежного жалованья служившего при дворе человека невысокого ранга равнялся 5 - 10 рублям, а 400 рублей - это был самый высокий боярский оклад. Таким образом, 100 тысяч рублей составляли гигантскую по тем временам сумму. Естественно, платили деньги крестьяне и посадские люди; эти средства буквально выколачивали из них.
По указу об опричнине предполагалось, что из взятых в опричнину уездов будут высланы те служилые люди, “которым не быти в опришнине”; они должны были получить взамен вотчины и поместья в земских уездах. Опричникам же собирались раздать поместья в опричных уездах. Такова та информация, которую сообщает нам официальная летопись, излагая указ об опричнине. Подлинный же текст этого важного источника, к сожалению, до нас не дошел.
Но есть и другие сообщения, идущие от иностранцев, живших в те годы в России. Мы узнаем, что опричники приносили особую присягу на верность царю, в которой обязывались не вступать в общение с земскими, даже с родственниками. В Александровой слободе, которая стала главной опричной резиденцией царя, создалось своего рода монашеское братство во главе с царем в качестве игумена - настоятеля. Все носили одинаковые, похожие на монашеские черные одежды со знаками принадлежности к своеобразному “ордену” опричников: метлой, чтобы выметать измену, и собачьей головой, чтобы ее выгрызать. Как и в монастыре, здесь была общая трапеза, совмещавшаяся с богослужением. Общая трапеза - не только застолье; в средневековом представлении - это символ некоторого, пусть и показного, но равенства. Недаром крестьянские общины ежегодно устраивали общие пиры, которые называли “братчинами”. Монастырско-опричные трапезы должны были словно напоминать о далеких временах, когда князья пировали со своими дружинниками.
Гравировка по металлу - на поддоне подсвечника XVIII века.
Опричник на коне с метлой и песьей головой.
Но опричные пиры были далеки от идеального монашеского аскетизма (впрочем, не так уж часто посещавшего и настоящие монастыри). Описавшие опричный “монастырь” служившие в опричнине ливонские дворяне Иоганн Таубе и Элерт Крузе сообщают: “...каждому подается еда и питье, очень дорогое и состоящее из вина и меда”. Попойки сменялись долгими и изнурительными богослужениями, подчас ночными. Таубе и Крузе рассказывают, что время, которое царь Иван проводил за церковной службой, вовсе не было потрачено даром: “Все, что ему приходило в голову, одного убить, другого сжечь, приказывает он в церкви”.
Между пиром и церковной службой царь ходил в застенок. “И есть свидетельство, - пишут те же авторы, - что никогда не выглядит он более веселым и не беседует более весело, чем тогда, когда он присутствует при мучениях и пытках до восьми часов”.
По-разному говорили о том, по чьему совету царь создал опричнину. Поминали в этой связи второй брак царя. После смерти Анастасии Иван женился на дочери кабардинского князя Темрюка Айдаровича Кученей, которая, крестившись, стала Марией Темрюковной. Вместе с ней приехал на Русь ее брат Салнук-мурза, после крещения - князь Михайло Темрюкович Черкасский. Некоторые иностранцы писали, что именно Мария Темрюковна подала царю совет держать возле себя отряд верных телохранителей.
Но есть и другие известия. Так, Пискаревский летописец (о нем см. выше) утверждает, что царь “учиниша” опричнину “по злых людей совету Василия Михайлова Юрьева да Олексея Басманова”. В.М. Юрьев и Алексей Данилович Басманов были боярами, да и происходили из старых боярских родов, их предки служили еще первым московским князьям.
Насколько можно доверять этим сообщениям? Вряд ли царь Иван так уж нуждался в чьих бы то ни было советах, чтобы начать политику репрессий и террора. Вероятно, в этих слухах (а рассказы современников передают именно слухи) отразилось подсознательное стремление перенести вину за зверские казни и убийства с монарха на его дурных приближенных, к тому же чужеземцев. Стремление неистребимое, коренящееся в монархической психологии. Спрашивается; разве иностранцы тоже поддавались гипнозу обаяния русского монарха? Нет, но они, в частности Генрих Штаден, рассказывающий о совете царицы Марии, передают лишь то, что слышали от русских людей.
Вместе с тем в этих рассказах есть общее рациональное зерно.
Василий Михайлович Юрьев приходился двоюродным братом царице Анастасии. В дальнем свойстве с ней был и Алексей Басманов: его сын Федор был женат на родной племяннице покойной царицы. В свою очередь Михайло Темрюкович, брат Марии, был зятем В.М. Юрьева. Вероятно, зная о том, как царь любил первую жену, он решил этим браком обезопасить себя от враждебности со стороны влиятельного клана родственников Анастасии.
Таким образом, в обоих рассказах речь идет об одной и той же группе - родичах двух первых жен царя. Вне зависимости от того, насколько реальны сведения о советах этих людей, они несомненно стояли во главе опричнины при ее учреждении. Недаром падение Избранной рады, как отмечалось выше, было во многом связано с враждебными отношениями Сильвестра и Адашева с Захарьиными.
Когда царь Иван вернулся в Москву из Слободы, то, по сообщению Таубе и Крузе, он неузнаваемо изменился за полтора-два месяца отсутствия: “...у него не сохранилось совершенно волос на голове и в бороде, которых сожрала и уничтожила его злоба и тиранская душа”. Дело было, вероятно, не в злобе, а в том, что, затевая фарс с отказом от престола, царь Иван волновался: а вдруг отречение будет принято? А вдруг из его затеи ничего не выйдет? Он шел ва-банк, а шансы на выигрыш хотя были и велики, но не стопроцентны. Вероятно, Таубе и Крузе несколько преувеличили: вряд ли выпали все волосы, без остатка. Но вообще-то, как заметил переводчик и издатель сочинения Таубе и Крузе М.Г. Рогинский со ссылкой на учебник кожных болезней, науке известны случаи временного выпадения волос из-за острых душевных переживаний.
Опасные заговорщики или невинные жертвы!
Уже в феврале состоялись первые казни: к смерти были приговорены пять человек, среди них знаменитый полководец князь Александр Борисович Горбатый вместе с 17-летним сыном Петром. Но это было только началом. Люди с ужасом узнавали о все новых и новых заговорах и “великих изменных делах” тех, кто до сих пор исправно выходил на государеву службу, командовал войсками, одерживал победы. Курбский еще по поводу казней предопричных лет вопрошал царя: “Что провинили пред тобою и чем прогневали тякристьянскии предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем сотворили?.. Не претвердые ли грады ерманские (ливонские. - В. К.) тщанием разума их от бога тебе данны быша?”
Сегодня мы не в состоянии ответить на вопрос, все ли заговоры были созданы царскими подручными в застенках или хотя бы часть из них была реальной, шли ли русские бояре покорно на плаху или хоть кто-то из них пытался сопротивляться? У нас нет возможности определить вину или невиновность каждого отдельного человека из числа казненных. Ведь дошли до нас лишь глухие сведения, что государь на такого-то своего подданного “опалился”, велел его казнить за “великие изменные дела”, а то и просто - велел казнить, и все, без объяснения причин. Сами же следственные дела, “розыски”, не сохранились.
Но и прочитай мы их, все равно не вышли бы из тупика: ведь все показания во время следствия добывались только одним путем - пыткой.. А ценность признаний, полученных от человека, подвешенного над огнем с вывернутыми суставами, со спиной, истерзанной ударами' кнута из твердой сыромятной кожи, приближается к нулю. Тем более что мы знаем, как царь Иван буквально подсказывал обвинительные показания. До нас дошла запись проведенного царем лично в январе 1574 года допроса русских людей, вернувшихся из крымского плена. Несчастных под пыткой спрашивал царь:
“Хто ж бояр наших нам изменяют: Василей Умной, князь Борис Тулупов, Мстиславской, князь Федор Трубецкой, князь Иван Шюйской, Пронские, Хованские, Хворостинины, Микита Романов, князь Борис Серебряной?”
Многие из названных находились тут же, а один из них - Василий Умный Колычев даже был главным распорядителем допроса. Так и видишь, как царь пальцем указывает подследственным на своих приближенных и спрашивает: этот? этот? А в том, что кто-то из них обязательно изменник, царь заранее уверен.
О заговорах против Ивана Грозного пишут и некоторые иностранцы: уже упоминавшийся Генрих Штаден и померанский дворянин, живший в плену в России, Альберт Шлихтинг. Казалось бы, тем самым сведения о заговорах против царя подтверждаются. В самом деле, и Штаден, и Шлихтинг крайне недоброжелательно относятся к царю Ивану, стараются подчеркнуть тиранический характер его правления. И если уж они признают, что царь казнил не невинных людей, а заговорщиков, то им как будто можно доверять. Примерно так рассуждали многие историки.
Однако, анализируя сообщения иностранцев, необходимо поставить перед собой по меньшей мере два вопроса: какую цель преследовали авторы этих сочинений и какой информацией они располагали. Ни Штаден, ни Шлихтинг не участвовали непосредственно в расследовании “изменных дел”, а лишь слышали то, что официально объявлялось о вине казненных. Никаких других источников информации у них быть не могло. Нельзя же в самом деле предполагать, что заговорщики (если они были) настолько потеряли голову, что посвятили в свои планы безвестных немцев, не обладавших никаким влиянием. Не менее невероятно, чтобы русские люди, боявшиеся в обстановке всеобщего страха подвергнуть сомнению официальную версию в разговорах с друзьями, решились пойти на это в беседе с иностранцем.
Вместе с тем целям, которые ставили перед собой авторы, вполне отвечала официальная ложь правительства о вине казненных. Шлихтинг писал свое сочинение по заказу тех кругов в Речи Посполитой (объединившиеся в 1569 году Великое княжество Литовское и Польша), которые настаивали на продолжении войны с Россией. Поэтому он стремился показать слабость России, доказать, что стоит пойти в решительный поход, как все подданные отшатнутся от царя-тирана и охотно перейдут под власть короля. Характерны в этом отношении такие слова Шлихтинга:
“Кроме опричников, никто не расположен к тирану. Если бы его подданные только знали, у кого они найдут безопасность, они, наверное бы, отпали от него. Когда, три года тому назад, Ваше Королевское Величество были в походе, то много знатных лиц, приблизительно 30 человек... письменно обязались, что передали бы великого князя вместе с его опричниками в руки Вашего Королевского Величества, если бы только Ваше Королевское Величество двинулись на страну. Но лишь только в Москве узнали, что Ваше Королевское Величество только отступали, то многие пали духом”.
Шлихтинг таким образом как бы призывает короля: смелее, вперед на Москву: победа будет легкой!
Другой автор, Генрих Штаден, опричник, бежавший вскоре после отмены опричнины из России, составил “План, как... завоевать Русскую землю” и подал его императору Рудольфу II. Тот, кто представляет такой проект на рассмотрение имперского сейма, должен доказать, что эта операция осуществима, показать внутреннюю слабость России. И автобиография Штадена, и составленное им описание страны - лишь приложения к главному, к плану завоевания России. И опять-таки официальные сообщения о бесчисленных заговорах приходятся Штадену как нельзя более кстати. Вот почему иностранные известия о “заговорах” не более достоверны, чем русские официальные сообщения.
Зигзаги царской политики
Главным противником в годы опричнины царь считал своего двоюродного брата старицкого князя Владимира Андреевича. Его он боялся, пожалуй, больше всего: ведь то был основной династический соперник Грозного. Нельзя сказать, чтобы эти опасения были совсем беспочвенны. Царь прекрасно помнил о мятеже, поднятом против него, тогда семилетнего мальчишки, его взрослым дядей, отцом Владимира Андреевича. Если сейчас царь умрет, наследником останется его сын Иван, еще юноша. И тогда может повториться ситуация 30-летней давности, и Владимир Андреевич получит возможность оспаривать престол у юного государя. В 1566 году царь опять отобрал часть удела у своего кузена, дав ему взамен совсем новые земли, где население и служилые люди не привыкли видеть в старицком князе своего государя.
Но затем происходит нечто не до конца понятное. Царь Иван почему-то как бы отступает и делает несколько примирительных жестов в пользу и земщины, и князя Владимира. Летом 1566 года в Москве Иван IV собрал земский собор для обсуждения мирных предложений Великого княжества Литовского. Пригласили туда, видимо, только земских. Во всяком случае, видные опричные руководители в соборе не участвовали. Это было естественно: в безоговорочном послушании своих личных слуг царь должен был быть уверен настолько, что даже для виду не мог спрашивать их мнения. Есть не до конца достоверные, но все же вероятные сведения, что участники собора подали царю Ивану коллективную челобитную с просьбой отменить опричнину. Откуда вдруг такая решимость? Не исключено, что возник слух: царь и сам хотел бы покончить с опричниной, да нужен повод. Ведь как раз тогда же были амнистированы и возвращены из ссылки в Казанский край несколько десятков князей, которых отправили туда всего лишь год тому назад. Вернувшимся ссыльным отдали и конфискованные у них вотчины.
Намечается и какое-то сближение с Владимиром Андреевичем. Первоначально при учреждении опричнины царь конфисковал в Кремле двор Владимира Андреевича с тем, чтобы построить на его месте свой опричный дворец. Вспыхнувший 1 февраля 1565 года пожар помог царю расчистить строительную площадку: и двор князя Владимира, и соседний двор князя Ивана Федоровича Мстиславского полностью выгорели. Однако весной следующего года, накануне собора, царь, решивший строить себе новый дворец вне Кремля, “пожаловал” своего брата: “...велел ему поставити двор на старом месте” да еще “для пространства” прибавил место, где до пожара стоял двор князя Мстиславского.
Этим не ограничиваются странные зигзаги царской политики в 1566 году. 19 мая 1566 года ушел на покой по болезни (“за немощь велию”) митрополит Афанасий. До пострижения в монахи он, протопоп Андрей, был долгие годы царским духовником, настоятелем придворного Благовещенского собора. В митрополиты он был избран царем всего за неполных два года до своей внезапной “немощи”. Вероятно, Афанасий не хотел себя компрометировать связью с опричниной.
Царь Иван предложил митрополичий престол, казалось бы, на редкость удачному кандидату: казанскому архиепископу Герману Полеву. Он постригся в монахи в Иосифо-Волоколамском монастыре, цитадели воинствующих церковников, поддерживавших во всем государя всея Руси. Недаром именно этот монастырь был семейной усыпальницей знаменитого опричного палача Малюты Скуратова. Отец Германа, монах того же монастыря “старец Филофей”, вместе с Германом вел следствие по делу еретика-вольнодумца Матвея Башкина. Герман даже лично конвоировал осужденного в монастырскую тюрьму. Дальние родственники Германа служили в опричнине.
Но суровый в вопросах “чистоты веры”, Герман тем не менее оказался мужественным противником беззаконного насилия. Еще не утвержденный, только-только назначенный царем на высокий пост, он уже стал поучать царя, угрожая страшным судом за казни невинных людей. Возмущенные опричники напомнили царю о Сильвестре и Адашеве, предупреждали, что его ждет “неволя” от епископа, “еще горшая”, чем от руководителей Избранной рады. Да царю и самому не захотелось иметь дело со строптивым митрополитом. По словам Курбского, Иван IV заявил Герману: “Еще... и на митрополию не возведен еси, а "уже мя неволею обвязуешь!” Герман был отправлен обратно в Казань, а примерно через два года его казнили.
Но совсем неожиданной была следующая кандидатура в митрополиты: игумен Соловецкого монастыря Филипп, в миру - Федор Степанович Колычев. Единственное, что могло показаться в нем привлекательным царю Ивану, - это то, что два двоюродных брата Филиппа, отпрыски старого московского боярского рода, были опричниками. Сама же биография Филиппа никак не давала повода ожидать, что он будет удобным и послушным главой церкви.
В монахи Филипп постригся 30-летним, полным сил человеком, опасаясь кары за участие в мятеже Андрея Старицкого. Несомненной, таким образом, была его связь со старицкими князьями. Но мало того: у Колычевых были поместья в Новгородской земле, а Новгород всегда был под подозрением у царя. Когда Филипп ехал в Москву, то около Новгорода к нему пришли представители горожан и молили заступиться перед царем за их город.
За время игуменства в Соловецком монастыре Филипп приобрел репутацию прежде всего прекрасного администратора, организатора хозяйственной деятельности. Ни до, ни после здесь не было такого разворотистого настоятеля. Когда читаешь “Житие святого Филиппа митрополита” или “Соловецкий летописец”, не оставляет ощущение, что кто-то перевел на древнерусский язык очерк о передовом директоре совхоза.
С именем Филиппа связано огромное строительство в монастыре, но не столько храмов, сколько хозяйственных сооружений. Здесь и сеть каналов, соединивших 72 озера и использованных для водяных мельниц, и кирпичный завод, дававший в год 40 тысяч кирпичей, и каменные поварни, и сушила для рыбы, и склады в подклетах церквей. Он даже применял механизацию: был создан посевной агрегат, позволявший одному человеку сеять одновременно из семи “решет”.
Условием своего вступления на митрополичий престол Филипп поставил отмену опричнины. Дальнейшая логика действий царя Ивана непонятна. Казалось бы, он в лучшем случае должен был отправить соловецкого игумена назад. Разве был у него недостаток в покорных иерархах вроде настоятеля кремлевского Чудова монастыря Левкия? Зачем был нужен царю на митрополичьем престоле такой заведомый строптивец, да еще связанный со Старицей и Новгородом? Но Грозный почему-то стал уговаривать, упрашивать Филиппа взять назад свое требование и стать митрополитом.
В чем дело? В том ли, что логика действий деспота обычно включает в себя некую долю непредсказуемости, самодурства? Или мы просто не знаем каких-то небольших, несущественных деталей, которые могут объяснить подоплеку событий? Но так или иначе царь сумел уговорить Филиппа, тот дал обязательство, чтоб “в опришнину ему и в царьской домовой обиход не въступатися”.
Трудно сказать, чем объясняется некоторая передышка в политике террора в 1566 году. Быть может, пока шло формирование опричного корпуса и опричной администрации, царь как бы усыплял общественное мнение. Но, во всяком случае, передышка была недолгой: очень скоро начинаются новые и новые казни “изменников”.
Одним из самых громких было дело Ивана Петровича Федорова. Знатный боярин и владелец обширных вотчин, Иван Петрович был одним из немногих деятелей администрации того времени, о котором было известно, что он не берет взяток. В “оправдание” такому оригинальному образу действий можно заметить, что боярин был не только несметно богат, но и бездетен, так что и не нуждался в дополнительных источниках дохода. И все же репутация человека безукоризненной честности создавала ему популярность. Ему отдавал должное даже Генрих Штаден. А он, как и большинство аморальных людей, считал, что весь мир состоит из таких же корыстолюбивых мерзавцев, как он сам.
С восторгом, например, описывает Штаден плутни московских подьячих и даже приводит записанную им латинскими буквами русскую пословицу:“Ruka ruku moit”. И тем не менее Штаден писал о Федорове, что “он один имел обыкновение судить праведно, почему простой люд был к нему расположен”. Неограниченные диктаторы обычно опасаются безупречных людей, которых не на чем поймать, тех, кто пользуется любовью народных масс: они опасны своей независимостью.
По рассказу Альберта Шлихтинга, Федорова обвинили в том, что он хочет захватить царский престол. Его привели в царские палаты, Иван Грозный приказал ему надеть царское облачение, посадил на трон, поклонился как царю, а затем сказал: “Как в моей власти поместить тебя на этом троне, так в той же самой власти лежит и снять тебя”, после чего всадил в него нож. Следующие ножевые удары нанесли опричники. Так и погиб Иван Петрович Федоров в страшных мучениях.
Царь Иван был не просто жестоким правителем, по и садистом, находившим наслаждение в убийствах и мучениях своих жертв. Гибли не только те, кого он сам считал (или делал вид, что считал) опасными заговорщиками. Иногда можно было поплатиться жизнью за малейшую неосторожность. По словам Шлихтинга, “скажет ли при дворе кто-нибудь громко или тихо, буркнет что-нибудь, посмеется или поморщится, станет веселым или печальным, сейчас же возникнет обвинение, что ты заодно с врагами или замышляешь против него (Ивана IV, - В. К.) что-либо преступное”. Иногда царь убивал людей в шутку. Так, однажды, развеселившись за столом, он облил горячими щами одного опричника. Увидев, как он мучается от ожогов, царь “пожалел” своего подданного и всадил в него нож. Пир продолжался.
Казни и Ивана Петровича Федорова, и многих других, столь же невинных людей, привели к тому, что Филипп оказался больше не в состоянии придерживаться своего обязательства “не въступатися” в опричнину. Весной 1568 года митрополит в Успенском соборе во время богослужения публично отказал царю в благословении, осудил опричнину и казни. Он напоминал царю, что тот поставлен судить людей по правде, “а не мучительски сан держати”. Столкновения продолжались и летом.
Однако свести митрополита с престола было не так легко и для Ивана Грозного. В сентябре в Соловецкий монастырь отправилась комиссия, чтобы собрать компрометирующие Филиппа материалы о его деятельности в бытность игуменом. Формально во главе этой комиссии стоял суздальский епископ Пафнутий, который уже выступал против Филиппа и в защиту опричнины (ведь Суздальский уезд был опричным). Входил в комиссию и архимандрит Московского Спасо-Андроникова монастыря Феодосий.
Но главная роль принадлежала двум опричникам: знатному Рюриковичу князю Василию Ивановичу Темкину-Ростовскому и опричному дьяку Дмитрию Михайловичу Пивову. Одних монахов они сумели запугать, других прельстили щедрыми посулами. Игумену Паисию обещали даже возвести его в епископы (впрочем, лжесвидетель не получил обещанной награды). И все же обвинения против Филиппа были настолько шиты белыми нитками, что даже противник митрополита епископ Пафнутий отказался подписать результаты работы комиссии, утверждавшей, что Филипп вел в монастыре порочную жизнь.
В ноябре на церковном соборе послушные иерархи низложили Филиппа. Особенно ярым его обвинителем выступил новгородский архиепископ Пимен. Уже после собора Филиппа заставили служить митрополичью службу в Успенском соборе. Во время богослужения опричники во главе с боярином Алексеем Басмановым торжественно объявили об осуждении митрополита, сорвали с него облачение и арестовали. Опального иерарха отвезли в заточение в Отроч монастырь под Тверью.
Новгородский погром
Через год пришел черед и Пимену стать опальным. Царь Иван получил донос, что Новгород собирается изменить. Этому доносу очень хотелось поверить. Ведь в Новгороде сам воздух был пронизан воспоминаниями о былой независимости. Да и в политической структуре города сохранялись следы его прежнего самостоятельного положения. Донос, вероятно, исходил от близкого к старицкому двору новгородского помещика Петра Ивановича Волынского.
Обвинения, выдвинутые против новгородцев, были крайне нелепы, ибо противоречили друг другу. “Изменники”, оказывается, хотели царя Ивана “злым умышлением извести, а на государство посадити князя Володимера Ондреевича”, Новгород же и Псков “отдати литовскому королю”. Никто не спрашивал, какое дело будет заговорщикам до того, кто сядет на русский престол, если они станут подданными короля, и зачем им переходить под чужеземную власть, если они “изведут” царя Ивана и посадят на престол любезного им князя Владимира? Но отсутствие логики в таких случаях обычно не смущает.
Первой жертвой пал Владимир Андреевич. В конце сентября 1569 года Грозный вызвал его к себе. Старицкий князь приехал с женой и младшей дочерью. Один из царских поваров дал показания, что Владимир Андреевич подкупал его, чтобы отравить царя. Иван приказал брату, его жене и дочери выпить заранее приготовленную отраву. (Повара-лжесвидетеля, знавшего слишком много, казнили меньше чем через год.) В те же дни в далеком Горицком монастыре были убиты мать удельного князя княгиня Ефросинья с двенадцатью монахинями. По одним сведениям, их утопили в Шексне, по другим - удушили дымом в судной избе.
Через два месяца, в конце ноября - начале декабря, опричное войско вышло в поход. Целью боевой операции была не защита отечества, не война против иностранного государства, а разгром русского города - Новгорода. Впрочем, не только его.
Вот опричники подошли к Твери, первому крупному городу на пути к Новгороду. Здесь был учинен страшный погром: убили несколько тысяч человек. Царь Иван хотел обеспечить внезапность своего появления в Новгороде, а потому передовому отряду во главе с Василием Григорьевичем Зюзиным было поручено уничтожать все живое на своем пути. Сотни людей погибли в Клину и Вышнем Волочке. В Торжке истребили всех находившихся там пленных немцев, поляков и татар.
Но в Твери была проведена еще одна акция. Неподалеку от города жил в заточении бывший митрополит Филипп. Вероятно, в голове у царя возник хитрый план. Ведь главным обвинителем Филиппа был новгородский архиепископ Пимен, а теперь острие опричного удара направлено против самого Пимена. Неужели же Филипп не порадуется гибели своего врага? Если же поход на Новгород благословит сам Филипп, пострадавший за то, что осуждал жестокости опричнины, то общественное мнение, конечно, будет считать справедливой расправу с новгородцами. Деликатное поручение договориться g филиппом царь возложил на Малюту Скуратова.
Именно тогда начинает восходить звезда этого будущего временщика царя Ивана. Пройдет немного времени, и его будут уже называть думным дворянином Григорием Лукьяновичем Бельским.[5]
До похода на Новгород он был всего лишь одним из второстепенных деятелей опричнины, главным образом - исполнителем приговоров о казнях. Палачество было для него своеобразным призванием. Таким он и вошел в фольклор, а следовательно, и в народную память. В “Песне о гневе Грозного на сына” он фигурирует как “Малая Малюточка Скурлатов сын”. В одном из вариантов, когда он получает приказание казнить царского сына, то как мастеровой, почти бескорыстно любящий свое ремесло, восклицает:
Ай же, Грозный царь Иван Васильевич!
А моя-то работушка ко мне пришла.
Отправляя Малюту для переговоров с Филиппом, царь совершил ошибку, обычную для аморальных людей: мерил нравственность Филиппа по себе. Тот же был совершенно другим человеком и отказался благословить разбойничью экспедицию опричников. Тогда Малюта, вероятно, по заранее полученной инструкции, задушил Филиппа, а выйдя, сказал, что старец Филипп умер от духоты в келье.
Наконец, 2 января 1570 года передовой полк опричников подступил к Новгороду. До подхода основных сил опричники этого полка опечатали казну в монастырях, церквах и домах богатых людей, арестовали многих духовных лиц и купцов. Вечером 6 января к городу подошел сам царь и остановился возле Новгорода. Через день, на воскресенье 8 января был назначен его торжественный въезд в город. Как было положено, на мосту через Волхов царя встретил архиепископ Пимен с духовенством, в руках у архиерея был “животворящий крест господень”, который царь должен был по обычаю поцеловать. Но “государь ко кресту не пошел” и вместо этого произнес речь.
Он заявил Пимену, что он - не пастырь и учитель, а “волк и хищник и губитель”, в руках же у него “не крест животворящий, но вместо креста оружие”, которым он, “злочестивый” и его “единомысленники, града сего жители, хощете... Великий Новъград предати иноплеменником, королю полскому Жигимонту Аугусту”.
“Таковая яростная словеса изглаголав”, царь Иван тем не менее отправился вместе с опричниками на богослужение в собор святой Софии, а затем в столовую палату архиепископского дворца на торжественный обед, который Пимен давал в честь государя.
После того как царь и его приближенные как следует наелись и напились, Грозный испустил свой опричный разбойничий клич: “Гойда!” По этому сигналу гости арестовали хозяев, и начался самый страшный эпизод опричнины - шесть недель новгородского погрома.
Народную память о зверствах Грозного в Новгороде сохранил фольклор. В одной из песен царевич Иван Иванович с удовлетворением напоминает отцу: “А которой улицей ты ехал, батюшка, всех сек, и колол, и на кол садил”. Жертвой царского гнева пали не только взрослые мужчины, но и их жены и дети (“мужский пол и женский, младенцы с сущими млекопитаемыми”). Людей убивали разными способами: их обливали горючей смесью (“некою составною мукою огненною”) и поджигали, сбрасывали живыми под лед Волхова, привязывали к быстро несущимся саням... Изобретательность палачей была беспредельна. “Тот... день благодарен, коего дни ввергнут в воду пятьсот или шестьсот человек”, - сообщает летописец; в иные же дни, по его словам, число жертв доходило до полутора тысяч. А погром продолжался больше месяца, с 6 января по 13 февраля.
Сколько же было всего жертв? Разумеется, на этот вопрос трудно ответить достоверно, тем более что точной регистрации казненных, конечно, не вели. Если верить приведенному летописному рассказу, то легко рассчитать, что должно было погибнуть около 20 - 30 тысяч человек. Такие же, а то и большие цифры называют иностранные авторы. Они, однако, маловероятны: ведь все население Новгорода не превышало в это время 30 тысяч человек. В другой новгородской летописи есть сообщение, что через семь с небольшим месяцев после “государева погрома” в Новгороде состоялось торжественное отпевание жертв, похороненных в одной большой братской могиле (“скудельнице”); могилу вскрыли и посчитали тела; их оказалось 10 тысяч. Но единственное ли это место погребения погибших? Вероятно, все-таки цифра 10 - 15 тысяч человек будет близка к истине.
Некоторое время тому назад советский историк Р.Г. Скрынников пришел к иному выводу о числе погибших в Новгороде. Чтобы понять ход его рассуждений, необходимо остановиться на одном источнике - так называемом “Синодике опальных”. Синодиками в это время именовали ведущиеся в монастырях и церквах книги, куда заносили имена тех, чьи души надлежало поминать во время богослужения. Такое посмертное поминовение могло, как думали, избавить покойных грешников, не успевших покаяться, от адских мук. В конце царствования Иван IV распорядился составить синодик, куда были внесены имена казненных по его приказу людей, и списки с этого синодика вместе с обширными денежными вкладами разослал по монастырям.
Запись в синодике Ивана Грозного о поминании убитых
Нет, это не было пусть и запоздалым, но хотя бы раскаянием. Дело в другом. Многие, если не большинство, погибших от рук опричников не исповедовались перед смертью, не каялись в грехах и не получали их отпущения. Вместе с тем считалось, что за грехи человека, погибшего без покаяния, на том свете должен расплачиваться не только сам грешник, но и тот, по чьей вине покойный не смог исповедаться. Царь Иван, религиозный, как и все люди средневековья, спасал себя.
Но когда взялись за составление синодика, со времени многих казней прошел не один год, а то и не один десяток лет, многие погибли безымянными. Поэтому в синодике немало пропусков, часто вместо имен встречаются простые указания на место казней и количество погибших с прибавлением мрачной формулы: “...а имена их ты сам веси (знаешь. - В. К.), господи”.
Над изучением синодиков плодотворно работал С.Б. Веселовский. Его труд был успешно продолжен Р.Г. Скрынниковым, который установил, что имена жертв записаны в Синодике не в беспорядке: как правило, вместе называются казненные по одному делу. Еще Веселовский показал, что главным источником для составления синодика послужили отчеты палачей и убийц. Есть в синодике и запись о новгородском погроме:
“По Малютинские ноугородцкие посылки (посылка - поручение, задание. - В. К.) отделано скончавшихся православных христиан тысяща четыреста девятьдесять человек, да из пищалей стрелянием пятнадцать человек, им же имена сам ты, господи, веси”.
На этом основании Р.Г. Скрынников сделал вывод, что жертв было гораздо меньше. К числу 1505, имеющемуся в синодике, он прибавил поименно названных новгородцев и заключил, что в синодике перечислено 2170 - 2180 жертв новгородского погрома. Далее исследователь справедливо отметил, что донесения не могли быть полны, что многие действовали “независимо от распоряжений Скуратова” и допускает возможность, что погибло три-четыре тысячи человек.
Однако все это рассуждение основано на допущении, что Малюта Скуратов был главным распорядителем новгородского погрома. А между тем доказательств этого предположения у нас нет. Более того, маловероятно, чтобы в присутствии самого царя и его сына карательными акциями распоряжался только или хотя бы главным образом Малюта. Если это так, то 1505 человек - это цифра из отчета только одного из нескольких карательных отрядов. 10 - 15 тысяч жертв остается наиболее вероятной цифрой.
Погром состоял не только из убийств, хотя они естественно более всего действуют на чувства не только современников событий, но и на наши. Это был широкомасштабный, тщательно организованный грабеж. У всех новгородских монастырей и церквей было конфисковано имущество.
Монахи и священники не хотели отдавать церковные ценности. Тогда их ставили на “правеж” - принудительное взыскание долгов или недоимок по налогам. Состоял он в том, что должника ежедневно в течение двух часов били палками по ногам. Некоторые священники выдержали целый год “правежа”, многие погибли, забитые насмерть. Из Новгорода вывезли иконы и драгоценности. Даже церковные двери.
Существует легенда (скорее всего - только легенда), что как-то в первые послевоенные годы Новгородский музей обратился в Александровский музей Владимирской области с просьбой вернуть ценный экспонат, взятый на временное хранение царем Иваном IV. Речь шла о выдающемся памятнике русского средневекового прикладного искусства - знаменитых Васильевских вратах 1336 года работы мастера Ипатия из Новгородского Софийского собора. Сегодня их можно видеть в Успенском соборе в Александрове.
Считавшийся главой новгородских “изменников” архиепископ Пимен остался в живых, но царь вдоволь поиздевался над этим в недавнем прошлом беспрекословным исполнителем его воли. Рассказывают, что Грозный приказал переодеть архиепископа в скоморошью одежду и заявил ему, что, поскольку он теперь не архиерей, а скоморох, ему нужна жена. Привели кобылу. “Получи вот эту жену, влезай на нее сейчас”, - сказал царь Иван Пимену. Архиепископа привязали к лошади, дали в руки гусли и под конвоем отправили в Москву. По дороге он был обязан играть на гуслях. Откровенно говоря, Пимен - одна из немногих жертв царя Ивана, не вызывающих сочувствия: очень уж рьяно он в свое время добивался осуждения митрополита Филиппа. Из Москвы Пимена отправили в ссылку в Веневский монастырь, где он и умер через год с небольшим.
Погром не ограничился городом, а перекинулся в его близкие и далекие окрестности, в Новгородскую землю. Свое участие в этих деяниях описал один из опричников - Генрих Штаден. К числу положительных качеств его записок как источника относится то, что их автор настолько лишен морали, что не стыдится никаких, самых мерзких своих поступков, не пытается как-то себя приукрасить. Отсюда редкая достоверность его воспоминаний.
По словам Штадена, когда он узнал, что царь Иван все награбленное свозит к себе и не собирается ни с кем делиться, то решил создать свой собственный отряд. Слуги Штадена ловили по дорогам людей и расспрашивали, “где - по монастырям, церквам или подворьям - можно было бы забрать денег и добра, и особенно добрых коней”. Тех, кто “не хотел добром отвечать”, пытали. Штаден описывает, как он грабил одну усадьбу:
“Наверху меня встретила княгиня, хотевшая броситься мне в ноги. Но, испугавшись моего грозного вида, она бросилась назад в палаты. Я же всадил ей топор в спину, и она упала на порог. А я перешагнул через труп и познакомился с их девичьей”.
В другом же месте, в одном из посадов Штаден, по его словам, “не обижал никого. Я отдыхал”. Свой рассказ опричник завершает хвастливой фразой: “Когда я выехал с великим князем, у меня была одна лошадь, вернулся же я с 49-ью, из них 22 были запряжены в сани, полные всякого добра”.
Участие в походе на Новгород принесло Штадену не только обогащение:
“Тогда-то великий князь и сказал мне: «Отныне ты будешь называться - Андрей Володимирович». Частица «-вич» означает благородный титул... В этой стране всякий иноземец занимает лучшее место, если он в течение известного времени умеет держать себя согласно с местными обычаями”.
Тот же Штаден пишет, что опричники вывозили крестьян из вотчин и поместий земских “насильством и не по сроку”, то есть не в Юрьев день (26 ноября), когда крестьяне имели право менять своих владельцев. Естественно, такие вывозы должны были в первую очередь происходить из Новгородской земли. У нас есть тому и документальное подтверждение. Сохранились описания разоренных сел и деревень Новгородской земли. Там можно, например, прочитать, что крестьян из одного села вывезли люди Демида Ивановича Черемисинова. А это был опричник, который приезжал в Новгород за награбленной казной.
Новгородский погром произвел страшное впечатление на всю страну. Нет ни одного летописца,[6] хотя бы самого краткого, где не было бы записи под 1570 годом о том, что “царь и великий князь громил Великий Новгород”. Даже в XVIII веке в Новгороде продолжали переписывать повесть “О приходе царя и великаго князя Иоанна Васильевича всея России самодержца, како казнил Великий Новъград, еже оприщина и розгром именуется”.
Из Новгорода царь Иван проследовал в Псков. Там такого, как в Новгороде, погрома не было. Были, разумеется, казни (как же Ивану Грозному без казней-то обойтись?), погибло, возможно, несколько десятков человек.
Среди жертв были игумен Псково-Печерского монастыря Корнилий и келарь Вассиан Муромцев. Они были действительно одиозными для царя фигурами. Корнилий был создателем летописного свода, в котором оплакивал падение независимости Пскова в 1510 году. Вассиан Муромцев был дружен с Курбским, ему князь писал незадолго до своего побега. В Пскове опричники ограбили монастыри и многих горожан. Но пробыл здесь царь недолго. Говорят, что местный юродивый Никола напугал Грозного пророчеством, что ждут его великие несчастья, если он не оставит Псков в покое. Как провозвестник этих грядущих бед внезапно пал царский конь.
Юродивым верили, их боялись и не решались затронуть, что бы они ни говорили. Царь ушел из Пскова. Выступление юродивого было, разумеется, не главной причиной. Давнее соперничество Пскова с Новгородом (Псков был некогда “пригородом” Новгорода, то есть подчиненным ему городом, но потом добился самостоятельности) делало его в глазах царя, ненавидевшего Новгород и новгородцев, менее подозрительным.
Розыск продолжается
Из Пскова царь вернулся в Александрову слободу, и там начался “розыск” по делу о “новгородской измене”. Результаты этого следствия стали известны летом 1570 года.
В число обвиняемых попали многие из руководителей опричнины. Сами предававшие казням других, они теперь тоже попали в жернова страшной мельницы террора, которую строили вместе с царем Иваном. В связях с новогородцами были обвинены отец и сын Басмановы - Алексей Данилович и Федор Алексеевич. Алексея считали, как уже отмечалось выше, одним из инициаторов опричнины. Опытный воевода, участник многих сражений, он был вместе с тем фактическим главой опричнины. Федор был кравчим (высокая придворная должность) царя, его любимцем. Ходили слухи, что Федор и Иван IV состояли в противоестественных сношениях, что князь Дмитрий Федорович Овчинин, казненный по жалобе Басманова, поплатился жизнью как раз за то, что осмелился попрекнуть Федора Басманова “нечестным деянием, которое тот обычно творил с тираном”.
Трудно сказать, так ли все было на самом деле. Но знаменательно, что во всех рассказах о “делах” первых лет опричнины упоминаются Басмановы. Именно они, например, натравливали царя на казанского архиепископа Германа Полева, распоряжались низложением митрополита Филиппа. Недаром Курбский так характеризует отца и сына Басмановых: Федор - “маньяк и губитель свой и Святорусские земли”, Алексей - “воев демонских воевода”. Оба они были казнены. Курбский рассказывает (обычно он был хорошо информирован и старался точно излагать факты), что Федор по царскому приказу казнил своего отца, а потом погиб и сам.
Другая жертва - князь Афанасий Иванович Вяземский был настолько близким к царю человеком, что только из его рук Иван принимал лекарство, опасаясь, что другие могут его отравить. В опричной пародии на монастырь Вяземский был келарем - второе лицо после игумена. А игуменом-то был сам царь! Но стоило одному из подчиненных Вяземскому опричников - Григорию Дмитриевичу Ловчикову донести на своего начальника, будто он предупредил новгородцев о походе царя Ивана, как Вяземский был арестован и забит насмерть палками. Впрочем, примерно через полгода был казнен и Ловчиков.
Погиб князь Михаиле Темрюкович Черкасский. К тому времени уже умерла его сестра царица Мария Темрюковна. Ходили темные слухи, что она была отравлена царем. Кто знает, так ли это, но, во всяком случае, после ее смерти царь стал подозревать служивших в России черкесов, что они обвинят царя в смерти своей родственницы и будут мстить. Таубе и Крузе рассказывают, что сначала царь приказал казнить юную жену Михаила Темрюковича (всего 16-ти лет) с полугодовалым сыном и положить их трупы во дворе князя. Самого же князя назначили командовать войсками, направленными держать оборону на случай набега крымского хана. Там князя Михаила и казнили.
Правда, русским дипломатам в Крыму была дана инструкция отрицать эту казнь, а объяснять, что Михайло Темрюкович “ехал из полку в полк и изгиб безвестно. И ныне ведома про него нет, где изгиб”. Но царь лицемерил, он прекрасно знал, “где изгиб” этот лихой опричник: сам включил его имя в синодик опальных. А ведь и Михаиле Темрюкович был до опалы и казни одним из самых близких к царю людей, фактически возглавлял опричную Боярскую думу, участвовал в казнях. О нем впоследствии говорили, что он “был человек великой и временной (временщик. - В. К.) и управы было на него добиться немочно”. Казнь Михаила Темрюковича плохо сказалась на связях России с Кавказом: отец казненного временщика кабардинский князь ТемрюкАйдарович, союзник и даже до некоторой степени вассал Ивана IV, после гибели сына вступил в союз со злейшим врагом России (и до того времени своим противником) крымским ханом Девлет-Гиреем.
25 июля 1570 года на Красной площади в Москве состоялись массовые казни. Следственное дело и приговор не сохранились, но еще в 1626 году они были целы. В составленной тогда описи царского архива можно прочитать краткое описание этого дела. Архивисты начала XVII века, бесхитростно перелагая документы, сообщают, что
“в том деле с пыток многие про ту измену на новгородцкого архиепископа Пимина и на его советников и на себя говорили, и в том деле многие кажнены смертью, розными казнми, и иные разосланы по тюрмам... Да туто ж список, ково казнити смертью, и какою казнью, и ково отпустити... Да тут ж и приговор государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии и царевича Ивана о тех изменниках, ково казнить смертью, и как государь царь и великий князь Иван Васильевичь и царевич Иван Иванович выезжали в Китай-город на полое место[7] сами и велели тем изменником вины их вычести перед собою и их казнити”.
Тогда одновременно было казнено более ста человек. Казни продолжались и еще несколько следующих дней. На выведенных на площадь приговоренных было страшно смотреть: они перенесли ужасные пытки, были окровавлены, едва шли, у многих были сломаны руки и ноги. Распоряжался казнями лично царь. “Работали” не только профессионалы-палачи, но и приближенные царя, да и сам государь и его сын царевич Иван. Убивали зверски: так, казначея Никиту Афанасьевича Фуникова-Курцева попеременно обливали крутым кипятком и холодной водой. Таубе и Крузе сообщают, что царь
“у многих приказал... вырезать из живой кожи ремни, а с других совсем снять кожу и каждому своему придворному определил он, когда тот должен умереть, и для каждого назначил различный род смерти: у одних он приказал отрубить правую и левую руку и ногу, а только потом голову, другим же разрубить живот, а потом отрубить руки, ногу, голову”.
Иван Михайлович Висковатый, многолетний глава русской внешней политики, был обвинен в том, что он, говоря языком XX века, служил сразу трем разведкам: крымской, турецкой и польско-литовской. Его привязали к столбу, и каждый из приближенных царя подходил к несчастному и отрезал кусок тела. Тот опричник (Иван Реутов), чей удар оказался смертельным, был обвинен, что он из жалости хотел сократить мучения Висковатого. Лишь смерть от чумы спасла Реутова от казни.
Массовые казни лета 1570 года были апогеем опричного террора. Рассказы о них разошлись по всей Европе. В Германии распространялась гравюра, изображающая царя Ивана в виде озверевшего сказочного чудовища с когтистыми лапами, восседающего на троне посреди площади, где уже лежит множество трупов, а палач в яростном экстазе продолжает свое дело.
Запечатлелись эти казни и в народной памяти. Так, видимо, на рубеже XVI - XVII веков возникла Повесть о Харитоне Белоулине, рассказывающая, как “на Пожаре,[8] среди Москвы” было приготовлено 300 плах и 300 топоров, а у плах стояло 300 палачей. Царь выехал “на площадь в черном платье и на черном коне” и приказал палачам “по росписи именитых людей казнити”. Однако одного из них - купца Харитона Белоулина никак не могли побороть и положить на плаху, а Белоулин обличал царя и восклицал: “Почто, царю великий, неповинную нашу кровь проливаеши?” Когда же Белоулина все же казнили, обезглавленный труп поднялся на ноги и начал трепетать, а палачи никак не могли сбить его с ног. Не могли и отмыть землю от крови Белоулина, кровь мученика светилась. Царь в страхе ушел в свои палаты, а остальных приговоренных отпустил.
В этой повести отразились и ужас перед необъяснимой зверской жестокостью царя (жители Москвы “наипаче в недоумении быша”), и ненависть к палачам, и восхищение силой духа тех, кто шел на смерть не с обреченной покорностью, а громко провозглашая свою невиновность. Таким был, например, Иван Михайлович Висковатый, которому предлагали жизнь, если он покается в несовершенных преступлениях. В ответ он не только публично перед лицом смерти заявил, что ни в чем не виноват, но, по рассказу Шлихтинга, бросил в лицо грозному царю мужественные слова: “Раз ты жаждешь моей крови, пролей ее, хотя и невинную, ешь и пей до насыщения”.
Новгородский погром и казни лета 1570 года окончательно показали, что опричнина - это банда грабителей и убийц в боярских облачениях и с княжескими титулами и воеводскими чинами.
Крах опричнины
Еще более трагические события произошли и летом следующего, 1571 года. Весной в Москве стало известно, что крымский хан Девлет-Гирей готовит поход на Москву. Как всегда в таких случаях, на берегу Оки был выставлен заслон из русских войск. Один участок берега был поручен земским, другой - опричным войскам. Обычно действующая армия, как отмечалось выше, делилась на пять полков; в небольших операциях, когда войск бывало немного, формировали три полка.
Необычная ситуация сложилась на этот раз. Земских войск было, как всегда, пять полков, а опричных хватило лишь на один. Видимо, опричников было так мало, что эту рать было невозможно разделить хотя бы на три части. Это предположение подтверждается официальной разрядной Книгой, где записывались назначения на основные должности. Там читаем, что царь Иван “с людми собратца не поспел”. Ясно, что опричники, хорошо пограбившие в Новгороде, отяжелевшие от добычи, не хотели рисковать жизнями, для них стало слишком привычным воевать с безоружным населением. Ближайшие слуги царя, которых он считал самыми верными, превратились в тех самых “ленивых богатин”, против которых когда-то резко выступал Пересветов. Опричнина продемонстрировала утрату боеспособности.
16 мая царь, оставив в заслоне один опричный полк, которым командовал князь Василий Темкин-Ростовский (тот самый, что ездил в Соловки собирать материал против митрополита Филиппа), уехал в глубь страны собирать войска, выгонять опричников из насиженных гнезд. К тому же пришли успокоительные известия, будто хан отложил поход.
На самом же деле поход состоялся. Через неделю после отъезда царя, 23 мая, Девлет-Гирей подошел к Оке. Пленный сын боярский КудеярТишенков обещал хану провести его к Москве по неизвестной дороге и убеждал, что у царя Ивана людей осталось мало и “стати-де ему против тебя некем”. Девлет-Гирею удалось переправиться через Оку там, где его не ждали, а потому и не было войск. Путь крымским войскам к Москве был открыт. Русским воеводам осталось одно: добраться до Москвы раньше хана.
Воеводам удалось опередить Девлет-Гирея на несколько часов и .занять оборону вокруг Москвы. Опричный полк Темкина-Ростовского держал позиции в опричной части города, возле нового дворца царя Ивана. Но Девлет-Гирей в бои не вступил, город штурмовать или даже осаждать не стал, а лишь поджег не защищенные стенами посады. Огонь быстро перекинулся через стены Китай-города и Кремля. Пламя бушевало три часа, пока хватало пищи огню. Выгорело все.
Таубе и Крузе пишут, что в городе “не осталось ничего деревянного, даже шеста или столба, к которому можно было бы привязать лошадь”. В Кремле и Китай-городе множество людей задохнулось “от пожарного зною” и дыма. Жертвы долго лежали непогребенными, ибо было “хоронити некому”. По словам Таубе и Крузе, царь распорядился сбросить трупы в Москву-реку, но их было столько, что образовалась плотина, и река вышла из берегов. В городе из-за разлагающихся тел (ведь дело было летом!) “смрад велик был”. Колодцев в Москве всегда было мало, пользовались речной водой, теперь же из-за сброшенных в реку трупов она стала непригодна для питья. Только к 20 июля, почти через два месяца, город удалось очистить от мертвых тел.
В огне сгорели и постройки государева опричного двора в Москве. Царь Иван начал его строить в апреле 1566 года, отказавшись от мысли жить в Кремле, а перебрался туда на жительство 12 января следующего, 1567 года. Сохранилось подробное описание этого сооружения, сделанное не раз там бывавшим Генрихом Штаденом. Опричный двор занимал квартал между нынешними проспектами Маркса и Калинина и улицами Герцена и Грановского, там, где сейчас находятся старое здание (аудиторный корпус и библиотека) МГУ и приемная Президиума Верховного Совета СССР.
Двор был обнесен стеной высотой около 7 метров, первая треть - из белого камня известняка, над ним - кирпичная кладка. На трех воротах, ведущих во двор, обитых блещущей на солнце белой жестью, были прикреплены черные резные двуглавые орлы и львы с глазами, сделанными из зеркал. Черные деревянные орлы возвышались и над башенками зданий внутри двора.
Кроме стен все строения опричного двора были деревянными, возведенными “из прекрасного елового леса”, доставлявшегося из-под Клина. Штаден, который с явным пренебрежением относился ко всему русскому, тем не менее восхищался искусством строителей этого двора: “Палатные мастера или плотники для этих прекрасных построек пользуются только топором, долотом, скобелем и одним инструментом в виде кривого ножа, вставленного в ручку” (рубанком? - В. К.). Все деревянные здания были украшены тонкой резьбой. Сушила для рыбы, чтобы она хорошо проветривалась, когда ее вялят, были построены “из досок, прозрачно прорезанных в виде листьев”. Узором из листьев были покрыты и столбы палат. На колокольне опричной церкви висели колокола, вывезенные из Новгорода.
Гибель опричного двора, по словам Штадена, вызвала большую радость у земских. Уничтожение было полным. Даже колокола “расплавились и стекли в землю”.
Ужасные результаты московского пожара были следствием не только победы крымского хана и военной слабости опричнины. Царь Иван был, несомненно, виновен в том, что Москва была плохо укреплена. В самом деле: город занимал территорию примерно в пределах нынешнего Садового кольца, а крепостными стенами были защищены только Кремль и прилегавший к нему так называемый Великий посад. Стена вокруг Великого посада получила название Китай-города, по ней так называли и сам посад. Китай-город, ненамного превышавший по своим размерам Кремль, был воздвигнут еще при Елене Глинской.
Ныне сохранились лишь остатки этой крепости: один участок стены с башней начинается у Третьяковского проезда, идет по двору гостиницы “Метрополь” к проходному двору с улицы 25 Октября к площади Революции; другой - от площади Ногина к гостинице “Россия”. Вся же стена была варварски уничтожена в 30-х годах нашего века вместе со многими другими памятниками русской архитектуры. Китайгородская стена отходила от Кремля возле нынешнего Исторического музея, шла по нынешнему проспекту Маркса до площади Дзержинского, далее по Новой и Старой площадям к площади Ногина, затем к Москве-реке и вдоль берега до самого Кремля.
Ни Кремль, ни Китай-город Девлет-Гирей даже не пытался штурмовать. Будь Москва обнесена целиком или хотя бы в большей своей части каменной стеной, пожара могло не быть. Однако за три с лишним десятка лет, прошедшие со времени строительства Китай-города, строительство московских укреплений не продвинулось ни на шаг. А была ли возможность строить новые каменные стены? Несомненно. Ведь смог царь построить каменную крепость, защищающую только его опричный двор. Судя по всему, царь не любил Москвы: он бывал в ней довольно редко, а жить предпочитал то в Александровой слободе, то в Вологде, то в Старице (после казни Владимира Андреевича Старицкий уезд вошел в состав опричных территорий, и Старица стала одной из любимых опричных резиденций царя). Во всех этих городах, да и в некоторых других царь строил новые каменные укрепления. Только столица страны оставалась беззащитной. А потребность в новых укреплениях была велика: ведь на следующий же год после смерти Ивана IV началось строительство новая каменной стены - Белого города (по линии современного Бульварного кольца).
После сожжения Москвы Девлет-Гирей ушел восвояси, но своей цели он достиг: и захватил “полон” и добычу, и разграбил много городов, в основном в Рязанской земле. Все это жестоко ударило по престижу царя Ивана и опричнины. Недаром и современники, и потомки из ближайших поколений рассматривали эти события как божью кару за бесчинства опричников. Курбский называл нашествие крымского хана так: “...мечь варварский, мститель закона божия”. Он перечислял в своем послании Ивану Грозному “язвы, от бога пущенные”, и среди них наряду с голодом и эпидемиями “пресловутаго града Москвы внезапное сожжение, и всея Руские земли опустошение”. Царю был срочно необходим виноватый. Он нашелся. Тем же летом князь Иван Федорович Мстиславский публично каялся в том, что “государю... и всей Русской земле изменил, навел есми с моими товарыщи безбожного крымского Девлет-Кирея царя” и клялся, что ему вперед “на все православное крестьянство варвар не наводити”. Эти “признания”, не имевшие ничего общего с истиной, были, судя по всему, услугой, оказанной Мстиславским царю. Достаточно сказать, что Мстиславский оставался не только на свободе, но и по-прежнему первым боярином в Думе, был вскоре назначен новгородским наместником. Зато царь Иван получил возможность и на этот раз обвинить в своих неудачах и просчетах “бояр-изменников”.
Не менее тяжелыми были последствия набега Девлет-Гирея для внешнеполитического положения страны. Хан был уверен, что теперь он поставил Россию на колени и может диктовать ей свою волю. Переговоры Ивана IV с крымскими послами начались в необычной атмосфере. По приказу царя во время первой аудиенции бояре были не в торжественном парчовом одеянии (“платье -золотном”), а в простых черных одеждах. Пискаревский летописец сообщает, что и сам царь надел сермягу. Обращаясь к ханским послам, он будто бы сказал: “Видишь-де меня, в чем я? Так-де меня царь (хан. - В. К.) зделал! Все-де мое царство выпленил и казну пожег, дати-де мне нечево царю”. Не остались в долгу и крымские дипломаты. В качестве посольского подарка Иван IV получил кинжал, чтобы иметь возможность после страшного поражения покончить самоубийством. Шли переговоры трудно. Русские представители были готовы отказаться от Астрахани, но крымцы требовали и Казань...
Поскольку переговоры сорвались, Девлет-Гирей решил на следующий год закрепить успех и повторить набег.
Иван IV принял тогда, пожалуй, единственно верное решение: для отпора Девлет-Гирею он объединил земские и опричные войска. Они не просто стояли рядом, как было в прошлый раз. Нет, теперь в каждом полку были и земские, и опричные служилые люди, и земские, и опричные воеводы. Нередко опричники оказывались под началом у земских воевод. Главнокомандующим был назначен князь Михайло Иванович Воротынский, который до того провел немало лет в тюрьме и ссылке. Незадолго до набега 1571 года он начал создание на юге страны оборонительной системы против крымских войск, разработал устав сторожевой службы, которая не давала крымским войскам незамеченными дойти до Оки. Во время набега 1571 года, видимо, только полк Воротынского сохранил боеспособность и преследовал ханские войска.
Чем объяснить, что Иван IV пошел в 1572 году на исправление собственных ошибок? Почему он решился назначить главой армии ненавистного ему Воротынского, чьи богатство и независимое положение внушали Грозному постоянные подозрения? Ответ исключительно прост: слишком критическим было положение. В обычной обстановке диктаторы думают не о благе страны, а об укреплении свой личной власти. В минуты же смертельной опасности для страны такая же опасность угрожает и диктатору, не только его власти, но и самой жизни. И тогда диктатору приходится откладывать на время свои амбиции, идти даже на ослабление своей диктатуры и принимать все необходимые меры для спасения страны. Действует он в такие дни со всей свойственной ему решительностью и энергией (трудно представить себе слабого, нерешительного и неэнергичного диктатора). Так поступил и царь Иван.
30 июля 1572 года возле деревни Молоди, примерно в 45 километрах от Москвы, неподалеку от Подольска, произошла решительная битва. Русские войска во главе с Воротынским нанесли сокрушительное поражение Девлет-Гирею. Следует признать, что в этом сражении отличился и один из опричных воевод - князь Дмитрий Иванович Хворостинин. Дело в том, что в опричнину принимали не только палачей, но и опытных военачальников: ведь опричные войска участвовали в боевых действиях. Принятие в опричнину было знаком царской милости, наградой, от которой нельзя было отказаться. Поэтому один только факт службы в опричнине, если у нас нет в распоряжении сведений о злодеяниях, не может служить достаточным основанием, чтобы считать любого “воеводу из опришнины” палачом и убийцей. Мы не знаем ничего об участии Д.И. Хворостинина в тех или иных карательных акциях опричнины. Что ж, распространим и на него презумпцию невиновности и сохраним о нем память как о мужественном воеводе.
Победа была полной. В плен попал даже крупный крымский полководец Дивей-мурза. Попытка хана через три дня взять реванш не увенчалась успехом: он снова был разбит. Потери Девлет-Гирея в людях были настолько велики, что в ближайшие годы нечего было и надеяться снова ввязаться в войну. Крымская опасность была ликвидирована на 10 - 15 лет. Страна была спасена.
Вместе с тем победа при Молодях показала даже Ивану IV, что опричнина себя изжила. Осенью 1572 года он отменил опричнину с той же безоглядностью, с какой вводил. “Странное учреждение” объявили как бы даже несуществовавшим.
Об опричнине и раньше не рекомендовалось говорить слишком много. От иностранных государств ее просто скрывали. Об этом известно по инструкциям, которые получали русские дипломаты. В них обычно предусматривались ответы на разные “провокационные” вопросы. Так, на вопрос об опричнине полагалось отвечать, что никакой опричнины нет, об этом только болтает “мужичье”, а “мужичьим речем чему верити?”. Просто “которые государю дворяне служат правдою, и те при государе и живут блиско; а которые желали неправды, и те живут от государя подале”. На вопросы о жизни государя в Александровой слободе и строительстве нового дворца надо было отвечать, что “волен государь, где похочет дворы и хоромы ставить, туто ставит; от кого ся государю отделивати?”, в Слободе же он “живет для своего прохладу” (удовольствия. - В. К.). Но теперь об опричнине было запрещено упоминать и внутри страны. По сообщению Штадена, тот кто произнесет внезапно ставшее крамольным слово “опричнина”, подлежал наказанию кнутом.
Были объединены уже не для одной боевой операции, а в целом опричные и земские войска, опричные и земские служилые люди, восстановилось единство Боярской думы. Некоторые из земских получили назад свои конфискованные вотчины. Кое-кто был реабилитирован. Так, из ссылки возвратились вдова и два сына казненного Ф.А. Басманова. Вдову выдал замуж сам царь (т. е. дал ей приданое), сыновьям вернули отцовские вотчины и поместья.
Сделали и некоторые другие жесты, которые должны были символизировать наступление новой политики. Например, в Новгород вернули две иконы в серебряных окладах. Все остальное награбленное осталось в руках царя, зато возвращение икон было обставлено исключительно торжественно. Их встречал архиепископ Леонид (впоследствии, впрочем, казненный царем Иваном) вместе со всем духовенством. Иконы поставили на прежнее место в Софийском соборе, и архиепископ отслужил по этому случаю молебен.
Продолжились казни и самих опричников. Одним из первых потерял голову (в самом буквальном смысле этого слова) князь Василий Иванович Темкин-Ростовский. Его не спасли ни успешно выполненное грязное поручение царя в Соловецком монастыре, ни палаческое усердие 25 июля 1570 года, когда этот Рюрикович как простой палач лично рубил головы. Вероятно, ему было поставлено в вину, что он не отстоял от огня опричный дворец во время набега Девлет-Гирея в 1571 году. Незадолго до казни князь Василий даже вынужден был отдать свои вотчины в виде компенсации отцу казненного им без вины человека (“за сына ево убитую голову”).
Впрочем, летели головы не только у опричников. Победитель при Молодях князь Воротынский, получивший за эту победу высочайший титул “государева слуги”, меньше чем через год был казнен по вздорному обвинению, что пытался околдовать царя. Донес на Воротынского его холоп. Курбский рассказывает, что князя связанным держали над огнем, а царь сам подгребал угли. Вместе с Воротынским были казнены еще двое воевод: уже престарелый Михайло Яковлевич Морозов и бывший опричник князь Никита Романович Одоевский.
Так в чем же дело?
Так был ли все же какой-то смысл, и если был, то какой, во всей этой вакханалии казней, убийств, во всех этих странных, часто противоречивых извивах правительственной политики, во внезапных возвышениях и столь же внезапных падениях временщиков? Речь, разумеется, не идет о поисках оправданий для опричнины. Каковы бы ни были прогрессивные последствия опричнины (если были), все равно у историка нет морального права прощать убийство десятков тысяч ни в чем не повинных людей, амнистировать зверство. Выбросив из истории моральную оценку, мы окажемся сторонниками давно осужденного, но все еще, увы, живого тезиса: “Цель оправдывает средства”. Но такая позиция не только морально уязвима, она антинаучна, ибо, как в физике, измерение подчас меняет свойства объекта, так и в жизни цель меняется под воздействием средств. Нельзя достичь высокой цели грязными средствами.
Вопрос о значении и роли опричнины давно пытается решить наша наука. Долгое время спор шел исключительно в моральной плоскости (чрезвычайно важной, но не единственной, определяющей решение проблемы). Только казни, кровопролитие практически без анализа их причин занимали дворянских историков - и князя Михаила Михайловича Щербатова, жившего во времена Екатерины II, и великого ученого Николая Михайловича Карамзина.
Карамзина иногда считают основателем концепции “двух Иванов” - мудрого государственного мужа в первой половине своего царствования и тирана - во второй. Пожалуй, для широкой публики именно Карамзин сделал эту концепцию привычной. Однако родилась она задолго до XIX века. У ее истоков стоял еще князь Курбский. В своем антигрозненском памфлете “История о великом князе Московском” он задается вопросом, “откуды сия приключишася так прежде доброму и нарочитому царю, многажды за отечество и о здравии своем не радяшу... и прежде от всех добру славу имущему?”. И первое свое послание царю Ивану Курбский адресует “царю, от бога препрославленному, паче же во православии пресветлуявившуся, ныне же - грех ради наших - сопротивным (противоположным. - В. К.) обретеся”. Такая позиция Курбского понятна: как бы иначе он мог объяснить своим читателям, почему он столько лет верой и. правдой служил такому извергу и тирану?
Представление о внезапном изменении характера царя Ивана характерно и для исторических сочинений, появившихся в начале XVII века, в первые годы правления династии Романовых. Дело в том, что первый царь этой династи - Михаил Федорович и его окружение оказались в нелегкой ситуации. Только по жене Ивана Грозного - царице Анастасии (родной сестре деда царя Михаила) они имели право на престол. Однако зверства опричнины были у всех в памяти. Буквально все авторы этого времени ищут корни трагических событий начала XVII века, “пленения и конечного разорения превысокого и пресветлейшего Московского государства” в мрачных временах опричного террора. Большинство авторов резко осуждает царей, которые “крови многочисленнаго народа... яко река, излияша”. Пожалуй, лишь сын опричника, князя Андрея Ивановича Хворостинина (брата того Дмитрия Хворостинина, который отличился в битве у Молодей) - Иван упоминает “всеславнаго царя Ивана”, но и он предпочитает просто умолчать о событиях XVI века, а восхвалять опричный террор и казни “изменников” не решается.
Следовательно, становится необходимым одновременно недвусмысленно отмежеваться от опричнины и подчеркнуть свою связь с угасшей династией потомков Калиты. Здесь как нельзя более кстати подоспела концепция “двух Иванов”. Настойчиво внедряется в сознание мысль, что все хорошее в наиболее ярком царствовании недавнего прошлого исходило от благочестивой царицы Анастасии, представительницы того рода, из которого вышел и новый царь; все же дурное началось лишь после ее смерти. Воцарение Михаила Романова - это тем самым возврат к блаженным временам первого периода царствования Ивана IV. Вероятно, именно тогда проникает в фольклор идеализированный образ “старого боярина” Никиты Романовича, деда царя Михаила, который своим смелым заступничеством умерял последствия гнева грозного царя. Создатели этой легенды как-то забывали, что если Никита Романович Юрьев благополучно прожил все опричные годы и на несколько лет пережил царя Ивана, то только потому, что никогда ни за кого не заступался, хотя, видимо, и не причинил никому особенного зла.
Выше уже шла речь о “государственной школе” и С.М. Соловьеве, который, недвусмысленно осуждая зверства опричнины, видел в ней закономерное проявление борьбы новых государственных начал против отживших родовых. В самом же конце XIX века, в канун первой русской революции, возникает новая концепция опричнины, которая с небольшими изменениями дожила и до наших дней, особенно в учебной литературе. Создателем ее был крупнейший историк тех лет Сергей Федорович Платонов, изложивший эту концепцию в своей книге “Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI - XVII вв.”.
Платонов начало своего труда посвятил истокам Смуты, и в частности опричнине. Он попытался найти корни опричнины не в чертах характера царя Ивана, не в заговорах бояр или в безумном стремлении царя истреблять своих подданных, а в социальных отношениях. По мнению Платонова, главным тормозом централизации страны были боярство, крупные землевладельцы. В дальнейшем мы еще вернемся к вопросу о том, насколько обоснован этот тезис Платонова, послуживший предпосылкой для его дальнейших рассуждений. Ученый полагал, что Иван Грозный, выселяя из опричных уездов бояр, тесно связанных с местным населением, привыкшим смотреть на них как на своих государей, тем самым заменял, как он писал, “остатки удельных переживаний новыми порядками”. Этой цели служила, по мысли Платонова, и раздача опричникам-дворянам вотчин выселенных бояр. В этих переселениях Платонов увидел главное в опричнине и отсюда выводил социальный смысл этого учреждения. Думается, читателю с детских лет памятна эта концепция.
Я не согласен с Платоновым, но все же думаю, что его труд был гигантским шагом вперед в изучении опричнины. Это была первая попытка найти корни опричнины в каких-то социальных явлениях. И сразу коренным образом изменился набор тех источников, которые историки используют для изучения опричнины. Ведь до Платонова изучали лишь внешнюю канву событий, примерно в том духе, как было сделано в этой книге несколькими страницами раньше. Соответственно источниками служили летописи, писания царя Ивана и Курбского, сочинения иностранцев, то есть источники повествовательные, чрезвычайно субъективные и тенденциозные. Споры о степени достоверности заключенной в них информации можно было бы вести бесконечно. Не требовало особых трудов объявить одни и те же источники то “тенденциозной клеветой”, то “независимым мнением”, то “официальной ложью”, то “объективным изложением фактов”. Критерием истины становилась лишь принятая исследователем точка зрения.
Изучение социальной политики опричнины потребовало принципиально новых источников. Незаметные и скромные купчие, меновные и другие акты феодального землевладения стали важным материалом для суждений об опричнине. Появилась возможность использовать уже не отдельные документы, а целый их массив.
Концепция Платонова спровоцировала обращение историков к этим источникам, но под напором выявленных благодаря этому фактов сама рухнула.
Прежде всего выяснилось, что в опричнину вовсе не были взяты те уезды, где были особенно сильны традиции землевладения бывших удельных князей. Например, хотя в опричнину вошел Суздальский уезд (оттуда происходили князья Шуйские, ветвь суздальских князей), но, во-первых, кое-кто из Шуйских, видимо, сам стал опричником, а во-вторых (и это главное), основные их вотчины остались в соседнем Нижегородском уезде, который был земским. Более того, как показал Г.Н. Бибиков (историк, великолепно начавший свою научную деятельность перед самой войной и погибший на фронте), в опричнину вошли в основном уезды, населенные средними и мелкими феодалами, рядовыми служилыми людьми. В связи с этим С.Б. Веселовский писал, что для выселения нескольких княжат из их родовых гнезд вовсе не было нужно выгонять “из уездов многие сотни рядовых помещиков и вотчинников. Подобная идея могла прийти в голову только совершенно полоумному человеку”. Однако Веселовский исходил из убеждения, что все эти выселения действительно были осуществлены. Но так ли это?
Этот вопрос поставил Александр Александрович Зимин (1920 - 1980), выдающийся советский историк. Он тщательно изучил все сведения о переселениях феодалов в годы опричнины. А материалов такого рода накопилось немало. Ученик С.Ф. Платонова П.А. Садиков упорно работал в архивах и нашел много документов, которыми служилые люди оформляли продажу или дарение монастырям своих земель, полученных в возмещение за вотчины, утраченные в опричнине. Зимин скрупулезно исследовал состав этих феодалов, потерявших вотчины в опричные годы. Оказалось, что среди них почти не было людей, с точки зрения царя Ивана, “чистеньких”. Большинство их было родственниками опальных, многие связаны с двором опального старицкого князя. Итак, одно из двух: либо эти выселения были прокламированы, но не осуществлены в полной мере, а правительство выселило только опальных; либо тех феодалов опричных уездов, кто не внушал царю особых подозрений, оставляли на месте и зачисляли в опричнину.
Более того, известны случаи, когда у человека, который по закону вроде должен был лишиться вотчины, ее оставляли. Характерна в этом смысле история вотчины Андрея Тимофеевича Михалкова, рассказанная им самим в своем завещании. Михалков получил в наследство от тестя два села в Костромском и Угличском уездах, с тем чтобы зять уплатил долги тестя и дал в монастырь вклад по его душе. “И те вотчины, - пишет Михалков, - в опришнину были взяты и розданы в роздачю. И я о тех вотчинах бил челом государю, что я за те вотчины по духовной тестя своего и шурьев дал по их душам 300 рублев. И государь теми вотчинами меня пожаловал и в грамоте велел написать, что те вотчины мне и сыну моему Ивану и в род неподвижно за мою за литовскую службу”.
Итак, та реформа, которую считали самой сутью опричнины, была либо не осуществлена, либо осуществлена далеко не в полном объеме. А ведь во многом именно на опричных переселениях основано ходячее представление об опричнине как системе мер, направленных против боярства. В связи с этим необходимо небольшое отступление от основной темы книги.
Немного о боярах
Исследования последних десятилетий показали, что представления о боярстве как о реакционной силе, которая противится централизации, в то время как дворяне выступают за централизацию, не соответствуют действительности. Этот экскурс о боярах необходим, чтобы читатель мог убедиться: придется расстаться со схемой, привычной со школьных лет.
Мысль о том, что боярство было постоянной аристократической оппозицией центральной власти, возникла в нашей науке во многом под влиянием знакомства с историей Западной Европы, где гордые и самоуправные бароны сопротивлялись королям и даже императору. Но сопоставление это грешит неточностью. Прежде всего, на Руси не было боярских замков. Высокие ограды боярских усадеб еще не делали их замками по функциям. Функция замка - не защита от вора, а военные действия. Замок осаждали, барон со своими вассалами его оборонял. Это и создавало его независимость. На Руси же еще в период феодальной раздробленности, когда подходил неприятель - иноземный или из соседнего княжества, боярин никогда не принимался за укрепление и оборону своей усадьбы. Русские бояре защищали не каждый свое село, а все вместе - княжеский (позднее - великокняжеский) град и все княжество в целом. Недаром каждый боярин владел в городе “осадным двором”, “городная осада” была важнейшей обязанностью боярства. Поэтому с западноевропейскими баронами сопоставимы скорее удельные князья, чем бояре.
В концепции, по которой реакционное боярство враждебно централизации, заключено внутреннее логическое противоречие. Как широко известно, высшим правительственным учреждением была Боярская дума; все указы и законы оформляли как “приговоры” или “уложения” царя и великого князя с боярами. Все историки согласны, что воплощенная в этих указах правительственная политика была направлена на централизацию страны. Таким образом, если придерживаться традиционной концепции - против боярства. Итак, боярство - своеобразный коллектив самоубийц, настойчиво проводящий меры, направленные против самого себя? В истории, неизвестны случаи, чтобы какая-либо социальная группа на протяжении длительного времени упорно действовала против своих интересов.
Разумеется, эти рассуждения недостаточно доказательны: ведь реальная жизнь слишком сложна и плохо подчиняется самым безупречным и строгим логическим схемам. Да и читатель, знакомый с историей, вправе спросить: а как же быть с боярской идеологией, с убежденностью бояр в своем наследственном праве участвовать в управлении государством и тем самым ограничивать власть монарха? На память сразу приходит князь Андрей Курбский. Ведь привычный взгляд на его воззрения вкратце таков: “идеолог боярской оппозиции”, он требовал ограничить власть царя советом бояр.
Что ж, вглядимся в писания беглого боярина. Первое, что в самом деле бросается в глаза, - его аристократизм. Рассказывая о жертвах гнева царя Ивана, он классифицирует их по генеалогическому принципу. Он никогда не упустит заметить, что казненный - "славнаго" или "велика" рода, указать, кому он "единоплемянен". Впрочем, не менее аристократичен по своему мировоззрению и его главный оппонент - Иван Грозный; но об этом - позднее. Здесь же отметим, что при всем том Курбский вовсе не стремился ограничить власть царя советом знати. Ведь князь восхваляет политику Избранной рады, а во главе ее стоял как раз незнатный дворянин Алексей Адашев. Да и Избранная рада, как было показано выше, много сделала именно для централизации страны. Следовательно, Курбский - сторонник политики централизации. Спор его с царем - спор о методах.
Да, Курбский считал, что царь нуждается в советах "мужей разумных и совершенных... предобрых и храбрых... в военных и в земских вещах по всему искусных". В этом перечне достоинств нет одного - знатности. И не случайно! Ведь в другом случае Курбский подчеркнул что царь должен искать советов и "у всенародных (простонародных. - В. К.) человек", ибо "дар духа дается не по богатеству внешнему и по силе царства, но по правости душевной".
Конечно, каждый боярин с детства был уверен, что он призван участвовать в управлении и командовать войсками, но не как хозяин, а как верный слуга государя. Тщетно мы стали бы искать в боярских писаниях даже намек на борьбу против централизации. Это естественно: ведь бояре, крупные феодалы, были не меньше, а, пожалуй, порой даже больше, чем мелкие, экономически заинтересованы в единстве страны. Чтобы понять, на чем основан этот непривычный вывод, приглядимся к боярским вотчинам.
Для крупных русских феодалов не были характерны обширные латифундии, расположенные "в одной меже", такие, чтобы можно было ехать целый день и в ответ на вопрос, чьи это земли, слышать, как в известной сказке Перро, одно и то же: маркиза де Караба. Обычно у боярина были вотчины одновременно в нескольких уездах - четырех, пяти, а то и шести. Границы же уездов, как правило, совпадали со старыми рубежами княжеств. Поэтому возврат к временам удельного сепаратизма реально угрожал землевладельческим интересам знати.
А титулованные бояре, отпрыски старых княжеских родов, утративших свою независимость и ставших сначала вассалами, а потом и подданными государя всея Руси? Какова их позиция? Конечно, у многих из них сохранились и ностальгическая тоска по "доброму старому времени", и доля неприязни к "кровопивственному" роду московских князей (выражение одного из таких потомков удельных князей - Курбского). Но, как было показано выше, жизнь брала свое. Бывшие удельные властители входили в Думу, становились воеводами в полках, наместниками в уездах, разбирали судебные дела. Эти поручения носили общерусский характер, требовали разъездов по стране. Князьям становились необходимы вотчины за пределами родового гнезда, чтобы на новом месте не зависеть от рынка, не пользоваться покупной провизией: в условиях преобладания натурального хозяйства иначе жить слишком накладно.
Была еще одна побудительная причина для приобретения владений за пределами своего родового гнезда. Княжеские вотчины мельчали в семейных разделах. Вот, например, род князей Оболенских. В середине XVI века в этой семье жило одновременно около сотни, а то и больше взрослых мужчин. В их же бывшем удельном княжестве насчитывалось всего около 30 тысяч гектаров пахотной земли. Так что на долю каждого пришлось бы не более 300 гектаров пашни. Но это уже размер владений обычного служилого человека, с такой вотчины по-княжески не проживешь. Вот и приходилось искать новые земли в других уездах.
В результате у многих князей вотчины в родовом гнезде составляли лишь часть (да и то не главную) владений; у некоторых их вовсе не осталось. Поэтому даже для тех князей, чьи родовые владения сохранились, возврат к временам феодальной раздробленности был чреват потерей части их вотчин и поместий. Кстати, о поместьях. Часто можно прочитать, что бояре владели вотчинами - крупными наследственными владениями, а дворяне - мелкими поместьями, которые давались лишь под условием службы и не передавались по наследству.
Это расхожее мнение не соответствует исторической действительности. Как правило, у одного и того же феодала были в собственности одновременно и вотчины, и поместья. Поместья с самого начала (с конца XV в.) были фактически наследственными и достигали порой весьма больших размеров. Так, например, племянник Малюты Скуратова Богдан Яковлевич Вольский владел в конце XVI века в Вяземском уезде поместьем, составлявшим почти целую волость, в центре которой - большом торговом селе Волочке было больше 100 дворов и 53 лавки. Естественно, существовали и мелкие поместья. Но вместе с тем весьма распространены были и мелкие вотчины, порой приближавшиеся по размерам к крестьянскому наделу. Таким вотчинникам приходилось нередко (наряду с эксплуатацией крестьян) самим ходить за плугом.
Не было разницы и в социальном составе помещиков и вотчинников: и среди тех и других мы можем найти аристократов и мелкую сошку. Так, поместьями владели князья Горбатые (из суздальских князей), Золотые и Щепины (из Оболенских), Хилковы, Гагарины, Татевы (из Стародубских) и многие другие. С другой стороны, вряд ли кто-нибудь заподозрит боярина в таком вотчиннике, как "путный ключник" Никифор Дуров. Наконец, каждый вотчинник был обязан служить под угрозой конфискации вотчины, а поместья порой передавали малолетним сыновьям умершего служилого человека, с тем чтобы они, когда "поспеют" к службе, служили "с этого поместья". Так что противопоставление вотчин и поместий не выдерживает критики. Но ведь именно это противопоставление - главная опора представлений о борьбе боярства против центральной власти и о поддержке этой власти дворянами.
Не против бояр
Если же внимательней приглядеться к политике опричнины, то мы увидим, что считать ее направленной против бояр нет оснований. "Как? - спросит читатель, хорошо знакомый с литературой. - Ведь все знают, что царь Иван казнил бояр".
Как часто развитие науки опровергает многочисленные "все знают". Так произошло и на этот раз. С. Б. Веселовский специально изучил состав казненных в годы опричнины. Естественно, составить полный список жертв царского гнева невозможно. Прежде всего потому, что до нас дошли лишь небольшие фрагменты архивов XVI века: множество ценнейших документов погибло в огне "великих пожаров" - 1571, 1611, 1626 годов. Историкам приходится подчас пользоваться лишь косвенными показаниями источников. Например, внимательно изучают опись документов государева архива, составленную тогда, когда многие из не сохранившихся в наше время документов еще не были утрачены, но не всегда вразумительным заголовкам пытаются догадаться, что же было написано в самом источнике.
Имена казненных мы знаем по Синодику, но там порой названы лишь имена, а не фамилии, ибо для церковного поминания было важно только имя, полученное при крещении. Кое-что извлекаем из сочинений Курбского, записок иностранцев, из летописей. Впрочем, официальная (и наиболее подробная) летопись доведена лишь до 1567 года. Потом стала слишком быстро меняться политическая конъюнктура, слишком часто те, кто еще вчера ходил в приближенных государя, оказывались подлыми изменниками; составителям было, вероятно, непонятно, что же теперь можно писать, а что нельзя. Страшно было промахнуться, написать то, что вроде нужно сегодня, но может стать преступным завтра. Историк же должен проверить и сопоставить сведения, извлеченные из разных источников.
Остановимся на результатах кропотливого исследования С.Б. Веселовского. Естественно, среди пострадавших много бояр. Прежде всего потому, что они стояли близко к государю и легче навлекали на себя его гнев. "Кто был близок к великому князю, тот ожигался, а кто оставался вдали, тот замерзал", - пишет Штаден. К тому же казнь знатного боярина была куда заметнее, чем гибель рядового служилого человека, не говоря уже о "посадском мужике", боярском холопе или крестьянине. Например, боярин Иван Петрович Федоров в Синодике упомянут среди казненных по имени, его же "люди" (холопы) чаще всего названы скопом: "Отделано Ивановых людей 20 человек", "В Бежицком верху отделано Ивановых людей 65 человек". И тем не менее, по подсчетам Веселовского, на одного боярина или человека из Государева двора "приходилось три-четыре рядовых землевладельца, а на одного представителя класса привилегированных служилых землевладельцев приходился десяток лиц из низших слоев населения". Издавна верной опорой централизации справедливо считали аппарат приказов - дьяков и подъячих. Но их среди казненных - великое множество. "При царе Иване, - писал Веселовский, - служба в приказном аппарате была не менее опасным для жизни занятием, чем служба в боярах". Получается парадоксальная ситуация: террор направлен, кажется, против бояр, но гибнут в большинстве люди из других социальных групп.
С.Б. Веселовский и А.А. Зимин рассмотрели также состав политических эмигрантов-"бегунов". Часто можно встретить утверждение: бояре изменяли и бежали за рубеж, например Курбский. Этим "например" исчерпывается список не только членов Боярской думы, но и вообще аристократов, бежавших из России в предопричные и опричные годы. Террор против бояр, а бегут дворяне!
Наконец, состав самого Опричного двора. Существует распространенный стереотип: царь Иван приближал к себе новых, безродных людей. Сам Иван Грозный способствовал созданию этой легенды. В послании к попавшему в крымский плен недавнему опричнику Василию Грязному он писал: "...отца нашего и наши князи и бояре нам учали изменяти, и мы и вас, страдников, приближали, хотячи от вас службы и правды". Итак, царь резко противопоставляет изменников-бояр страдникам (страдник - пашенный холоп), которых он выдвигает к руководству. Но ведь сам Василий Григорьевич Грязной, отпрыск старинного рода ростовских архиепископских бояр Ильиных, был отнюдь не страдником, хотя и к аристократии его не отнесешь. Да и термин "страдник" царь употреблял весьма широко, используя скорее как ругательство. В одном из посланий он назвал страдником даже шведского короля (см. об этом ниже).
Царские филиппики против бояр сильно отдают демагогией.
Как же обстояло дело в действительности? В свое время автор этих строк специально изучал состав опричных руководителей, который показательнее, чем состав всего достигавшего 5-6 тысяч человек опричного корпуса: ведь между рядовыми "воинниками" из опричнины и из земщины не могла возникнуть существенная разница. Приступая к работе, я был полностью во власти традиционных представлений об опричнине как об учреждении, созданном для борьбы против боярства и выдвижения на первые роли дворян. Однако исследование привело к неожиданным выводам: среди новых слуг царя Ивана было множество отпрысков аристократических родов. Да и создало опричнину, как уже отмечалось, старомосковское боярство, представителями которого были те "злые люди", по "совету" которых царь якобы создал опричнину, - В.М. Юрьев и А.Д. Басманов. Правда, мало кто из стоявших у колыбели опричнины дожил до ее отмены, многие стали жертвами своих собратьев по царской опричнине. Но и те, кто пришел после "смены караула", были в значительной своей части аристократами.
Вообще по составу руководителей историю опричнины можно разделить примерно на два этапа. Сначала ее возглавляли отец и сын Басмановы, князь Афанасий Вяземский (отпрыск сильно размножившейся и находившейся на грани утраты княжеского титула ветви смоленских князей, потерявшей к тому же все владения в родовом гнезде), князь Михаиле Темрюкович Черкасский. Среди опричных бояр были князья Василий Андреевич Сицкий и Василий Иванович Темкин-Ростовский, нетитулованные аристократы из Бутурлиных, Чеботовых, Колычевых, Пушкиных... Многие из них были связаны родством и свойством друг с другом и с первыми двумя женами царя. Как уже отмечалось, князь М.Т. Черкасский женился на двоюродной племяннице царицы Анастасии; на сестре Анастасии был женат князь В.А. Сицкий, их дочь была женой Ф.А. Басманова. На этот тесно сплоченный родственный кружок и падают опалы и казни после смерти Марии Темрюковны. Если Черкасский и Басмановы погибают, то В.А. Сицкому удалось пережить тяжелое время, однако и он тогда оказался в опале. Вместе с ними подверглись тогда репрессиям и близкие к ним люди.
На смену приходят другие. Малюта Скуратов и Василий Грязной, до того известные лишь тем, что были рьяными исполнителями смертных приговоров, получают чины думных дворян, то есть входят в состав Боярской думы. Они фактически возглавили тогда опричнину.
Вместе с тем тогда же в опричнину входит немало титулованных аристократов. Многие из них оказались связанными с погибшим старицким князем. Так, опричным боярином стал родной брат умервщленной вместе с мужем старицкой княгини князь Никита Романович Одоевский, один из самых могущественных земельных магнатов XVI века, сохранявший в своих руках (вместе с Воротынскими) Одоевское княжество на юго-западе от Москвы, в верховьях Оки. Племянниками Владимира Андреевича Старицкого по женской линии были князья Петр и Семен Данилович Пронские. Петр был к тому же боярином у Владимира Андреевича. Опричным воеводой стал после казни князя Владимира его троюродный брат и дворецкий князь Андрей Петрович Хованский.
Откуда вдруг взялось такое доверие к вассалам казненного старицкого князя, к его родне? Остается только гадать, но думается, с известной долей вероятности можно предположить, что подозрительный до мнительности царь должен был располагать какими-то доказательствами личной преданности ему этих людей, прошлое которых не внушало доверия. Таким доказательством мог быть инспирированный царем ложный донос на своего родича и господина, помогший расправиться с удельным князем. Не продала ли родня старицкого князя грозному царю своего невезучего родственника?
Но старицкими боярами не ограничивается круг аристократов, ставших опричниками после 1570 года. Тогда же в опричнину вошли потомки великого князя литовского Гедимина князья Федор Михайлович и Никита Романович Трубецкие, принадлежавшие к самой верхушке аристократии и сохранившие владения в своем бывшем уделе - Трубчевском княжестве. Думается, этих фактов достаточно, чтобы убедиться, что худородность, "демократичность" состава опричнины - миф. Тем более что и менее знатные деятели опричнины - Черемисиновы-Карауловы, Нащокины (Роман Алферьев и Михайло Безнин) вплоть до Малюты Скуратова и Василия Грязного с их многочисленной родней были выходцами из того же Государева двора, то есть из верхушки господствующего класса, что и земские воеводы.
Таким образом, опричный двор принципиально не отличался ни от доопричного, ни от современного ему земского. Но вместе с тем некоторые различия существовали. Здесь, например, было больше иноземных выходцев (из Германии, Великого княжества Литовского, с Востока), людей, лишенных корней в стране, а потому более послушных исполнителей воли царя.
Дело не в том, были ли опричники выходцами из иной, чем земские, социальной группы. Существенно другое: они - личные слуги царя, готовые на все для исполнения любого его самого грязного поручения. Этому помогала гарантия безнаказанности. Штаден сообщает, что, учредив опричнину, царь послал в земщину приказ: "Судите праведно, наши виноваты не были бы". Эти слова Штаден написал латинскими буквами по-русски ("Sudite praveda, nassi winowath ne boly by"), - свидетельство того, что он сам их слышал. Разумеется, не из уст царя. Возможно, царь и не отдавал такого приказа, а Штаден передает лишь слух. Но такой слух рождается не на пустом месте, он возникает из осмысления жизненной практики. А ее-то Штаден знал прекрасно. Тем больше доверия вызывает его дальнейший рассказ:
"Любой из опричных мог... обвинить любого из земских в том, что этот должен ему будто бы некую сумму денег. И хотя бы до того опричник совсем не видел обвиняемого им земского, земский все же должен был уплатить опричнику, иначе его ежедневно били публично на торгу кнутом или батогами до тех пор, пока не заплатит... Опричники устраивали с земскими такие штуки, чтобы получить от них деньги или добро, что и описать невозможно".
Штаден хорошо знал, о чем пишет. Пока он еще не стал опричником, его жульнически обобрал другой немецкий выходец, уже служивший в опричнине, Каспар Эльферфельд. Впрочем, через некоторое время Штаден, успевший вступить в опричнину и заслужить милости царя, сумел в отместку засадить Эльферфельда в тюрьму, где тот и умер.
Объективные результаты
Итак, опричнина не была антибоярским мероприятием. Более того, она даже не изменила структуру русского феодального землевладения. Крупное землевладение, в том числе и княжеское, сохранилось. Например, в начале XVII века средний размер княжеских вотчин и поместий в 2 раза превышал средний размер имений нетитулованных феодалов. Даже в конце XVII века большинство князей, входивших в Боярскую думу, владели хотя бы символическими вотчинами в своих родовых гнездах. В 20-х годах XVII века князья Оболенские сохранили в своем бывшем княжестве большую часть пахотных земель.
Так что же, опричнина всего лишь прихоть полубезумного деспота, несчастный случай? Думается, положительный ответ на этот вопрос упростил бы историческую действительность. Ведь какой бы яркой ни была историческая личность, какой бы глубокий отпечаток (приятный нам или неприятный) ни наложила она на ход конкретного исторического развития, не уйдешь от вопроса: какие причины, коренившиеся в развитии социальных отношений, в национальных традициях, в соотношении сил позволили этой личности проявиться именно так?
У царя Ивана, разумеется, были и какие-то отклонения от психической нормы (хотя я бы поостерегся просить врача-психиатра через четыре века с лишним ставить точный диагноз на основании фрагментарно сохранившихся источников). Но "медицинское" объяснение большого периода истории огромной страны явно неудовлетворительно. В самом деле, возможно ли, чтобы в правовом государстве, хотя бы и абсолютистском, не вполне нормальный психически монарх казнил десятки тысяч невинных людей? Уже при первых признаках проявления его бешеного нрава он был бы легально, по заранее разработанным правовым нормам отстранен от реальной власти, которая перешла бы к наследнику или регенту, возможно, коллективному-регентскому совету. Такие случаи известны в европейской истории XVIII-XIX веков.
При недостаточном развитии правовых норм и правосознания возможна и другая ситуация: нежелание господствующего класса смириться с попранием своего достоинства, с нарушением своих освященных традициями привилегий. Тогда возможен дворцовый переворот, как не раз бывало в России XVIII века. Недаром об этом времени говорили, что в России существует самодержавие, ограниченное не парламентом, а цареубийством. Нет, не выходит решать вопрос об опричнине только через призму сумасбродств Ивана IV.
Поставим еще один вопрос. Случайно ли, что во времена, когда идет становление единых государств, на престолах, как по заказу, появляются тираны? Людовик XI во Франции, Генрих VIII в Англии, Филипп II в Испании... Нет ли и здесь какой-то закономерности?
В поисках ответа на вопрос о смысле опричнины попробуем обратиться к ее результатам. Здесь, впрочем, необходима одна оговорка. Объективные результаты того или иного события, явления, действия, учреждения необходимо строго отделять от субъективных намерений политических и государственных деятелей. Вряд ли Иван Грозный ставил перед собой большие государственные задачи, сомнительно, чтобы им реально руководили какие бы то ни было стремления кроме укрепления личной власти. Но результат политики, да еще столь импульсивной, как у царя Ивана, часто оказывается непредсказуемым.
Итак, к результатам! Казнь Владимира Андреевича Старицкого. Судя по всему, ни сам старицкий князь, ни его мать, ни тем более его жена и дочь ни в чем не были виноваты. Это была гнусная расправа над невинными людьми. Но мы ищем не оправданий, а смысла. Результатом гибели князя Владимира оказалась ликвидация последнего удельного княжества на Руси. Правда, иной раз выставляют возражения. Уцелевший сын Владимира Андреевича, кажется, на время получил отцовский удел. Но, во-первых, сведения об это слишком туманны, а во-вторых, этот княжич вскоре умер. Вспоминают далее об уделах крещеного татарского царевича Симеона Бекбулатовича, владевшего Тверью и Торжком в качестве великого князя и княжившего в Угличе после смерти Ивана IV и царевича Дмитрия, который там трагически погиб в 1591 году. Но и эти примеры не доказательны. 'Ни Симеон, ни Дмитрий не играли никакой самостоятельной роли, не имели своих боярских дум и воевод, их права в основном ограничивались получением доходов с данных им в удел территорий.
Обращают внимание на завещание самого Ивана IV, в котором он выделяет младшему сыну - царевичу Федору необычно большой удел. Но и это завещание не восстановило удельную систему. Дело не в том, что завещание осталось невыполненным из-за гибели старшего брата Федора-царевича - Ивана Ивановича. Важнее другое. Царь выделял младшему сыну удел лишь формально, следуя традиции. Вместе с тем он советует детям: "А докудова вас бог помилует, свободит от бед (а разве когда-нибудь кончаются "беды"-трудности? - В. К.), и люди бы у вас заодин служили, и земля бы заодин, и казна бы у вас заодин была". Реально выделять удел младшему наследнику царь таким образом не советует, а решение этого вопроса оставляет полностью в компетенции будущего царя. Старшему сыну он рекомендует заботиться о младшем, "чтобы ему не в досаду, что ему на дашь удела и казны"; Федора же отец наставляет, чтобы он не просил у старшего брата удела. Итак, что ни говори, а казнь князя Владимира Андреевича ознаменовала конец удельной системы на Руси.
Другой важный эпизод опричнины - дело митрополита Филиппа. Надеюсь, даже при беглом чтении видно, что Филипп не вызывает у автора иных чувств, кроме восхищения мужеством, героизмом, с которым он выступил против опричного террора. Филипп - одна из самых светлых личностей в нашей истории. Но вспомним про объективный результат этого дела. Церковь была союзницей, а не служанкой центральной власти, сохранила относительную самостоятельность. Такое ее положение во многом поддерживалось огромными земельными владениями митрополичьей кафедры, сравнимыми по размерам и объему власти митрополита с удельными княжествами. Это был такой же пережиток удельной старины, как и Старицкое княжество. Гибель митрополита Филиппа, казни архиепископов Германа, Леонида и многих других духовных лиц нанесли удар, хотя и не окончательный, по этому особому положению церкви в государстве. Хотелось бы лишь отметить, что автор вовсе не уверен, что независимая, хотя бы отчасти, церковь - вредна, а подчинение ее государству - во всех случаях - благо. Речь идет лишь о реальных политических итогах.
Наконец, новгородский погром: варварский, вызывающий чувства негодования и омерзения. Но и Новгород не случайно был избран царем Иваном для нанесения удара. Ведь там буквально все дышало воспоминаниями о прежней независимости от Москвы, что отразилось и в новгородском летописании. Да и в политическом строе здесь сохранялись некоторые особенности, уходившие корнями во времена феодальной раздробленности. Можно назвать традицию, согласно которой наместниками в Новгород назначали только людей с княжескими титулами (как бы новгородских князей), что эти наместники имели к тому же право самостоятельных сношений с некоторыми иностранными государствами. Особым было и положение новгородского архиепископа. Он, например, единственный из архиепископов и епископов носил белый, а не черный клобук. Белый же клобук был знаком митрополичьего достоинства.
Таким образом, получается, что вне зависимости от желаний и намерений царя Ивана опричнина способствовала централизации, была объективно направлена против пережитков удельного времени.
Средства изменяют цель
Когда я пишу, что опричнина укрепила централизацию, то отчетливо слышу протестующие голоса многих читателей.
"Опричнина помогла централизации? - говорят одни. - Да как же вы можете оправдывать одного из самых кровавых преступников и палачей в отечественной истории?"
"Вы сами признали, что опричнина способствовала прогрессу, - негодуют другие. - Значит, несмотря на некоторые издержки, царь Иван был прав. Вы же просто переносите в средние века современные нормы морали".
Эти возражения я не изобрел. Первое я слышал от одного из коллег: он полагал, что раз я признаю антиудельную направленность опричнины, то тем самым считаю ее явлением положительным. Второе возражение я получил от студента. Он спросил: "А разве можно было добиться централизации страны, применяя другие методы?"
Оба эти возражения, несмотря на кажущуюся противоположность, исходят из одной и той же презумпции: цель оправдывает средства. Автор первого возражения присоединился бы к оправданию Ивана Грозного, если бы пришел к выводу, что при нем централизация все же укрепилась. Но откуда известно, что те средства, которые были употреблены при Иване Грозном, были единственно возможными?
Было бы опасным заблуждением видеть ход истории закономерным не только в главном, в самом существенном, но и в деталях (впрочем, эти "детали" могут оказаться определяющими для жизни конкретного человека или даже целого поколения), считать, что происходило лишь то, что должно было произойти, и даже так, как должно. Провидение, которое средневековый летописец считал вершителем судеб мира, тем самым незаметно возрождается в пристойном обличий научно познанных законов исторического развития.
Да, исторического деятеля или историческое явление нужно судить по результатам. Но только ли по ним? Ведь конечный результат обычно как бы запрограммирован всем ходом развития страны, народа, теми самыми законами истории. Например, думается, даже самые горячие поклонники Петра I не рискнули бы предположить, что неудачные роды у его матери - царицы Натальи Кирилловны уничтожили бы самую возможность серьезных реформ, модернизировавших Россию.
Тенденции централизации, ликвидации удельного сепаратизма были объективными; к крепкому единому государству, как к Риму, вели все пути. Следовательно, долг историка поразмыслить, наиболее ли удачный путь к цели был избран, с наименьшими или с наибольшими затратами был пройден. Помню замечательного учителя математики, у которого я учился в 10-м классе, Юрия Константиновича Баратова. Он часто повторял: нет двух путей решения одной задачи, есть один - самый красивый. Так и в истории: верен лишь тот путь, который приведет к цели с наименьшими издержками, унеся минимум человеческих жизней.
Но не бесплодны ли все эти разговоры и рассуждения, существовала ли в реальной жизни альтернатива тому пути, по которому пошел царь Иван, вводя опричнину? Да, существовала. Это показала деятельность Избранной рады, при правлении которой, как было показано выше, были начаты глубокие структурные реформы, направленные на достижение централизации. Этот путь не только был не таким мучительным и кровавым, как опричный, он и обещал результаты более прочные, и исключал становление снабженной государственным аппаратом деспотической монархии. Но этот путь не обещал результатов немедленных; повторю сказанное выше: структурные реформы дают плоды не сразу, а потому нередко обманывают нетерпеливые ожидания. Возникает соблазн утопического, волюнтаристского, командно-репрессивного пути развития. Ведь эти три эпитета жестко связаны: любая утопия - волюнтаристична, а потому для своего осуществления требует строгих приказов, подкрепленных репрессиями.
Путь Избранной рады был основан на реальных тенденциях развития страны, быть может, не столь познанных (ведь в ту эпоху господствовал еще донаучный уровень мышления), сколь, по крайней мере, уловленных чутьем умных и реальных политиков. Путь же опричнины основывался на произвольном хотении.
Таким образом, в середине XVI века опричная дорога развития была не единственно возможной. Идея альтернативности исторического развития, возможности разных вариантов хода истории в сегодняшней исторической науке медленно, но верно пробивает себе дорогу. Но она не стала еще привычной: слишком долго над нами нависала догматическая вульгаризация марксизма, воплощенная в "Кратком курсе истории ВКП(б)". Мучительно труден процесс высвобождения мысли, и даже те, кто искренне и радостно стремятся к раскованному, свободному мышлению, все же невольно испытывают, подчас незаметно для себя, давление обветшавших догм.
Разумеется, автор этих строк - не исключение. Как часто ловишь себя на привычном желании доказать свою мысль не столько фактами, сколько ссылкой на непререкаемые авторитеты! Потому-то, быть может, до сих пор многие серьезные историки уверены, что в XVI веке произошло лишь то, что неминуемо должно было произойти. Попытаемся же выяснить, каковы были шансы на успех у двух альтернатив развития страны.
Казалось бы, альтернатива опричнины во многом опиралась на прочные традиции. Когда Курбский писал, что московские князья "обыкли... крове братии своей пити", он, вероятно, напрасно считал такой "обычай", присущим лишь московскому княжескому роду, но был прав в том, что процесс объединения Руси сопровождался применением насилия в самых разных, порой отталкивающих формах. Внешняя опасность, необходимость свержения ордынского ига заставляла ускорять преодоление феодальной раздробленности, опираться чаще на военную силу и военные методы управления. Поэтому с самого начала во власти государей всея Руси легко обнаружить деспотические черты. Казненный при Василии III за "непригожие речи" Берсень Беклемишев (см. о нем выше) считал, что только при этом государе нарушились отношения между великим князем и его подданными, только Василий Иванович стал решать государственные дела "сам третей у постели" и пресекать всякие споры. Его же отец, Иван III, по мнению Беклемишева, "против собя стречу любил".
Да, власть Василия III действительно приобрела невиданный до того характер. Побывавший дважды в России во времена Василия III посол германского императора барон Сигизмунд фон Герберштейн, хорошо знавший русский язык, оставил подробное и объективное описание страны. Он писал, что Василий III "всех одинаково гнетет... жестоким рабством".
"Властью, которую он имеет над своими подданными, - пишет Герберштейн, - он далеко превосходит всех монархов целого мира". В другом месте он отмечает, что из советников, которых он имеет, "ни один не является столь значительным, чтобы осмелиться разногласить с ним или дать ему отпор в каком-нибудь деле. Они прямо заявляют, что воля государя есть боля божья, и что бы ни сделал государь, он делает это по воле божьей". Да и сама казнь Берсеня Беклемишева - мрачное подтверждение справедливости его слов. Но все же, думается, погибший из-за неосторожной искренности придворный несколько идеализировал времена Ивана III. Что же, людям свойственно искать "золотой век" в прошлом, тем более что в правление Ивана III отец Берсеня - Никита был одним из самых близких к государю людей, да и сам Берсень успешно начинал карьеру. Действительность же при Иване III была весьма суровой.
Обращу внимание лишь на один эпизод. В последние годы жизни Ивана III в великокняжеской семье сложилась запутанная ситуация. Государь колебался, кого из своих потомков назначить наследником: внука Дмитрия (отцом его был умерший молодым старший сын Ивана III - Иван Иванович) или сына Василия. Первоначальный выбор был сделан в пользу внука, дед даже торжественно венчал его при жизни на великокняжеский престол, но через некоторое время перерешил. Дмитрий попал в заточение, а наследником был назначен Василий, будущий государь всея Руси. Соответственно и придворные раскололись на сторонников Дмитрия и Василия. Перемены курса сопровождались опалами, а то и казнями тех, кто проиграл. Спустя несколько лет после казни одного из таких неудачников - князя Семена Ряполовского Иван III напоминал в виде предостережения о его судьбе двум своим служилым людям и советовал им не "высокоумничать", как Ряполовский. Знаменательный совет! Неприязнь к "шибко умным" извечна для всех тиранов - в масштабах государства или миниатюрной конторы. Это своего рода тест на авторитарность мышления.
Не менее любопытна аргументация Ивана III, которой он обосновывал опалу на внука. "Чи не волен яз, князь велики, в своих детех и в своем княжении?" - восклицал он. А его дипломатам рекомендовалось разъяснять своим зарубежным коллегам, что внук "учял" государю "грубити", а "всякой жалует дитя, которое родителем норовит да служит, а которой не норовит, да еще грубит, ино того за что жаловати?".
Так решение важного государственного вопроса о престолонаследии сводилось (по крайней мере, в идеологическом его обосновании) к личной воле государя и проблеме почтительности внука к дедушке.
Итак, традиции деспотизма существовали. Это и неудивительно. Не может реально существовать и тем более победить альтернатива, не имеющая корней в историческом пути страны. Но только ли эта традиция существовала? Можно ли к отдельным проявлениям деспотизма свести деятельность не только Ивана III, но и Василия III? Я не говорю уже о том, что по масштабам расправ Иван IV оставил далеко позади своих деда и отца, он оторвался от них настолько, насколько олимпийский чемпион по бегу опередит нетренированного участника районной эстафеты. Существеннее другое: используя для объединения страны и ее движения к централизации в полной мере насильственные методы, правители второй половины XV - первой трети XVI века прибегали не только к ним. Они щедрыми посулами и действительными привилегиями успешно привлекали на свою сторону и бывших независимых князей, и их вассалов, умело использовали реальную заинтересованность всего господствующего класса феодалов в централизации. Именно на эту традицию опиралась в своей реформаторской деятельности Избранная рада. Потому и не беспочвенна ее деятельность. Так что и впрямь существовала реальная возможность торжества этого, менее болезненного пути развития.
Последствия ближайшие и отдаленные
Результаты опричнины были трагичны для страны. Начнем с тех ее непосредственных последствий, которые уже в последние годы опричнины и в первые годы после ее отмены ощутили миллионы русских людей, имевших несчастье быть современниками царя Ивана. 70-80-е годы XVI века - время тяжелого экономического кризиса. Деревни и села центра страны и значительной части северо-запада, Новгородской земли, запустели. Крестьяне разбежались: кто на новые .земли Поволжья (именно тогда русский крестьянин осваивал территории вокруг Тамбова, Саратова, Самары, Симбирска и т.д.), кто в Приуралье, кто на юго-запад - к Туле, Курску, Орлу.
Масштабы запустения позволяют представить себе писцовые книги. Это были документы, в которых в налоговых целях и для закрепления права собственности подробно описывалось каждое феодальное владение, там отмечали количество и "пашни паханой" и "перелога" (необрабатываемой пахотной земли), крестьянских и холопских ("людских") дворов, населенных и заброшенных, лугов, лесов и т.д. Дошли до нас они далеко не в полном объеме, но все же дают ценный материал для историка.
Писцовые книги, составленные в первые десятилетия после опричнины, создают впечатление, что страна испытала опустошительное вражеское нашествие. "В пусте" лежит не только больше половины, но порой до 90 процентов земли, иногда в течение многих лет. Даже в центральном Московском уезде обрабатывалось всего около 16 процентов пашни. Часты упоминания "пашни-перелога", которая уже "кустарем поросла", "лесом-рощей поросла" и даже "лесом поросла в бревно, в кол и в жердь": строевой лес успел вырасти на бывшей пашне. Многие помещики разорились настолько, что бросили свои поместья, откуда разбежались все крестьяне, и превратились в нищих - "волочились меж двор".
Конечно, в этом страшном разорении повинна не только опричнина, иногда мы имеем дело лишь с косвенными ее последствиями. Дело в том, что в годы опричнины резко вырос налоговый гнет. 100 тысяч рублей, которые Иван IV взял с земщины за свой "подъем", были только началом. Нельзя, впрочем, забывать и о том, что в 1570-1571 годах в России свирепствовала эпидемия чумы, унесшая множество человеческих жизней. Ее, разумеется, не поставишь в счет опричнине.
И все же роль опричнины в запустении была исключительно велика. Материал для суждений об этом дают нам книги "обысков", расследований о причинах запустения тех или иных сел и деревень Новгородской земли. В некоторых случаях причиной гибели или бегства крестьян называют "немцев" - шведские войска, вторгшиеся в ходе Ливонской войны на часть территории Новгородской земли. Но куда больше записей такого рода: "...опритчиные на правежи замучили, дети з голоду примерли", "опритчина живот пограбели, а скотину засекли, а сам yмep, дети безвесно збежали", "опричиныи замучили, живот пограбели, дом сожгли". Часто оказывается, что запустение наступило и от "царевых податей", то есть в конечном счете от той же опричнины, которая резко усилила налоговое ярмо.
Разумеется, Новгородская земля подверглась особому погрому, но сведения такого рода сохранились и по другим районам. Так, в Двинской земле страшному разгрому подверглись несколько волостей, где собирал недоимки опричник Басарга Леонтьев. Басарга был опытен: недаром накануне опричнины он был главным начальником над тюрьмами Москвы. Через несколько лет в официальных документах писали, что волости запустели "от гладу, и от мору, и от Басаргина правежу". В 90-х годах XVI века один из феодалов вспоминал в своем завещании, что его село и деревню в Рузском уезде "опришницы розвозили, и та земля стояла в пусте лет з двацеть".
Народные бедствия усугублялись вдобавок к эпидемиям и бесчинствам опричников и неурожаем, "хлебным недородом". Его причины крылись не только в неблагоприятной погоде, но и в невозможности спокойно вести хозяйство в условиях мобилизаций крестьян для обозной повинности в войсках, грабежей и насильственных экспроприаций. Крестьянское хозяйство лишалось резервов, и первый недород нарушал неустойчивое равновесие. Начался голод, стала массовой смертность.
"Из-за кусочка хлеба человек убивал человека, - пишет Штаден. - А у великого князя по дворам в его подклетных селах (личные села царя. - В. К.)... стояло много тысяч скирд необмолоченного хлеба в снопах. Но он не хотел продавать его своим подданным, и много тысяч людей умерло в стране от голода".
Это не клеветнические росказни недоброжелательного иностранца. О голоде единодушно твердят все источники. Вот цитаты из русских летописцев: "Глад... велик"; "Недород был великой хлебного плоду"; "Мор был силен по всей Русской земли"; "Мор и глад". Еще один текст, уже не из летописца, а из челобитной властей Троице-Сергиева монастыря: "Крестьяня от глада и от поветрея (эпидемии. - В. К.) вымерли".
Летописям вторят бесстрастные материалы земельных описаний. В некоторых пятинах[9] Новгородской земли количество пустых дворов, в которых не осталось жителей, превышало 90 процентов. Во всей Новгородской земле осталась всего лишь пятая часть населения. К тому же возросли подати, а цены на хлеб подскочили в 4 раза. Так что можно согласиться с псковским летописцем, который лаконично подвел итог: "Царь учиниша опричнину... И от того бысть запустение велие Руской земли".
Это опустошение страны сыграло значительную, если не решающую роль в утверждении крепостного права в России. Когда в 1581 году царь Иван временно запретил крестьянам переходить от одного владельца к другому даже в Юрьев день (26 ноября), он, должно быть, думал не о введении крепостного права, а о поисках выхода из сложившегося благодаря его же действиям кризисного положения. Искал же он этот выход на путях привычных ему командных методов. Крестьяне бегут? Так приказать, чтобы не бегали, а сидели на своих местах, там, где записаны в писцовые книги. Это ход рассуждений, популярный даже в нашу просвещенную эпоху, обычная попытка лечить симптом вместо болезни, вызванная святой и наивной верой в силу приказа.
От непосредственных результатов опричнины обратимся к ее отдаленным последствиям, к тем, которые сказались на жизни не одного поколения, да, пожалуй, продолжают сказываться кое в чем и сегодня.
Опричнина прежде всего утвердила режим личной власти. В. И. Ленин, характеризуя русское самодержавие, писал, что оно "азиатски-дико", что "много в нем допотопного варварства, консервированного в необыкновенно чистом виде в течение веков".[10]
Разумеется, не только опричнине обязано отечественное самодержавие своим особо деспотическим характером. Автор уже обращал внимание читателя на деспотические черты в правлении Ивана III и Василия III. Но опричнина усилила и закрепила эти элементы деспотизма в русской монархии. Путь форсированной централизации без достаточных экономических и социальных предпосылок был осуществим только при условии неслыханного усиления личной власти царя. Свою реальную слабость власть пыталась компенсировать жестокостью, создавая не четко работающий аппарат государственной власти, обеспечивающий выполнение правительственных предначертаний, а аппарат репрессий.
Вряд ли случайно и то, что утверждение крепостного права в России началось в послеопричные годы. На нынешнем уровне научного знания трудно ответить однозначно на вопрос, существовала ли для России реальная возможность избежать крепостничества. С одной стороны, крепостничество - вовсе не обязательный этап развития феодальных отношений. Многие страны прошли через феодализм, не зная закрепощения крестьянства; в еще большем числе стран крепостное крестьянство существовало только на ранних стадиях развития феодальных отношений и составляло лишь небольшую часть всех феодально-зависимых крестьян. Однако с другой стороны, в восточной части Германии, в Чехии, Венгрии, Польше, Великом княжестве Литовском, короче, по определению Ф. Энгельса, восточнее Эльбы в XV-XVI веках возникает крепостничество. Можно сомневаться, чтобы Россия оказалась исключением, как, впрочем, нельзя и отвергать с порога эту возможность: чтобы прийти к определенному, научно достоверному выводу, нужны еще новые серьезные исследования. Но в любом случае в установлении крепостного права серьезную роль сыграла опричнина. Выше уже обращалось внимание на то, что хозяйственное разорение страны в результате опричнины как бы спровоцировало переход к крепостничеству. Но существенно и другое соображение: без террористической, репрессивной власти загнать крестьян в крепостное ярмо трудно.
Однако вне зависимости от того, было ли крепостное право неизбежным, оно не было прогрессивным. Ведь оно, даже если отвлечься от моральной оценки, консервировало феодализм и задерживало возникновение, а затем и развитие капиталистических отношений. Крепостничество было мощным тормозом развития нашей страны. Само по себе установление крепостного права в Восточной Европе было, возможно, некоей реакцией феодального общества на возникновение капиталистических отношений в сопредельных странах, иммунной реакцией отторжения.
В нашей стране крепостное право приняло в конце концов отвратительные рабовладельческие формы: крестьянин оказался прикрепленным не столько к земле, сколько к личности феодала; не существовало никакой государственно-правовой регламентации отношений феодала и крепостных. Думается, эти особенно уродливые формы развития крепостничества во многом вызваны опричниной. Так ли это? Ведь такие формы крепостное право в нашей стране приняло значительно позже, в конце XVII, а то и в XVIII веке, а в XVI веке крестьянин еще был прикреплен только к земле, а не к ее владельцу. Так стоит ли и в этом винить опричнину, у которой и без того много на счету? Стоит. Речь здесь идет об одном из отдаленных последствий опричнины.
Дело в том положении, в котором оказался в результате опричнины русский господствующий класс. Грозненский террор и установившийся деспотический режим завершили превращение русских дворян в холопов самодержавия. На первый взгляд - не наша печаль. Что нам до бедствий эксплуататоров?
Однако в истории слишком много взаимосвязано, чтобы можно было пренебречь интересами какой-то социальной группы без ущерба для всего общества. Ведь государев холоп не может не быть деспотом по отношению к своим крестьянам, всегда будет стремиться превратить их в своих холопов. Раб не терпит ниже себя свободных или хотя бы полусвободных людей. Приниженное, закрепощенное положение русского дворянства привело к еще большим закрепощенности и приниженности крестьянства. Только через два века, после петровских реформ, в екатерининское время появилась дворянская интеллигенция, вошло в жизнь, по словам Н.Я. Эйдельмана, первое поколение "непоротых дворян", которые и стали создавать высокую культуру, частью пошли в декабристы. Но крестьянство долго еще оставалось в том же рабском, приниженном состоянии. То "барство дикое", о котором писал Пушкин, родилось в России не только благодаря опричнине, но благодаря и ей.
Итак, тот путь централизации через опричнину, по которому повел страну Иван Грозный, был гибельным, разорительным для страны. Он привел к централизации в таких формах, которые не поворачивается язык назвать прогрессивными. И потому было бы ошибкой считать прогрессивной террористическую диктатуру опричнины. Не только потому, что протестует наше естественное нравственное чувство (хотя, подчеркиваю, и это крайне важно), но и потому, что последствия опричнины отрицательно сказались на ходе отечественной истории.
Должно быть, это не случайно. Аморальные деяния не могут привести к прогрессивным результатам. История опричнины еще раз наглядно демонстрирует справедливость этой утешительной истины.
Князь Иван Московский - верноподданный Великого Князя Симеона Бекбулатовича Всея Руси
После отмены опричнины царь Иван прожил еще почти 12 лет. Нам предстоит остановиться на этом, последнем периоде его жизни. Таких массовых казней, какими был отмечен страшный 1570 год сначала в Новгороде, а потом и в Москве, уже больше не было. Но кротким государем Иван IV не стал. Людей, кончивших в те годы жизнь на плахе, хватило бы для того, чтобы любой другой монарх прослыл жестоким тираном. Как и раньше, в казнях присутствовала садистская изощренность. Так, царь любил тешиться тем, что осужденного зашивали в медвежью шкуру (это называлось "обшить медведно") и затравливали насмерть собаками. Нескольких вызвавших государев гнев монахов было как-то приказано привязать к бочкам с порохом, которые взорвали: дескать, раз вы ангелы, то и летите себе на небо. Это было не единственным проявлением царского юмора в убийстве. Так, один из дворян по фамилии Овцын был повешен рядом с овцой. Царь, должно быть, очень веселился, глядя на двух повешенных однофамильцев. Да и приближенные, вероятно, обязаны были смеяться шутке государя.
К 1575 году относится один из самых загадочных эпизодов времени Ивана Грозного. Осенью этого года в Успенском соборе Кремля был торжественно коронован великим князем всея Руси крещеный татарский хан Симеон (до крещения его звали Саин-Булатом) Бекбулатович. А Иван Грозный стал именоваться князем Иваном Васильевичем Московским. По словам Пискаревского летописца, он "ездил просто, что бояре, а зимою возница в оглоблех... А как приедет к великому князю Семиону, и сядет далеко, как и бояря, а Семион князь велики сядет в царьском месте".
Сохранилась одна челобитная князя И. В. Московского Симеону Бекбулатовичу. Она написана так, как положено писать подданному: "Государю великому князю Семиону Бекбулатовичю всея Русии Иванец Васильев с своими детишками, с Ыванцом да с Федорцом, челом бьют". На самом деле в форме униженной челобитной здесь изложена инструкция Симеону. Иванец Васильев просит государя, чтобы он ему "милость показал, ослободил людишок перебрать... иных бы еси ослободил отослать, а иных бы еси пожаловал ослободил принять", разрешил тех, "которые нам не надобны... прочь отсылати". Кроме того, князь Московский хотел, чтобы государь "тех наших людишок, которые учнут от нас отходити, пожаловал не приимал". Дальше Иван Васильев с сыновьями задавали "государю" наивный вопрос, как им держать "своих мелких людишок": "по дьячишков запискам и по жалованьишку нашему", то есть как служилых людей удельного князя, или брать на них документы как на холопов? "И о всем тебе, государю, челом бьем. Государь, смилуйся, пожалуй!" - завершал свою челобитную грозный царь.
В этом политическом маскараде была одна удивительная деталь. На первый взгляд Россия была разделена на две части: на великое княжение Симеона Бекбулатовича и на "удел" князя Ивана Московского. Но в одной части страны словно не существовало ни великого князя Симеона, ни князя Ивана Московского. Здесь все по-прежнему делалось именем "царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии". Это были в основном земли с татарским и другим нерусским населением, входившие раньше в Казанское ханство. Царь Иван, видимо, опасался, чтобы имя татарина на великокняжеском престоле не вызвало здесь волнений, не сделало бы марионетку Симеона чем-то большим, чем марионетка.
В чем же причины этого странного эпизода? Конечно, внешне многое напоминает опричнину. Страна вновь разделена на две (или даже на три) части. Вступление на престол Симеона сопровождали, как и учреждение опричнины, казни: затравили собаками, "обшив медведно", новгородского архиепископа Леонида, казнили десятка полтора недавних крупных опричников, в том числе князя Бориса Давыдовича Тулупова, бывшего перед этим одним из ближайших советников царя Ивана, его фаворитом.
Кстати, вотчины Тулупова получил молодой придворный Борис Федорович Годунов. Он только начинал свой путь наверх, хотя для восхождения было сделано уже немало: недавний опричник, зять покойного Малюты Скуратова (а память этого палача царь Иван почитал), он только что породнился с самим государем: весной того же 1575 года сестра Бориса Ирина вышла замуж за царского сына царевича Федора Ивановича. Вероятно, Годунов приложил руку и к устранению своего могучего соперника - князя Тулупова: ведь вотчины опальных обычно получали доносчики. Недаром уже после смерти Грозного Годунов отдал эти неправедно полученные вотчины в монастырь по душе казненного князя. Кто знает, с богом или с собственной совестью хотел тем самым примириться этот талантливый и беззастенчивый политик?
Все же вокняжение Симеона Бекбулатовича не открыло собой волну массового террора. Да и близость с опричниной была во многом внешней. Многие из бывших опричников остались в Симеоновой "земщине", а в "государеве уделе" оказалось немало бывших земских. Так же переменились роли территорий: "удел" князя Московского состоял в основном из бывших земских уездов, а многие уезды, входившие в опричнину, стали частью княжества Симеона Бекбулатовича.
О причинах этой странной комедии с переодеванием в недоумении гадали современники, спорят и историки. Высказывалось предположение, что царь ставил перед собой внешнеполитическую задачу. В это время в Речи Посполитой был период "бескоролевья".
За несколько лет до того королем был избран французский принц Генрих, герцог Анжуйский. Но во Франции освободился королевский престол, на который Генрих имел права. Молодой король сделал выбор между Варшавой и Парижем в пользу Парижа и бежал из страны. Во Франции вступил на престол Генрих III, а Польша осталась без короля.
Предстояли новые выборы. Среди кандидатур были и Иван Грозный, и его сын царевич Иван. Не для того ли, чтобы облегчить свое избрание, царь отказался от трона? Ведь тогда на сейме должны были бы избрать не иноземного монарха, что угрожает независимости страны, а простого князя.
Однако логичность этой гипотезы лишь кажущаяся. Во-первых, кандидатуры русских царя и царевича уже обсуждались на предшествующих королевских выборах - в 1572 году. Тогда царь не считал свой титул препятствием к избранию. Во-вторых же, в дипломатической переписке во избежание опасных для престижа царя кривотолков никакой великий князь Симеон не упоминался, все дипломатические сношения, как и прежде, осуществлялись от имени государя царя и великого князя Ивана Васильевича. Следовательно, вокняжение Симеона не могло оказать никакого влияния на исход выборов.
Есть и другая гипотеза. Она основана на рассказе английского дипломата сэра Джильса Флетчера, который, впрочем, побывал в России почти полтора десятка лет спустя после эпизода с Симеоном и воспользовался отчасти рассказом другого англичанина - Джерома Горсея. Царь Иван взвалил будто бы на Симеона непопулярные финансовые мероприятия: отмену привилегий монастырям по уплате налогов и выколачивание старых недоимок. Вернувшись же через год на царский трон, Иван Грозный милостиво возвратил эти привилегии, но лишь частично. Однако и это предположение не подтверждается при сопоставлении с дошедшими до нас документами: никакой отмены привилегий церкви, никаких особых "правежей" в это время не было.
Автор Пискаревского летописца передает противоречивые слухи, ходившие в то время среди русских людей. Одни утверждали, что царь испугался предсказания волхвов, напророчивших на этот год "московскому царю смерть". Другие же полагали, будто царь "искушал люди: что молва будет в людех про то".
Разумеется, это не более чем слухи. Второй из них показывает, как представляли себе современники личность и нрав царя Ивана. Он, по их мнению, был готов даже на такую крупномасштабную провокацию, как отказ от трона, чтобы услышать "молву" о себе, выявить своих противников.
Больше доверия, чисто психологически, заслуживает первая версия. Ведь в колдунов и предсказателей тогда верили безоговорочно. Дела о "ведунах", которых держали у себя для гаданий, - весьма распространены. Так, при Федоре Ивановиче родственников последней жены царя Ивана - Нагих обвиняли в том, что они специально "добывали" ведунов, чтобы узнать, "сколь долговечен" царь Федор. Если царь действительно испугался предсказания, то я даже готов признать за ним некоторую толику своеобразного гуманизма: отказавшись сам от титула московского царя, он не подставил под удар судьбы-злодейки и Симеона - тот был всего лишь великим князем, а не царем, да к тому же не московским, а "только" всея Руси. Так что в этом году просто не было "московского царя".
И все же не забудем, что даже автор Пискаревского летописца не утверждает истинности этого слуха, а пишет лишь, что так "говорили нецыи". Сам царь Иван одному иностранному дипломату объяснял, что пошел на этот шаг "по причине подлости подданных". Один из сравнительно поздних летописцев утверждает, что Грозный стал подозревать царевича Ивана в "желании царства" и в лице Симеона "восхоте поставити ему препону". Но эти строки писал человек, который уже знал, что впоследствии царевич пал жертвой необузданного гнева своего отца. В поисках причины гибели Ивана Ивановича он мог обратиться и к событиям 1575 года.
Короче, не думаю, чтобы сегодня наша наука располагала достаточным материалом, чтобы ответить на вопрос, почему и зачем царь Иван на год отказывался от престола. Во всяком случае, осенью 1576 года все вернулось на прежние места, а Симеон Бекбулатович остался великим князем, только уже не всея Руси, а тверским. С находившихся в его уделе Твери и Торжка он фактически лишь получал доходы да держал у себя положенных по титулу придворных.
Самостоятельного значения ни сам Симеон, ни его княжество не имели. В России же еще почти восемь лет продолжалось царствование Ивана Грозного.
Последние годы
Итоги этого царствования были печальны - и для страны, и лично для монарха. Чувство одиночества, осложненное манией преследования (профессиональная болезнь властителей такого рода, как заметил философ Г. С. Померанц), омрачало жизнь того, кто одновременно омрачал жизнь целой страны. В 70-е годы царь даже настойчиво возвращался к мысли о бегстве за рубеж, вел тайные переговоры о политическом убежище в Англии.
Умонастроение царя прекрасно рисует его завещание, которое он составил в последние месяцы опричнины: после сожжения Москвы Девлет-Гиреем, но еще до победы при Молодях. Царь, как подобает ортодоксальному христианину, кается в своих грехах (что-что, а это царь Иван умел!), но грехи эти не выдуманы: государь хорошо знает, что у него на совести. Он "душею... осквернен", "разумом растлен... и скотен умом", виновен не только в "объядении и пиянствы", но и в "убивстве", запятнал себя "граблением несытнаго богатства" и даже "Каиново убийство прешел" - намек на казнь своего двоюродного брата, Владимира Андреевича Старицкого.
Но тем не менее Грозный винит в своих несчастьях других. "...Тело изнеможе, болезнует дух... и не сущу (нет. - В. К.) врачу, исцеляющему мя". Несчастный тиран "утешающих не обретох", ибо, оказывается, грозный государь считал себя благодетелем, обманутым в своих надеждах на признательность: "...воздаша ми злая возблагая (за добро. - В. К.), и ненависть за возлюбление мое". Всесильный правитель, одного движения мизинца которого хватало, чтобы лишить жизни любого из его подданных, ощущает себя несчастным изгнанником в собственной стране: "...изгнан есмь от бояр, самоволства их ради, от своего достояния, и скитаюся по странам".
Да, страшное одиночество - плата, которую вынужден платить за неограниченную власть любой деслот, С.Б. Веселовский в этой связи справедливо писал:
"Не предилекция (предрасположенность. - В. К.) к доносам и не жажда человеческой крови сделали царя Ивана подозрительным и склонным слушать доносы, а тот путь безудержного произвола... на который он стал в конфликте со своими приближенными. И чем тяжелее были его удары, тем более возрастала в нем уверенность в отрицательном отношении к нему даже близких ему людей и росла его подозрительность. Так возгоревшийся «пожар лютости» и «великого гонения», о котором говорил Курбский, бросал в объятия Ивану доносчиков и перестраховщиков и делал его самого игрушкой того водоворота событий, над которыми он хотел быть хозяином и господином".
В завещании ярко проявилась противоречивость настроений царя. Он вроде предостерегает детей от своих ошибок, советует им быть милостивыми правителями, даже рекомендует, чтобы они "опалы клали не вскоре, по рассужению, не яростию". Однако сами наставления посвящены, по словам царя, тому, как его сыновьям "людей держати, и жаловати, и от них беречися". Да, от людей "беречися"! Подданные опасны!
К тому же организм царя был не по годам изношен. Повлияло на это состояние многое. Маниакальная подозрительность, постоянный страх за свою жизнь, уверенность в злодейских кознях собственных придворных... Все это расшатывает нервы и не укрепляет здоровье. К тому же царь Иван был развратником. По словам Горсея, лично знавшего царя, "он сам хвастал тем, что растлил тысячу дев и тем, что тысячи его детей были лишены им жизни". Насчет тысяч здесь, вероятно, преувеличение, но даже не сотни, а десятки - это многовато. К тому же весь образ жизни царя Ивана был исключительно нездоров: постоянные ночные оргии, сопровождавшиеся объедением и неумеренным пьянством, не могли не спровоцировать разнообразные хвори.
Об одной из них мы знаем точно: советский археолог, антрополог и скульптор Михаил Михайлович Герасимов в начале 60-х годов обследовал скелет царя. Оказалось, что в последние шесть лет жизни у него развились мощные солевые отложения на позвоночнике - остеофиты, которые причиняли острые, мучительные боли при каждом движении. И действительно, за шесть лет до смерти Иван IV перестал участвовать в военных походах (а до того ходил с войсками регулярно). Вынужденная неподвижность еще более ухудшала здоровье. Говорят, в последний год жизни царь выглядел дряхлым стариком, он уже не мог сам ходить: его носили. А было ему всего 53 года.
Все это не помешало, впрочем, царю Ивану завести переговоры с английской королевой Елизаветой о браке с ее племянницей принцессой Мэри Гастингс. В Англии высказали было недоумение: царь ведь женат. Но русский посол бойко объяснил, что нынешняя царица - не ровня государю, а потому он может с ней при необходимости быстро развестись. Были даже устроены смотрины. Русский посол, бывший опричник Писемский, при виде принцессы пал ниц на землю, сказав, что красота принцессы его ослепила. Но королева все же жалела племянницу и всячески затягивала переговоры. Они продолжались до самой смерти царственного жениха.
Обещание развестись не было для царя Ивана трудным: он уже раз проделал эту процедуру. Коротко история его многочисленных браков такова.
После смерти первых двух жен (Анастасии Романовны и Марии Темрюковны) царь 28 октября 1571 года женился на Марфе Васильевне Собакиной. Она не была, как можно подумать, слушая известную оперу, купеческой дочкой (кроме имен некоторых действующих лиц, в "Царской невесте" нет ничего общего с жизнью России XVI века). Невеста происходила из рода коломенских вотчинников. Однако судьба словно нарочно вела царя Ивана не к трое-, а к многоженству. Меньше, чем через три недели, 13 ноября молодая царица умерла. Царь утверждал, что она была больна уже при венчании (что маловероятно, так как царских невест обязательно осматривал врач) и потому он даже не успел вступить с новой женой в подлинные супружеские отношения.
Четвертый брак, даже при полной невиновности мужа в распаде трех предыдущих, церковь запрещала категорически. Но царь специально собрал церковный собор, на котором услужливые иерархи разрешили царю четвертый брак, правда, под условием церковного покаяния и "епитимий". Новой женой стала Анна Алексеевна Колтовская. Свадьбу сыграли весной 1572 года, а уже в начале сентября молодая царица чем-то прогневала царя-батюшку и была пострижена в монахини.
Года два царь оставался холостяком, но в начале 1575 года (по другим данным, в сентябре - октябре 1574 года) женился в пятый раз, на Анне Григорьевне Васильчиковой. Анна прожила недолго и умерла в конце 1576 - начале 1577 года. Шестой брак царя не сопровождался церковным венчанием: он, как сообщает один поздний летописец, "имал молитву со вдовою Василисою Мелентьевою, сиречь с женищем". Василиса была вдовой дьяка Мелентия Иванова. Умерла она, видимо, своей смертью. Есть, впрочем, известие (вряд ли достоверное, ибо записано в начале XIX века известным фальсификатором рукописей Сулакадзевым), что царь заточил Василису из ревности к своему оружничему князю Ивану Деветелеву. Не было ли, однако, в распоряжении Сулакадзева каких-то неизвестных нам сегодня источников? Ведь реально существовал князь Иван Тевекелев, служивший в опричнине и ставший оружничим.
Наконец, в 1580 году царь Иван женился в седьмой раз на Марии Федоровне Нагой, племяннице Афанасия Федоровича Нагого, опричника, близкого ко двору. Этой жене суждено было родить царю сына - несчастного царевича Дмитрия, трагически погибшего в Угличе в 1591 году, и пережить мужа.
Семь или даже "всего" шесть (если не считать формальной женой Василису Мелентьеву) браков - факт невероятный не только для царя. Думается, это был единственный случай в средневековой России за несколько столетий.
Личная жизнь царя складывалась неудачно не только из-за множества браков. Не считая умерших во младенчестве детей, у него было трое сыновей: Иван и Федор от Анастасии и Дмитрий от Марии Нагой. Старший Иван был очень похож на отца: был жесток, вместе с царем рубил головы опальным. Не отставал он от отца и по части браков: ко времени седьмого брака царя Ивана 30-летний царевич был женат уже третий раз. Однажды отец и сын праздновали свои свадьбы вместе.
Царевич был, как и его отец, хорошо образован, начитан и мог при случае выступить как литератор: написал новую редакцию одного из житий святых. Короче, Иван Иванович был достойным наследником своему отцу. Но 9 ноября 1581 года царь жестоко избил сына, а через десять дней царевич умер.
Смерть наследника престола вызвала недоуменную разноголосицу у современников и споры у историков. Порой находят разные политические причины этого убийства. Говорят, что царь боялся молодой энергии своего сына, завидовал ему, с подозрением относился к стремлению царевича самому возглавить войска в войне с Речью Посполитой за обладание Ливонией. Увы, все эти версии основаны только на темных и противоречивых слухах.
Похожа на правду (но тоже не может быть ни проверена, ни доказана) другая версия: царевич заступился перед отцом за свою беременную жену, которую свекор "поучил" палкой. Ясно одно: царь не имел намерения убивать сына. Он был в отчаянии от гибели наследника и даже сам наложил на себя тяжкое для властолюбца наказание: несколько месяцев именовал себя не царем, а только великим князем.
Итак, теперь наследником престола стал Федор, ширококостный карлик с маленькой головкой и огромным носом. Официальная легенда создала образ Федора как царя, быть может, не слишком умного, но зато почти святого, "молитвенника" и "печальника" за свою землю. Этот образ опоэтизировал А. К- Толстой в своей великолепной драме "Царь Федор Иоаннович". Однако он же в сатирической "Истории Государства Российского от Гостомысла до Тимашева" иначе характеризовал немудрого властелина России:
За ним царить стал Федор,
Отцу живой контраст;
Был разумом не бодор,
Трезвонить лишь горазд.
Шведский же король в 1587 году говорил о Федоре, что "русские на своем языке называют его "durak". О том, что царевич патологически неумен, царь Иван, разумеется, знал лучше, чем кто бы то ни было. Неограниченную власть в огромном государстве Иван Грозный оставлял человеку, который просто не мог править - ни хорошо, ни плохо, никак.
Обстановку в стране и при дворе в последние годы жизни царя хорошо рисует слух, записанный в Пискаревском летописце.
Однажды, памятуя старую истину, "что у трезвого на уме, то у пьяного на языке", царь Иван созвал в царские палаты приближенных и крепко их напоил: "...жаловал без числа своею царьскою чашою, и чашником безпрестанно носити и пойти". Одновременно царь приказал "их речи слушати и писати тайно". Однако результаты этого сыска разочаровали царя.
Подпившие придворные не говорили о политике, а принялись "всяким глумлением глумитися: овии стихи пояше, а овии песни вспевати и собаки звати, и всякия срамныя слова глаголати". Прочитав "список речей", царь очень удивился, "что такия люди разумныя и смиренныя" из его совета говорят "такия слова простыя", и не отказал себе в удовольствии показать протрезвевшим приближенным их "речи". В свою очередь, "они сами удивишася сему чудеси".
Конечно, жаль, что этот "список речей" (если он в самом деле существовал) до нас не дошел. Это был бы источник исключительной ценности для специалистов по фольклору и истории языка. Но все же царь и бояре напрасно удивлялись: чуда не произошло. Селекции опричных и послеопричных лет не прошли даром, выработалась новая порода людей, окружающих трон. В живых и на свободе могли сохраниться либо те, кому наплевать на все, кроме чаши с вином, собак, срамных слов и песен, либо те, кто и в пьяном виде умеет крепко держать язык за зубами.
Верхушка господствующего класса, как видно, была не слишком озабочена судьбами страны, ее бедственным положением. А народ? Что ж, одновременно с пиром-сыском в палатах царь провел нечто вроде, говоря современным языком, зондирования общественного мнения. Он послал своих людей "слушать в торг у всяких людей речей и писати тайно". Правда, посетителей торга царь поить не стал: полагал, что там люди говорят достаточно откровенно и без дополнительных средств для развязывания языка. Если бы списки этих "речей" дошли до нас, они дали бы материал не только филологам, но и историкам, потому что, прочитав этот "список", царь "удивишася мирскому волнению". Так что в отличие от придворных народ не безмолвствовал, помышлял не о забавах, а о положении страны. В грозном "мирском волнении" можно было различить глухой ропот, далекое громыхание той гражданской войны, которая вспыхнет в стране через два десятка лет после смерти Грозного.
Ситуация осложнялась неудачей, которой кончилась Ливонская война. Царь явно недооценил своих противников. Вести изнурительную войну, требовавшую напряжения всех сил страны, одновременно против Речи Посполитой и Швеции оказалось невозможно. В самой Прибалтике успехам русского оружия на первых порах помогала поддержка эстонских и латышских крестьян, ненавидевших своих давних угнетателей-рыцарей Ливонского ордена. Но после захвата Ливонии русскими войсками немецкий феодальный гнет стал заменяться русским: эстонские деревни раздавали русским помещикам, которые эксплуатировали своих крестьян не меньше, чем их предшественники. И позиция коренного населения Прибалтики изменилась. Например, столица Ливонского ордена Венден (по-русски Кесь, ныне Цесис в Латвийской ССР) была взята польско-литовскими войсками при помощи плотника латыша, который открыл городские ворота заранее изготовленным ключом. Помогали ему и другие латыши.
В самой Речи Посполитой король Стефан Баторий, талантливый полководец и государственный деятель, сумел прекратить феодальные междоусобицы, привлечь на свою сторону запорожских казаков, укрепить дисциплину в войске. Его сильная армия двинулась походом на Русь, осадила Псков. Только героизм защитников Пскова во главе с воеводой князем Иваном Петровичем Шуйским спас Россию от унизительных условий перемирия. Но все же они были достаточно тяжелы. Война, продолжавшаяся с 1558 года, четверть века, кончилась ничем. Россия, правда, не уступила Речи Посполитой ничего из своих территорий, которыми владела до 1558 года, но и не приобрела ни клочка. Так за что же проливали четверть века кровь русские воины? Ведь целью войны было воссоединение входивших в состав Великого княжества Литовского украинских и белорусских земель и присоединение Прибалтики.
Еще тяжелее были условия перемирия со Швецией. Значительная часть побережья Финского залива, входившая в состав Новгородской земли, была потеряна Россией. Удалось сохранить лишь небольшой участок побережья возле устья Невы, где впоследствии был основан Петербург (впрочем, и эти земли пришлось отвоевывать Петру I, так как они перешли к Швеции после Смутного времени).
Таким образом, Россия в Ливонской войне потерпела поражение.
В 1584 году, 18 марта, не дожив нескольких месяцев до 54-х лет, царь Иван умер. Смерть могущественного правителя, сосредоточившего в своих руках всю полноту власти, всегда вызывает потрясение у современников. Часто рождаются слухи, что покойному властителю помогли уйти из жизни. Не исключение и Иван Грозный. О насильственной смерти Грозного сохранилось немало известий. Один из летописцев, составленных уже в XVII веке, сообщает о слухе ("нецыи же глаголют"), что царю "даша... отраву ближние люди". Другой младший современник, дьяк Иван Тимофеев, рассказывает, что Борис Годунов и племянник Малюты Скуратова Богдан Вольский, фаворит последних лет жизни Ивана IV, жизнь "яростиваго царя" прекратили "преже времени" и даже называет причину: "зельства (жестокости. - В. К.) его ради". Есть аналогичные известия и у иностранцев. Англичанин Джером Горсей пишет, что царь был удушен, голландец Исаак Масса утверждает, что Вольский положил яд в лекарство, которое он давал царю.
Так ли это? Мы не узнаем никогда. Все эти, казалось бы, независимые друг от друга известия доказывают лишь одно: в России XVI века действительно ходил слух о том, что царь Иван умер насильственной смертью.
Каким бы ни был конец тирана, его смерть открыла новую страницу отечественной истории. Хотя многие из последующих событий были обусловлены тем, что происходило в стране при царе Иване, это уже темы для других книг. Нам же предстоит завершить портрет царя Ивана Васильевича.
Глава III "ВО СЛОВЕСНОЙ ПРЕМУДРОСТИ РИТОР"
"Яко бы неистовых баб басни"
Портрет царя не будет полным, если не остановиться на одной важной грани его личности - литературной деятельности и общественно-политических воззрениях. Среди оценок современников есть и такая: "...во словесной премудрости ритор, естествословен и смышлением быстроумен". Иван Грозный был, несомненно, одним из самых талантливых литераторов средневековой России, быть может, самым талантливым в XVI веке.
И вновь я слышу протесты читателей: "Опять вы за свое: оправдываете, возвеличиваете кровавого тирана". Нет, не оправдываю и тем более не возвеличиваю. Просто распространенным заблуждением стало считать, что называть человека талантливым - не констатация факта, а похвала ему, в том числе и его моральным качествам. Словно негодяй или преступник не может быть талантливым. Ведь человек - не черно-белая гравюра с резкими переходами от света к тени, а скорее - живопись с множеством оттенков разных цветов. Стилистические достоинства литературного произведения, увы, не влекут за собой автоматически моральные достоинства его автора.
В литературе царь Иван был прежде всего новатором. Для всякой средневековой письменности, в том числе и для русской, характерен литературный этикет. Это и неудивительно: ведь сословный строй средневековья делал этикетной всю жизнь. Человек одевался и ходил так, как того требовало его положение на общественной лестнице. Даже число лошадей в его упряжке зависело не столько от его материальных возможностей, сколько от чина, места в иерархии. Соответственно и в литературе были строгие правила, в каких выражениях положено писать о враге и о "своих", о битве и о монашеской жизни, где место разговору о "простых" бытовых подробностях, а где надо выражаться торжественно и велеречиво. В наши дни литературный этикет выродился в литературный штамп, где "наш" отличается от "чужого" тем, что "наш" - высок и строен, а "их" - долговяз и поджар.
Сегодня нельзя себе представить литературу без разговорного языка, в средние же века разговорный и литературный языки далеко отстояли друг от друга. Живые обороты устной речи можно было встретить иной раз в деловых документах да в записях показаний на суде. Для литературы они считались противопоказанными. Иван Грозный, пожалуй, первым пошел на широкое включение в свои послания разговорного языка и даже просторечия.
Не исключено, что эта особенность связана с тем, что Иван IV, вероятно, не писал свои послания собственноручно, а диктовал их. Писать своей рукой считалось как бы недостойным государя. Так, служилые люди, вплоть до бояр высокого ранга, если были грамотны, сами подписывали те или иные документы, а имя царя на грамоте писал дьяк, царь же лишь прикладывал к ней свою печать. У нас сохранились, например, собственноручные подписи Бориса Годунова того времени, когда он был боярином, но нет ни одного его автографа в бытность царем. Эту особенность интуитивно почувствовал наш великий писатель М.А. Булгаков: в его пьесе "Иван Васильевич" Иван Грозный как раз диктует свое послание дьяку.
Так что автографов Ивана IV в нашем распоряжении нет. Правда, есть гипотеза Д.Н. Альшица, согласно которой царь Иван собственноручно правил текст летописного свода, посвященный событиям начала 50-х годов XVI века. Однако это предположение принято далеко не всеми исследователями. Ученому удалось несомненно доказать, что правка была произведена по приказу царя, отражала его стремления к целенаправленной переделке задним числом исторической действительности, но чья рука держала перо, которое зачеркивало один текст и писало новый - царя или одного из его приближенных, - пока предмет научного спора.
Отсутствие автографов царя Ивана даже породило точку зрения о том, что он не был автором тех произведений, которые считаются принадлежащими ему. Этот взгляд отстаивает американский ученый Э. Кинан, автор ряда работ по истории русской средневековой письменности. Кинан отрицает не только авторство Грозного, но считает стилизацией XVII века и произведения Курбского. Однако гипотеза Кинана (впрочем, сам он считает ее доказанной) встретила обоснованную критику и советских, и зарубежных (в том числе американских) ученых, указавших на существенные пробелы в аргументации этого автора.
Опровержения построений Кинана базируются на тщательных исследованиях по выявлению разных редакций произведений Грозного и Курбского, изучению их соотношения, на сличении текстов Грозного и Курбского с теми, которые, по мнению Кинана, послужили фальсификатору основой для создания вымышленного текста. Но есть и еще один аргумент. Кинан не придал значения стилю произведений Грозного. Между тем мы располагаем такими его посланиями, которые дошли до нас не в составе рукописных сборников XVII века, а в официальных документах XVI века - послания английской королеве Елизавете I, шведскому королю Юхану III, опричнику Василию Грязному. В них явно ощущается стилистическое единство с остальными произведениями грозного царя. Таким образом, авторство Ивана Грозного сегодня уже сомнений не вызывает.
Первое, что обращает на себя внимание при чтении произведений царя Ивана - это его широкая (разумеется, на средневековом уровне) эрудиция. Для доказательства своих положений он совершенно свободно оперирует примерами не только из истории древней Иудеи, изложенной в Библии, но и из истории Византии. Все эти многочисленные сведения у него как бы естественно выплескиваются. Он прекрасно знает не только Ветхий и Новый Завет, но и жития святых, труды "отцов церкви" - византийских богословов. Болгарский ученый И. Дуйчев установил, что Грозный свободно ориентировался в истории и литературе Византии.
Поражает память царя. Он явно наизусть цитирует в обширных выдержках Священное писание. Это видно из того, что библейские цитаты даны близко к тексту, но с разночтениями, характерными для человека, воспроизводящего текст по памяти. Цитаты эти так обширны, что Курбский даже иронизировал над тем, что царь цитирует не, как принято, отдельными строками и стихами, а "зело паче меры преизлишно и звягливо, целыми книгами, паремъями (обширными отрывками. - В. К.), целыми посланьми". Впрочем, и сам Курбский признавал, что знает царя как человека, "священнаго писания искуснаго".
Думается, сочетание больших природных способностей, интеллектуальной и литературной одаренности с властолюбием способствовали развитию в царе Иване некоего "комплекса полноценности", превосходства над жалкими "людишками", не знающими того, что ведомо царю, не умеющими так выражать свои мысли, как умеет царь. Не только отсюда, но, возможно, и отсюда проистекало глубокое презрение царя к людям, стремление унизить их достоинство.
Умение царя взорвать литературный этикет средневековой письменности ярко проявилось в его переписке с Курбским. Курбский был, несомненно, очень талантлив, но оставался целиком в рамках литературной традиции. Он в совершенстве владел стилем средневековой риторики, подчас даже переходя к своеобразной ритмической (или, быть может, слегка тронутой ритмом) прозе. Вот, например, отрывок из его первого послания царю Ивану (чтобы подчеркнуть ритм, я позволил себе чисто условно разбить его на строки)
Почто, царю,
силных во Израили побил еси
и воевод, от бога данных ти
на враги твоя,
различными смертьми расторгл еси
и победоносную святую кровь их
во церквах божиих пролиял еси
и на доброхотных твоих
и душу за тя полагающих
неслыханные от века муки и смерти
и гоненья умыслил еси,
изменами и чародействы и иными неподобными
облыгая православных
и тщася со усердием
свет во тьму прелагати
и сладкое горько прозывати?
Что провинили пред тобою
и чем прогневали тя
кристьянскии предстатели?
Царь Иван тоже владел стилем средневекового "плетения словес". Не менее четкий, чем у Курбского, ритм слышен в таких строках царского посланиях
Ты же, тела ради,
душу погубил еси,
и славы ради мимотекущие,
нетленную славу презрел есн,
и на человека возъярився,
на бога возстал еси.
Торжественно звучит будто выкованная из металла речь царя:
"Не дожидаютца грады Германские бранного бою, но явлением животворящего креста поклоняют главы своя".
И сразу вслед за этим пассажем, писанным самым высоким стилем, словно видишь усмешку царя Ивана:
"А где по грехом, по случаю, животворящего креста явления не было, тут и бой был. Много отпущено всяких людей: спрося их, уведай".
В другом случае длинное рассуждение со ссылками на учение фарисеев, с цитатой из апостольских посланий внезапно заканчивается грубой и разговорной фразой:
"Что же, собака, и пишешь и болезнуешь, совершив такую злобу? Чему убо совет твой подобен, паче кала смердяй?"
Грубость выражений царя Ивана исключительна, но она стилистически оправдана, ибо разрушает этикет. Так, царь Иван нарочито снижает высокую патетику Курбского.
"Уже не узриши, мню, лица моего до дни Страшного суда", - пишет царю Курбский.
"Кто бо убо и желает таковаго ефиопскаго лица видети?" - отвечает Иван IV.
Характерно в этом плане второе послание Грозного Курбскому, то, где шла речь о "градах Германских". Послание это было написано (или, вернее, продиктовано) в особо приятной для царя Ивана обстановке. В 1577 году русские войска, которыми на этот раз командовал сам государь, взяли в Ливонии город Вольмар, тот самый, из которого отправил свое первое послание Курбский. Да не просто отправил, а с вызовом подчеркнул:
"Писано в Вольмере, граде государя моего Августа Жигимонта короля, от него же надеюся много пожалован быти и утешен от всех скорбей моих".
Крепко засели в памяти царя Ивана эти "злокусательные" слова и всплыли наружу через 13 лет, когда он въехал в Вольмар победителем.
В том давнем послании Курбского было еще одно место, видимо, задевшее Грозного, хотя н несколько иначе. Говоря о своих военных заслугах, Курбский писал, что редко бывал дома,
"но всегда в дальноконных градех твоих против врагов твоих ополчяхся".
Эпитет "дальноконный", то есть такой, до которого и на коне добираться долго,-изобретение Курбского. Это яркое и образное словцо, должно быть, уязвило уже писательское самолюбие Грозного. Он и к нему вернулся через 13 лет, когда во взятом только что Вольмаре диктовал саркастическое послание своему врагу. Вспомнив в 1577 году о дальноконных градах, царь продолжил:
"...ныне мы з божиею волею своею сединою и дали твоих дальноконных градов прошли".
Но мотив коней продолжает развиваться: "...коней наших ногами переехали все ваши дороги", нельзя сказать, что "не везде коня нашего ноги были"... И наконец, заключительный удар:
"И где еси хотел упокоен быти от всех твоих трудов, в Волмере, и тут на покой твой бог нас принес, и где, чаял, ушел - а мы тут, з божиею волею сугнали, и ты тогда дальноконнее (выделено мной. - В. К.) поехал".
В свои послания Иван IV свободно включал не только сдобренные ссылками на Библию и исторические примеры рассуждения, но и простые, написанные живым языком зарисовки. Тут и описание одного из боярских мятежей:
"...а митрополита затеснили и манатью на нем с источники изодрали, а бояр в хребет толкали";
тут и неожиданно возникающая после сентиментально-торжественных слов о "юнице" (царице Анастасии), которую у него якобы "отняли", придворная сплетня о каком-то любовном приключении Курбского:
"А буде молвиш, что я о том не терпел и чистоты не сохранил (речь идет о новых браках царя. - В. К.) - ино вси есмы человецы.Ты чего для понял стрелетцкую жену?"
Этот последний намек уязвил Курбского. В ответном послании он писал, что то, что пишет царь, "припоминаючи... стрелецких жен" - это "смеху достойно и пияных баб басни" (один из редких случаев, когда Курбский прибег к просторечию!).
Курбский, видимо, знал, что царь гордится своим стилем, знал, как ударить побольнее. А потому именно в эту точку часто направлял свои уколы. Отвечая на первое послание Грозного, он назвал его "широковещательным и многошумящим", негодовал на смешение в нем цитат из Священного писания с бытовыми припоминаннями:
"Туто же о постелях, о телогреях и иные бещисленные, воистину, яко бы неистовых баб басни",
а затем приходил к выводу, что так "варварско" написанное послание вызывает удивление и смех не только у "ученых и искусных мужей", но и у детей; добавлял, что негоже так писать "в чюждую землю", где кое-кто разбирается "не токмо в грамматических и риторских, но и в диалектических и философских учениих".
Но эти упреки Курбского относятся не к слабым, а к сильным сторонам стиля Грозного. Курбский выступает здесь в роли традиционалиста, слишком хорошо знающего, как должно, как положено писать. Именно литературное новаторство царя вызывает раздражение у его оппонента.
Дипломатическая перебранка
Этот стиль живой перебранки Грозный вводил даже в дипломатическую переписку, например, в послание английской королеве Елизавете I. Царь отправил его 24 октября 1570 года в момент обострения русско-английских отношений. Англия получила в свое время значительные привилегии в русской внешней торговле, давшие ей почти монопольное положение. В обмен царь Иван рассчитывал на союз в Ливонской войне. Но королева не собиралась втягиваться в войну на континенте и соглашалась лишь предоставить царю Ивану политическое убежище, если он будет вынужден бежать из России (а Иван IV вроде всерьез об этом подумывал).
Перечислив в послании все прегрешения английской дипломатии, ратующей лишь о торговых привилегиях, царь Иван с негодованием писал:
"И мы чаяли того, что ты на своем государьстве государыня и сама владееш... Ажно у тебя мимо тебя люди владеют, и не токмо люди, но мужики торговые, и о наших о государских головах и о честех и о землях прибытка не смотрят, а ищут своих торговых прибытков. А ты пребываеш в своем девическом чину, как есть пошлая девица".
В некоторое оправдание грубости Ивана Грозного можно сказать лишь, что слово "пошлый" в языке того времени означало обыкновенный. Но все же назвать великую королеву Англии обычной девицей было достаточным оскорблением, тем более что Елизавета была озабочена своим девством, болезненно воспринимала намеки на него, и, должно быть, царю Ивану было это известно.
В послании есть еще один момент, уже не стилистический. Царь Иван выступает здесь как феодальный монарх, который глубоко возмущен ролью буржуазии в политике той страны, где уже начали развиваться капиталистические отношения. Грубость царя имеет здесь, таким образом, серьезную идеологическую подоплеку.
Послание Елизавете может показаться верхом куртуазности по сравнению с тем, как царь Иван писал шведскому королю Юхану III. Резкость тона была вызвана щекотливым положением, в которое попала русская дипломатия. Со шведским королем Эриком XIV в 1567 году Россия заключила договор о союзе и разделе Ливонии.
В договоре был один странный пункт; король Эрик обещал прислать в жены царю Ивану жену своего брата герцога Юхана Екатерину. Юхан, боровшийся против Эрика, был заточен в тюрьму, сам же царь Иван потом утверждал, что был уверен в его смерти: Эрих "оманкою нам хотел дати жену твою", царю будто бы сообщили, что Юхана "в животе нет". Правда, Иван IV не объяснял, как он собирался уладить отношения с собственной женой - царица Мария Темрюковна была тогда жива. Екатерина, однако, представлялась царю более завидной партией: она была сестрой польского короля Сигизмунда II Августа. Поскольку у Сигизмунда-Августа не было детей, царь рассчитывал приобрести через этот брак права на польский престол.
Вскоре в "Стекольню" (так на Руси называли Стокгольм) прибыло русское посольство во главе с Иваном Михайловичем Воронцовым. Послы должны были ратифицировать союзный договор и увезти с собой принцессу Екатерину. Но произошло непредвиденное: король Эрик психически заболел (как писал со слов шведов Воронцов, он стал "не сам у собя своею персоною"), его свергли с престола, а принц Юхан не только освободился из темницы, но и занял королевский трон. Цель посольства была прекрасно известна новому королю, и он дал волю своему гневу: не только отправил царю резкое послание, но и надругался над послами - их ограбили до нитки, оставив в одних рубашках. Царю Ивану пришлось одновременно защищаться от обвинений в намерении похитить чужую жену и нападать.
Говоря о своем, мягко говоря, странном сватовстве, царь Иван не ограничился оправданиями в незнании того, что Юхан жив, а перешел в наступление. Во всем, дескать, виноваты шведы, которые сами не могут разобраться, кто у них король: "...опрометываетеся, как бы гад, розными виды"; к тому же "много говорить о том не надобеть: жена твоя у тебя, нехто ее хватает (никто ее не хватает. - В. К.)". Отрицал Иван и что хотел взять принцессу в жены: он, оказывается, надеялся только выменять на нее Ливонию у ее брата Сигизмунда-Августа.
Был еще один пункт разногласий. Дипломатические сношения со Швецией традиционно осуществлялись через новгородских наместников. Это был след того времени, когда независимый "Господин Великий Новгород" самостоятельно заключал договоры со Швецией. Начиная с отца Эрика и Юхана Густава Вазы шведские короли пытались изменить это положение как унизительное для достоинства страны.
При Эрике XIV Иван IV в надежде заполучить принцессу Екатерину и вывести Швецию из числа противников в Ливонской войне пошел на прямые сношения со шведским королевским двором. Однако после переворота Юхана царь решил вернуться к традиционному протоколу. Юхан же добивался равноправия в отношениях.
Царь отвечал королю, что ему, отпрыску "мужичьего рода" (ведь его отец - Густав Ваза - не прирожденный государь, а избранный король), "нелзя ровнятися с великими государи". Тем более что, как утверждал Иван IV, сноситься через новгородских наместников- достаточно почетно, не меньше, чем с независимым Новгородом:
"Ино тем ли Великий Новгород, отчина наша, честна была, что от нас откладна была, али тем ныне безчестна, что нас познали, своих государей?"
Поражает конец грамоты, в котором грозный царь переходит уже к брани, находящейся на грани с площадной:
"А что писал еси к нам лаю (ругань; лаяти - ругать. - В. К.)... и нам, великим государем, и без лае к тебе писати нечево".
И далее:
"А ты, взяв собачей рот, захошь за посмех лаяти, ино то твое страдничье пригожство: тебе то честь, а нам, великим государем, с тобою и ссылатися безщестно... А с тобою перепаиваться, и на сем свете того горее и нет, и будет похошь перелаиватися, и ты себе найди такова ж страдника, каков еси сам страдник, да с ним перелаивайся".
"Ох мне скверному"
Для стиля царя Ивана характерна еще одна особенность: лаконизм, находящийся как будто в противоречии с длиной многих его произведений. Дело в том, что лаконичен он не всегда, но в лучших местах умеет одной фразой выразить сложную мысль или создать яркую, живую картину жизни. Вот, например, его послание в Кирилло-Белозерский монастырь. В нем царь выступает поборником чистоты монашеских нравов, "крепости" монастырской жизни. Приводит он много отрицательных примеров. Один из них - Звенигородский Савво-Сторожевский монастырь:
"А на Сторожех до чего допили! Тово и затворити монастыря некому, по трапезе трава растет".
Можно представить себе, сколько потребовалось бы слов менее талантливому литератору, чтобы рассказать, как из-за пьянства убавилось число монахов, как пренебрежительно они относятся к иноческому житию и даже не сходятся к общей трапезе и молитве в трапезной церкви... Все это лишнее: одна фраза дает лучшее представление о пьяной обители, чем подробный рассказ.
Послание в Кирилло-Белозерский монастырь - одно из лучших произведений царя. Через три с половиной века оно снова вошло в историю отечественной словесности: в пьесе М.А. Булгакова "Иван Васильевич" реальный Иван Грозный диктует дьяку именно это послание.
Обстоятельства написания этого произведения таковы. В Кирилло-Белозерском монастыре оказались в числе монахов, кто по желанию, а кто невольно, многие бояре. Знатные иноки перессорились, в спорах хвастались близостью к государю. Напуганные монастырские власти не знали, что делать, и игумен Козьма обратился к царю с просьбой помочь разобраться в боярских сварах. Царь Иван рассвирепел: ведь большинство монахов-аристократов он сам почитал за ссыльных "собак-изменников". Но все же послание начал в таком смиренном тоне, что любого, кто знал горячий нрав государя, это не могло не насторожить. "Увы мне грешному! Горе мне окаянному! Ох мне скверному! Кто есмь яз на такую высоту дерзати?" - так сразу после пышного обращения пишет царь.
В первой части этого удивительного одновременно по таланту и лицемерию произведения Иван Васильевич проявляет феноменальную изобретательность в поисках самых черных красок для собственной характеристики. "А мне, псу смердящему, кому учити, и чему наказати, и чем просветити?", ведь он виновен в постоянных "пианьстве, в блуде и прелюбодействе, в скверне, во убийстве, в граблении, в хищении, в ненависти, во всяком злодействе", он "нечистый и скверный душегубец". Филиппики Курбского бледнеют перед этими самопроклятиями. Скажи кто-нибудь другой одну сотую этого о государе, назавтра бы несчастный погиб в страшных мучениях. Но, должно быть, царь находил особую прелесть в том, чтобы говорить о себе так, как не смел более никто в стране. В том было как бы еще одно отличие от всех прочих, еще одна ступенька к высотам, недоступным для простых смертных.
Только постепенно, почти незаметно тон послания меняется до неузнаваемости. Да, не он должен учить монахов, а они - его, ибо "свет иноком ангели, свет же миряном иноки". Но ведь он, царь, давно еще рассказал кирилловским старцам, что мечтает "о пострижении" и даже дал обет. Поэтому он чувствует, что уже "исполу... чернец", носит на себе "рукоположение благословения ангельскаго образа". Потому-де он только и решился написать это послание, но учит не сам, а только ссылается на заветы основателя монастыря - "чудотворца" Кирилла.
С удивлением и возмущением пишет Грозный о том, как пышно и своевольно живут в монастыре Иван Васильевич Шереметев (инок Иона), Иван Иванович Хабаров (инок Иооасаф), Василий Степанович Собакин (инок Варлаам). Все смирение забыто царем, когда речь заходит о боярах: Собакин (то ли дядя, то ли даже отец кратковременной царицы Марфы) - "злобесный пес", Шереметев - "бесов сын", Хабаров - "дурак и упырь". Бояре, придя в монастырь, ввели "свои любострастные уставы", а потому "не они у вас постриглися - вы у них постриглися". Постепенно нарастает сарказм, направленный уже не столько против бояр, сколько против потворствующих им монахов: "Да Шереметева устав добр - держите его, а Кирилов устав не добр - оставь его!"
Сочными красками описывает царь привольную жизнь аристократических монахов.
"А ныне у вас Шереметев сидит в келии, что царь, а Хабаров к нему приходит, да и иныя черньцы, да едят, да пиют, что в миру. А Шереметев нивести с свадьбы, нивести с родин, розсылает по келиям пастилы, ковришки и иныя пряныя составныя овощи (изысканные кушанья. - В. К.)... А инии глаголют, будто де вино горячее (водку. - В. К.) потихоньку в келню к Шереметеву приносили: ано по монастырем и фряские (итальянские, виноградные. - В. К.) зазор".
Реализм описания настолько велик, что становится ясно, у царя были источники информации о всех деталях жизни бояр в обители Кирилла-чудотворца. Один из них он даже назвал - к царю с жалобами на монастырь приезжал В. Собакин и доносил, "что будто вы про нас не гораздо говорите со укоризною". Правда, царь уверял, что "на то плюнул и его бранил" и добавил, что Собакин - "мужик очюнной (не до конца проспавшийся. - В. К.), врет и сам себе не ведает что". И все же, вероятно, резкий тон послания отчасти объясняется этим доносом.
Впрочем, и без Собакина царь по многим примерам реально представлял себе, каков был подлинный, не отраженный в строгих уставах быт монастырей. Недаром он подчеркивает, что порядки в Кириллове - не исключение. Повсюду, полагает царь, распространилось пьянство: "...в мале поселим поникши и потом возведем (поднимем. - В. К.) брови, таже и горло, и пием, донеле же (пока. - В. К.) в смех и детем будем". Даже "у Троицы в Сергиеве благочестие иссякло и монастырь оскудел", да и "по всем монастырем" прежние "крепкие" уставы "разорили любострастные".
Напрасно царь делал вид, что такие испорченные нравы - новость. За два с лишним десятка лет до того, в 1551 году, выступая на церковном соборе, сам же Иван Васильевич рисовал не лучшую картину монастырской жизни. В монастыри многие постригаются не "спасения ради душа своя", а "покоя ради телеснаго, чтобы всегда бражничать". Настоятели покупают свои должности, "доводят" за счет монастыря своих родичей, в кельи "небрежно жонки и девки приходят", а архимандриты и игумены все монастырские богатства "с роды, и с племянники, и с боляры, и с гостьми, и с любимыми друзи истощили". Такие порядки, по мысли царя, нарушают равенство "братии во Христе", которое должно существовать в монастыре.
О каком равенстве можно говорить, если у Шереметева "и десятой холоп, которой у него в келий живет, ест лутчи братий, которыя в трапезе ядят"? Обрядившийся внезапно в демократические одежды царь грозно вопрошает монахов: "Ино то ли путь спасения, что в черньцех боярин бояръства не състрижет, а холоп холопъства не избудет?" Изображенную им картину Грозный доводит до логического абсурда: "И только нам благоволит бог у вас пострищися, ино то всему царьскому двору у вас быти, а монастыря уже не будет".
Раздражение царя вызвал еще один факт из жизни Кириллова монастыря. Здесь был похоронен князь Владимир Иванович Воротынский; над его могилой вдова соорудила церковь - сохранившийся до наших дней памятник архитектуры, удивительно изящный, сравнительно небольшой храм. Послание же царь писал вскоре после того, как казнил брата князя Владимира - героя битвы при Молодях Михаила Ивановича. К тому же один из монахов в беседе с царем неосмотрительно похвалил княгиню за благочестие. Только что требовавший полного равенства людей перед богом царь Иван на этот раз возмущается тем, что церковь Воротынскому - не по чину: положено лишь "царьстей власти церковию и гробницею и покровом почитатися". Могло бы быть лишь одно основание для исключения - если бы похороненный был святым. Но в монастыре все обстоит наоборот: "...над Воротынским церковь, а над чюдотворцем нет". И потому на Страшном суде, иронизирует царь, Воротынский и Шереметев должны оказаться выше святого основателя монастыря: Воротынский церковью, а Шереметев - уставом, который на практике заменил устав Кирилла.
Автор позволил себе так подробно остановиться именно на этом послании, поскольку в нем сошлось многое: и воззрения царя, и лицемерие, и литературная одаренность, и убийственный сарказм.
Коса на камень
Сила царской иронии была так велика, что редко встречала отпор, и не только потому, что была царской. Тем удивительней тот почти единственный случай (если не считать посланий Курбского), когда царь получил достойный ответ на свое послание. На царские насмешки ответил тот, от кого меньше всего этого можно было ожидать: крупный опричник Василий Григорьевич Ильин-Грязной.
История переписки царя Ивана с Василием Грязным такова. Вскоре после отмены опричнины Грязной, который был думным дворянином, попал в крымский плен. В Крыму обрадовались: не каждый день в плен попадает любимец государя, член Боярской думы. Хан предложил выкупить бывшего опричника за невероятную сумму в 100 тысяч рублей (вспомним, что именно столько царь взыскал со "всей земли" за свой "подъем" в опричнину) или обменять на попавшего в русский плен крупнейшего крымского полководца Дивея-мурзу. Грязной отправил царю письмо, в котором решился сообщить об этих предложениях.
Царь разгневался: как смеет "Васюшка Грязной" даже подумать, что за него можно дать такой выкуп! Жестоко высмеял он своего приближенного, имевшего неосторожность оказаться в плену:
"...Было, Васюшка, без путя середи крымских улусов не заезжати, а уже заехано - ино было не по объездному (объезд - охота. - В. К.) спати".
Грозный пишет, что Васюшка думал, что поехал охотиться на зайцев,
"ажно крымцы самого тебя в торок ввязали. Али ты чаял, что таково ж в Крыму, как у меня стоячи за кушеньем шутити?".
Царь пишет, что крымцы гораздо лучше, чем его приближенные, умеют воевать, а если бы крымцы "были, как вы, жонки", им не только не удалось бы дойти до Москвы, но даже и через Оку не перебраться. Иван напоминает Грязному о его незнатности, сравнительно низком происхождении, но милостиво замечает, что из-за близости к государю ("для приближенья твоего") он готов заплатить две тысячи рублей выкупа, "а доселева такие по пятидесят рублев бывали".
Не стоит и менять Грязного на Дивея. Ведь мало того, что Дивей куда выше рангом ("у Дивея и своих таких полно было, как ты, Вася"'; "в нынешнее время неково на Дивея меняти"), такая мена к тому же невыгодна:
"...ты один свободен будешь, да приехав, по своему увечью лежать станешь, а Дивей, приехав, учнет воевати да неколко сот кристьян лутчи тебя пленит. Что в том будет прибыток?"
Через некоторое время пришел ответ и от Грязного. Ответ внешне смиренный и почтительный. Василий Григорьевич даже сравнивает царя Ивана с богом:
"Не твоя б государева милость, и яз бы што за человек? Ты, государь, аки бог - и мала, и велика чинишь (создаешь. - В. К.)".
Но вместе с тем твердо и решительно отводит Грязной все обвинения царя. Нет, он не сулил за себя ни высокий выкуп, ни мену на Дивея, а лишь передал ханские предложения. Нет, он не спал на войне и не по собственной оплошности попал в плен. Грязной рассказывает, что был направлен в степь наблюдать за движением крымских войск. Однако те, кого он посылал в разведку, не заслуживали доверия: "...ково ни пошлю, и тот не доедет, да воротитца, да приехав, солжет".
Тогда Грязной сам поехал навстречу крымским войскам и наткнулся на отряд противника. Завязался бой, полк Грязного "весь побежал, и рук не подняли". Сражался он сам до последнего и лишь без сознания попал в плен. Нет, его не связали, как зайца: "...да заец, государь, не укусит ни одное собаки, а яз, холоп твой, над собою укусил шти (шестерых .- В. К.) человек до смерти, а двадцать да дву ранил". Да, придется "Васюшке" лежать "по увечью", но ведь это боевые раны, он "не у браги увечья добыл, ни с печи убился". Горькой иронией звучат слова Грязного в ответ на упрек царя, что воевать - не шутки шутить в застолье:
"А шутил яз, холоп твой, у тебя, государя, за столом, тешил тебя, государя - а нынече умираю за бога да за тебя ж, государя..."
Да, Василий Грязной известен прежде всего как один из кровавых опричных палачей. Что бы ни писал палач, он все равно остается палачом. Но даже в палаче мы должны уважать чувство собственного достоинства, если оно вдруг в нем проснулось. Тем более что эта вспышка обошлась Василию Грязному недешево: выкупили его не скоро, а до тех пор он сидел в оковах в подземной тюрьме. Совсем больным он вернулся на родину - умирать. Но остался замечательно интересный памятник эпохи - переписка между царем и опричником, в которой слышны живые голоса людей XVI века.
Апология деспотизма
Произведения Ивана Грозного привлекают наше внимание не только и, быть может, не столько своим стилем, но и тем, как в них выразилась его идеология, проявилось мировоззрение. В той или иной степени этой темы приходилось касаться и выше: ведь не отделить в литературе, а тем более в публицистике форму от содержания. Здесь же попытаемся дать общую характеристику взглядов Грозного.
Главная ценность для него - ничем не ограниченная самодержавная власть. Думается, нет более лаконичного, четкого и даже талантливого определения деспотизма, чем то, которое дал Иван Грозный:
"А жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны же..."
В этих словах выражена суть именно деспотизма, а не абсолютной монархии, хотя эти два явления подчас путают.
Классический пример абсолютизма в России - время Петра I. В чем, в чем, а в мягкости или слабости этого монарха не заподозришь. Но какой бы акт государственной власти первой четверти XVIII века мы ни взяли, всюду царь апеллирует не просто к своей воле, а к "благу всех своих верных подданных", к общественной пользе. Для абсолютной монархии характерно уважение к законности. Хотя воля монарха в создании законов безгранична, ибо он - источник законов, но пока закон не отменен, ему подчиняется и государь. Монарх же, который волен жаловать, а волен казнить своих холопов, не только самодержец, но и деспот. Не он действует для блага подданных, а подданные - для его блага.
Царь Иван был уверен, что служить ему - нравственный и христианский долг его подданных. Сам господь поручил их ему в "работу", то есть в рабство. Царь, например, утверждал, что Курбский, совершив побег, не только сам стал "крестопреступником", но и своих "прародителей души погубил", ибо они были даны в "работу" еще Ивану III и "вам, своим детям, приказали служити деда нашего детям и внучатом".
Самодержавную власть Грозный считал единственно возможной формой правления. С презрением пишет он о тех "безбожных" государях, которые "царствии своими не владеют, како им повелят работные их, так и владеют". Вспомним, что и английскую королеву Елизавету он порицал за некоторую ограниченность ее власти: "...у тебя мимо тебя люди владеют". Царь и деятелей Избранной рады обвинял прежде всего в узурпации царской власти: они "во всем свое хотение улучиша", "от прародителей наших данную нам власть от нас отъяша".
Не только характер стиля царя Ивана, но и его идеология станет понятнее в сравнении с мировоззрением его главного политического оппонента - князя Курбского. Широко распространено убеждение, что Курбский и Иван Грозный стояли на диаметрально противоположных идеологических позициях. Это не так. Выше уже было показано, что Курбский - сторонник твердой власти, централизованного государства не меньший, чем Иван IV. Так что в главном царь и его беглый боярин - единомышленники. Парадоксально? Только на первый взгляд. Ведь острый спор возможен лишь на основе общей платформы. Иначе теряют силу все аргументы, начинается диалог глухих. Невозможен, например, спор христианского и мусульманского теологов о том, кто прав: шииты или сунниты, лютеране или католики. Для христианина будут равно заблуждающимися шииты и сунниты, для мусульманина - католики и лютеране.
Вместе с тем велика и разница в воззрениях царя и Курбского: они по-разному понимали и задачи царской власти, и феодальную законность.
Курбский в отличие от Грозного считал: у царя есть обязанности по отношению к подданным, к стране. Он не видел нравственной доблести в том, чтобы покорно подставлять шею под топор палача, если того пожелает сюзерен. Как верно писал С.Б. Веселовский, "все притязания Курбского сводятся к тому, чтобы не быть битым без суда".
Царь же считал, что верность своему господину в любых обстоятельствах, вне зависимости от того, прав или нет господин, - священный долг подданного. Поэтому он поставил Курбскому в пример даже его собственного холопа Василия Шибанова, сохранившего верность Курбскому:
"Како же не усрамишися раба своего Баски Шибанова? Еже убо он свое благочестие соблюде, пред царем и пред всем народом, при смертных вратех стоя, и крестнаго ради целования тебе не отвержеся, и похваляя всячески, умрети за тебе тщашеся".
Шибанову не пришлось долго "тщиться" (стараться) умереть: он был казнен, казнен за то, что остался верен "государеву изменнику". Но оказывается сам царь был убежден, что тем самым Шибанов "свое благочестие соблюде", ибо не холопье дело судить своего господина. Истинный слуга верен не потому, что господин прав, а потому, что он - господин.
Курбский как будто считает иначе, призывая бога в судьи между царем и собой. Но нельзя забывать, что Курбский принадлежит к тем авторам, о которых иногда говорят, что лучше следовать их словам, чем делам.
Во время пребывания Курбского в Речи Посполитой были эпизоды, в которых князь Андрей проявлял себя достойным учеником царя Ивана, его единомышленником даже в методах. Так, у Курбского были как у землевладельца какие-то счеты с местными евреями. Не долго думая, он, чтобы взыскать с них деньги, приказал своему управляющему Калымету заточить их в своем замке, в подвале, где стояла вода по колено. В воду напустили пиявок. Когда через двое суток несчастных удалось освободить (родственники усиленно хлопотали перед властями), с них струилась кровь.
Затем состоялся суд, на котором Калымет как представитель Курбского патетически вопрошал:
"Чи невольно пану подданных своих не тылько везеньем (тюрьмой. - В. К.), або чим иншим, але и горлом (смертью. - В. К.) карати?"
"Пан мой князь Курпский, - продолжал Калымет, - маючи твое именье Ковельское и подданых в моци (власти. - В. К.) своей, волен карати, як хочет".
Удивительно похоже на "жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны же"! Но несет ли Курбский ответственность за своего управляющего? Может быть, тот просто переусердствовал? Увы, несет. Когда через некоторое время Калымет был убит (может быть, довел окружающих до отчаяния своей жестокостью?), Курбский с болью душевной писал, что его враги "слуги моего и брата превозлюбленнаго и вернаго кровь пролияша". Так что не знай мы о деяниях Калымета, впору было бы прослезиться.
В конфликте царя с Курбским порой видят столкновение аристократа с монархом, опирающимся на низы класса феодалов. Но мы уже видели, что Курбский при всем своем аристократизме был сторонником привлечения к управлению отнюдь не только знати. Царь же Иван, пожалуй, больший ревнитель прав аристократии, чем Курбский. Иван Васильевич был исполнен глубокого презрения к тем, кто не имел за собой такой вереницы знатных предков, как он сам. А ведь свой род он считал самым древним. Официально принятая в "Сказании о князьях Владимирских" генеалогия утверждала, что родоначальник династии, новгородский князь Рюрик, был потомком некоего Пруса, брата римского императора Августа. "Мы от Августа кесаря родством ведемся", - писал царь Иван шведскому королю. На этом основании, похоже, царь Иван был даже готов иной раз отказаться от русского происхождения. Английский дипломат Дж. Флетчер рассказывает, что однажды царь вручил одному английскому ювелиру золото для изготовления посуды и посоветовал быть осторожным:
"Русские мои все воры".
Англичанин удивился: "Вы сами русский".
"Я не русский, предки мои германцы", - возразил царь.
Презрение к людям неаристократического происхождения проявлялось у Грозного буквально в каждой строчке. Об Адашеве, отпрыске не очень знатного, но "честного" рода, он писал, что взял его "от гноища", то есть из навозной кучи. И Василию Грязному он советовал вспомнить "свое величество и отца своего", когда они служили "мало что не в охотникех с собаками" у князей Ленинских. Да и шведского короля Юхана III укорял в том, что его род - "мужичий".
Презрение это распространялось у царя Ивана и на избранных монархов (хотя сам был не прочь стать по выбору королем Речи Посполитой). Монарх должен быть "прирожденым", наследственным. Сам Иван IV гордился тем, что оказался на престоле в столь раннем возрасте, что даже не помнит себя не государем, не помнит, как его "батюшка пожаловал благословил государством, да и взрос есми на государстве". Избранному польскому королю Стефану Баторию он отправляет послание, где подчеркивает, что он сам в отличие от короля - царь "по божию изволению, а не по многомятежному человечества хотению".
Шведского короля Юхана III Иван Грозный, как уже отмечалось выше, не считал равным себе прежде всего на том основании, что отец Юхана Густав Ваза, простой дворянин, не родился королем, а был избран на престол.
"Уже ты сказываешься государьской род, - пишет царь, - и ты скажи, отец твой Густав чей сын и как деда твоего звали, и где на государьстве сидел, и с которыми государи был в братстве и которого ты роду государьского?"
Любопытно, что "мужичье" происхождение Густава Ваза доказывается способом, заставляющим вспомнить "принцессу на горошине". Оказывается, когда русские купцы привезли в Швецию сало и воск, король Густав "сам, в рукавицы нарядяся, сала и воску за простого человека вместо опытом пытал".
"И то государьское ли дело? - вопрошает царь Иван.- Коли бы отец твой был не мужичей сын, и он бы так не делал".
Да, в демократизме грозного царя не заподозришь - он был аристократом до мозга костей. И неудивительно: ведь с происхождением и только с происхождением были связаны его права на самое ценное для него - на его власть.
УРОКИ ИСТОРИИ (Вместо заключения)
Пора попытаться подвести итоги. Личность царя Ивана всегда притягивает к себе, хотя и тем, что в последнее время стали называть "отрицательным обаянием". Да, действительно, это яркая личность, не посредственность, а индивидуальность. На расстоянии в четыре века, когда уже нет риска стать жертвой этой индивидуальности, возникает соблазн поддаться ее обаянию. Нельзя! Мы - люди, такие же, как те, кто в далеком XVI веке умирал в муках, терял любимых и близких по вине этого талантливого человека. Мы обязаны помнить, что новаторские в литературном отношении строки вышли из-под пера одного из самых страшных тиранов и деспотов отечественной истории.
Когда мы в истории, а не в жизни сталкиваемся с человеком, сыгравшим в ней значительную роль, но запятнавшим себя злодеяниями, услужливо возникает успокоительное словосочетание "противоречивая личность". В чем противоречивость? Назовем ли мы так убийцу, перевыполняющего нормы и соблюдающего режим в местах заключения? Мздоимца, помогающего больному племяннику за счет взяток? Так должен ли быть другим счет к историческому деятелю, чьей жертвой пали не единицы, а тысячи?
Была ли жестокость царя Ивана жестокостью века? В чем-то, разумеется, да. Время инквизиционных костров и Варфоломеевской ночи. Но все же к обычаям времени не сводится грозненская тирания, ибо садистские зверства этого монарха резко выделяются и на фоне действительно жестокого и мрачного XVI века. Впрочем, разве не жесток наш просвещенный XX век, познавший газовые камеры и противотанковые рвы, наполненные трупами стариков, женщин и детей, сталинско-ежовско-бериевские застенки, кровавые преступления пол-потовских "красных кхмеров", бесчинства хунвейбинов? Но ведь мы не считаем, что Бухенвальд и Освенцим оправдывают деяния Пол Пота.
Если же вернуться в XVI век, можно заметить, что люди этого времени были потрясены страшными злодеяниями царя Ивана. О его невероятной и для современников жестокости единодушно свидетельствуют и русские, и иностранные источники.
Но все же не только осуждение злодейств давно умершего царя привлекает внимание сегодняшних людей к делам и личности Ивана Грозного. В далеком прошлом ищут ответов и на сегодняшние вопросы. Нет, не прямых: исторический опыт рецептов не дает. Недаром говорят, что история не столько учит, сколько наказывает за незнание.
Чего же ищем мы, люди двадцатого, в шестнадцатом? Иногда кажется, что прямых параллелей. Многажды и пишущие, и читающие об Иване Грозном видели за ним другого политического деятеля, уже нашего времени, спор о котором идет пока еще лишь несколько десятков лет, но, похоже, не подошел к концу. Строгие ревнители чистоты исторического знания (а то и рядившиеся в эту тогу защитники сталинизма) порой негодовали: разве можно сравнивать Сталина и Ивана Грозного, руководителя коммунистической партии и царя, людей столь разных эпох? А в самом деле: нужно ли разоблачать Ивана Грозного только для того, чтобы высказать свое неодобрение Сталину? Ведь сегодня для этого стали излишними намеки, можно говорить и писать свободно, не эзоповым языком.
Конечно, время "аллюзий" и "кукишей в кармане" прошло. Но ведь удивительно: интерес к эпохе Грозного, к его личности не затухает. Значит, этот интерес общественно оправдан. Дело, видимо, в подсознательном стремлении людей познать механизмы деспотизма. Но меня здесь прерывает строгий голос коллеги (а может быть, это и мой голос, тот, которым говорит моя привычка к "марксизму" в интерпретации "Краткого курса истории ВКП(б)", приобретенная еще в студенческие годы и до сих пор до конца не исчезнувшая): нельзя смешивать разные эпохи, разные социально-экономические формации, это ненаучный, идеалистический подход, уводящий от социальных корней явлений к поискам их чисто внешнего сходства.
Но я возражаю (коллеге? себе?): если, начиная с возникновения в позднем палеолите человека современного вида (гомо сапиенс), не изменилась принципиально его биологическая природа, то разве нет и не может быть некоторых общих, межформационных закономерностей?
Ответят: чего их искать? Они известны: общественное бытие определяет общественное сознание, производительные силы - производственные отношения, а те, в свою очередь, - политическую и идеологическую надстройку. Все это так. Эти фундаментальные законы общественного развития - азбука марксизма-ленинизма, исторического материализма. Без азбуки нет ни синтаксиса, ни морфологии, но и застревать на азбуке - негоже для серьезной науки.
Нам известны явления, которые в разной форме, но существуют в самые разные эпохи.
Если термином "государство" мы обозначаем надстройку и рабовладельческого, и феодального, и капиталистического, и социалистического общества, значит, есть что-то общее в функциях государства во всех этих эпохах. Мы знаем одни и те же формы правления в разных социально-экономических формациях: республику - от рабовладельческой до социалистической, монархию - от рабовладельческой до буржуазной. И снова ясно, что есть нечто общее во всех республиках, отличающее их от всех монархий. Можно найти и другие примеры, подтверждающие, как мне представляется, что межформационные закономерности не исчерпываются лишь основными законами развития общества. К их числу я отнес бы и еще не изученные нашей наукой закономерности развития и функционирования личной власти. При всех различиях есть немало общих черт у диктатуры Суллы или Нерона в Древнем Риме, Ивана Грозного в России, наконец, Сталина и Мао Цзэдуна...
Не в историческом невежестве лежат корни культа Ивана Грозного во времена культа Сталина. И Иван Грозный, и Сталин были умны, хорошо знали, что творят. Террор Ивана Грозного был для Сталина не просто оправданием его террора: такое объяснение слишком прямолинейно, да и объясняет не все. Речь шла о создании извращенной системы ценностей, где цель оправдывает средства, где жестоко рубят лес, а люди становятся то щепками, то винтиками, где моральный счет к историческому деятелю воспринимается как наивный пережиток донаучного мышления.
Однако и к этой цели не сведешь отношение к Ивану Грозному в сталинские времена.
В культе "великого государя" проявилась более широкая тенденция. В свое время в статье "О диалектическом и историческом материализме", вошедшей в главу IV "Краткого курса истории ВКП(б)", Сталин писал:
"...историческая наука, если она хочет быть действительной наукой, не может больше сводить историю общественного развития к действиям королей и полководцев, к действиям «завоевателей» и «покорителей» государств, а должна, прежде всего, заняться историей производителей материальных благ, историей трудящихся масс, историей народов".
В этих на первый взгляд верных словах далеко не все правильно. Ведь никто из серьезных ученых в немарксистской науке к тому времени уже давно не "сводил" историю к "действиям королей и полководцев", а ограничивать задачи исторической науки (хотя бы при помощи "прежде всего") изучением только истории трудящихся масс абсолютно неверно: нельзя понять историю крестьянства или рабочего класса без знания истории дворянства и буржуазии.
Но для хода наших рассуждений важно другое. Прошло совсем немного времени после публикации этого строго обязательного для исполнения предостережения исторической науке, как с благословения того же Сталина парадные жизнеописания если не королей, то царей, князей и полководцев стали заполнять историческую беллетристику, киноэкраны и учебную и научно-популярную литературу по истории. Восхваление грозного царя - лишь частный, хотя, вероятно, и наиболее возмущающий нравственное чувство случай стремления Сталина к возвеличиванию сильных личностей. Все они (даже феодальные князья и царские полководцы), разумеется, боролись за интересы всего народа, опирались на преданные им и восхищающиеся ими массы и разоблачали гнусные козни отвратительных иноземцев и изменников и маловеров из "верхов".
Эта тенденция была тоже политически обусловлена. Она должна была гальванизировать наивно-монархические предрассудки масс, воспитывать (или поддерживать) убеждение, что счастье народа зависит прежде всего от воли сильной личности мудрого государственного мужа, уверенно ведущего страну по пути процветания и безжалостно сметающего со своего пути путающихся под ногами врагов и хлюпиков. Такая "историческая концепция" полностью отвечала интересам режима личной власти Сталина.
Так что, если параллели между Иваном Грозным и Сталиным и впрямь неуместны, то виноваты в их появлении не современные историки и публицисты, а сам Сталин, настойчиво пропагандировавший грозного царя как образец для подражания.
На примере Ивана Грозного можно изучить некоторые общие особенности механизма личной власти. Режим индивидуальной диктатуры не может не опираться на террор, на всеобщий страх перед диктатором. Иначе не подавить думающих и рассуждающих. Террор этот должен носить тотальный характер, касаться не только подлинных врагов тирана, но и людей, которые ничего против него не замышляли и, более того, до момента своей гибели искренне верили (или старались верить), что властитель ведет страну к процветанию, что его власть - лучшая и самая законная из всех возможных.
Порой именно эта "лотерейность" террора, то обстоятельство, что он обрушивался не только и не столько на настоящих противников владыки, а и на многих его верных приближенных, выступавших до своей опалы в роли неразборчивых исполнителей самых грязных поручений царя, кровавых палачей, приводила к выводу то о психической неполноценности Ивана IV, то о том, что он был человеком неумным, недальновидным.
В такого рода рассуждениях кроется существенная ошибка. Наказание только подлинных врагов не создает еще в стране атмосферы настоящего страха, в которой только и может царить тиран. Этот страх вызывается обстановкой беззакония. До тех пор, пока законы, пусть и самые жестокие и суровые, неукоснительно соблюдаются, тот, кто их не нарушает, может чувствовать себя в безопасности, а значит, и сравнительно независимым. Тирания же не терпит существования независимых от нее людей.
Непредсказуемость репрессий, когда человек не знает, когда и за что он станет жертвой гнева или объектом милости, превращает людей в игрушки в руках деспота. Тиран предстает в божественном ореоле, существом, которому известно то, что неведомо простым смертным, повелителем, чьи предначертания недоступны слабому уму его подданных.
Диктатор стремится уничтожить не только нынешних противников, но и своих потенциальных врагов, тех, кто поддерживает его за совесть, а не за страх, не из-за "должности" (ведь царь - тоже должность!), титула, а потому что считает его правым. Такие люди опасны: они могут выступить против правителя в тот момент, когда разойдутся с ним во мнениях. Опора тирана - те, у кого нет своего мнения. И лучше (разумеется, для личной власти) уничтожить сотни тех, кто никогда не станет врагом, чем пропустить одного из тех, кто со временем окажется способен противоречить властителю. Отсюда и проистекает масштаб террора.
Отказывая царю Ивану в уме, публицисты и историки исходят из печальных, даже трагических результатов его царствования. Трагических - для страны. Думается, оценивать умственные способности человека следует исходя из тех целей, которые он перед собой ставит. Если бы благо страны было действительно целью царя Ивана, мы вправе были бы отказать ему в уме. Но своих-то целей Иван Грозный добился - создал в стране режим своей личной власти. "Только он один и правит! - пишет Генрих Штаден. - Все, что ни прикажет он - все исполняется и все, что запретит - действительно остается под запретом. Никто ему не перечит: ни духовные, ни миряне".
Иван Грозный.
Гравюра на дереве неизвестного европейского мастера XVI века.
Однако благосостояние и могущество диктатора связаны с силой, а следовательно, и с состоянием его страны. Поэтому если страна терпит урон, проигрывает войну, то в проигрыше оказывается и диктатор. Более того, в некоторых случаях он может даже лишиться власти, а то и жизни. Но с другой стороны, интересы режима личной власти, действующего только террористическими или в крайнем случае командно-административными методами, требующие уничтожения или хотя бы устранения всех, кто возвышается над средним уровнем, кто превосходит правителя умом и талантом, - противоположны интересам страны. В этом состоит объективное противоречие, заложенное в диктаторском режиме. Именно поэтому диктаторские методы могут помочь добиться тех или иных временных успехов, но никогда не могут, в конечном счете, в исторической перспективе, привести к благим результатам.
Однако в минуты смертельной опасности любой диктатор и деспот для своего спасения вынужден спасать страну. Ему поэтому приходится в такие исторические мгновения мобилизовывать весь свой ум, всю свою энергию на защиту не личной власти, а страны. Диктатор вынужден тогда несколько смягчать деспотические проявления своей власти и привлекать тех талантливых людей, кто еще вчера был в опале или под ее угрозой. Яркий пример тому - назначение в 1572 году главнокомандующим князя Михаила Ивановича Воротынского и его казнь, когда непосредственной, срочной необходимости в выдающемся полководце уже не было.
Еще одна характерная черта диктаторских режимов, позволяющая им сохранять стабильность власти и долго удерживаться в массовом сознании - демагогия. Гнев владыки направлен якобы только (или в основном) на верхушку, к которой низы редко питают добрые чувства. Такой правитель не прочь польстить народным массам, объяснить им, что опалился он лишь на бояр, а против "всего православного христианства" он ничего не имеет, на них "нет "гнева и опалы". Гибель рядовых людей не афишируется, а казнь через некоторое время нескольких наиболее одиозных фигур из окружения деспота (например, Басмановых, Вяземского, Темкина-Ростовского) позволяет списать наиболее страшные злодеяния на их дурные советы и зловещее влияние. В массовом сознании слуги деспота превращаются в его вдохновителей, злых гениев.
Сцементированный только террором и демагогией режим диктатуры редко переживает диктатора, хотя и оставляет неизгладимые следы как в психологии (и правящего класса, и народных масс), так и в судьбах. страны. Уже преемники царя Ивана, унаследовав от него необъятную власть, не решились прибегать к террору для ее укрепления. Террор в конечном счете оказывается скомпрометированным. В этом отношении смерть властителя как бы отрезвляет, хотя и не до конца. Остаются последствия демагогии: в тень подчас уходит личность главного вдохновителя террора, лишь его приспешникам достается посмертная преступная слава. Так, в фольклоре Малюта Скуратов да Кострюк (его прототип - князь Михайло Teмpюкoвич Черкасский) становятся олицетворением террора опричных лет. Царь же Иван нередко выступает как вспыльчивый, легковерный, но, в конечном счете, справедливый правитель.
Да, на многие размышления наводит нашего современника изучение бурной и мрачной эпохи Ивана Грозного.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Основные даты жизни и царствования Ивана IV (в скобках - возраст Ивана IV)
1530, VIII, 25 - ( 0 ) - Рождение Ивана IV
1533, XII, 3 - (3) - Смерть Василия III
1537, V, 2 - VI, 1 - (7) - Мятеж князя Андрея Ивановича Старицкого
1538, IV, 3 - (8) - Смерть матери Ивана IV Елены Глинской
1543, XII, 29 - (13) - Казнь князя Андрея Михайловича Шуйского
1545, IX, 8 - (15) - "Урезание языка" Афанасию Бутурлину
1546, V, 6 - (16) - Казнь князя Ивана Кубенского и Воронцовых
1547, I, 16 - (17) - Венчание Ивана IV на царство; принятие царского титула
1547, II, 3 - (17) - Женитьба Ивана IV на Анастасии Романовне Захарьиной
1547, VI (начало) - (17) - Расправа Ивана IV с представителями псковского посада
1547, VI, 21 - (17) - Великий пожар в Москве
1547, VI, 26 - (17) - Восстание в Москве
1547, XI - 1548, III - (17-18) - Первый поход на Казань
1549, XI - 1550, II - (19-20) - Второй поход на Казань
1550, VI - (20) - Принятие Судебника
1550, VII - (20) - Ограничение местничества
1551, II,-V - (21) - Стоглавый собор
1552, VII - (22) - Начало последнего похода на Казань
1552, X, 2 - (22) - Взятие Казани. Присоединение Казанского ханства
1552, X - (22) - Рождение у Ивана IV первенца - царевича Дмитрия
1553, III - (23) - Болезнь Ивана IV. Споры бояр о престолонаследии
1553, VI, 26 - (23) - Смерть царевича Дмитрия
1554, III, 28 - (24) - Рождение царевича Ивана Ивановича
1555-1556 (около) - (25-26) - Отмена кормлений. Принятие Уложения о службе
1556, IX - (26) - Присоединение Астраханского ханства
1557, V, 31 - (27) - Рождение царевича (будущего царя) Федора Ивановича
1558, I - (28) - Начало Ливонской войны
1560, VIII 7 - (30) - Смерть царицы Анастасии
1560 - (30) - Падение Избранной рады
1561, VIII 21 - (31) - Женитьба Ивана IV иа Марии (Кученей) Темрюковне
1563, II, 15 - (33) - Взятие Полоцка
1563, VIII - (33) - Опала на князя Владимира Андреевича Старицкого и его мать княгиню Ефросинью
1564, IV, 30 - (34) - Побег князя Андрея Михайловича Курбского в Великое княжество Литовское
1564, XII, 3 - (34) - Отъезд Ивана IV из Москвы в Александрову слободу
1565, I, 5 - (35) - Учреждение опричнины
1566, II, - (36) - Первые опричные казни - князя Александра Борисовича Горбатого с сыном и других
1566, VI, 28 - (36) - Земский собор в Москве
1566, VII, 25 - (36) - Поставление Филиппа Колычева в митрополиты
1567, I, 12 - (37) - Завершение строительства опричного дворца в Москве
1568, IX - (38) - Казнь Ивана Петровича Федорова
1568, XI, 4 - (38) - Низложение митрополита Филиппа
1569, IX, 6 - (39) - Смерть царицы Марии Темрюковны
1569, X, 9 - (39) - Казнь князя Владимира Андреевича Старицкого и его семьи
1569, XII, 23 - (39) - Убийство Малютой Скуратовым митрополита Филиппа
1570, I, 6 - II 13 - (40) - Опричный погром в Новгороде
1570, VII, 15 - (40) - Массовые казни на Красной площади в Москве
1571, V, 24 - (41) - Сожжение Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем
1571, X, 28 - (41) - Женитьба Ивана IV на Марфе Васильевне Собакиной
1571, XI, 13 - (41) - Смерть царицы Марфы Собакиной
1572, IV, 28 - (42) - Женитьба Ивана IV на Анне Алексеевне Колтовской
1572, VII, 30 - (42) - Победа над Девлет-Гиреем в битве при Молодях
1572, IX - (42) - Развод Ивана IV с царицей Анной Колтовской
1572, осень - (42) - Отмена опричнины
1574-1575 (около) - (44-45) - Женитьба Ивана IV на Анне Григорьевне Васильчиковой
1575, осень - 1576, осень - (45-46) - Пребывание Симеона Бекбулатовича на великокняжеском московском престоле
1576 - 1577 (около) - (46-47) - Смерть царицы Анны Васильчиковой
1579 - 1580 (около) - (49-50) - Брак Ивана IV с Василисой Мелентьевой
1580, IX, 6 - (50) - Женитьба Ивана IV на Марин Федоровне Нагой
1581, XI, 19 - (51) - Смерть царевича Ивана Ивановича
1581 - 1582 (около) - (51-52) - Поход Ермака в Сибирь
1581, VIII 18 - 1582, II, 4 - (51-52) - Оборона Пскова от войск короля Речи Посполитой Стефана Батория
1582, I, 15 - (52) - Ям-Запольское перемирие России с Речью Посполитой
1582, X, 19 - (52) - Рождение царевича Дмитрия (погиб в Угличе в 1591 г.)
1583, VIII - (53) - Плюсское перемирие России со Швецией
1584, III, 18 - (54) - Смерть Ивана IV
История одного бюста
Двадцать пять лет тому назад, в 1964 году, в обычной московской квартире я пил чай в обществе... Ивана Грозного. Я встретил царя у Михаила Михайловича Герасимова, археолога, антрополога и скульптора, разработавшего методику восстановления черт лица по черепу. Во время чаепития моим визави оказался царь Иван, вернее его бюст, но до того живой и достоверный, что казалось, царь сидит с нами за столом.
Бюст Ивана IV - один из многих документальных портретов, созданных профессором Герасимовым. Их точность неоспорима - в свое время была устроена не одна проверка: Герасимову давали черепа современных людей, фотографии которых сохранялись в тайне от ученого, а потом изображения сличали. За помощью к Михаилу Михайловичу обращалось даже такое серьезное учреждение, как уголовный розыск. Среди людей, внешний облик которых благодаря Герасимову нам известен с достоверностью, хотя они и умерли задолго до изобретения фотографии, - Ярослав Мудрый и Тимур, Андрей Боголюбский и Фридрих Шиллер, великий таджикский поэт IX-Х веков Рудаки и адмирал Ушаков...
И вот - царь Иван. В 1963 году в связи с реставрационными работами в Архангельском соборе Московского Кремля были вскрыты четыре гробницы: Ивана Грозного, двух его сыновей (царевича Ивана Ивановича и царя Федора Ивановича) и полководца начала XVII века князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Сохранились только черепа Ивана IV и царя Федора, да и то не слишком хорошо: их разрушили почвенные воды, насыщенные кальцием из камня саркофагов. Ниже речь пойдет лишь об останках Грозного.
Перед самой кончиной по обычаю времени умирающий царь Иван был пострижен в схиму - высшую степень монашества. В облачении схимника он и был похоронен.
В каменном гробу лежал скелет крупного мужчины ростом около 179-180 сантиметров. Как выяснилось при исследовании, он в последние годы жизни располнел, вес его должен был составлять не менее 85-90 килограммов. Возле головы покойного стоял изящный кубок из синевато-голубоватого венецианского стекла: в него при погребении было положено миро - душистая маслянистая смесь, освященная в церкви.
Удивило членов комиссии положение правой руки царя: она была согнута в локте и поднята прямо вверх, прижата к ключице. Точно в таком же положении находилась правая рука Скопина-Шуйского. В чем дело? М.М. Герасимов предположил, что "это какой-то особый обряд, до сих пор нам неведомый". Однако В. А. Кучкин тщательно проанализировал все данные о русском средневековом погребальном обряде и установил, что в Древней Руси руки покойников всегда складывали на груди и только крестообразно. Отсюда он сделал вывод, что руки царя Ивана и Скопина-Шуйского сдвинулись уже после погребения из-за небольшого наклона саркофагов. Но Герасимов предвидел эту гипотезу и, заранее возражая, писал: "Время тут не могло оказать своего влияния: погребенные были плотно спеленуты покровом и поверх повязаны жгутом". Итак, за четверть века разгадка так и не найдена.
В этой книге уже шла речь об остеофитах - соляных отложениях на позвоночнике царя (см. Главу II). М. М. Герасимов, обследовавший много скелетов, отмечал, что не видел таких остеофитов и у самых глубоких стариков.
Естественно, возник вопрос о причинах смерти царя (о слухах о его насильственной смерти см. с. 138). Герасимов решительно отверг версию об удушении: ведь у царя хорошо сохранились хрящи гортани. Но ведь это как будто не противоречит удушению подушкой? Версия же об отравлении исследованием скелета не подтверждена, но и не опровергнута. Количество мышьяка в костях всех четырех погребенных было примерно одинаково и не превышало, по словам М. М. Герасимова, "естественного содержания его в человеческом организме". Однако иначе обстояло дело со ртутью. В костях Ивана IV и царевича Ивана Ивановича ее количество было значительно выше нормы. Отравление? Не будем торопиться. Содержащие ртуть лекарственные препараты были широко распространены. Применялись они, в частности, и для лечения венерических болезней. Царь Иван был развратником, а некоторые сообщения иностранцев дают основания заподозрить, что грозный государь нуждался в таком лечении.
Опытный антрополог, М. М. Герасимов дал и четкую антропологическую характеристику расового облика царя: "По своему антропологическому типу он ближе всего к динарскому, то есть типу очень характерному для западных славян. Однако в его черепе есть черты, как-то: очень высокие округлые орбиты, резко выступающий тонкий нос. Эти черты больше соответствуют средиземноморскому типу".
Динарский тип царь Иван должен был унаследовать от мaтepи: среди ее предков по мужской линии были и поляки и белорусы. Мать же ее Анна была сербкой, а динарский тип также характерен для южных славян. Средиземноморский тип Иван IV унаследовал, должно быть, от другой бабки - византийской принцессы Софьи (Зои) Палеолог, второй жены Ивана III.
Существовало подозрение, что Иван IV не был сыном Василия III. Основания для него вроде имелись: хотя с первой женой Василий III развелся из-за бесплодия, у второй жены первенец родился лишь через четыре года. А после смерти мужа Елена Глинская была, по слухам, в интимных отношениях с князем Овчиной-Телепневым-Оболенским. Не начались ли эти отношения раньше? Не был ли отцом царя князь Оболенский? Антропологическая характеристика черепа опровергает эти слухи и подтверждает законность происхождения грозного царя: в его облике проявились гены бабки-гречанки. Да и на портрете Василия III ясно виден тот же "нос протягновен", что и у его сына.
Впрочем, смешанность этносов у царя Ивана была еще большей. Вспомним, что его прапрадед Василий I был женат на дочери великого князя литовского Витовта, его дальний предок Владимир Мономах был внуком византийского императора и правнуком шведского короля... Такая генетическая мешанина - не исключение; она была характерна для любого европейского монарха: ведь большинство браков были династическими.
Документальность портрета, восстановленного по черепу, естественно, ограничивается чертами лица. Волосы, борода, усы, одежда - все это уже приходилось домысливать на основании прижизненных изображений вроде копенгагенского портрета (древнерусский портрет царя, хранящийся в Копенгагене и воспроизведенный на обложке этой книги) и письменных источников.
Сначала Герасимов вылепил лицо Грозного без волосяного покрова. Сам автор реконструкции справедливо писал, что на этом этапе работы лицо было "как бы обнажено, и в нем ничего не скрыто; спокойная брезгливость плотно сжатого рта, мрачная настороженность глаз". "Губы сжаты как бы в напряженной брезгливой гримасе", - отмечает Герасимов в другой статье. И подчеркивает: "Эта форма рта воспроизведена не с расчетом усиления какого-то эмоционального выражения в лице Грозного, а в строгом подчинении индивидуальным признакам черепа". Для воспроизведения волос автор бюста воспользовался "копенгагенской парсуной". Думается, справедливо, ибо достоверность деталей этого портрета не вызывает сомнений. Так, вряд ли художник XVI века рискнул бы придумать царю обширную лысину.
По окончании работы кости всех погребенных аккуратно, в анатомическом порядке были помещены в саркофаги. В гробницу царя Ивана вложили также запечатанную капсулу с выполненным на пергамене подробным протоколом вскрытия и изучения гробниц с подписями всех членов комиссии.
Такова краткая история документального портрета царя Ивана. Благодаря М. М. Герасимову сегодня мы можем с фотографической точностью представить себе внешний облик грозного властелина России.
1
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 153.
(обратно)2
Не подтверждается сообщение одного позднего летописца, что до Суздаля Соломония провела пять лет в Каргополе.
(обратно)3
Дети боярские - рядовые служилые люди, дворяне.
(обратно)4
Приказные люди - те, кто выполняют постоянные поручения (“приказы”) государя.
(обратно)5
Малюта было его вторым, “мирским” именем, Скурат - вторым именем отца; фамилия Малюты - Бельский.
(обратно)6
Летописец - небольшая летопись
(обратно)7
Видимо, Красная площадь, лишь позднее получившая свое современное название.
(обратно)8
Одно из названий Красной площади в XVI - XVII веках.
(обратно)9
Новгородская земля делилась на пять крупных административных единиц - пятин.
(обратно)10
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 10.
(обратно)

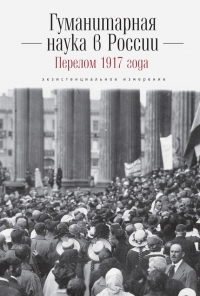
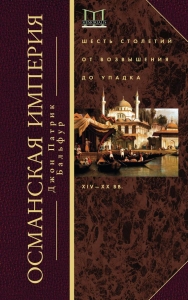
Комментарии к книге «Иван Грозный», Владимир Борисович Кобрин
Всего 0 комментариев