Юрий Додонов Тайны славянской письменности
Введение
Надо понять и уверовать в то, что Русь — это мы, а Древняя Русь — тоже мы, и если Бог поможет, то и будущая Русь тоже будем мы! Не знать своего прошлого может только объект, а не субъект цивилизации и культуры.
Ю. П. МиролюбовПусть не корят меня за то, что не сказал ничего нового. Ново уже само расположение материала…
Одно и то же, но по-иному расположенное, образует новые мысли.
Блез ПаскальВот уже около десятка лет, после дружного охаивания и оплевывания всего своего (в том числе и истории), начавшихся с конца 80х гг. прошлого столетия, идет процесс, который даже в научных кругах получил название Русского или, — шире, — Славянского Возрождения. Идет он параллельно с означенным выше процессом охаивания, мнимого развенчания мнимых мифов «проклятого коммунистического прошлого». Здесь мы не будем говорить о политических нюансах этих явлений. Нас интересует, какое отражение Славянское Возрождение получило в сфере исторической науки. Сразу заметим, что самое непосредственное. Сверхскептицизм начала 90х гг. XX века нанес мощный удар по многим положениям советской исторической науки, касающимся начала славянской и русской истории. И как-то незаметно стали возвращаться на господствующие позиции норманнизм и мнение о цивилизаторской миссии греков, принесших посредством христианства светоч культуры абсолютно диким славянам. Кроме того, крушение старых, советских, авторитетов утвердило авторитеты новые. Концепция евразийства Л. Н. Гумилёва — яркая тому иллюстрация.
Для Славянского Возрождения характерен огромный интерес именно к началам истории славян. Опираясь на данные археологии, лингвистики, письменных источников (как общеизвестных и признаваемых, так и тех, подлинность которых оспаривается), сравнительный анализ мифологий, труды ученых прошлого, многие исследователи (профессионалы и любители-энтузиасты) значительно, на тысячелетия, удревняют славянскую историю. Эти исследователи пишут статьи, издают монографии. Приводимые ими аргументы в подтверждение своих построений очень весомы. Подчеркнём: мы имеем дело не с плодами деятельности одиночек. Речь идёт именно о научном направлении. Его представители есть не только в России, но и в других славянских странах (в Украине, Болгарии, Сербии).
Как же реагируют на всё это учёные-ортодоксы, сторонники «классической» трактовки истории славян? На удивление — никак. Вы думаете, они вступают в научные дискуссии, опровергают стройные построения своих оппонентов посредством ещё более стройных построений? Ничего подобного. Они попросту молчат. Их реакция либо ограничивается презрительным «пофыркиванием» (перефразируя известное стихотворение В. В. Маяковского, это «пофыркивание» можно охарактеризовать словами: «Откуда, мол, и что это за исторические новости»), либо, со стороны наиболее молодых и рьяных из них, предупреждениями об угрозе русского (славянского) фашизма. Вот вам и научные дискуссии.
Всё вышесказанное смело можно отнести и к проблеме возникновения письма у славян. Есть множество попыток изучения дохристианской славянской письменности, собран богатый в этом отношении материал. Но представители официальной науки предпочитают хранить молчание, видимо, полагая, что в споре истина не рождается. Не очень-то научен подобный подход.
Между тем у нас сложилось убеждение, что раз существует научное направление, исследователями, работающими в рамках этого направления, делаются какие-то аргументированные выводы, то эти выводы должны быть обобщены, систематизированы, сопоставлены с тем, что было известно ранее. Это надо сделать хотя бы с историографических позиций.
Насколько нам известно, подобная задача никем ещё выполнена не была. Поэтому данной работой мы попытаемся восполнить существующий пробел.
Всё ли известно о так хорошо изученных кириллице и глаголице? Существовала ли письменность у славян до Кирилла и Мефодия и каков был уровень её развития? Использовали ли наши предки руны и могло ли у них бытовать слоговое письмо? Действительно ли являются подделками «Боянов гимн» и «Велесова книга» или это ценнейшие письменные исторические памятники? Ответы на все эти вопросы можно найти в излагаемом ниже материале.
В работе, кроме обобщения и сопоставления информации, приводимой учёными, содержится и анализ первоисточников. На основе всего этого нами делаются некоторые собственные предположения и выдвигаются новые гипотезы.
Тщим себя надеждой, что результаты наших стараний покажутся небезынтересными и будут полезны всем тем, кто интересуется далёким прошлым славянства, в частности историей славянской письменности.
Основы теории письма
Они (греки) говорили, что установили у нас их письменность, чтобы мы приняли её и утратили свою. Но вспомните о том Кирилле, который хотел учить детей наших и должен был прятаться в домах наших, чтобы мы не знали, что он учит наши письмена и то, как приносить жертвы Богам нашим.
«Книга Велеса» в переводе А. И. Асова«Помилуйте, — может сказать уважаемый читатель или слушатель, — но уж тут-то какие могут быть проблемы, загадки и вопросы. Уж со славянским письмом всё как белый день ясно».
Да, на бытовом уровне, уровне массового сознания, действительно, ясно всё. Не без помощи существующей системы образования утвердились расхожие стереотипы, сводящиеся к следующему: славянский алфавит создан в 60х годах. IX века братьями Константином (Кириллом в монашестве) и Мефодием. Отсюда и берёт начало славянское письмо, именуемое кириллицей. До этого времени славяне были народом бесписьменным. Более эрудированные люди могут даже припомнить слова черноризца Храбра, относящиеся к Х веку, а то и к рубежу IX — Х веков. (уж более достоверного свидетельства и не найти), казалось бы, подтверждающие вышеуказанные утверждения.
Однако остановимся. Пока ничего не будем опровергать. Скажем мягко, уважаемый читатель или слушатель, что все только что воспроизведённые «постулаты» отнюдь постулатами не являются. Всё это не аксиомы, а теоремы, причём не доказанные.
Тема настоящей книги требует от нас несколько отвлечься от славянского письма и уделить внимание некоторым теоретическим вопросам, связанным с письмом вообще. Подобный уход в сторону необходим для понимания излагаемого в дальнейшем материала.
Итак, как возникла письменность, как она развивалась, какие стадии прошла в своём развитии?
Человечество не знало письма на протяжении большей части своей истории. Принято считать, что применение знаков для записи речи началось около шести тысяч лет назад, т. е. в четвёртом тысячелетии до нашей эры.
Однако в 1961 году в Трансильвании, у маленького румынского посёлка Тэртерии, археологи нашли три глиняные таблички с загадочными рисуночными знаками (II, 27; 11)[1]. В знаках этих многие исследователи видят письмо. Но поскольку таблички датируются пятым тысячелетием до нашей эры, то приходится видеть в них памятники древнейшей на Земле письменности (II, 27; 11), (II, 41; 16). Мы ещё поговорим о тэртерийских табличках.
Первым шагом к созданию письма было использование предметов — сначала в качестве мнемонических, т. е. «напоминательных», средств. Они не передавали мысль, а только напоминали о ней. Потом за предметами стали закреплять конкретное значение. Они являлись своего рода сигналами, условными знаками, обозначавшими то, о чём заранее оговорено. Такими условными знаками служили зарубки на бирках или деревьях, узлы, шнуры, стрелы для объявления войны, «жезлы вестников» и прочие предметы. Этот способ закрепления значений носит название «предметное письмо». Если вспомним послание скифов Дарию I, то увидим типичный случай применения предметного письма. Но предметное письмо не могло передавать большого количества информации. Также слишком трудно, а то и попросту невозможно передавать посредством его накопленные знания последующим поколениям.
Поэтому люди продолжали совершенствование способов передачи информации. Дальнейшую эволюцию можно назвать «движением от рисунка к букве».
Пиктография, или письмо в рисунках, стала следующей ступенькой на пути к современному письму. Она применялась многими народами на стадии родового общества. Зародившись в недрах первобытного искусства в эпоху позднего палеолита (40–10 тыс. лет назад), пиктографическое письмо окончательно сформировалось в эпоху неолита, когда разрозненные родовые группы стали объединяться в племена (II, 27; 15).
Как нам кажется, в трактовке сути пиктографии и стадий её развития у исследователей имеются разночтения. Так, часть из них, например В. С. Драчук, считают, что пиктограмма изображала только законченную мысль, мысль целиком, без членения на отдельные понятия, элементы (части речи) (II, 27; 16, 18). При таком взгляде закрепление за каждым предметом или понятием отдельного знака-рисунка рассматривается как переход к идеографии, более высокой стадии развития письма (II, 27; 18).
Другие учёные такое закрепление рассматривают лишь как стадию развития рисуночного письма, хоть и более высокую. Таким образом, идеограммы рассматриваются ими как более совершенные пиктограммы (II, 40; 20–22). Отношение к пиктографии у таких учёных весьма, если можно так выразиться, сдержанное. Они считают, что рисунки-пиктограммы даже на стадии их закрепления за определёнными предметами не были неразрывно связаны с конкретным словом определённого языка. «Таким образом, пиктографические «надписи» представляют собой всего лишь «рассказы в картинках», а не памятники настоящего письма, призванного фиксировать формы звуковой речи» (II, 40; 21). Пиктография — сугубо мнемоническое средство. Однако такая ступень её развития, как идеография, позволила закрепиться за знаками, обозначающими определённые предметы и понятия, постоянным фонетическим значениям целых слов, т. е. превратила их в однозначно читаемые логограммы, что и представляло собой принципиально новый этап в развитии письменности (II, 40; 21–22).
Таким образом, можно видеть, что разность в трактовке пиктографии влечёт за собой и разные оценки идеографии (дословно — «письмо идей»). Более того, указанные различия, на наш взгляд, обусловлены несхожим пониманием самой сути письма. Если представители одной точки зрения склонны видеть письмо уже там, где информация фиксируется на каком-либо носителе или, по крайней мере, с момента закрепления определённых знаков для обозначения отдельных предметов и понятий, вычленения отдельных элементов из общей мысли, выраженной пиктограммой (т. е. со стадии идеографии), то представители второй увязывают начало письма с фонетизацией знаков, т. е. когда за знаком закрепляется слово, представляющее определённый звуковой набор, присущий данному языку (стадия логограмм) (II, 40; 21–22), (II, 27; 16, 246).
Однако как бы там ни было, какую бы точку зрения ни принимать, идеограмма — это безусловный шаг вперёд на пути к современному письму.
Система идеографических знаков упорядочивалась, как принято считать, уже в масштабе государства, которое нуждалось в устойчивом и точном письме для целей управления. В ряде стран (Египте, Шумере, Китае, на острове Крит) идеография возникает на одной и той же стадии развития общества, вместе с рабовладельческим государством, в недрах которого и достигает высокой степени совершенства. По сути, совершенствовалась уже логография (дословно — «письмо слов»), так как систематизирующая деятельность государства в этой сфере должна была окончательно завершить процесс закрепления за знаками постоянных фонетических значений целых слов. То есть иероглифы Китая, Египта, Крита, клинопись Междуречья — это логограммы.
Логографическое письмо не только передавало содержание сообщения, но и выявляло словарный состав языка и даже присущий ему синтаксический строй.
Начертание знаков-логограмм постепенно упрощалось, всё больше уходя от своего прототипа. Абстрактные понятия передавались либо теми же знаками, что и связанные с ними конкретные (например, в Древнем Египте слова «воин» и «сражение» изображались при помощи двух рук: одна держит щит, а другая — копьё); либо посредством изменения и сочетания знаков, передающих конкретные понятия (в шумерском языке сочетание знаков «хлеб» и «рот» означало «есть») (II, 27; 19–20). В первом случае ясно, что значение логограммы должно быть угадано из контекста предложения (сообщения).
Но, справляясь с обозначением абстрактных понятий, логография не могла указывать грамматических форм слов, отчего страдала точность передачи связи между понятиями. Другой крупный её недостаток — многознаковость (тысячи, а то и десятки тысяч знаков). И, наконец, настоящей проблемой стала передача на письме имён собственных иностранного происхождения. Выход, найденный для решения этой проблемы, представлял собой «зародыш» новой ступени развития письма в недрах логографии. Речь идёт о «ребусном» методе. Суть его такова: иностранное имя собственное делилось на части таким образом, чтобы по звучанию они совпадали с какими-либо словами. Из набора логограмм этих слов и составлялось имя. Кстати заметим, что представители первой из указанных точек зрения на суть письма только такую запись и считают логограммой: «Такая запись уже отражает звуковую сторону языка, прочно связана со звучащим словом и поэтому называется логограммой (в отличие от идеограммы, которая связана только со значением и может быть прочитана на любом языке)» (II, 27; 20).
Со своей стороны (придерживаемся второй точки зрения) скажем, что это определённые зачатки слогового письма, вычленение из слова слога.
Слоговое письмо — следующий шаг в развитии письменности, принципиально новый. С позиций нашего времени, с «высоты веков», если можно так выразиться, всё кажется простым. Ещё с дошкольного возраста, учась читать, мы привыкли делить слова на слоги. Но тысячелетия назад всё было по-другому. Чтобы впервые расчленить значащую целостность слова на ничего не значащие части, нужно отделить звуковую оболочку от смысла, как от чего-то малосущественного, хотя именно ради передачи смысла слово и существует. Около двух тысяч лет потребовалось для этого человечеству. Если первые идеографические (логографические) системы стали возникать в IV–III тысячелетиях до нашей эры, то слоговые появились только во втором-первом тысячелетиях до нашей эры, как принято считать, то есть это общепринятая точка зрения, но не единственная.
Как бы там ни было, человечество сделало этот трудный шаг, требующий высокого уровня абстрактного мышления.
Набор слоговых знаков именуется силлабарием, сам слоговый знак — силлабограммой, а слоговое письмо — силлабографией.
По сравнению с идеографической (логографической) слоговая система была удобнее для обучения и употребления. Она делала письмо более компактным, поскольку насчитывала от двух-трёх сотен знаков до нескольких десятков (это уже далеко не тысячи), точнее отражала фонетический и грамматический строй языка.
Но всё же принцип слогового построения письма оправдывал себя только в случае, если язык «собирался» из немногих слогов либо структура этих слогов была весьма простой. Так, например, язык минойцев (догреческих обитателей острова Крит) состоял из слогов типа С (согласный) + Г (гласный) или Г («чистый» гласный), не допускал накопления или удвоения согласных перед гласными. Всё это позволило минойцам создать силлабарий из 60–70 знаков (II, 40; 22). Если же указанные условия отсутствовали, то и слоговая письменность оставалась громоздкой и сложной.
Поэтому дальнейшее развитие письма пошло по пути всё большего дробления звукового потока, до самой мелкой частицы — звука.
На пути к звуковому (или буквенно-звуковому) возник ещё один тип письма, который можно рассматривать как промежуточный между слоговой и буквенно-звуковой системами — консонантное письмо, при котором пишутся только согласные (II, 58; 8), (II, 27; 24). Например, словосочетание «князь Святослав» будет выглядеть так: кнз Свтслв. Набор знаков консонантного письма, так же как и звукового, именуется алфавитом, сам знак, опять же как и в звуковом, — буквой.
Первый алфавит создали финикийцы во II тысячелетии до нашей эры. Был он алфавитом консонантным: состоял из 22 букв, обозначавших согласные звуки или слоги, состоящие из согласного и гласного звуков. Финикийский язык принадлежал к семейству семитских, в которых главную роль играли согласные. Из них составлялись корни слов. Гласные же выражали главным образом грамматические связи и формы слов. Передавались гласные не буквами (т. е. в алфавит не входили), а вспомогательными знаками, которые могли указать, какой гласный звук должен следовать за тем или иным согласным (т. н. «матери чтения») (II, 27; 154).
Венцом развития письма является звуковое (буквенно-звуковое, буквенное; все три понятия синонимичны) письмо. Принято считать, что последний шаг к нему сделали древние греки, выделив гласные звуки и введя для них в алфавит, заимствованный у финикийцев, специальные буквы. Произошло это в I тысячелетии до нашей эры. Буквенное письмо обеспечивает наиболее точную передачу звуков речи, грамматических форм, сравнительно легко в усвоении, так как состоит в среднем из 30–40 знаков.
Итак, схема развития письма такова: пиктограмма — идеограмма (логограмма) — слог — буква. Или несколько иначе, отталкиваясь не от знака, а от системы знаков: пиктография — идеография (логография) — силлабография — консонантное письмо — буквенное письмо.
Впору задаться вопросом: «А насколько указанная схема эволюции письменности всеобща?» Формулируя более развёрнуто: могли ли народы, имеющие письменность, «перескочить» через какой-либо из указанных этапов? Обязательно ли одна стадия развития выливается в другую? Если да, то почему? Если нет — тоже почему?
Конечно, отвечая на поставленные вопросы, мы должны учитывать два фактора: 1) особенности языка того или иного народа; 2) исторические условия.
Начнём со второго. Исторические условия оказывают огромное влияние на движение по «эволюционной лестнице» письменности. Бесписьменные народы могут позаимствовать письмо у более цивилизованных соседей, минуя определённые ступени развития письма. Так, древние греки позаимствовали у минойцев островов Крит и Кипр их слоговые системы письма (линейное А и кипро-минойское письмо) и создали на их основе собственную письменность (линейное Б и классический кипрский силлабарий) (II, 40; 25–26, 33, 36–37, 43). С течением времени эти письменные системы были вытеснены более совершенным буквенным письмом, созданным на основе финикийского консонантного алфавита. То есть, зная, наверное, пиктографию, как практически всякий первобытный народ, в смысле рисунков, передающих целую мысль, рассказывающих о событии, греки «проскочили» стадию идеограмм и логограмм, перейдя к слоговому письму. А вот славяне, по установившемуся мнению, не знали и последнего и обрели сразу буквенно-звуковую письменность (созданную на основе греческого и латинского алфавитов), миновав, таким образом, целых три ступеньки «эволюционной лестницы» письма.
В то же время письменность из-за исторических условий может ни во что не развиться (например, из-за природных и военных катастроф, приведших к быстрой гибели или угасанию цивилизации, и других причин). Так, в древнеегипетской, шумерской, ассиро-вавилонской, древнеперсидской и других логографических системах письменности уже выделялись слоги. Обычно в слоги превращались односложные логограммы («ребусным» способом). Однако эти древнейшие письменности в силу исторических обстоятельств вышли из употребления, так и не успев преобразоваться в слоговые.
Но давайте повнимательнее присмотримся к историческим условиям.
Мы видим, что китайская логография существует по сей день (т. е. уже пятое тысячелетие). И это при том, что в Китае предпринимались неоднократные попытки создать азбуку, которая могла бы передавать звучание китайской речи (II, 27; 88–89). А вот критская иероглифика, возникнув в конце III — начале II тысячелетия до н. э., очень быстро преобразовалась из логографической в логосиллабическую (т. е. словесно-слоговую) систему. Если учесть, что иероглифика выходит на Крите из употребления не позднее первой половины XVII в. до н. э. и её сменяет силлабарий (линейное А), то существование критских иероглифов как логограмм в чистом виде можно исчислять не более чем двумя-тремя веками, при где-то пяти веках (максимум) употребления иероглифов вообще (II, 40; 24).
Вывод из приведённых примеров очевиден: помимо исторических условий на эволюцию письма оказывает большое влияние тип языка, на котором говорит народ.
Лингвистика выделяет три типа языков: 1) изолирующие; 2) агглютинативные; 3) флективные. Кратко объясним эти понятия.
Основными признаками изолирующих языков являются неизменяемость слов (отсутствие форм словоизменения) и выражение синтаксических отношений преимущественно посредством порядка слов. Есть и некоторые сопутствующие признаки: преобладание однослоговости корня и значительные ограничения, наложенные на структуру слога; наличие слоговых музыкальных тонов; возможность для одного слова выступать разной частью речи, т. е. в различных грамматических функциях. Чистых изолирующих языков не существует. Наиболее близкими к этому типу являются китайский, вьетнамский и некоторые языки Западной Африки (II, 29; 92).
В агглютинативных языках словообразование и словоизменение осуществляются при помощи агглютинации (отсюда и название типа языков).
Последняя же представляет собой образование грамматических форм и производных слов путём присоединения к корню или к основе слова аффиксов, имеющих грамматическое и словообразовательное значения. Аффиксы однозначны, т. е. каждый из них выражает только одно грамматическое значение, и для данного значения всегда служит один и тот же аффикс. Аффиксы следуют друг за другом, не сливаются ни с корнями, ни с другими аффиксами, их группы отчётливы (II, 2; 176–177), (II, 1; 177).
К агглютинативным языкам относятся тюркские, финно-угорские, тунгусо-маньчжурские, корейский, японский и ряд других языков. Для ясности продемонстрируем словообразование и словоизменение в казахском языке (относится, как известно, к тюркским языкам). Слово «ж¥мыс» означает «работа». Посредством словообразовательного аффикса «шы» получаем слово «ж¥мысшы» — «рабочий». Аффикс «лар» отвечает за образование множественного числа последнего слова (т. е. за словоизменение): «ж¥мысшылар» — «рабочие».
Группа флективных языков (флектирующих) объединяет языки, в которых словоизменительное и словообразовательное значение выражается преимущественно флексией (от лат. flexio — сгибание, изгиб), под которой понимается показатель комплекса грамматических категорий, выражающихся в словоизменении, и сама система словоизменений, пользующаяся такими показателями.
Флексия бывает внутренней, при которой формы слова образуются изменением звуков внутри основы (например, в немецком: geht — идёт, ging — шёл, der Gang — ход); и внешней, при которой словоизменение идёт посредством синтетических (многозначных) аффиксов (например, слово «рука», форма «рукой»; аффикс «ой» выражает одновременно женский род, ед. ч., творительный падеж) (II, 53; 490). Индоевропейские языки, в том числе славянские, относятся именно к группе флективных языков.
В лингвистике существует представление, что тип письменности в общем и целом соответствует типу языка. Так что изолирующие языки могут использовать логографию; агглютинативные — довольствоваться силлабографией. Что же касается наиболее развитых флективных языков, то им, так сказать, сам Бог велел использовать буквенно-звуковое письмо (II, 58; 300). Конечно, подобные соответствия надо понимать, на наш взгляд, только как принцип «наибольшего благоприятствования», т. е. тот или иной тип письма наиболее удобно применять при том или ином типе языка. Это не значит, что не подойдут другие виды письма. Связка идёт не от письма к языку, а от языка к письму. Например, какой-то язык для слоговой письменности наиболее благоприятен, наиболее содействует её сохранению. Но это отнюдь не значит, что буквенное письмо для него неприменимо, неудобно. Применяют же угро-финские и тюркские народы с их агглютинативными языками фонетическое письмо.
То есть можно сделать вывод, что письмо, стоящее на более высокой стадии развития, вполне может быть применимо для языка, который в принципе может использовать и письменность, представляющую собой более низкую ступень эволюции письма.
Тут вроде бы всё ясно. Однако, как нам кажется, нельзя постулировать утверждение, что приведённое выше соответствие «тип языка — тип письма» не может быть нарушено в обратном направлении. Другими словами, что более развитые языки не могут использовать письменность, подходящую для менее развитых языков. Убеждение в этой невозможности в своё время привело к тому, что когда М. Вентрис и Д. Чэдуик в начале 50х годов. XX столетия наконец дешифровали критское линейное письмо Б, доказали, что оно служило для записи древнегреческого языка, то это вызвало довольно сильное смятение умов лингвистической общественности. Приходилось признать, что греки, уже стоя на стадии флективного языка, пользовались слоговой письменностью (II, 58; 301). А ведь ещё раньше (в 70х гг. XIX в.) был дешифрован классический кипрский силлабарий. Язык надписей, сделанных этим слоговым письмом, также был греческий. И относились надписи уже не ко II, а к I тысячелетию до н. э. (II, 40; 26).
Но если греки с их флективным языком могли использовать для его записи силлабическую систему, то почему это невозможно для других народов с подобным типом языка? Нам кажется, возможно. Безусловно, в таком случае либо необходим очень значительный набор слоговых знаков, либо должно смириться с неточностями и неопределённостями в записи речи. Например, в уже упоминавшемся классическом кипрском силлабарии распространённый в словах греческого языка конечный согласный «s» всегда фигурировал на письме не иначе, как в составе слога «sе», а в критском линейном Б от передачи на письме конечного согласного «s» пришлось вообще практически отказаться (II, 40; 27).
Но, тем не менее, в принципе невозможным употребление слоговой системы для записи флективных языков данные обстоятельства не делают. То же можно сказать и о других типах письма и других типах языка.
Однако основная масса исследователей до сих пор воспринимает связку «тип языка — тип письма» как твёрдо и однозначно заданную. Вот что пишет в этой связи В. А. Истрин применительно к славянским языкам: «…Для славянских языков (помимо первоначального пиктографического письма) удобно и приемлемо только вокализованно-звуковое письмо. Логографическое письмо не смогло бы привиться у славян, так как славянские языки отличаются богатством и разнообразием грамматических форм. Слоговое письмо было бы непригодно для славянских языков, так как языки эти отличаются многообразием слогового состава и нередкой встречаемостью смежных согласных… Наконец, консонантно-звуковое письмо было бы неприемлемо, так как в славянских языках согласные и гласные звуки выполняют одинаковые функции и, в частности, в равной мере участвуют в образовании корневых основ слов» (II, 31; 98). Таким образом, мы с вами плавно переходим к непосредственной теме нашей книги — славянской письменности.
Кириллица и глаголица: возникновение и взаимоотношение двух славянских азбук
Начиная разговор о славянской письменности, условимся, что движение наше будет при рассмотрении данного вопроса «обратным», т. е. от наших дней будем двигаться в прошлое.
Сейчас практически каждый может ответить, каким письмом мы пользуемся, — современным русским письмом. Восходит оно к кириллице. К ней же, заметим, восходят алфавиты и письмо сербов, македонцев, черногорцев, болгар, украинцев и белорусов. В советское время на основе кириллицы также были построены алфавиты практически всех неславянских народов СССР (за исключением эстонцев, латышей, литовцев, грузин и армян) и монголов. В общей сложности к моменту развала Советского Союза письмом, построенным на кирилловской основе, пользовались народы, говорящие более чем на 60 языках и составляющие около 10 % населения мира (II, 31; 182). Для сравнения: на ту же дату системами письма, построенными на латинской основе, пользовались народы, говорящие более чем на 70 языках и составляющие около 30 % населения мира; на арабской консонантно-звуковой основе — народы, говорящие на 12–15 языках и составляющие 10 %, на индийской слоговой основе — около 20 %, на китайской логографической основе — около 25 % населения мира. На долю же всех остальных систем письма (японская, корейская, эфиопская, греческая, еврейская, грузинская, армянская и др.) приходилось лишь немногим больше 5 % населения мира (II, 31; 183).
Правда, практически за полтора десятка лет, прошедших с 1991 года, статистика несколько изменилась (растёт численность одних народов, сокращается других; в бывших союзных республиках наблюдается тенденция к латинизации), но в общем и целом картина примерно такая же.
Таким образом, вид кириллических букв для нас столь привычен, столь обыден, что, кажется, никаких вопросов, связанных с кириллицей, нет и быть не может. И мало кто знает, что как раз вопросов здесь хоть отбавляй.
Связаны эти вопросы с возникновением так хорошо известной нам азбуки. Вопросы следующие:
1) Когда Константин создал свою азбуку?
2) Какую азбуку создал Константин?
3) Константин ли её создал? Точнее: степень участия Константина, его роль в создании азбуки.
Последние два вопроса на первый взгляд кажутся странными. Но это только на первый взгляд. Однако обо всём по порядку.
Возникновение первого вопроса (т. е. когда была создана Константином азбука) связано с тем, что два важнейших исторических источника, по которым восстанавливаются жизнь и деятельность Константина, в частности процесс создания им славянской азбуки, дают различные даты последнего события. Источниками этими являются «Паннонские Жития» Кирилла и Мефодия и «Сказание о письменах» черноризца Храбра. «Жития» Кирилла и Мефодия были составлены, по мнению современных исследователей, учениками Кирилла и Мефодия в Паннонии (в Блатенском княжестве Коцела) в конце IX века, вскоре после смерти Кирилла (869 г.) и Мефодия (885 г.), но, вероятно, до изгнания их учеников из Моравии в Болгарию (886 г.) и, во всяком случае, до завоевания Моравии немцами и мадьярами (905 г.). Такая датировка подтверждается тем, что в «Житиях» не говорится о событиях, последовавших за смертью Мефодия, и в то же время сообщается о величии Моравского государства (II, 30; 13). Заметим, правда, что не все учёные придерживались подобного мнения относительно датировки «Житий». Так, Д. И. Иловайский, например, полагал, что их первое составление «совершилось не ранее Х века» (II, 30; 260). Причём тогда, когда «деяния их (солунских братьев. — И.Д.) сделались предметом легенды» (II, 29; 260), т. е. по прошествии десятков лет. Хотя большую историчность «Житий» этот учёный всё же не отрицает (II, 30; 265).
«Житие Мефодия» дошло до нас в 8 списках, Кирилла — в 23.
«Сказание о письменах» черноризца Храбра, рассказывающее о причинах создания славянской азбуки Кириллом, дающее характеристику этой азбуки и сообщающее о докирилловской письменности у славян, относят к концу IX — началу Х века. Полагают, что оно было написано в Болгарии (II, 31; 13). И если с местом написания можно согласиться, то время столь бесспорным не является. Вывод о написании «Сказания» в конце IX — начале Х века строится на двух основаниях. Первое — в «Сказании» говорится, что «ещё живы те, кто видел их», т. е. Кирилла и Мефодия. Второе — большая часть «Сказания» посвящена полемике с греками о том, какая азбука священнее и выше — славянская или греческая. А подобная полемика характерна для времени острого культурно-политического соперничества Болгарии с Византией, которое имело место в указанный период (II, 31; 13). Находя данные аргументы убедительными и склоняясь к вышеозначенной датировке труда Храбра, всё же, ради справедливости и объективности, мы должны привести и другую точку зрения на этот вопрос. Д. И. Иловайский относит «Сказание» ко времени не ранее XI века, приводя следующие доводы. Во-первых, из всех списков «Сказания о письменах» (а известно их не менее 12 (II, 31; 13)) только в одном есть фраза о том, что живы те, кто видел Кирилла и Мефодия. Это обстоятельство позволяет допустить возможность позднейшей вставки, тем более что списков произведения Храбра ранее второй половины XIV века мы не имеем (II, 30; 269). Во-вторых, выражение «Сказания»: «Суть же и ини ответи, яже и инде речем», т. е. существуют другие ответы и мнения об этом предмете (имеется в виду время создания азбуки), но о них поговорим в другом месте, Д. И. Иловайский истолковывает в том смысле, что Храбр не жил так близко к эпохе Кирилла и Мефодия, ибо в его время уже были разные мнения о том, когда был изобретён славянский алфавит (II, 30; 269). Кроме того, выделяя полемический характер работы Храбра, учёный не акцентирует внимание на антигреческой направленности этой полемики (II, 30; 269). Кстати, в этом он не одинок. Современный исследователь В. А. Чудинов считает, что полемика была направлена против «трёхъязычной ереси». То есть Храбр спорил с христианами других «варварских» народов, «которые не совсем понимали, почему славяне претендовали на то же, на что имели право только три богоизбранных народа: евреи, греки и римляне», — иметь церковные книги и вести службы на своём родном языке (II,58; 60). Наконец, датировка создания Кириллом (Константином) азбуки в «Сказании» не совпадает с определением даты этого события по «Житиям» Кирилла и Мефодия, что тоже позволяет Д. И. Иловайскому сомневаться в близости времени создания труда Храбра ко времени деятельности солунских братьев (II, 30; 268).
Мы пришли к тому, от чего ушли, — к различным датировкам создания славянской азбуки.
И всё же отвлечёмся от вопроса ещё один раз. Излагаемый в дальнейшем материал потребует знания биографий Константина Философа и его брата. Да и, согласитесь, говорить о славянском алфавите и не сказать о жизни тех людей, которые его создавали или, уж во всяком случае, приложили массу трудов для его распространения среди славян, было бы странно.
* * *
Родились братья в македонском городе Солуни (сейчас греческий город Салоники). Мефодий — в 820 году, Константин — в 826-м. Город был портовый, население — довольно пёстрым, но большую часть составляли греки и славяне. Национальность братьев в летописных источниках прямо не указывается. На основании же косвенных свидетельств большинство учёных считают братьев болгарами. Согласно одному афонскому преданию, отец их был болгарин, а мать — гречанка (II, 31; 14). Болгаре же в то время (если и были изначально тюрки) уже ославянились. Известно, что отец Константина и Мефодия был крупный солунский военачальник — «друнгарий под стратигом», т. е. был непосредственно подчинён самому высокому воинскому чину, существовавшему в империи, — стратигу.
Уже с детства Константин проявил склонность к знаниям. С 14 лет его отправляют учиться в столицу. Там одним из учителей юноши стал Фотий, впоследствии дважды занимавший престол византийского патриарха. В короткий срок Константин изучил грамматику, диалектику, риторику, арифметику, геометрию, астрономию, музыку и литературу. Для него открывалась возможность сделать блестящую карьеру при дворе. Однако, отказавшись от этой возможности, Константин занимает сравнительно скромное место патриаршего библиотекаря, затем становится лишь преподавателем философии, отказавшись и от места библиотекаря. Именно в это время он прославился как искусный диалектик в диспутах с иконоборцами.
С 50х годов начинается миссионерская деятельность Константина. Он отправляется в Болгарию, на реку Брегальница, где обращает в христианство многих болгар. Запомним эту миссию, мы ещё к ней вернёмся. Примерно к тому же периоду относится поездка Константина в Сирию к сарацинам (арабам), где он одерживает блестящую победу в богословских спорах с сарацинскими учёными.
Третьим миссионерским путешествием Константина стала поездка в Хазарию, предпринятая им на рубеже 50—60х годов. Имеются указания ряда источников, что в этой поездке его сопровождал Мефодий. Первоначально старший брат посвятил себя военной службе и сделал на этом поприще неплохую карьеру. Однако затем ушёл от мирской суеты в монастырь. Поэтому в принципе он действительно мог сопровождать Константина во время его поездки в Хазарский каганат. Но, как утверждают некоторые исследователи, этому противоречат хронологические расчёты, т. к. другие свидетельства, заслуживающие большего доверия, говорят о том, что в конце 50-х — начале 60х годов Мефодий находился при дворе болгарского князя Бориса, где либо крестил последнего, либо подготовил его к крещению (II, 31; 21–22).
Оставим этот вопрос открытым. Для нас более важно другое: по пути из Византии к хазарам Константин остановился в греческом городе Херсонесе (по-славянски Корсунь). Там он пополнял свои знания еврейского языка, на котором после принятия иудейства в VIII веке разговаривала верхушка хазарского общества.
По свидетельству всех двадцати трёх дошедших до нас списков «Паннонского жития Константина», в Херсонесе он обнаружил «Евангелие» и «Псалтырь», написанные русскими буквами. «И он нашёл там список Евангелия и псалмов, написанных по-русски («роусьскыми письмены писано»; варианты: росьскы; русьскы, роушки (II, 19; 350), (II, 31; 19)), и он нашёл человека, говорящего на этом языке, и говорил с ним, и понимал смысл того, что говорил тот, и, приспособив его язык к своему собственному наречию («к своей беседе прикладая»), он разобрал буквы, как гласные, так и согласные, и, помолясь Богу, стал быстро читать и говорить (по-русски)» (II, 19; 350). Так выглядит свидетельство «Жития» о «русских письменах». Мы сейчас не будем подробно излагать те гипотезы, которые предлагались учёными для объяснения этого загадочного, на их взгляд, места «Жития». Скажем лишь, что в «русских письменах» видели и скандинавские руны, и готские буквы, и самаритянское письмо, и даже письмо сирийское (II, 31; 112). Но, как говорит Г. В. Вернадский: «Простейший путь объяснения текста — это читать его таким, какой он есть, и согласиться с тем, что манускрипт действительно был на русском…» (II, 19; 351). Вот мы и согласимся с Г. В. Вернадским, добавив к тому же, что и буквы также были русскими (о характере букв речь пойдёт ниже).
Хазарская миссия была завершена Константином успешно. Он одержал победу в диспуте с иудейскими и мусульманскими мудрецами и обратил в христианство около двухсот подданных кагана.
Вскоре после возвращения из Хазарии солунских братьев ждала другая миссия, ставшая главным делом жизни для обоих. Речь идёт о поездке Константина и Мефодия в Моравию.
В конце 862 года моравский князь Ростислав прислал в Константинополь посольство с просьбой отправить в Моравию миссионеров, которые могли бы вести проповеди на понятном для мораван языке (вместо латинского языка немецкого духовенства). Основной причиной моравского посольства к византийскому императору было стремление заручиться поддержкой Византии против всё возрастающего натиска на Моравию немецких феодалов, вступивших к тому времени в переговоры о военном союзе с соседкой Моравии и Византии — Болгарией. Приглашение же византийских миссионеров было целью официальной.
Как бы там ни было, выбор императора Михаила пал на Константина, великолепно зарекомендовавшего себя в подобных поручениях.
По свидетельству «Житий» обоих братьев, Константин после приезда моравского посольства разработал славянскую азбуку и, пользуясь ею, перевёл на славянский язык с помощью Мефодия основные богослужебные книги. Отметим этот факт.
Летом 863 года Константин и Мефодий прибыли в столицу Моравии — Велиград.
Сложность ситуации для солунских братьев заключалась в том, что им, византийским миссионерам, приходилось действовать на территории, находившейся под церковной юрисдикцией Рима (более точно сказать: архиепископа Зальцбургского). Притязания папы подкреплялись немецкими мечами. И даже князю Ростиславу, этому мужественному, любимому народом и мудрому правителю, под влиянием политической ситуации приходилось идти на уступки и допускать усиление немецкого духовенства в Моравии. В частности, так случилось после поражения, которое потерпел Ростислав в 864 году от объединённых немецко-болгарских сил. Германские священники принялись чинить всяческие препятствия распространению славянского богослужения в Моравском княжестве. Накал борьбы достиг такой степени, что в 866 году Константин и Мефодий совершают поездку в Рим, стремясь найти защиту у папы.
Ситуация вокруг папского престола была следующей: взошедший на него буквально перед приездом братьев слабый и нерешительный Адриан II (скоропостижно скончавшийся папа Николай был полной ему противоположностью) искал путей укрепления своего авторитета. Константин предоставил ему эту возможность. Дело в том, что он привёз в Рим останки одного из первых римских епископов Климента, сосланного при императоре Траяне в Херсонес и там утопленного. Останки эти Константин нашёл в Херсонесе во время своей хазарской миссии. Климент почитался святым. Обретение мощей святого действительно могло усилить позиции папы Адриана. Поэтому папа пошёл навстречу просьбам братьев (в знак благодарности): славянское богослужение было официально разрешено, и даже в римских церквях несколько дней службы проводились на славянском языке.
Адриан довольно долго удерживал братьев подле себя. В начале февраля 869 года слабый здоровьем Константин серьёзно заболел, принял схиму и новое монашеское имя Кирилл, а 14 февраля скончался. Погребли его там же, в Риме.
Оставшись один, Мефодий вернулся в Моравию. Там он продолжал дело, начатое вдвоём с братом (будучи уже не простым монахом, а архиепископом). Но положение осложнилось тем, что в 870 году князь Ростислав был предательски свергнут с престола своим племянником Святополком, опиравшимся на немцев. Последний выдал дядю его заклятому врагу — королю Людовику Немецкому. «Князь Ростица», которому по приказу Людовика выкололи глаза, вскоре скончался в баварской темнице. А германцы в благодарность за предательство спустя некоторое время бросили в тюрьму самого Святополка. Правда, ему удалось выйти оттуда, восстановить независимость Моравского княжества и успешно отражать натиск немцев, но в церковных вопросах Святополк дал «латинскому» духовенству полную свободу.
Мефодий и его ученики, лишённые практически всякой политической поддержки, оказались в очень тяжёлой ситуации. Дело даже дошло до того, что Мефодия арестовали. Судили его баварские епископы, обвиняя в еретичестве и избивая во время суда. После суда Мефодий более двух лет провёл в одной из швабских тюрем.
Спасло его то, что всё это делалось без ведома папы. Иоанн VIII, занимавший тогда римский престол, случайно узнав о том, что епископы самовольно сместили назначенного папой архиепископа, усмотрел в этом покушение на авторитет папской власти. В письмах к королю Людовику Немецкому, его сыну Карломану, архиепископу Зальцбургскому разгневанный Иоанн повелел освободить Мефодия и восстановить его в правах архиепископа. Это было исполнено. Однако богослужение на славянском языке папа строжайше запретил.
Тем не менее Мефодий, несмотря на запрет, продолжает начатое с братом дело. И снова борьба с немецкими священниками, череда их доносов в Рим, новая поездка в Вечный город (на этот раз по вызову папы, для объяснений). И какое-то чудо: Мефодию удалось переубедить Иоанна VIII. Папа вновь разрешает славянское богослужение и славянские церковные книги. И опять козни, борьба, но и дело: новые переводы книг на славянский язык. Но годы… Годы и жизнь, полная лишений и трудов, берут своё. Силы покидают Мефодия, он не может отказать себе в желании перед смертью побывать на родине и совершает поездку в Византию. В середине 884 года Мефодий вернулся в Моравию, в Велиград, где скончался 19 апреля 885 года.
Перед смертью он назначил преемником одного из своих учеников — Горазда. Однако папа Стефан V не утверждает этого назначения и запрещает славянское богослужение. А вслед за тем, в 886 году, на учеников и последователей Мефодия обрушиваются жесточайшие гонения, в результате которых часть из них оказалась в Болгарии. Дополнительные запреты славянского богослужения и книг последовали в 890 году (ещё при Стефане V) и около 915 года (уже при папе Иоанне Х). Почти одновременно с Моравией были вытеснены заложенные Мефодием начатки славянской письменности из Польши и Чехии.
Такова история жизни солунских братьв.
* * *
Итак, как мы видели, «Жития» связывают создание славянской азбуки Константином Философом с моравским посольством, т. е. относят это создание к 862 — началу 863 года. Однако в «Сказании о письменах» черноризца Храбра указывается другая дата означенного события. Там фигурирует 6363 год от сотворения мира. Согласно же принятому в Византии летосчислению, считалось, что от сотворения мира до Рождества Христова прошло 5508 лет. Вычитая 5508 из 6363, получаем 855 год нашей эры. Поскольку в своём произведении Храбр не увязывает создание азбуки с моравским посольством, то дата 855 год не представляет из себя чего-то невероятного. Кроме того, вспомним, что примерно в это время Константин проводил миссионерскую деятельность в Болгарии, на реке Брегальнице, т. е. среди славян.
Далее. У исследователей уже давно вызывал удивление очень короткий срок (не более нескольких месяцев), в течение которого, согласно «Житиям», Константин разработал славянскую азбуку (а это очень сложная лингвистическая работа) и затем перевёл на славянский язык не менее трёх богослужебных книг (как указывается в «Житиях», «Избранное Евангелие», «Избранный Апостол», «Псалтирь» и отдельные места из «Церковных служб») (II, 31; 23). В связи с этим выдвигалось предположение, что Константин начал работу над созданием азбуки и над переводом книг задолго до приезда моравского посольства. Побудительной причиной к началу такой работы могла быть именно его миссионерская деятельность на реке Брегальнице.
Таким образом, выдвижение 855 года как даты создания Константином Философом славянской азбуки выглядит весьма обоснованным. Эта точка зрения нашла сторонников ещё в XIX веке (таковыми были известные слависты Добровский и Гильфердинг (II, 29; 268)), есть они у неё и сейчас.
Противники подобной датировки указывают, что наряду с византийским существовало и другое, так называемое александрийское летосчисление. Появившись в Египте, в Александрии, оно впоследствии перешло в Сирию, Византию, а затем и в славянские страны. Согласно этому летосчислению, от сотворения мира до Рождества Христова насчитывалось не 5508, а 5500 лет. Следовательно, если Храбр применял александрийское летосчисление, то славянская азбука была создана не в 855, а в 863 году, т. е. вскоре после приезда в Византию моравского посольства (II, 31; 24).
Аргументы противников 855 года как даты создания Константином азбуки были обобщены болгарским учёным К. М. Куевым (II, 31; 24). В пользу 863 года он выдвинул следующие доводы:
1) В «Паннонском житии» Кирилла создание азбуки относится ко времени вскоре после приезда моравского посольства, т. е. к 863 году. Трудно предположить, чтобы столь важный факт биографии Кирилла был датирован в «Житии» неверно. Кроме того, не случайно разница между 855 и 863 годами составляет 8 лет, т. е. в точности совпадает с разницей между александрийским и византийским летосчислением.
2) Указывая 6363 год в качестве даты создания Кириллом азбуки, Храбр добавляет, что это произошло во время Михаила — царя греческого, Бориса — князя болгарского, Ростислава моравского и Коцела блатенского. Годы правления Михаила (842–867 гг.), Бориса (852–889 гг.) и Ростислава (846–870 гг.) подходят к обеим возможным датам — и к 855, и к 863 году. Блатенский же князь Коцел вступил на престол лишь в 860–861 годах, а умер в 70х годах IX века, следовательно, его правлению соответствует лишь дата «863 год». Между тем Храбр, судя по его сочинению, был очень начитан, и современная наука подтверждает правильность всех сообщаемых им фактов.
3) Храбр жил и писал своё «Сказание» в конце IX — начале Х века, когда Болгария достигла (при князе Борисе и царе Симеоне) своего наивысшего могущества и во всём соперничала с Византией; само сочинение Храбра было написано в основном для доказательства преимущества славянской азбуки перед греко-византийской. Следовательно, Храбр должен был избрать скорее александрийское летосчисление, а не византийское.
4) В «Житии» Мефодия говорится, что тот незадолго до смерти перевёл за шесть месяцев почти всю Библию. Тем более мог Мефодий, по мнению К. М. Куева, вдвоём с братом перевести за короткий срок такие сравнительно небольшие книги, как «Избранное Евангелие», «Избранный Апостол» и «Псалтирь». К тому же К. М. Куев доказывает, что в IX веке книги эти были ещё меньше по объёму, чем сейчас.
Что ж? Надо признать доводы болгарского учёного весьма убедительными. Однако бесспорными их признать нельзя. На наш взгляд, самым сильным является аргумент о неслучайности восьмилетней разницы между датами «Жития» и «Сказания». На всё остальное можно найти контраргументы. Пойдём по порядку.
«Жития» писались учениками Кирилла и Мефодия. Но их осведомлённость о фактах жизни своих учителей не надо считать абсолютной. Ведь утверждает же «Житие» Мефодия, что последний сопровождал брата во время хазарской миссии (II, 58; 42), хотя ряд других источников, как отмечалось выше, говорит об обратном. Кроме того, для учеников основные деяния их учителей были связаны с Моравией. Поэтому вполне логично предположить, что и создание славянского алфавита, одно из наиболее значительных деяний Константина, они могли связать с моравской миссией. Хотя сам алфавит мог быть создан и ранее. В конце же 862 — начале 863 года производились лишь переводы богослужебных книг, либо, кроме того, славянская азбука подверглась некоторой доработке.
Второй и третий доводы К. М. Куева действенны с особой силой лишь в том случае, если безоговорочно считать, что Храбр жил и писал своё «Сказание» не позже начала Х века. Но мы видели выше, этот факт можно подвергнуть сомнению, как это делает Д. И. Иловайский, относящий время жизни Храбра к XI веку. В этом случае осведомлённость Храбра о событиях по меньшей мере полуторавековой давности уже может содержать изъяны. Деятельность солунских братьев в Моравии протекала в княжение в Блатенском княжестве Коцела. В это время в Византии правил Михаил, в Болгарии — Борис, в Моравии — Ростислав. Вполне возможно, что эта «связка» правителей была перенесена не столь уж осведомлённым Храбром и на время создания азбуки, т. е. в 855 год.
Довод же о политико-культурном соперничестве между Болгарией и Византией в конце IX — начале Х века, вследствие чего Храбр должен был избрать александрийскую систему летосчисления, отпадает тогда сам собой. Кстати, сам факт соперничества не обязательно должен привести к абсолютному отрицанию всего византийского. Ведь пользовались же в то время болгары так называемым кириллическим алфавитом, столь похожим на греческий.
В отношении четвёртого аргумента можно сказать, что незадолго до смерти Мефодий переводил Библию не один. По указанию его «Жития», он делал это с двумя своими учениками-скорописцами. Делал полгода. И это при том, что славянская азбука уже более двадцати лет была в обороте. Сам Мефодий и его ученики вполне привыкли к ней. Какова же должна быть ситуация, когда азбука только-только создана. Кроме того, как говорят специалисты, работа над азбукой, которая исключительно точно передавала фонетику славянской речи, потребовала бы не меньше времени, чем перевод книг (II, 31; 25). Так что приходится признать, что в «Житиях» процесс создания славянского алфавита носит некоторым образом «чудесный» характер, что для житий и неудивительно. Правда, в отношении последнего довода, сейчас нами приведённого, заметим, что В. А. Истрин несколько снимает проблему, указывая, что Константин мог создавать азбуку не «на пустом месте», а основываясь на определённой, существовавшей до него, славянской письменности (II, 31; 25). Аргумент хороший, правильный. Но спросим: кто мешал Константину на основе этой письменности ранее, т. е. до конца 862 — начала 863 года, уже создать славянскую азбуку? Никто. Вероятно, она уже могла быть им создана, и, вероятно, в 855 году.
Одним словом, вопрос даты создания славянской азбуки Константином Философом остаётся открытым.
* * *
Возникновение второго вопроса (т. е. какую азбуку создал Константин (Кирилл) связано с существованием двух славянских азбук — кириллицы и глаголицы. Кажется, ответ лежит на поверхности: Кирилл создал кириллицу. Однако откроем Большую советскую энциклопедию. В статье «Кириллица» мы дословно прочтём следующее: «Большинство учёных, ссылаясь на Моравско-паннонскую и Охридскую глаголические традиции, связанные с деятельностью Кирилла и Мефодия, на большую архаичность многих глаголических памятников и на новгородский памятник XI в., в котором глаголическое письмо называется кириллицей, считает, что Кирилл создал глаголицу, а кириллица была составлена в Восточной Болгарии в конце IX в. (в Преславе) для приближения славянского письма к торжественному византийскому» (II, 31; 180–181). Вот так. Более того, Лингвистический энциклопедический словарь в одноимённой статье добавляет, что «вероятно, она (т. е. кириллица. — И.Д.) была составлена учениками и последователями Кирилла и Мефодия (Климентом Охридским?) …». (II, 33; 222). Прекрасно. Но тогда сразу же возникает ряд вопросов. Почему же творение Кирилла называется глаголицей, а Климента — кириллицей? Тогда бы уж и звали кириллицей глаголицу, а азбука Климента должна зваться климентицей. Однако этого не происходит? Почему? Откуда эта путанница?
Остановимся и, прежде чем отвечать на поставленные вопросы, поближе познакомимся со славянскими азбуками. На рисунках 1 и 2 приведён общий вид кириллицы и глаголицы, в таблице 1 — сопоставление этих двух алфавитов друг с другом и буквами византийского устава.
Рис. 1.
Рис. 2.
Табл. 1.
Табл. 2.
Кириллица, по дошедшим до нас рукописям XI века, имела 43 буквы. Глаголица, согласно памятникам примерно того же времени, имела 40 букв. Из 40 глаголических букв 39 служили для передачи почти тех же звуков, что буквы кириллицы, а одна глаголическая буква — «дервь», отсутствовавшая в кирилловском алфавите (впрочем, в некоторых более поздних кириллических памятниках она под воздействием глаголицы появилась (II, 31; 52)), предназначалась для передачи палатального (мягкого) согласного «г». Отсутствовали в глаголице буквы, аналогичные кирилловским «кси», «пси», а также йотированные «э», «а».
Таков был алфавитный состав кириллицы и глаголицы в XI веке. В IX — Х веках их состав был, видимо, несколько иной.
Так, в начальном составе кириллицы, по-видимому, ещё не было четырёх йотированных букв (двух йотированных «юсов», а также йотированных «а», «э»). Это подтверждается тем, что в древнейших болгарских кирилловских рукописях и надписях отсутствуют все четыре указанные буквы (надпись царя Самуила, «Листки Ундольского») или же некоторые из них («Саввина книга», «Супрасльская рукопись»). Кроме того, буква «ук» первоначально, вероятно, воспринималась не как особая буква, а как сочетание из «он» и «ижицы». Таким образом, начальная кириллица имела не 43, а 38 букв (II, 31; 52).
Соответственно, в начальном составе глаголицы, по-видимому, имелись не два, а только один «малый юс» (тот, который впоследствии получил значение «йотированного малого юса»), служивший для обозначения как йотированного, так и нейотированного носового гласного звука «э». Это подтверждается графикой древнейшей глаголической рукописи «Киевских листков». Возможно, отсутствовал в начальной глаголице и один из двух «больших юсов» (получивший впоследствии значение и название «йотированного большого юса»); во всяком случае, происхождение формы этой глаголической буквы очень неясно и, вероятно, объясняется подражанием поздней кириллице. Таким образом, начальная глаголица имела не 40, а 38–39 букв (II, 31; 56).
Глаголица почти полностью совпадает с кириллицей по алфавитному составу, расположению и звуковому значению букв. Зато резко отличается формой букв. Кстати, необходимо заметить, что по начертанию графем глаголица делится на два вида: округлая болгарская и угловатая хорватская. Существование двух типов глаголицы установил в конце 50х годов XIX века П. И. Шафарик, который считал, что округлая болгарская глаголица ориентировалась на тип греческого письма, тогда как угловатая хорватская явно ставила себе образцом латинский готический шрифт (II, 58; 33). Между прочим, знаменитое Реймсское евангелие Анны Ярославны писано именно хорватской глаголицей (II, 58; 33).
Ещё одно большое отличие глаголицы от кириллицы заключается в цифровом значении букв. Как известно, славянские буквы, подобно греческим, служили для обозначения цифр. Для того чтобы указать, что буква обозначает число, а не звук, она обычно выделялась с обеих сторон точками и над ней проставлялась особая горизонтальная чёрточка — «титло» ().
В кириллице цифровые значения имели, как правило, только буквы, заимствованные из греческого алфавита: при этом за каждой из 24 таких букв было закреплено то самое цифровое, которое эта буква имела в греческой цифровой системе. Исключением были только числа 6, 90 и 900. В греческой цифровой системе для передачи этих чисел применялись буквы «дигамма», «коппа», «сампи», давно утерявшие в греческом письме своё звуковое значение и использовавшиеся только как цифры. В кириллицу эти греческие буквы не вошли. Поэтому для передачи числа 6 в кириллице была использована новая славянская буква «зело» (вместо греческой «дигаммы»), для 90 — «червь» (наряду с иногда применявшейся «коппой») и для 900 — «цы» (вместо «сампи»). В результате этого следования за греческим образцом кириллическая цифирь получается как бы разбросанной по азбуке, неупорядоченной (в том смысле, что цифры и числа не следуют подряд друг за другом).
В отличие от кириллицы в глаголице цифровое значение получили первые 28 букв подряд, независимо от того, соответствовали ли эти буквы греческим или же служили для передачи особых звуков славянской речи. Поэтому цифровое значение большинства глаголических букв было отличным как от греческих, так и от кирилловских букв. Цифры и числа следуют друг за другом в последовательности алфавита. Есть только одно исключение: стоящая в азбуке впереди буква «червь» обозначает 1000, а следующая за ней «ша» — 800.
Характеризуя славянские азбуки, необходимо сделать ещё несколько замечаний. Во-первых, относительно судьбы этих двух азбук. О том, в алфавиты каких современных славянских народов преобразовалась кириллица, мы уже говорили. Что касается глаголицы, то такого распространения, как кириллица, она не получила. В Средние века применялась в основном у юго-западных славян (в Хорватии, Далмации, Истрии). Здесь глаголица просуществовала до XVIII века. Изредка употреблялась в Болгарии и Древней Руси. Но в этих странах была быстро вытеснена кириллицей.
Во-вторых, что означают названия славянских азбук? Если с кириллицей всё ясно — название происходит от монашеского имени Константина Философа (т. е. от имени Кирилл), то термин «глаголица» требует некоторых пояснений. Вне всякого сомнения, что название это произошло от старославянского и древнерусского слова «глагол» — слово, речь. Таким образом, буквально глаголица — это «речевица», т. е. система знаков для записи речи. Можно понимать термин «глаголица» и как «буквица», «система букв (или звуков)», ибо буквы и есть те знаки, которые служат для записи речи, звуков речи. «Звукопись, в отличие от картинописи» — такое определение дал глаголице в 1857 году известный чешский славист И. Гануш (II, 58; 124). Исходя из только что приведённых определений названия «глаголица», современный учёный Г. А. Хабургаев поясняет, что, в общем-то, глаголицей можно назвать любую азбуку. Специальным названием определённой системы письма это слово становится сравнительно поздно. Таким образом, «глаголица» — синоним слов «азбука», «алфавит» (II, 56; 29).
Вернёмся к вопросу о том, автором какой из двух азбук является святой Кирилл. Итак, наиболее распространённое на настоящий момент в научном мире мнение: Кирилл создал глаголицу (кириллицу — кто-то из его и Мефодия учеников в Болгарии в конце IX — начале Х века).
Впервые это положение высказал в 1785 году славист Добнер (II, 58; 38). Однако, надо полагать, что тогда эта гипотеза осталась практически незамеченной, потому что когда спустя пять десятилетий то же самое предположение сделал Б. Копитар, а такой авторитетный и маститый учёный, как Шафарик (можно сказать, «кит славистики»), спустя ещё несколько лет его поддержал, то Шафарик подвергся такой яростной критике, как будто научный мир впервые услышал подобную «крамолу» (II, 30; 271). И авторитет не помог известному словацкому слависту.
Тем не менее постепенно гипотеза Добнера, Копитара и Шафарика «набирала очки», став на сегодня господствующей, хотя и не единственной. Её разделяли или разделяют сейчас такие учёные, как Н. С. Тихонравов, В. И. Григорович, И. В. Ягич, В. Н. Щепкин, А. М. Селищев, Л. А. Якубинский, Ч. Лоукотка, М. Коэн и другие.
Каковы же аргументы сторонников этой точки зрения? Рассмотрим их подробнее (вкратце они уже упомянуты в цитате из Большой советской энциклопедии, приводимой выше).
1) Древнейшая из дошедших до нас глаголических рукописей (так называемые «Киевские листки») принадлежит западным славянам. В более позднее время глаголица наибольшее распространение получила, как уже отмечалось, тоже у западных (вернее, юго-западных) славян, в Хорватии, Далмации и Истрии. Язык древнейших глаголических памятников, кроме того, изобилует моравизмами и латинизмами, т. е. словами, заимствованными из моравского и латинского языков. Все эти факты будто бы свидетельствуют, что глаголица была создана в Моравии Константином Философом (II, 31; 145).
2) Язык древнейших глаголических памятников более архаичен, чем язык древнейших памятников кириллицы. Кроме того, в большинстве кирилловско-глаголических палимпсестов более ранний текст — глаголический. Это будто бы доказывает, что кириллица была создана позже глаголицы (II, 31; 145).
3) В рукописи новгородского попа Упиря Лихого (XI век) кириллицей названо глаголическое письмо (II, 31; 146).
4) В «Кратком житии Климента Охридского» сообщается, что Климент изобрёл знаки письмен, отличные от созданных Константином (II, 31; 146).
5) Если бы Константин создал кириллицу, его азбуку нельзя было бы назвать «новой», т. к. кириллица — лишь видоизменение византийского уставного письма. Между тем в ряде источников того времени о письме, созданном Константином, говорится как о новом письме (II, 31; 146).
В последние десятилетия появился вариант этой гипотезы. Константин признаётся автором глаголицы. Вторая же славянская азбука — кириллица — не считается созданием учеников солунских братьев, а трактуется как дохристианское славянское письмо, возникшее из византийского устава в результате длительного применения византийского письма славянами и постепенного приспособления его к фонетике славянской речи. Константин познакомился с образцами протокирилловского письма в Херсонесе (именно на нём были написаны найденные им там «Евангелие» и «Псалтирь», «писанные русскими письменами»). Но, стремясь к созданию азбуки совершенно новой, не напоминающей ни одну из ранее существовавших, Константин будто бы использовал протокирилловское письмо лишь как материал для разработки глаголицы. Однако впоследствии, в конце IX — начале Х века, графически более простая и совершенная кириллица снова возродилась в Болгарии (может быть, доработанная Климентом) и затем вытеснила глаголицу почти у всех южных и восточных славян. Такой новый вариант теории о создании Константином глаголицы был впервые выдвинут в конце XIX века русскими учёными В. Ф. Миллером и П. В. Голубовским, а за последние годы был особенно развит и обоснован болгарским учёным Е. Георгиевым (II, 31; 143).
В копилку доводов сторонников гипотезы о создании Кириллом (Константином) глаголицы был добавлен ещё один аргумент: кириллица могла возникнуть эволюционным путём, в то время как глаголица (в том виде, в каком она дошла до нас) явно представляет собой искусственное создание, продукт индивидуального творчества. В то же время глаголица настолько хорошо отражает фонетику славянского языка, что создать её мог лишь такой образованный и учёный филолог, как Константин Философ (II, 31; 146).
Вот что пишет по поводу эволюционного возникновения кириллицы знаменитый советский историк В. Л. Янин (к этому выводу он пришёл на основании анализа ряда азбук новгородских берестяных грамот и азбуки Софии Киевской): «Думаю, что сумма этих новых источников позволяет с большой уверенностью высказаться в защиту того мнения, согласно которому кирилловское письмо формируется постепенно на основе греческого алфавита, а не имеет единовременного искусственного происхождения. Иными словами, версия об изобретении Кириллом не кириллицы, а глаголицы представляется весьма основательной…» (II, 58; 112).
Значительно меньшее число сторонников сейчас у теории, признающей азбукой Константина кириллицу. У этой теории имеется, по сути, пять вариантов.
Согласно первому из этих вариантов, Константин является автором кириллицы, глаголица же была создана в Моравии после смерти Мефодия его учениками. При этом причиной создания глаголицы считаются преследования, которым подверглась слишком сходная с византийским письмом кириллица со стороны соперничавшего с Византией немецко-католического духовенства. Стремясь сделать славянскую азбуку возможно менее похожей на византийское письмо, ученики Мефодия и переработали кириллицу в глаголицу. Для этого они одни буквы перевернули, другие снабдили петельками, завитушками и т. п. Этим и объясняется вычурный, искусственный характер глаголических букв. Такая гипотеза была выдвинута в середине XIX века чешским учёным Й. Добровским, поддержана русскими учёными И. И. Срезневским, А. И. Соболевским, а в советский период была развита Е. Ф. Карским.
Второй разновидностью этой точки зрения является мнение, высказанное в 1891 году в статье архимандрита Леонида (Кавелина). Вот что он пишет: «862 год. Изобретение кириллицы святым Кириллом… 877 год. Хорватский князь Сдеслав делается подручником Византии. Преподобный Кирилл и его ученики ввели в Хорвато-Далматинской державе славянское богослужение и кирилловские книги в 862–867 годах.
879 год. Князь Сдеслав убит Бранимиром, который, опасаясь мести Византии, предаётся Риму. Кириллица… подверглась гонению латинян…
879 год. Некто диакон Феодосий, родом славянин (хорват), желая спасти полюбившееся хорвато-далматинцам славянское богослужение, придумал для этого следующее: посоветовал князю Бранимиру отступить от Византии и стать под покровительство Рима, а сам составил из кириллицы и народных и условных знаков счётного или торгового значения глаголицу, переписал ею кирилловский перевод Святого Евангелия, применив оный к хорватскому наречию и по возможности согласовав с латинскою Вульгатою, вошёл в сношение с Римским папою (Иоанном VIII), принял от Рима посвящение в епископы (с 879 года) и благословение совершать в его Нинской епархии славянское богослужение по изготовленным им глаголическим книгам (в 888 году) …
885 год. Преставление святого Мефодия…» (II, 58; 35–36).
Как видим, по мнению архимандрита Леонида, кириллицу выдумал Кирилл, однако глаголица изобретена не в Моравии и не учениками Мефодия после смерти последнего, а в Хорватии неким священником Феодосием. Причём лет за шесть до смерти старшего из солунских братьев. Нам не известны источники, из которых Леонид почерпнул данные, но надо признать, что данные весьма интересные. Тем более что архимандрит называет даже источники глаголицы: с одной стороны, кириллица, с другой — некие условные и народные знаки «счётного или торгового значения».
Согласно третьему варианту теории о создании Константином кириллицы, глаголица сформировалась у славян ещё в доконстантиновский период как в основном самостоятельно развившееся, самобытное славянское письмо; впоследствии это письмо было вытеснено созданной Константином и более совершенной кириллицей. Гипотеза эта впервые была выдвинута чешскими учёными Лингардтом и Антоном (конец XVIII века), считавшими, что глаголица возникла ещё в V–VI веках у западных славян (II, 31; 144). В новой, изменённой, трактовке эта гипотеза возродилась в 50х годах в СССР в работах П. Я. Черных, Н. А. Константинова, Е. М. Эпштейна и других советских исследователей. Согласно этим работам, глаголица возникла у восточных славян из первоначальных славянских «черт и резов». Памятниками более позднего и развитого протоглаголического письма были Евангелие и Псалтирь, найденные Константином в Херсонесе. Создавая кириллицу, Константин, согласно этой гипотезе, заимствовал из греческого устава буквы для звуков, одинаковых в старославянском и греческом языках, а из протоглаголицы — буквы для особых звуков старославянского языка, графически перестроив эти буквы по образцу греческого устава (II, 31; 144).
Сторонником четвёртого варианта теории о создании Константином кириллицы является современный учёный В. А. Истрин. Этот вариант сочетает элементы точек зрения на происхождение славянских алфавитов. А именно: и протокирилловское, и протоглаголическое письмо могли существовать у славян в дохристианский период. Константин, познакомившись в Херсонесе с одной из этих разновидностей дохристианского славянского письма, вероятнее всего с протокириллицей, переработал и систематизировал её, создав кирилловскую азбуку. В период преследования этой азбуки в Моравии ученики Мефодия попытались возродить другую, протоглаголическую, разновидность дохристианского славянского письма, тоже значительно переработав, усложнив и «украсив» первоначально гораздо более простые протоглаголические буквы. Однако впоследствии более совершенная кириллица почти вытеснила сложную и искусственную глаголицу (II, 31; 144–145).
Наконец, пятый вариант мнения о создании кириллицы Кириллом (Константином) отражён в работах Д. И. Иловайского. В 60х годах XIX века этот учёный высказал положения, которые, с одной стороны, учитывали наработки Лингардта и Антона, а с другой — были для своего времени абсолютно новыми. По ряду пунктов они совпадают с только что изложенной гипотезой В. А. Истрина. Однако гипотеза последнего возникла веком позже, в 60х годах XX столетия.
Итак, по мнению Д. И. Иловайского, и кириллическое, и глаголическое письмо существовали у славян в докирилловскую эпоху (II, 30; 277). Термины «протокириллица» и «протоглаголица» учёными не употребляются. Они возникли позже. Глаголица представляла собой алфавит западнославянский, а кириллица — восточнославянский (II, 30; 271). Азбуки возникли независимо друг от друга, хотя и могли оказывать потом взаимное влияние. В Корсуни (Херсонесе) Константин познакомился, скорее всего, с той азбукой, которая впоследствии была названа кириллицей. «Она вместе с начатками переводов была принесена Кириллом и Мефодием в Моравию, трудами их учеников и преемников утверждена в Болгарии, откуда вытеснила западнославянское письмо или глаголицу, существовавшую у дунайских славян» (II, 30; 277).
Как видим, Константин Философ совершенствовал восточнославянское письмо — кириллицу. Её впоследствии распространяли его и Мефодия ученики. Ни тот, ни другие к глаголице отношения не имеют. Она возникла и эволюционировала у западных славян самостоятельно. Вопроса происхождения протокириллической и протоглаголической, как сказали бы мы сейчас, азбук Д. И. Иловайский не затрагивает.
Какие же аргументы выдвигают в защиту своей точки зрения те учёные, которые считают Константина создателем (или «устроителем») кириллицы и как они возражают оппонентам?
1) Миссия солунских братьев в Моравию, несомненно, носила политический характер. Хотели того Константин и Мефодий или нет, но, по существу, миссия должна была обеспечить культурно-политическое влияние Византии в Моравии. В эпоху Средневековья важнейшим средством культурно-политического воздействия была религия, распространение того или иного религиозного учения. А история письма показывает, что распространение почти любой религии сопровождалось одновременным распространением связанной с этой религией системы письма. Так, западное христианство всегда вводилось у различных народов вместе с латинским письмом; мусульманство — вместе с арабским письмом; буддизм на Среднем Востоке — вместе с индийскими системами письма (брахми, деванагари и др.), а на Дальнем Востоке — вместе с китайской иероглификой; религия Зороастра — вместе с алфавитом Авесты. Даже такие менее значительные религиозные учения, как якобитство, манихейство и несторианство, тоже получали распространение одновременно с особыми, тесно связанными с ними системами письма. Поэтому вполне естественно, что, создавая славянский алфавит для миссии в Моравии, Константин стремился максимально приблизить его к письму восточно-христианской церкви, т. е. греческому уставу. Но в таком случае он должен был создать кириллицу, а не глаголицу. Если же учесть, что Константину, возможно, была известна протокириллическая письменность, которую использовали славяне, то создание им именно кириллицы становится ещё более вероятным (II, 31; 149–150).
2) Сейчас практически общепризнано, что вторая славянская азбука (независимо от того, была ли она кириллицей или глаголицей) была создана (или переработана) в период между 885 (886) годами и началом Х века. В 885 году умер Мефодий, а в 886 году из Моравии были изгнаны его ученики. И создали эту азбуку именно ученики Мефодия. Они могли сделать это либо в Болгарии, куда были изгнаны, либо в Моравии, т. к., по всей вероятности, кто-то из учеников тайно вернулся в Моравию для продолжения дела своего учителя. Но о культуре и письменности Болгарии конца IX — начала Х века (в отличие от Моравии того же времени) рассказывается в довольно большом количестве дошедших до нас летописных памятников. Важнейшие из них — «Сказание о письменах» черноризца Храбра и «Пространное житие Климента». Так вот, ни в одном из этих памятников не упоминается о создании в Болгарии того времени новой славянской азбуки. Странное молчание о столь значительном событии, если, конечно, оно имело место. Единственное свидетельство, которое можно трактовать в указанном ключе, содержится в кратком, так называемом «Охридском житии» Климента, где сказано, что Климент после приезда в Болгарию «изобрёл знаки других письмён, для большей ясности отличные от тех, которые изобрёл мудрый Кирилл» (II, 31; 140). Но, во-первых, «Краткое житие Климента» считается недостоверным памятником, т. к. содержит очень много исторических ошибок и неточностей («Пространное житие Климента» гораздо более достоверно), а, во-вторых, это свидетельство вполне можно трактовать как указание на создание новых букв для азбуки Константина. Что же касается Моравии, то болгарские книжники могли и не знать об изобретении в этой стране ещё одной славянской азбуки, т. к. дело славянской письменности там едва теплилось. Но создать в Моравии кириллицу в эти годы было просто невозможно из-за её графической близости к греческому письму, т. е. письму восточно-христианской церкви. Отношения между Константинополем и Римом постоянно ухудшались, и ориентированное на Рим немецкое духовенство Моравии должно было нещадно преследовать любые признаки византийского церковного влияния. Сумма всех указанных фактов говорит о том, что вторая азбука была создана в Моравии после смерти Мефодия и этой азбукой могла быть только глаголица. Следовательно, Константин Философ изобрёл («устроил») кириллицу.
3) Характеристика, которую даёт созданию Кирилла в своём произведении черноризец Храбр, более подходит именно для кириллицы. Во-первых, деление букв азбуки на две категории — созданные по типу греческих письмён и специальные для славянской речи — соответствует кириллице в гораздо большей степени, чем глаголице, т. к. в последней буквы на греческие не похожи. Предположение же о том, что Храбр, проводя деление, имеет в виду звуковое значение букв, неубедительно, т. к. Храбр прямо говорит о «письменах», т. е. о буквах, а не о звуках (II, 31; 152). Во-вторых, Храбр указывает, что общее количество букв константиновской азбуки было равно 38, в том числе 24 буквы, «подобные греческим письменам», а 14 букв — «по словенскому языку». Эта цифровая характеристика азбуки полностью подходит только к кириллице. При исключении из неё четырёх йотированных букв, созданных, как полагают, в более позднее время, и лигатуры «ук» количество букв кириллицы составляет 38, в том числе 24 буквы, заимствованные из греческого письма, и 14 букв, созданных для особых звуков славянской речи. Общее количество букв первоначального глаголического алфавита менее ясно (хотя вполне могло быть 38). Несомненно только, что количество глаголических букв для звуков, одинаковых в славянской и греческой речи, не превышало 22 (в глаголице отсутствовали буквы «пси» и «кси»), а количество букв для особых звуков славянской речи составляло не менее 16 (II, 31; 152). Большинство исследователей признаёт, кроме того, что и само «Сказание» Храбра было первоначально написано кириллицей, а не глаголицей (II, 31; 152).
4) В пользу создания Кириллом кириллицы и более позднего появления глаголицы говорит также сравнительный анализ формы глаголических и кирилловских букв. Что касается букв кириллицы, предназначенных для передачи особых звуков славянской речи, то 11 из 14 получены, по мнению многих учёных, путём графического видоизменения или лигатурного сочетания других букв кириллицы и только три заимствованы из еврейского алфавита («цы», «червь», «ша»). В глаголице же форма восьми (или даже 12) из 18 таких букв объяснима как подражание кириллице. Явно перенесена из кириллицы в глаголицу, а не наоборот. О более позднем создании глаголицы наряду с этим свидетельствует наличие в глаголице особой, новой буквы «дервь», отсутствовавшей в древнейшей кириллице (II, 31; 153). Если же обратиться к 22 глаголическим буквам, служившим для передачи звуков, одинаковых в славянском и греческом языках, то 11 из них можно рассматривать как трансформацию соответствующих им кирилловских букв, 6 — как трансформацию латинских. И только 5 букв были созданы в глаголице более или менее самостоятельно (II, 31; 155). Подобный анализ букв двух славянских азбук вкупе с отличной от греческой цифровой системой глаголицы и общим вычурным графическим стилем последней позволяет сторонникам создания кириллицы Константином Философом делать вывод о более позднем возникновении именно глаголицы. Следовательно, Константин создал кириллицу.
5) В пользу создания Константином кириллицы, а не глаголицы свидетельствуют традиционные названия азбук.
Возражая своим оппонентам, «кирилловцы» (назовём их так условно) признают и западнославянское происхождение глаголицы, и большую архаичность языка древнейших, дошедших до нас, глаголических памятников, и искусственность (индивидуальность) глаголицы. Однако находят всему этому свои объяснения. Не отрицают, что глаголица была создана в Моравии, только создал её не Константин, а один из учеников Мефодия. Большая архаичность глаголических рукописей XI века (по сравнению с кирилловскими рукописями того же времени) — это, с их точки зрения, не следствие большей древности глаголицы, а свидетельство того, что ко времени написания глаголических рукописей (XI век) глаголица уже начала вытесняться кириллицей, стала превращаться в известное лишь немногим учёным-книжникам искусственно сохраняемое, архаическое письмо. Да и в самом деле, за максимум 50–60 лет, которые отделяют моменты создания азбук, старославянский язык не мог бы измениться настолько сильно, чтобы на основе этих изменений можно было бы с уверенностью сказать, какие из памятников старше (II, 31; 147).
Искусственное создание глаголицы не мешает ей быть индивидуальным творением одного из учеников Мефодия. Его ученики имели достаточную филологическую подготовку. Кроме того, все филологические проблемы были, в сущности, уже разрешены в первой славянской азбуке, и создание второй (т. е. глаголицы) было только переходом на новый шрифт.
Что же касается наименования в рукописи Упиря Лихого глаголического текста кириллицей, то оно является единичным фактом, противоречащим многовековой общеславянской традиции, и поэтому может быть сочтено случайной ошибкой самого Упиря Лихого или одного из переписчиков его рукописи (II, 31; 148).
Отклоняют «кирилловцы» и аргумент «глаголитов» (назовём и эту сторону условно, по признаку первичности отстаиваемой ими азбуки), касающийся «новизны» созданной Константином азбуки. По их мнению, кириллицу вполне можно назвать новой азбукой, т. к. почти 40 % её букв отсутствовали в византийском письме. В латинском алфавите при сравнении его с греческим процент новых букв меньше (II, 31; 148).
Можно прибавить и ещё одно доказательство того, что Константин Философ создал кириллицу (правда, доказательство косвенное). Связано оно с исследованиями болгарских учёных. В 1982 году Трендофил Кростанов нашёл в библиотеке Ватикана «славянский палимпсест», т. е. произведение, написанное сначала по-славянски, а затем, после смытия первого текста, по-гречески. Выяснилось, что текст был написан кириллицей. В августе 1994 года на конференции в Банкя (под Софией) были приведены новые данные по изучению этого палимпсеста. Доцент Анна-Мария Тотоманова в свете специальной лампы смогла прочитать слово «епиоусии», написанное кириллицей, но означающее по-гречески «хлеб насущный». Отсюда Кростанов делает следующие выводы. Цитируем: «Этот факт показывает, что в нашей славянской копии сохранилась непереведённой старинная и единственная форма греческого языка, а это, со своей стороны, подтверждает глубокую древность староболгарского текста Ватиканского палимпсеста. Очевидно, что этот текст старше известного глаголического Ассеманиева Евангелия XI века, а также Савиной книги Х века, равно как и известного староболгарского глаголического Зографского и Мариинского Четвероевангелия.
Сейчас уже можно предположить, что новооткрытый текст Ватиканского палимпсеста является самой старой копией Кирилло-Мефодиева перевода Евангелия-Апракоса…» (II, 58; 45–46).
Как отмечает современный российский исследователь В. А. Чудинов, мы имеем тем самым славянский текст, который мог быть переписан во времена жизни учеников Кирилла и Мефодия (II, 58; 46). «Конечно, этот текст, отдалённый от Кирилла и Мефодия на полвека, ещё не доказывает напрямую, что Кирилл создал кириллицу. Но зато он почти однозначно свидетельствует против того, что её создал Климент или любой другой ученик Кирилла. Ведь книга, написанная изобретателем письменности или хотя бы под его руководством, вряд ли была бы потом смыта и записана иным текстом. Стало быть, она написана кириллицей спустя полвека после Кирилла, когда таких текстов стало так много, что можно было какой-то из них и смыть. Так что эта находка очень повышает достоверность предположения о том, что Кирилл создал всё-таки кириллицу как христианскую письменность» (II, 58; 46).
Позволим себе высказать и своё предположение, что же создал Константин Философ.
Однако для начала отметим, что совершенно согласны с учёными, которые предполагают у славян в докирилловскую эпоху существование как протокириллического, так и протоглаголического письма (об этом мы ещё поговорим ниже). И если уж считать Константина создателем какой-то азбуки, то под созданием надо понимать создание на основе уже имевшегося славянского письма сакральной, христианской азбуки, приспособленной для записи религиозных христианских текстов. То есть, другими словами, Константин Философ перерабатывал, дополнял, «устраивал» уже существующую азбуку. В дальнейшем под словами «создание», «создал» будет подразумеваться именно переработка Константином более раннего славянского алфавита.
Итак, автором какого творения является святой Кирилл? Что же он создал? Наш ответ: и глаголицу, и кириллицу. И хотя данная гипотеза идёт вразрез с точками зрения, существующими в современной науке, тем не менее она не нова. В конце 20х годов XX века её выдвигал академик Е. Ф. Карский. По его мнению, Константин создал глаголицу в Моравии, когда первая азбука, т. е. кириллица, подверглась гонениям со стороны немецкого духовенства (II, 31; 136). В конце 20х годов прошлого столетия и впоследствии Е. Ф. Карского подвергли критике за его гипотезу, и, на наш взгляд, критике весьма обоснованной. Отмечалось, что история жизни и деятельности Кирилла и Мефодия в Моравии вплоть до изгнания оттуда их учеников довольно хорошо восстановлена и изучена по многочисленным летописным и документальным источникам. И ни в одном из них нет даже намёка на создание и введение в оборот второй азбуки. Но такое крупное событие, потребовавшее бы переучивания многочисленных учеников Кирилла и Мефодия и переписки всех переведённых на славянский язык книг, несомненно, привлекло бы большое внимание и получило бы отражение в источниках того времени. Да и невероятным представляется, чтобы Кирилл и Мефодий в годы хотя и очень трудного, но всё же успешного развития славянской письменности решились прервать, затормозить это развитие заменой одной, уже привившейся, азбуки на другую (II, 31; 136).
Может показаться странным, что мы, высказывая одну с Е. Ф. Карским гипотезу, признаём справедливой критику в его адрес. Дело в том, что совпадают наши гипотезы лишь частично, мы бы сказали, по форме. И мы, и Е. Ф. Карский признаём создателем (наше понимание термина «создание» — переработка, чего нет у Карского) обеих азбук Кирилла, но на этом всё сходство и заканчивается. Если, по мнению академика, Кирилл (Константин) сначала создал кириллицу, а потом, уже в Моравии, по известным причинам — глаголицу, то, на наш взгляд, Константином была создана сначала глаголица, а потом уже кириллица.
В дальнейшем мы будем опираться на анализ «Сказания о письменах» черноризца Храбра и делать из этого анализа выводы.
Итак, первый вопрос, который возникает (во всяком случае, у нас) по прочтении сочинения Храбра: почему он говорит только об одной славянской азбуке? Ответ на него прост: да потому, что либо второй азбуки в момент написания Храбром своего труда ещё не существовало, либо она, возникнув совсем недавно в Моравии и находясь там, по существу, на полулегальном положении, ещё не успела распространиться. Во втором случае мы уже прямо говорим о глаголице. Ответ так прост, что и вопрос-то кажется излишним. Но не будем торопиться.
По общепринятому сейчас мнению, Храбр жил и писал своё сказание на рубеже IX — Х веков или в начале Х века. Во всяком случае, жизнь его и труды так или иначе, но захватывают время правления болгарского царя Симеона (893–927 гг.). Однако есть все основания полагать, что в эпоху Симеона и кириллица, и глаголица были не только известны в Болгарии, но и равно распространены. Именно об этом говорят древнейшие из известных на сегодняшний день славянских надписей (точнее сказать, древнейшие из тех, которые признаются официальной наукой, изучаются и подлинность которых не оспаривается), открытые в 20—40х годах прошлого столетия болгарскими академиками Крыстю Миятевым и Иваном Гошевым на стенах и керамических плитах церкви царя Симеона в бывшей столице Болгарии — Преславе. Надписи эти выполнены частично кириллицей, частично глаголицей. К. Миятев, И. Гошев, а также крупнейший специалист по староболгарской письменности Е. Георгиев относят их к началу правления царя Симеона, т. е. к последнему десятилетию IX века, т. к. ряд надписей имеет датировку (6401, т. е. 893 год) (II, 31; 89). Нет оснований не верить столь маститым учёным.
Но надписи делают, чтобы их читали, а значит, и кириллица, и глаголица понимались посетителями преславской церкви, что и говорит о равном на тот момент распространении азбук.
Итак, обе азбучные системы существовали и были в ходу в Болгарии уже в 90х годах IX века. Почему же о второй азбуке молчит Храбр (как, впрочем, и другие единовременные с сочинением Храбра болгарские источники)? На наш взгляд, причина молчания в том, что, как это ни покажется странным, Храбр и его современники воспринимали две азбуки как одну, вариации одной. А подобное возможно при наличии значительного сходства между азбуками и одном авторе этих азбук.
Так ли уж невероятно такое предположение? Вспомним, что кириллица и глаголица сходны по алфавитному составу (с небольшими отличиями), расположению и звуковому значению букв, а отличаются начертанием графем и их цифровым значением. Но подобные различия могли восприниматься как второстепенные.
Обратимся к «Сказанию о письменах» (используем русский перевод Б. Н. Флори, полностью приведённый в работе В. А. Чудинова «Загадки славянской письменности»). О какой азбуке говорит Храбр? Речь идёт о создании Константином 38 «письмён».
Но такое количество букв могли содержать как начальная кириллица, так и начальная глаголица. Деление Храбром букв на 24, подобные греческим, и 14 — для славянской речи вроде бы соответствует кириллице. Но даже в переводе Флори в списке четырнадцати букв фактически приводится 15 (I, 7; 54). Дальше — больше. Разночтения в разных списках «Сказания» показывают, что «греческих» букв могло быть и 24, и 25, а «славянских» — от 13 до 15 (II, 58; 55). Кроме того, в некоторых списках сами цифры 24 и 14 отсутствуют (II, 31; 152).
Повнимательнее приглядимся к списку букв, приводимых Храбром. Цитируем трактат: «Из них же (т. е. «письмён». — И.Д.) 24 подобны греческим письменам, а это а, в, г, д, е, з, и, i, к, λ, м, н, о, п, р, с, т, оу, ф, х, ω, пе, хлъ, ть, а 14 соответствуют славянской речи — и это б, ж, s, л, ц, ч, ш, ъ, шь, мь, ь, (ять), (юс большой), ю, (юс малый)» (I, 7; 54). Что касается «греческих» букв в славянском алфавите, то что это за «пе», «хлъ» и «ть», каковых нет ни в кириллице, ни в глаголице? О чём же пишет Храбр? О какой азбуке? Справедливости ради заметим, что «пе», «хлъ» и «ть» в ряде списков отсутствуют. Их нет, например, в списке Чудова монастыря. В последнем присутствуют греческие «фита» и «пси», характерные для кириллицы (правда, не на тех местах, где они стоят в этой азбуке), но зато нет характерного для кириллицы «кси». В то же время после «н» помещена некая непонятная буква «Š» (II, 57; 54). Ни в одном из списков в перечне «греческих» букв нет «ижицы».
Посмотрим на список славянских букв. Здесь мы видим некую букву «мь», которой опять-таки нет ни в кириллице, ни в глаголице. Вместо «щ» («шта») дано «шь». В уже упомянутом списке Чудова монастыря среди славянских букв отсутствуют «л» и «ц» и есть» «щ» («шта»), но нет «шь». Иными словами, в этом списке славянских «письмён» 13. Обратим внимание и на тот факт, что в цитируемом нами тексте «Сказания» Храбра в списке «греческих» букв есть «» («лямбда»), а «л» («люди») попадает в славянские буквы. Странно, ведь «лямбды» нет ни в одной из двух славянских азбук, вместо неё есть буква «люди». И принято считать, что она «греческого происхождения», т. е. прототипом её служит та же «лямбда».
Все эти странности в перечне букв созданной Константином азбуки не раз вызывали дискуссии среди учёных, порождали к жизни различные объяснения. Так, О. Бодянский, исследуя Московский список с «хлъ», «пе» и «ть», установил, что он отражает кирилловский текст, восходящий к глаголическому оригиналу. Другие тексты могли отражать кирилловские оригиналы (II, 58; 55). Прекрасно, но в глаголице нет букв «хлъ», «пе» и «ть». В то же время думается, что исчезновение данных букв в ряде списков представляет собой искажение первоначального текста «Сказания». Как уже отмечалось, списков ранее XIV века мы не имеем. Ряд переписчиков произведения Храбра старались не искажать оригинал (или, точнее, те списки оригинала, с которыми они работали). Другие же, явно ориентируясь на кириллицу и, возможно, будучи знакомыми и с глаголицей, просто «выбрасывали» непонятные буквы из перечня «письмён». Представляется, что списки с «хлъ», «пе» и «ть» ближе к начальному тексту «Сказания о письменах».
Какие из всего этого можно сделать выводы? Мы не можем с точностью судить о начальном составе Константиновой азбуки. Видимо, он всё-таки отличался от того, к которому мы привыкли, даже допуская 38буквенный состав и начальной кириллицы, и начальной глаголицы. А отсюда и другой вывод: нельзя на основании анализа сочинения Храбра утверждать, к какой из двух славянских азбук более подходят даваемые Храбром характеристики.
Не стали бы мы и столь уж однозначно утверждать, что графическая близость славянских знаков к греческим сама собой подразумевалась Храбром (хоть он на это не указывает) (II, 58; 61) и что подразделение «письмён» славянской азбуки на две категории (подобные греческим и специальные славянские) подразумевает исключительно графику букв, а не их звуковое значение (II, 31; 152). Ещё раз вспомним «Сказание»: «Это же — письмена славянские, и так их надлежит писать и выговаривать… Из них же 24 подобны греческим письменам… а 14 соответствуют славянской речи…». Подчеркнём слова «выговаривать» и «славянской речи». Думается, они вполне могут свидетельствовать о том, что речь у Храбра идёт о звуковом значении букв, а не о их графическом начертании. То есть говорить, что данное место произведения Храбра указывает на кириллицу, нельзя.
Итак, анализ «Сказания о письменах» если не подтверждает нашу версию, то, во всяком случае, и не опровергает её.
Константин создал глаголицу, затем — кириллицу. Именно в такой последовательности. Как всё происходило? Храбр неспроста называет датой создания азбуки 6363 год от сотворения мира. Дату эту даёт он не по александрийскому, а по византийскому летосчислению, т. е. она соответствует 855 году нашей эры. Примерно в это время Константин Философ, как мы помним, проповедовал в Болгарии (на реке Брегальнице). Если идея создания христианской славянской азбуки посетила его при подготовке к моравской миссии (как утверждают «Жития»), то почему эта идея не могла прийти к нему восемью годами раньше? Могла. Тем более что в распоряжении Константина вполне мог находиться «исходный материал», то есть протоглаголическая азбука, которой пользовались болгары. Наличие протоглаголицы у болгар, конечно, только предположение. Но вот что примечательно. В Средние века на Западе, в латинском мире, глаголица имела, между прочим, название «Булгарского алфавита» (abecenarum Bulgricum) (II, 30; 272). Странно, если учесть, что наиболее распространена глаголица была не в Болгарии, а в Хорватии, Далмации, Истрии. Не кроется ли в этом названии каким-либо образом сохранившаяся в Западной Европе память о дохристианском болгарском письме? Впрочем, как считает Д. И. Иловайский, подобное название ещё не указывает на происхождение алфавита. Можно предположить, «что болгарские славяне нашли его у иллирийских и мизийских славян, которых они покорили в VI–VII веках» (II, 30; 272).
Следовательно, Константин мог столкнуться у болгар с протоглаголическим письмом. Подвергнув его переработке, т. е. усложнив буквы графически, дав им известные нам названия, расположив их в порядке, наиболее близком к греческому алфавиту, наделив буквы, подобно буквам греческим, цифровыми значениями (правда, неидентичными цифровым значениям греческих графем, но этого при отсутствии графической близости славянского и эллинского алфавитов и не требовалось), возможно, придумав ряд букв для передачи специфических славянских звуков (например, два «юса») и, наконец, введя в алфавит несколько греческих букв для использования в написании христианских терминов, Константин Философ создал сакральное славянское письмо, известное нам как глаголица.
Храбр был болгарином. А в Болгарии могли в его время хорошо помнить о подобном происхождении глаголицы. Отсюда и приводимая Храбром дата.
Что же было далее? А далее была хазарская миссия Константина, встреча в Херсонесе с какими-то русскими «письменами», которые, скорее всего, представляли собой протокириллическую письменность, используемую восточными славянами. Графическая близость букв этой письменности к буквам греческого алфавита могла натолкнуть Константина на мысль о переработке уже созданной им азбуки. Переработка, собственно, заключалась во введении новых графем, т. е. букв другого начертания, при сохранении всех тех принципов, на которых была построена глаголица. Подобное приближение славянской христианской азбуки к греческому письму было очень желательно для византийского миссионера, каковым являлся Константин. Вполне возможно, что он заимствовал из глаголицы созданные им самим буквы для передачи специфических славянских звуков, т. е. те же «юсы», стилизовав их под греческое письмо. В протокириллице букв для передачи носовых гласных, вероятно, не было. Далее проделал всё то же, что и при создании им глаголицы. Однако цифирь, учитывая графическую близость букв новой азбуки к греческим, Константин на этот раз также максимально приблизил к греческому образцу.
Подобную переработку, с одной стороны, протокириллицы, с другой — уже существовавшей глаголицы ученики Кирилла и Мефодия, создававшие их «Жития», вполне могли принять за создание славянского алфавита. Тем более что именно кириллицу Константин привёз в Моравию как официальную азбуку. Вероятно, переработка осуществлялась уже после приезда моравского посольства, в связи с ним, точнее, с миссионерским заданием, которое получил Константин от императора Михаила и патриарха Фотия. Хотя какую-то предварительную работу в этом направлении Константин мог проделать, да и наверняка проделал, и ранее. Как бы там ни было, но всё это хорошо объясняет тот короткий срок, в который славянская азбука была создана.
Но что же глаголица? Её Константин также привёз в Моравию. Как говорится, про запас. И, как оказалось, не зря. Учитывая те сложные условия, в которых протекала деятельность солунских братьев в Моравии, препятствия, чинимые немецким духовенством, вполне можно предположить, что глаголица использовалась Константином и Мефодием как тайнопись, в секрет которой были посвящены только их ученики. Впоследствии, после смерти Мефодия в 885 году, когда гонения на славянскую письменность стали усиливаться, ученики могли предпринять отчаянную попытку спасти дело своих учителей, т. е. вывести славянскую письменность из-под удара: глаголица была переведена ими в разряд официальной, общеупотребительной азбуки. К такому шагу их подтолкнула непохожесть глаголических букв на греческие. Ведь схожесть букв кириллицы с византийским уставом, безусловно, воспринималась ориентированным на Рим немецким духовенством как признак церковного присутствия Константинополя в том регионе, который они считали своей вотчиной, своей сферой влияния. А это действовало на немцев, как «красная тряпка на быка».
Вполне объяснимо, почему данный шаг учеников Константина и Мефодия не нашёл отражения в письменных источниках того времени. Уж больно мал был срок до изгнания учеников из Моравии в 886 году, а поэтому мало было сделано в данном направлении, т. е. переписка книг новым шрифтом только начиналась, только начиналось переучивание учеников в школах. Когда же в 886 году последовало изгнание, то данное событие заслонило собой переход к другой азбуке.
Хочется заметить, что в некоторой степени схожую трактовку использования (но не возникновения) кириллицы и глаголицы мы обнаружили и у Г. В. Вернадского в его работе «Древняя Русь». Г. В. Вернадский очень оригинально подходит к решению вопроса о «русских письменах» «Жития Кирилла». В соответствии со своей исторической концепцией он считает, что «Евангелие» и «Псалтирь», которые Константин нашёл в Херсонесе, были действительно на русском языке (языке южной руси, асов), но написаны адаптированным к этому языку армянским или грузинским шрифтом (II, 19; 352). Один из этих алфавитов, по мнению Г. В. Вернадского, является источником глаголицы. Поэтому Г. В. Вернадский готов допустить, что «русские буквы» «Жития» — это глаголица и Константин изобрёл кириллицу (II, 19; 358). А далее процитируем: «Как объяснить употребление глаголицы как второго из двух ранних славянских алфавитов? Можно думать, что, изобретая кириллицу для общего употребления, Константин продолжал использовать глаголицу в качестве некоего тайного шрифта для конфиденциальных посланий, посвятив в его «тайны» лишь наиболее надёжных своих последователей. Позднее, после смерти Константина, и глаголицей, видимо, стали пользоваться наряду с кириллицей, а в некоторых регионах глаголице даже отдавали предпочтение» (II, 19; 358). Итак, по Вернадскому, Константин привёз в Моравию и кириллицу, и глаголицу, используя вторую как тайнопись. Правда, «гриф “секретно”» был снят с глаголицы после смерти Константина, а не Мефодия, как считаем мы.
Однако продолжим изложение нашей гипотезы. Изгнанные в Болгарию ученики Мефодия принесли туда две азбуки — кириллицу и глаголицу. Те из них, которые, по всей вероятности, тайно вернулись в Моравию, продолжали дело учителей, используя для этих целей уже исключительно глаголицу. Но сведения о славянской письменности в Моравии того времени, как уже отмечалось, практически отсутствуют.
В Болгарии же первоначально прижились обе азбуки. Тем более что глаголица для болгар чужой не была. И только впоследствии её практически вытеснила более удобная в графическом плане кириллица.
Слабые места нашей гипотезы очевидны. Таковыми считаем, во-первых, перечень правителей, в правление которых, по сообщению Храбра, Константином была изобретена азбука. В этот перечень, напомним, входит блатенский князь Коцел, который в 855 году ещё не княжил, а вступил на престол только в 860 (861) году. Во-вторых, это восьмилетняя разница между 855 и 863 годами, которая может указывать на то, что приводимая Храбром дата создания азбуки (6363 год) дана по александрийскому летосчислению.
Однако эти слабые места можно объяснить. Как уже указывалось выше, появление Коцела в списке правителей может быть ошибкой Храбра: данная «связка» властей придержащих, при которых Константином была создана кириллица и протекала основная часть его моравской миссии, автоматически была перенесена Храбром и на дату создания глаголической азбуки. Что касается восьмилетней разницы, то это простое совпадение. С другой стороны, выдвигаемая нами гипотеза позволяет избежать кое-каких неясностей, которые возникают при существующих теориях рассматриваемого сейчас вопроса.
Пройдём ещё раз всю «цепочку» от начала до конца. В Болгарии учениками Константина и Мефодия в конце IX — начале Х века могла быть создана в принципе любая из двух азбук, т. е. любая из двух азбук могла быть изобретена самим Константином Философом. Но при довольно хорошем состоянии источниковой базы по истории Болгарии того времени молчание источников о подобном деянии учеников солунских братьев свидетельствует только об одном: ничего подобного ученики не совершали.
Но они могли изобрести вторую азбуку в Моравии, и тогда в Болгарии про это просто не знали. Однако в этом случае вторым славянским алфавитом, учитывая ситуацию в Моравском княжестве, была глаголица, а святой Кирилл создал кириллицу. Всё великолепно. Но… Некоторые данные (см. выше) говорят о том, что в конце IX — начале Х века глаголица и кириллица употреблялись в Болгарии одновременно. И эта единовременность наносит сильнейший удар по современным гипотезам создания славянской азбуки. Можно принимать любое из существующих сегодня в официальной науке объяснений, но стоит только свести воедино все только что перечисленные факты (включая ту самую единовременность), и остаётся только развести руками, т. к. возникает брешь, которая великолепно заполняется посредством нашей гипотезы.
И Упирь Лихой отнюдь не ошибался, называя глаголицу кириллицей, но также и не свидетельствовал против изобретения кириллицы Константином. В его время, т. е. в XI веке, ещё могли помнить, что Константином создавались обе азбуки, поэтому, хотя традиция называть «кириллицей» наиболее распространённую из них уже складывалась, употребление имени создателя и по отношению к другой было вполне естественным. Тем более не могли ошибаться переписчики текста Упиря Лихого (списков ранее XV века не имеем): уж они-то жили в период установившейся традиции наименования славянских азбук. Не могли ошибаться, но и не поправили новгородца XI века (заметим, что переписчики в таких делах обычно не очень стеснялись). Почему? Видимо, у них были на то веские причины.
Итак, мы видим, что «копий» по вопросу, какую азбуку изобрёл Константин Философ, «сломано» немало. Но, так же как и с первым сформулированным нами вопросом, должно признать, что проблема не решена, вопрос остаётся открытым.
Впрочем, пытаясь показать весь спектр ответов на него, мы давно уже вступили в сферу третьего вопроса: «Какова степень участия Кирилла в создании азбуки?» К нему сейчас и перейдём.
* * *
Какова эта степень? Выше уже было сказано, что мы со своей стороны поддерживаем гипотезу, согласно которой в докирилловскую эпоху у славян существовали протоглаголическая и протокириллическая письменности. Тогда на долю Константина выпадает переработка одной из азбук или обеих азбук. В первом случае такая же переработка (только на базе уже проведённой Константином работы) выпадает на долю учеников солунских братьев. Подобное «устроение» уже имевшихся азбук можно назвать «созданием», только если понимать под последним создание сакрального алфавита, т. е. алфавита, специально приспособленного для записи христианских религиозных текстов.
Процитируем некоторых учёных, высказывания которых так или иначе выражают подобную точку зрения. Д. И. Иловайский: «…Исследователи по большей части шли от изобретения письмён Кириллом и Мефодием и пытались определить: какое письмо изобретено прежде, глагольское или кирилловское? Мы думаем, исходные пункты будут ближе к истине, если примем положение, что обе азбуки существовали до времён солунских братьев и возникли независимо друг от друга, хотя и могли оказывать потом взаимное влияние… Надеемся, что нашим мнением не умаляются заслуги солунских братьев. Бесспорно, им принадлежит честь лучшего устроения и приспособления восточнославянской азбуки к потребностям крещённого славянского мира, а также её утверждение и распространение посредством дальнейших переводов Священного писания и деятельного размножения его списков. Уже само появление легенд, относящих к их деятельности всё начало славянской письменности, показывает, что они действительно совершили великие подвиги на этом поприще и произвели значительный переворот в этом деле» (II, 30; 277–278).
В. А. Чудинов: «Итак, мой вывод оказывается весьма скептическим: Кирилл не создавал ни кириллицы, ни тем более глаголицы! Он лишь сократил славянскую часть известной ему по Херсонесу славянской письменности до 14 графем, но увеличил до 24 графем греческую часть. Кроме того, он ввёл «порядок», то есть цифровое значение ряда букв, но лишь заимствованных из греческого алфавита. Иными словами, он переработал уже существовавшую у славян азбуку таким образом, что славянская часть стала чуть ли не вдвое меньше греческой. По сути дела, он совершил по отношению к ранней славянской азбуке примерно такую же экзекуцию, которую Никон совершил по отношению к двоеверному православию Руси: произвёл реформу славянской азбуки в пользу Византии. После такого секвестирования славянским писателям следовало бы печалиться, хотя им же как христианам можно было бы радоваться! Однако подобная эллинизация славянской письменности, разумеется, не могла остаться незамеченной и потому получила название; её уже нельзя было назвать «глаголицей», то есть «разговорницей»; но она не была и «писанницей»; она стала удобной для Византии и потому разрешённой формой существования славянской письменности и была названа именем своего реформатора — кириллицей… Не должно возникнуть впечатления, что я негативно отношусь к деятельности Кирилла как славянского просветителя. Вовсе нет. Кирилл действительно явился редактором существующей азбуки, чем легализовал славянскую письменность в глазах византийской церкви, он переводил священные книги на славянский язык, он распространял церковный вариант письменности среди своих славянских последователей, и в этом качестве он вполне достоин уважения. Отрицается мной лишь один момент: изобретение им азбуки. Азбуку он не изобрёл (даже в том ограниченном смысле, в каком можно считать изобретением добавление 14 букв к уже существующим 24), а приспособил для переводов с греческого языка, и именно в этом смысле его можно считать великим славянским просветителем» (II, 58; 45, 46–47).
Н. В. Слатин: «Скорее же всего, ни он (Константин. — И.Д.), ни Мефодий, ни их ученики не изобретали ничего. И дополнять «греческую азбуку недостающими для записи славянских звуков буквами» им тоже не пришлось; более вероятно, что Кирилл воспользовался уже имеющейся азбукой, которую почерпнул из виденной в Корсуне книги… Таким образом, для готовившегося им перевода богослужебных книг он лишь дополнил русскую азбуку пятью греческими буквами, необходимыми только для передачи терминов и имён греческого происхождения; возможно, он добавил и «юсы» — буквы для носовых гласных. Возможно также, он как-то нормализовал правописание (если можно употребить такой термин к тем временам). Раз азбука существовала до него — и были грамотные люди, знавшие, как писать и читать по-славянски (по-русски), — правомерно ли Константина-Кирилла называть «первоучителем»? Для моравов… возможно, он учителем и был, в религиозном смысле, но для тех славян, к которым не была направлена его миссия?» (II, 52; 158–159).
Таковы мнения учёных относительно вклада Константина в дело создания славянской письменности. Как видим, сходясь в основном (признание существования протокириллицы и протоглаголицы у славян в докирилловскую эпоху), эти мнения и сильно различаются, когда речь заходит о характере переработки славянской азбуки Константином Философом.
Выразим нашу точку зрения на данный вопрос. Она исходит из того, что Кирилл перерабатывал обе азбуки, создав, таким образом, два вида сакрального славянского письма — глаголицу и кириллицу.
Создавая глаголицу, он:
1) Усложнил графическое начертание букв.
2) Расположил буквы в порядке, максимально близком к порядку букв в греческом алфавите.
3) Возможно, дал буквам названия (т. е. те самые «аз», «буки», «веди» и т. д.).
4) Подобно греческим буквам, наделил славянские цифровыми значениями.
5) Ввёл ряд греческих букв в созданный им алфавит. Последние были нужны только для передачи церковных терминов и имён греческого происхождения. Для славянского языка они были излишни.
6) Возможно, создал «юсы».
Создавая кириллицу, Константин проделал то же самое с протокириллической азбукой. Дополнительно азбучная цифирь была им максимально приближена к греческой (раз уж буквы похожи, то логично сделать схожими их цифровые значения). Были добавлены новые греческие буквы (т. е. к уже имевшейся «омеге», «фите» и «ижице» прибавились «кси» и «пси»). Начертание введённых в глаголицу «юсов» было изменено и приведено к общему графическому стилю кириллицы. Вот, собственно, и всё.
Безусловно, мы признаём те большие усилия, тот большой труд, которые Константин и Мефодий приложили к распространению церковного варианта славянского письма.
Однако голословных утверждений о существовании у славян до Кирилла протокириллического и протоглаголического письма недостаточно. Требуются доказательства этого.
Доказательством могли бы служить:
1) Упоминания в источниках подобных азбук.
2) Находки текстов, надписей, выполненных буквами этих алфавитов. Совсем было бы прекрасно, если бы имелся сам такой алфавит, зафиксированный на каком-либо носителе.
При наличии этих доказательств (хотя бы одной из групп) можно рассматривать вопрос происхождения азбуки, то есть каким образом она возникла — самостоятельно ли, была ли заимствована; если заимствована, то откуда, какой алфавит (алфавиты) послужил (послужили) источником (источниками).
Что касается протокириллицы, то из первой группы доказательств имеется лишь одно свидетельство. Известно, что в XVIII столетии черногорские князья Черноевичи владели дипломом, выданным римским папой и датированным 843 годом, который был написан кириллицей, т. е. за 20 лет до «создания» последней Кириллом (II, 52; 160). Доказательство, прямо скажем, шаткое.
Зато с доказательствами второго рода протокириллице, если можно так выразиться, повезло. В Ватикане среди прочих реликвий хранится образ Христа на полотенце, так называемый образ Вероники. Общепризнано, что он относится к первым векам христианства (потому-то и был причислен к разряду реликвий). На нём, кроме букв IC (Иисус) ХС (Христос) (а буквы эти могут быть как греческими уставными, так и кириллическими, точнее сказать, кириллического типа), имеется ясная надпись на славянском языке буквами, вне всякого сомнения, кириллического типа: «Образъ Гспднъ на убрусе». «Убрусом» ещё до сих пор называется в некоторых местностях России полотенце для лица (II, 52; 160).
В том же отделе реликвий Ватикана имеется икона апостолов Петра и Павла, по характеру письма относящаяся к первым векам нашей эры. В центральной части иконы вверху — образ Христа с надписью кириллицей: «IС ХС». Слева — образ святого Петра с надписью: «СТЫ ПЕТРI». Справа — образ святого Павла с надписью: «СТЫ ПАВЬЛЪ» (II, 52; 160).
Да, в Ватикане, если хорошенько поискать, можно найти много любопытного. Так, хорватский исследователь доктор Рачки в 1867 году опубликовал статью о том, как в Ватиканской библиотеке была обнаружена рукопись со странным текстом, где многие так называемые славянские буквы выглядят иначе, чем современные, но всё-таки присутствуют (рис. 3).
Рукопись совсем не напоминает привычный текст кириллицы, хотя левая колонка содержит привычные знаки: П, Р, Ж, С, В, Н, К, З, Г. Но это прописные. А строчные буквы совершенно непонятны. Учёными установлен алфавит этой рукописи (рис. 4). Он действительно представляет собой кириллицу, но в упрощённом виде, где знаки «потеряли» часть своих элементов. О древности этого алфавита говорит отсутствие букв для передачи звука «ф», которого тогда ещё не было в славянском языке, но он присутствовал в греческом, — нет ни «ферта», ни «фиты». Нет также и «юсов», что указывает на его неприспособленность для болгар (II, 58; 108). Исследователи считают, что подобный алфавит не мог сложиться эволюционно и представляет собой авторское изобретение (II, 58; 108). Помимо всего прочего, он интересен тем, что если глаголица представляет собой усложнённый тип письма, то азбука Ватиканской рукописи, напротив, предельно упрощена и несколько приближена к виду рунического футарка. В сязи с этим, у нас возникает вопрос: почему данный алфавит не мог сложиться эволюционно?
Рис. 3.
Рис. 4.
Ещё один фрагмент текста на протокириллице привёл в 30х годах XX века в своей работе, посвящённой славянскому письму, югославский профессор Живко Петрович (рис. 5). Данный текст, за исключением нескольких слов, нечитаем. Налицо сильные колебания в начертании одних и тех же букв, т. е. одна буква имеет по два-три варианта начертания. Есть в тексте такие славянские буквы, как «ять» и «ерь», но «юсов» нет (II, 58; 109).
Наконец, имеется и алфавит, который с полным основанием можно назвать протокириллическим. Речь идёт об азбуке Софии Киевской, то есть граффито, найденном в 70х годах XX века на стене Софийского собора Киева после расчистки штукатурки (рис. 6). Граффито (или граффити) называют надписи, процарапанные на штукатурке зданий, фресках храмов острыми предметами.
Рис. 5.
Рис. 6.
Что представляет собой «софийская» азбука? Высота букв — 3 сантиметра. Время появления азбуки в соборе — первая половина XI века, вскоре после сооружения храма. Однако сама азбука, как предположил обнаруживший её археолог С. Высоцкий, относится к гораздо более ранним временам (II, 27; 229). В ней 27 букв. В. А. Чудинов считает, что 28, полагая, что над буквой А изображён знак Т (II, 58; 110). Славянских букв четыре: Б, Ж, Ш, Щ.
Греческих же — 23 (или 24). Порядок букв греческий, т. к. греческим является положение букв «фита», «кси» и «омега». «Фита» (по-гречески «тета») расположена между «иже» и «и» («эта» и «йота» по-гречески). «Кси» между «наш» и «он» («ни» и «омикрон» по-гречески). «Омега» вынесена в самый конец алфавита. В кириллице (имея в виду её окончательно сформировавшийся вариант) первые две буквы располагались в конце азбуки. «Омега» предшествовала «цы». Отсутствуют славянские «еры», «юсы», «ять», «цы» и «червь». По мнению В. А. Чудинова, перед нами начальный этап формирования кириллицы (II, 58; 110).
В 70х годах прошлого века открывший эту азбуку С. Высоцкий, утверждая то же самое, выдвинул гипотезу, что на Руси ещё до 863 года существовали упорядоченная документация и литература. Пользовались для этих целей «софийской» азбукой (II, 27; 229).
Гипотеза С. Высоцкого вызвала серьёзные возражения со стороны лингвистов. Здесь можно согласиться: для передачи славянской речи азбука Софии Киевской приспособлена слабо. Широкое развитие литературы, ведение обширной деловой документации на её основе столкнулось бы со значительными трудностями.
Со стороны историков С. Высоцкому возразил Б. А. Рыбаков. Он считал, что азбука могла быть просто не дописана (II, 27; 229). Что ж? Тоже вполне вероятно. Но, на наш взгляд, описанный выше греческий порядок расположения букв говорит о завершённости азбуки, и мы с полным основанием можем согласиться с В. А. Чудиновым — перед нами протокириллица.
Древняя Русь предоставила в распоряжение учёных и ещё один образчик протокириллического письма. В 1949 году при раскопках захоронения воина под Смоленском (на Гнездовском могильнике) экспедицией Д. Авдусина был обнаружен черепок от корчаги с надписью кириллическими буквами. Поскольку захоронение датируется первой половиной Х века, то и надпись сделана не позже. Говорят даже о первой четверти Х века (II, 52; 139). Как ни странно, но эту короткую надпись довольно трудно прочесть, точнее, трудно прочесть однозначно из-за нечёткости начертания последних букв слова. Варианты прочтения: «гороухша» (так читали Д. Авдусин и академик М. Тихомиров), что означает «горчица»; «гороушна» (языковед П. Черных), что значит «горчичные зёрна»; «горюща» (археолог Г. Корзухина), то есть «горючее»; и даже «Гороух пса» (один чешский учёный), что на современный русский переводится как «Горух писал» (II, 27; 215).
Как бы там ни было, но до Владимирова крещения Руси оставалось ещё около полувека. А ведь именно с ним принято связывать распространение письма на Руси. Так оно и есть, если иметь в виду кириллицу и глаголицу. Надпись же на корчаге, ничего другого предполагать не остаётся, выполнена протокириллицей.
В. А. Чудинов на основании исследования всех имеющихся образцов протокириллицы выделяет её отличительные признаки. Прежде всего это отсутствие «юсов». Далее наличие блока из букв И, F, I (т. е. «иже», «фита», «и»). Затем возможный пропуск Ж, Ц, Ч или помещение Ц после Ч. И, наконец, наличие графического разброса в начертаниях букв: изображения вверх ногами и зеркально, сходство с буквами других алфавитов (греческого строчного, глаголического, рунического) (II, 58; 110–111).
Думается, после всех приведённых фактов наличие протокириллического письма у славян в докирилловскую эпоху можно считать доказанным.
Графическая схожесть протокириллических алфавитов с греческим письмом даёт повод к однозначному решению вопроса об их происхождении — их источником послужил алфавит греческий. Дискуссий по данному вопросу в официальной науке не ведётся. Но так ли всё здесь однозначно? Скажем сейчас, что точку ставить рано, и вернёмся к этой проблеме в следующих наших главах.
Когда, в какой период могли появиться у славян протокириллические азбуки? Как полагают учёные, не ранее VII века (II, 31; 105). Такой вывод базируется на убеждении в том, что появление письма у того или иного народа связано с зарождением у него государства, т. к. письмо необходимо для целей государственного управления. По имеющимся историческим данным, элементы государственности стали складываться у славян именно в VII веке, и даже появились первые государства. Так, в 623 году произошло объединение мораван под властью Само; в середине VII века — объединение чехов под властью Пшемысловичей; в 679 году Аспарухом было основано болгарское государство.
Увязка появления элементов государственности и письма в общем, конечно, верна. Но, на наш взгляд, она несколько схематична и не отражает всей сложности такого явления, как зарождение и развитие письменности. А поэтому мы оставим открытым вопрос датировки возникновения у славян протокириллицы и вернёмся к нему позже.
Сейчас же перейдём к протоглаголице. Свидетельства о существовании глаголического письма (или подобного ему) задолго до Константина Философа имеются. Так, С. Лесной (Парамонов) сообщает, что ещё в XIX столетии существовала Псалтирь, относящаяся к 1222 году и переписанная глаголическими буквами из старой славянской (также глаголической) Псалтири, относящейся примерно к первой половине VII века. В 1766 году граф Клемент Грубисич утверждал, что глаголица была составлена задолго до Рождества Христова неким Фенисием из Фригии, взявшим за основу готские руны. Рафаил Ленакович за 125 лет до Грубисича писал приблизительно то же самое. Ещё ранее, в 1613 году, Клод Дюрет в своей книге привёл два глаголических алфавита, приписываемых им святому Иерониму. В 1538 году Вильгельм Постелл утверждал то же самое. Существует так называемый «Клотцевский кодекс», на котором по-немецки и по-латински сделаны приписки, где сообщается, что эта книга была написана святым Иеронимом собственной рукой на хорватском языке (II, 52; 159).
Можно признать все эти свидетельства малоубедительными, сомнительными. Но обращает на себя внимание тот факт, что, приводимые в различное время различными людьми независимо друг от друга, они указывают на одно и то же — существование глаголицы в докирилловский период. Правда, встаёт вопрос: была ли это уже окончательно сформировавшаяся глаголица или глаголица неотредактированная, т. е. та, которую принято называть протоглаголицей. Думаем, это была именно протоглаголица. Отнесение же к более древним, чем IX век, временам глаголицы в её окончательном варианте (как это делает приписка к «Клотцевскому кодексу») лишь подтверждает существование именно протоглаголического письма. Подобное отнесение представляет собой, на наш взгляд, механическое перенесение памяти о бытовании письма, лишь подобного глаголице, непосредственно предшествовавшего ей, на собственно глаголицу. Кстати, совершенно не доказано, что «Клотцевский кодекс» принадлежит перу Иеронима и относится к IV веку н. э. (II, 58; 138).
Вообще святому Иерониму нам надо уделить больше внимания. Дело в том, что есть давняя традиция, «перекочевавшая» в науку и существующая там на правах одной из гипотез возникновения глаголицы, приписывать создание последней этому почтенному мужу.
Иероним родился около 347 года в Стридоне, на Словенском побережье. Возможно, его родители были римскими поселенцами. Однако не исключено, и даже очень и очень вероятно, что они были славянами. Во всяком случае, в своих письмах Иероним называет далматинцев и иллирийцев своим народом. А о том, что иллирийцы и далматинцы того времени были именно славянами, говорит тот факт, что говорили они на славянском языке. В своём «Комментарии к Посланию Павла к ефесянам» Иероним соотносит себя с именем «Тихикус» и даёт его пояснение на латыни: «Имя Тихикус интерпретируется как молчаливый». Славянам и без подобного пояснения ясно, что значит это имя — «тихий», «молчаливый». У словенцев, из среды предков которых вышел Иероним, до сих пор есть слово «тих», буквально означающее «молчаливый». Отсюда следует простой вывод: если святой Иероним и не был сам славянином, то знал славянский (венетский) язык, который в его время в области нынешней Словении (Истрия, Далмация) был разговорным, то есть иллирийцы и далматинцы — славяне.
Образование Иеронима, вначале домашнее, было продолжено в Риме. Большая часть его жизни прошла в Риме и Палестине. По предложению папы Дамаса I (366–384) он перевёл всю Библию на латинский язык. Он также написал ряд комментариев к Библии, ряд аскетических, монашеских и теологических работ.
Библию Иероним переводил не только с греческого на латинский. В своих письмах он сообщает, что перевёл Библию своим землякам (II, 52; 159). То есть перевёл, вероятнее всего, на славянский (венетский) язык. Но каким алфавитом при этом пользовался Иероним? Он мог использовать греческий или латинский алфавит. Однако подобные переводы были бы трудночитаемы. Так что для этой работы применялось, надо полагать, особое славянское письмо, каковым могла быть протоглаголица или даже глаголица. Данное письмо Иероним мог изобрести, всего лишь отредактировать его и, наконец, использовать без всякой редакции.
Первую из перечисленных гипотез мы не принимаем по следующим соображениям. Трактат Храбра «О письменах» имел направленность против «трёхязычной ереси», то есть доказывал право славян иметь церковные книги и богослужение на родном языке. В этой связи упоминание славянской азбуки, созданной самим святым Иеронимом, как нельзя лучше подтверждало бы это право. Но Храбр о ней молчит. А ведь он был человеком образованным, к тому же духовного звания. Так что не знать о подобном деянии святого Иеронима он не мог. Конечно, можно возразить, что Иероним был одним из учителей ранней Западной церкви, ориентировался на Рим, а Храбр был ориентирован на Константинополь. Поэтому Храбр мог умолчать о создании славянской азбуки «западным» святым. Однако во времена Храбра окончательного разрыва между римской и константинопольской церквями ещё не произошло. Вспомним, что Кирилл и Мефодий в своей миссионерской деятельности апеллировали к Риму, а Мефодий был даже рукоположен папой в сан архиепископа. Об этом Храбр, безусловно, знал и принимал данные факты как должное. Уж тем более не должна была смущать его «западность» Иеронима, жившего в IV веке н. э., когда ещё ни о каком расколе между церквами не было и речи. Так что молчание автора трактата «О письменах» ясно говорит о том, что святым Иеронимом славянская азбука не создавалась, к созданию протоглаголицы или глаголицы он отношения не имеет.
Более вероятен вариант, что Иероним перерабатывал (дорабатывал) уже существовавший у славян протоглаголический алфавит. Такой точки зрения придерживаются, например, такие современные учёные, как словенец Иван Томашич и россиянин В. А. Чудинов (II, 58; 137–138). Мы, однако, оговоримся: доработки Иеронима не носили существенного характера, если имели место вообще. В случае существенности этих доработок они, скорее всего, отразились бы в том же трактате Храбра. Причём им было бы присвоено имя «создание», по аналогии с доработками (переработками) Кирилла. Но у Храбра ничего об этом нет. Кроме того, если брать версию В. А. Чудинова, по которой в результате редакции Иеронима глаголица вообще приобрела окончательный вид (в её хорватском варианте) (II, 58; 137), то кажется весьма странным, что ориентировавшийся на Рим Иероним, переводивший Библию с греческого языка на латинский, вдруг редактирует славянское письмо, приближая его к греческому, а не латинскому алфавиту.
Итак, редактирование святым Иеронимом славянской азбуки было незначительным. Его могло не быть вовсе. Иероним просто при переводе Библии на славянский язык использовал бытовавший среди славян Истрии и Далмации протоглаголический алфавит. Но тот факт, что Иероним использовал протоглаголическое письмо в своей работе, раз и навсегда крепко связал его имя с глаголицей, заставляя многих видеть в нём автора последней.
На сегодняшний день, несмотря на значительную массу свидетельств, которые указывают на возможность существования протоглаголицы, в распоряжении учёных нет ни одного текста, ни одной, хотя бы очень короткой, надписи, выполненных буквами этого алфавита. То есть положение с протоглаголицей в этом отношении разительно отличается от положения с протокириллицей.
В науке предпринимались попытки воссоздать протоглаголический алфавит. Они принадлежат советским учёным Н. А. Константинову, Н. В. Энговатову и И. А. Фигуровскому и относятся к 50—60-м годам прошлого столетия.
Н. А. Константинов выводил протоглаголическое письмо из так называемых «причерноморских знаков». Знаки эти были открыты в середине XIX века в русском Причерноморье — в Херсонесе, Керчи, Ольвии и других местах, где когда-то существовали греческие поселения. Датируются концом I тысячелетия до н. э. — первыми тремя-четырьмя веками н. э. Встречаются наряду с греческими надписями на каменных плитах, надгробьях, амфорах, монетах и т. п. Некоторые из знаков схожи с буквами глаголицы.
Большинство специалистов по «причерноморским знакам» считают их знаками скифо-сарматских родов, а некоторые более сложные и поздние — царскими монограммами (И. И. Мещанинов, Э. И. Соломоник, В. С. Драчук и др.) (II, 31; 117–118), (II, 27; 189–193).
Н. А. Константинов же полагал, что «причерноморские знаки» ведут своё происхождение от кипрского слогового письма V–IV веков до н. э. и являются именно письмом. Таким образом, протоглаголица уходит корнями в кипрский силлабарий (II, 31; 118–121), (II, 58; 152–154).
Н. В. Энговатов воспроизводил протоглаголический алфавит на основе изучения загадочных знаков, встречающихся в кирилловских надписях на монетах русских князей XI века (II, 31; 121–123), (II, 58; 152–154).
Наконец, И. А. Фигуровский воссоздал протоглаголицу на основе исследования русских пряслиц и хазарских надписей на баклажках Новочеркасского музея (II, 58; 154–156), (II, 31; 127–128).
Все попытки реконструкции протоглаголического алфавита были подвергнуты научной общественностью острой критике. В нашей главе мы не будем подробно рассматривать все плюсы и минусы результатов работы Н. А. Константинова, Н. В. Энговатова, И. А. Фигуровского. Интересующихся отсылаем к книгам В. А. Истрина «1100 лет славянской азбуки» и В. А. Чудинова «Загадки славянской письменности», в которых произведён разбор всех трёх попыток воссоздания протоглаголицы.
Здесь же отметим лишь одно уязвимое место гипотез этих исследователей. Они считали протоглаголицу возникшей в среде восточных славян. Тогда как исторические факты свидетельствуют скорее об обратном, т. е., что в среде восточных славян она не возникала. К подобным фактам относим наибольшее распространение и наиболее долгое использование глаголицы у славян западных, точнее юго-западных. Поскольку протоглаголический алфавит, если он существовал, был непосредственной предтечей глаголицы, то приходится полагать, что протоглаголица родилась именно у юго-западных славян.
Уже к нашим дням относится ещё одна попытка воспроизведения протоглаголического алфавита. Предпринял её российский учёный В. А. Чудинов. Он выводит протоглаголицу в основном из ободритских рун и слогового славянского письма, о котором мы поговорим ниже (II, 58; 161–163). Отзывы учёных о результатах усилий В. А. Чудинова нам пока не известны. Как говорится, поживём — увидим.
Что касается происхождения протоглаголицы, то, поскольку далеко не все учёные допускают возможность её существования, «полифонии», подобной той, которая существует в отношении вопроса происхождения глаголицы, здесь не наблюдается.
Но, как нам кажется, часть точек зрения на происхождение глаголицы можно перенести и на протоглаголический алфавит (раз уж последний был «прародителем» первой). Поэтому процитируем Я. Б. Шницера, который в немногих словах даёт представление о существующих гипотезах возникновения глаголического письма. «Глаголица состоит из 40 знаков с такими замысловатыми, причудливыми и своеобразными формами, что при поверхностном взгляде очень трудно найти какое-либо сходство с другими алфавитами. Это обстоятельство и подало повод к оживлённым спорам по вопросу о том, что именно послужило образцом для изобретения глаголицы. Некоторые полагали (Антон) (чешский учёный конца XVIII века. — И.Д.), что глаголица заключала в себе первобытные славянские письмена, так называемые руны, то есть те символические знаки и изображения, которые существовали у славян в дохристианскую эпоху и служили для обозначения не отдельных звуков, а целых понятий, как то времён года, месяцев, явлений природы, божеств и прочих. Всеволод Миллер, однако, посмотрел на это совершенно иначе. По его мнению, в замысловатой форме глаголицы надо видеть не руническую систему древних славян, а признак личного творчества, почему и приписывает изобретение этой азбуки святому Кириллу.
Другие, напротив, считали глаголицу не изобретением в собственном смысле этого слова, а только неудачной переделкой из какого-либо другого алфавита, а потому старались находить сходство между нею и некоторыми алфавитами. Гануш, например, старался доказать сходство некоторых букв с германскими рунами (неточность: Гануш выводил буквы глаголицы в основном из рун ободритов. — И.Д.); Шафарик указывал на сходство некоторых начертаний с письменами восточными (сирийским, пальмирским и др.); Миллер — с письменами персидскими (времён Сассанидов), Григорович выводил глаголицу из арабского письма, Гайтлер, наконец, доказывал, что глаголический алфавит является видоизменением албанского письма, и. т. д.» (II, 58; 115–116).
От себя добавим. По мнению Тэйлора, Ягича и Беляева, источник глаголицы — курсивное письмо (скоропись) греков VIII и IX веков; академика Е. Ф. Карского — кириллица; Г. В. Вернадского — грузинский или армянский алфавит.
Итак, вопрос происхождения глаголицы гораздо более сложен, чем вопрос происхождения кириллицы. Последний, как мы помним, решается однозначно — источником кириллицы послужил греческий устав.
Однако что из всего этого многообразия можно отнести к источникам протоглаголицы. Думается, во-первых, славянские руны как пиктографические знаки (гипотеза Антона); во-вторых, ободритские и германские руны (уже как имеющие буквенное значение) (гипотеза Гануша); в-третьих, греческую скоропись (гипотеза Тэйлора); в-четвёртых, армянское или грузинское письмо (гипотеза Вернадского).
Помимо этого, как говорилось несколько выше, Н. А. Константинов выводил протоглаголицу из «причерноморских знаков», В. А. Чудинов прибавляет к её источникам слоговое славянское письмо. П. Я. Черных, Е. М. Эпштейн считали, что протоглаголица возникла из первоначальных славянских «черт и резов». Этой же точки зрения придерживается В. А. Истрин с той оговоркой, что существование протоглаголического письма — вопрос спорный (II, 31; 133). При этом в «чертах и резах» он видит пиктографические знаки, т. е. его точка зрения на происхождение протоглаголицы фактически совпадает с мнением Антона.
Единого взгляда на время появления протоглаголицы также не существует. Понятно, что взгляды на этот вопрос во многом определяются точкой зрения на происхождение протоглаголического письма. Часть исследователей считает, что данное письмо не могло появиться у славян ранее VII, а то и VIII века н. э. Так же как и в вопросе с протокириллицей, они связывают его появление со сложением элементов государственности у славянских племён (II, 31; 134). Однако если считать создателем протоглаголицы святого Иеронима (для чего, как было показано выше, есть некоторые основания), то время её возникновения придётся отнести примерно к концу IV века н. э. Если же принимать позицию тех учёных, которые называют Иеронима всего лишь редактором уже существовавшей протоглаголицы, то её появление относится к ещё более ранним временам. Каким? Интересный ответ даёт В. А. Чудинов: протоглаголица сложилась во II–III веках н. э. Такой вывод исследователь делает на следующих основаниях. Болгарский вариант глаголицы (округлый) — это скоропись. Скоропись, как можно судить по развитию кириллицы (начавшейся в IX веке с уставного шрифта), появляется где-то к VII веку существования письма (в России скорописный кириллический шрифт возник к XVI веку). Стало быть, если наиболее ранние образцы болгарской глаголицы, дошедшие до нас, например «Киевские листки» Х века, можно сопоставить с греческой скорописью IX века, то временем сложения глаголицы как торжественного славянского письма (аналога кирилловского устава) и следует считать II–III века н. э. (II, 58; 137). Однако был сначала первый этап, когда начертания букв ещё не устоялись, а порядок их следования был не вполне твёрдым. На последующем этапе, продвинутом, эти недостатки оказались устранены, сложился торжественный стиль начертания. Процесс сложения занял полтора-два века. В IV веке глаголица была отредактирована (скорее всего, святым Иеронимом) (II, 58; 137). Причём эта редакция придала ей окончательный вариант. Таковым вариантом является хорватская форма глаголицы. Буквы были выстроены в известной нам последовательности, усложнены графически, наделены цифровыми значениями. Переработка уже существовавшего алфавита была связана с христианством. Раннюю, до редакции IV века н. э., глаголицу В. А. Чудинов и именует протоглаголицей (II, 58; 137).
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что существование протоглаголического письма лишь вероятно (хотя степень вероятности очень велика), в то время как бытование у славян в докириллическую эпоху протокириллицы можно считать доказанным. Вообще весь комплекс вопросов, связанный с протоглаголицей и глаголицей, представляется более сложным, чем вопросы, касающиеся кириллицы и протокириллицы. Об этом ясно говорит разброс мнений о происхождении глаголицы и протоглаголицы. Вопрос же о происхождении кириллицы и протокириллицы решается официальной наукой однозначно.
На этом мы завершаем главу, посвящённую возникновению и взаимоотношению двух славянских азбук, и переходим к рассмотрению проблем, связанных с существованием письма у славян до святого Кирилла.
Существование письменности у славян до Святого Кирилла
Такова уж специфика освещаемой в нашей книге темы, что, рассматривая один из связанных с нею вопросов, неизменно затрагиваешь и другой. Так, ведя разговор о протокириллице и протоглаголице, мы уже коснулись проблемы существования письменности у славян в докириллическую эпоху. Однако в данной и последующих главах этот вопрос будет раскрыт значительно шире. Будут раздвинуты хронологические рамки, привлечены дополнительные доказательства, речь пойдёт не только о протокириллице и протоглаголице, но и других типах письма славян. Наконец, на ту же протокириллицу мы взглянем по-иному.
«В отечественной славистике до 40х годов XX века и в большей части зарубежных исследований более позднего времени существование докириллического письма у славян обычно отрицалось. В 40—50х годах в советской науке для доказательства полноценности и независимости славян в своём развитии появилась противоположная теория о том, что письмо у них возникло самостоятельно в глубокой древности…» — так в немногих словах обрисовывает современный исследователь Е. В. Уханова подходы, существовавшие к проблеме докирилловской славянской письменности (II, 58; 196).
В общем, зарисовка Е. В. Ухановой верна. Но она требует некоторых дополнений и уточнений.
Мнение, согласно которому письмо у славян появилось со времён деятельности Кирилла и Мефодия, а до этого славяне были народом бесписьменным, стало господствующим (подчеркнём: господствующим, но отнюдь не единственным) в российской и зарубежной славистике только в течение XIX века. В XVIII веке многие учёные утверждали как раз обратное. Можно назвать имена чехов Лингардта и Антона, которые считали, что письменность у славян появилась задолго до солунских братьев. Только появление такой развитой алфавитной системы, как глаголица, они относили к V–VI векам н. э. (II, 31; 144). А до этого, по их мнению, у славян существовали руны (II, 58; 115).
«Отец русской истории» В. Н. Татищев в своей «Истории Российской» первую главу посвятил доказательству древности славянского письма. Эта глава, кстати, так и называется — «О древности письма славянов». Процитируем выдержки из неё, ибо они очень интересны и показательны.
«…Когда же, кем и которые буквы первее изобретены, о том между учёными распри неокончаемые… Что же славянского вообще и собственно славяно-руссов письма касается, то многие иноземцы от неведения пишут, якобы славяне поздно и не все, но одни за другими письмо получили и якобы руссы пятнадцать веков по Христе никаких историй не писали, о чём Треер из других в его Введении в русскую историю… написал… Другие, того дивнее, что сказуют, якобы в Руси до Владимира никакого письма не имели… Подлинно же славяне задолго до Христа и славяно-руссы собственно до Владимира письмо имели, в чём нам многие древние писатели свидетельствуют…
Ниже из Диодора Сицилийского и других древних довольно видно, что славяне первее жили в Сирии и Финикии… где по соседству еврейское, египетское или халдейское письмо иметь свободно могли. Перешед оттуду, обитали на Чёрном море в Колхиде и Пафлагонии, а оттуду во время троянской войны с именем генети, галли и мешини, по сказанию Гомера, в Европу перешли и берег моря Средиземного до Италии овладели, Венецию построили и пр., как древние многие, особливо Стрыковский, Бельский и другие, сказуют. Следственно, в такой близости и сообществе со греками и италианы обитав, несумненно письмо от них иметь и употреблять способ непрекословно имели, и сие токмо по мнению моему» (II, 58; 197–198).
Что мы видим из этой цитаты? Прежде всего то, что В. Н. Татищев говорит о существовании письма у славян (хоть и заимствованного) задолго до нашей эры. Во-вторых, ясно, что в это время в науке была сильна и другая точка зрения, считавшая славян народом бесписьменным буквально до Х века н. э. Отстаивали эту точку зрения в основном немецкие историки (Треер, Беер). Однако в России официальной она не была, т. е. не была господствующей, иначе императрица Екатерина II не писала бы в своих «Записках касательно Российской истории» дословно следующее: «Закон или Уложение древнее Русское довольно древность письма в России доказывают. Руссы давно до Рюрика письмо имели…» (II, 58; 196). А годы правления Рюрика — 862–879. Выходит, что русы имели письмо задолго до призвания в 863 году святого Кирилла в Моравию. Конечно, Екатерина Великая не была учёным, но была весьма образованна и старалась быть в курсе последних достижений науки. Поэтому высказывание ею подобного мнения говорит о его значимости в русской исторической науке того времени.
В течение XIX века, однако, акценты были переставлены. Мнение о том, что до момента деятельности солунских братьев славяне письменности не имели, стало преобладать. Упоминания письменных источников, говорившие об обратном, игнорировались. Образцы докириллического славянского письма либо также игнорировались, либо объявлялись подделкой. Кроме того, если эти образцы представляли собой небольшие или неразборчивые надписи, их объявляли знаками рода, собственности, либо комбинацией природных трещин и царапин. Обо всех этих памятниках славянского докириллического письма мы подробнее скажем ниже. Сейчас же заметим, что и в XIX веке часть и зарубежных, и российских учёных-славистов продолжала считать, что письменная традиция у славян старше IX века. Можно назвать имена Гримма, Коллара, Лецеевского, Гануша, Классена, Черткова, Иловайского, Срезневского.
Точка зрения о бесписьменности славян до второй половины IX века, став господствующей в царской России, перешла и в советскую историческую науку. И только с конца 40х годов XX века начался тот процесс, о котором пишет Е. В. Уханова.
Целая группа исследователей выступила с утверждениями о глубокой древности славянского письма (Черных, Формозов, Львов, Константинов, Энговатов, Фигуровский). П. Я. Черных, например, писал следующее: «Можно говорить о непрерывной (с доисторической эпохи) письменной традиции на территории Древней Руси» (II, 31; 99). А. С. Львов древним славянским письмом считал глаголицу, относил её появление к I тысячелетию до н. э. и делал вывод о том, что «глаголица имеет прямое отношение к клинописи» (II, 31; 99). Согласно А. А. Формозову, какая-то письменность, состоящая из условных знаков, оформленных в строки, общая для всей степной полосы России и «сложившаяся на местной основе», существовала уже в середине II тысячелетия до н. э. (II, 31; 99).
Выше мы уже говорили о реконструкциях протоглаголического алфавита Н. А. Константиновым, Н. В. Эноговатовым, И. А. Фигуровским.
Все эти попытки доказать древность и самостоятельность славянской письменности были охарактеризованы официальной наукой как «неправильная тенденция» (II, 31; 99). «Нельзя чрезмерно удревнять» — таков вывод наших профессоров и академиков, занимающихся этими вопросами. Но почему нельзя? Потому, что, когда речь заходит о временах, близких к рубежу эр, и уж тем более о временах до нашей эры, подавляющее большинство учёных мужей и тогда (в 50—60х гг. XX века), и сейчас опасаются употреблять слово «славяне» (мол, существовали ли они тогда вообще? А если существовали, то о какой письменности может идти речь?). Вот что пишет, например, В. А. Истрин по поводу датировки возникновения глаголицы А. С. Львовым I тысячелетием до н. э.: «Между тем в I тысячелетии до н. э. праславянские племена, видимо, даже не сложились полностью как народность и находились на таких ранних ступенях родового строя, когда у них никак не могла появиться потребность в столь развитой буквенно-звуковой системе письма, как глаголица» (II, 31; 99). Однако в среде лингвистов точка зрения, что праславянский язык сложился задолго до нашей эры, является вполне обычной (II, 56; 12). Раз существовал язык, то существовал и народ, говорящий на этом языке. Чтобы читателей и слушателей не смущала приставка «пра» в слове «праславяне», скажем, что «праславянами» именуют славянские племена на стадии их языкового единства. Принято считать, что таковое единство распалось к V–VI векам н. э., когда славяне разделились на три ветви: восточную, западную и южную. Следовательно, термин «праславянский язык» означает язык славянских племён до их разделения. Употребляется ещё понятие «общеславянский язык» (II, 56; 11).
На наш взгляд, не будет большого греха отбросить приставку «пра» и говорить просто о славянах до нашей эры. В этом случае вопрос надо ставить уже по-другому: уровень развития славянских племён. Каков он? Может быть, такой, при котором уже возникает потребность в письме?
Но мы отвлеклись. Итак, попытки удревнения славянской письменности были осуждены официальной наукой. Тем не менее было бы несправедливо говорить, как это делают некоторые сторонники удревнения, что эта самая наука стоит на позициях бесписьменности славян до времени деятельности Кирилла и Мефодия. Как раз наоборот. Российские историки и филологи признают, что у славян была письменность до IX века. «Внутренние потребности классового общества, — пишет академик Д. С. Лихачёв, — в условиях слабости политических и экономических связей у восточнославянских племён могли привести к образованию или заимствованию различных алфавитов на различных территориях. Знаменательно, во всяком случае, хотя бы то, что единый, воспринятый из Болгарии алфавит — кириллица — устанавливается только в относительно едином раннефеодальном государстве, между тем как древнейшие времена дают нам свидетельства о наличии обоих алфавитов — и кириллицы, и глаголицы. Чем старше памятники русской письменности, тем вероятнее в них наличие обоих алфавитов.
Исторически нет оснований думать, что древнейшая двуалфавитность — явление вторичное, сменившее первоначальную одноалфавитность. Потребность в письменности при отсутствии достаточных государственных связей могла породить в различных частях восточнославянского общества различные попытки ответить на эти потребности» (II, 31; 107–108).
В этом же ключе высказывается В. А. Истрин: «Выводы о существовании письма у славян (в частности, восточных) в дохристианский период, а также одновременном применении славянами нескольких разновидностей письма подтверждаются документальными свидетельствами — как летописными, так и археологическими» (II, 31; 132).
Правда, необходимо оговориться, что официальная российская наука признавала и признаёт докириллическую славянскую письменность с рядом ограничений. Таковые касаются видов письма и времени их возникновения. Видов было не более трёх: протокириллица (позаимствованная у греков), протоглаголица (возможный вид письма; сформироваться мог на местной основе) и пиктографическое письмо типа «черт и резов» (также возникло на местной основе). Если первые два вида представляли собой развитую буквенно-звуковую систему, то последний — это письмо примитивное, включавшее небольшой, нестабильный и разный у разных племён ассортимент простейших и условных знаков, имевших весьма ограниченный круг применения (счётные знаки, знаки собственности, гадания, родовые и личные знаки и т. п.).
Начало применения славянами протокириллицы и протоглаголицы относится не ранее чем к VII–VIII векам н. э. и увязывается с формированием элементов государственности у славян (II, 31; 132–133), (II, 16; 204). Пиктографическое письмо типа «черт и резов» могло возникнуть во II–V веках н. э. (II, 31; 132), (II, 16; 204).
Как видим, от IX века ушли недалеко, если не считать II–V веков н. э. для «черт и резов». Но последние трактуются как примитивная пиктографическая система. Другими словами, в наличии древней письменной традиции славянам всё же отказывают.
И ещё один интересный факт. Несмотря на то что наличие письма у славян до момента деятельности солунских братьев признаётся российской наукой, почему-то представители последней ничего не сделали для того, чтобы существующая система исторического образования доводила это до обучаемых отечественной истории. Прежде всего мы имеем в виду, конечно, среднее звено, то есть школу, которая оказывает значительное влияние на формирование массового сознания. В итоге не приходится удивляться, что большинство наших граждан твёрдо убеждены, что письмо славянам принесли Кирилл и Мефодий, и светоч грамотности распространился по славянским землям только благодаря христианству. Знания о дохристианской письменности у славян остаются как бы кулуарными, достоянием лишь узкого круга специалистов.
Не приходится в этой связи удивляться и тому, что не так давно по решению ЮНЕСКО 863 год признан годом создания славянской письменности (II, 9; 323). В ряде славянских стран, в том числе и в России, отмечается День славянской письменности и культуры. Замечательно, что существует такой праздник. Только вот его празднование неразрывно связано с именами Кирилла и Мефодия (праздник и приурочен к памятному дню святого Кирилла). Солунские братья при этом именуются «первоучителями», и всячески подчёркивается роль православной христианской церкви в просвещении славян. Мы отнюдь не хотим преуменьшать заслуг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (они действительно велики), но считаем, что историческая память не должна быть избирательной, а истина превыше всего.
Однако из сферы массового сознания вернёмся в сферу научную. Отмеченная Е. В. Ухановой тенденция в советской-российской науке (исторической и филологической) доказывать древность и самостоятельность славянского письма, никогда — с конца 40х годов XX века, в сущности, не затухая полностью, пережила бурный всплеск в так называемые перестроечный и постперестроечный периоды. Если раньше публикации, затрагивающие эту тему, были вытеснены, в основном, на страницы периодической печати и научно-популярной литературы, то в наши дни появляется большое количество книг, которые вполне могут расцениваться как серьёзные научные монографии. Стали известны имена таких исследователей, как В. А. Чудинов, Ю. К. Бегунов, Н. В. Слатин, А. И. Асов, Г. С. Гриневич и ряд других.
Заметим также, что в зарубежной славистике указанная тенденция распространения не получила. Позиции, на которых стоят зарубежные слависты, можно охарактеризовать, процитировав слова известного чешского учёного Ч. Лоукотки: «Славяне, позднее выступившие на европейском культурном поприще, научились писать лишь в IX веке… Говорить о наличии письма у славян раньше конца IX века не приходится, если не считать зарубок на бирках и других мнемотехнических средств» (II, 31; 98). Исключение составляют, пожалуй, лишь болгарские и югославские историки и филологи. Ими, в частности Е. Георгиевым (Болгария) и Р. Пешичем (Сербия), проделана большая работа по доказательству существования у славян протокириллического письма.
Со своей стороны мы придерживаемся мнения, что до IX века н. э. славянская письменная традиция насчитывала много веков. Излагаемый в дальнейшем материал послужит доказательством этого положения.
* * *
В ряде письменных источников сообщается о наличии у славян докириллического (дохристианского) письма.
Прежде всего, это уже неоднократно упоминавшееся нами «Сказание о письменах» черноризца Храбра. Первые строки трактата дословно гласят следующее: «Преже убо Словене не имеху книг, но чертами и резами четяху и гадааху, погане суще…» (II, 52; 141), (II, 27; 199). Всего несколько слов, но есть некоторые трудности с переводом, и от разрешения этих трудностей зависит контекст данного сообщения. Во-первых, в ряде списков вместо слова «книг» стоит слово «письмен». Согласитесь, смысл предложения очень сильно зависит от того, какое из этих слов предпочесть. Одно дело — иметь письмо, но не иметь книг. Другое дело — не иметь «письмен», т. е. письменности. «Не имели книг» ещё не означает, что письмо носило примитивный характер и служило для обслуживания каких-то элементарных бытовых и жизненных нужд (знаки собственности, рода, гадания и т. п.). Эти слова писал христианин, причём духовного звания (черноризец — монах). Говоря таким образом, он мог иметь в виду отсутствие христианских священных книг. В пользу данного предположения говорит окончание фразы: «погане сущи», т. е. «потому, что были язычниками». Кроме того, по мнению Н. В. Слатина, эти слова «следует понимать так, что у них (т. е. славян. — И.Д.) не было книг в том виде, как они появились позже, но они на других материалах, не на пергаменте, — на дощечках, например, на бересте или на камне и т. п. — процарапывали острым предметом надписи и тексты» (II, 52; 141).
Да и слово «письмена» так ли однозначно надо понимать как «письменность»? В ряде переводов речь идёт о «буквах» (II, 58; 49). Такое понимание этого слова нам представляется более верным. Прежде всего, оно вытекает из самого названия произведения. Далее, ниже в своём трактате сам Храбр, говоря о создании Константином Философом славянской азбуки, употребляет слово «письмена» в значении «буквы»: «И создал он для них 30 письмён и 8, одни по образцу греческих, другие же в соответствии со славянской речью» (I, 7; 52). «Это же письмена славянские, и так их надлежит писать и выговаривать… Из них 24 подобные греческим письменам…» (I, 7; 54). Итак, «письмена» тех списков произведения Храбра, где это слово употреблено вместо слова «книги», — это «буквы». При такой трактовке начало «Сказания» будет выглядеть следующим образом: «Ведь прежде славяне не имели букв…». Но раз не имели букв, то не имели и письменности. Нет, подобный перевод не даёт оснований для таких выводов. Славянские письменные знаки могли просто называться по-другому: «черты и резы», как говорит Храбр, или «руны». Затем не забудем и о том, что писал эти слова христианин и монах. Под «буквами» он мог понимать христианские письменные знаки, т. е. знаки сакральной христианской азбуки, созданной специально для записи христианских текстов. Так понимает это место «Сказания» В. А. Чудинов (II, 58; 50). И надо признать, что он, скорее всего, прав. В самом деле, для христиан языческое письмо по каким-то причинам не подходило. Видимо, они считали ниже своего достоинства записывать христианские священные тексты языческими символами. Именно поэтому епископ Вульфила создаёт в IV веке н. э. письмо для готов. В этом же веке на Кавказе Месроп Маштоц создал целых три системы письма для кавказских народов (армян, грузин, кавказских албанцев), перешедших в христианство. Готы имели руническое письмо. По мнению ряда исследователей, письмо имели до принятия христианства армяне и грузины.
Итак, что мы имеем? Какой из списочных вариантов ни возьми, тот ли, где идёт речь о книгах, тот ли, где о «письменах», к выводу об отсутствии у славян письма он не приводит.
Если же продолжить анализ предложения, то вывод будет как раз иной: письмо у славян в языческие времена существовало. «Чертами и резами» славяне «четяху и гадааху». Большинство исследователей переводит «четяху и гадааху» как «читали и гадали». Если читали, то, значит, было что читать, письменность была. Некоторые учёные (в частности, В. А. Истрин) дают перевод «считали и гадали». Почему даётся такой перевод, в принципе понятно. Замена всего одного слова ведёт к большим последствиям. Выше мы говорили, что советская историческая наука с конца 40х годов XX века стала придерживаться мнения о существовании у славян дохристианского письма. Но собственным, непосредственно родившимся в славянской среде, безоговорочно признавалось только примитивное пиктографическое письмо, каковым и считались упоминаемые Храбром «черты и резы». При таком понимании последних слово «читали» как бы выпадает из контекста, ведь оно указывает на развитую письменность. Не согласуется оно и со словом «гадали». По-другому к вопросу выпадения слов из контекста фразы подошёл современный филолог Н. В. Слатин. Он переводит эту часть предложения как «читали и говорили», понимая под «говорили» — «писали» и указывая, что употребление в переводах слова «гадали» противоречит смыслу предложения (II, 52; 141).
На основании всего изложенного мы даём следующий перевод начала трактата Храбра: «Ведь прежде славяне не имели книг (букв), но чертами и резами читали и говорили (писали)».
Почему так подробно остановились на анализе всего одного предложения из «Сказания о письменах»? Дело в том, что от результатов этого анализа зависят две вещи. Во-первых, разрешение вопроса о степени развитости славянской письменности. Во-вторых, признание наличия письма у славян как такового. Вопросы поставлены в такой «перевёрнутой» последовательности не случайно.
Для официальной советской (сейчас — российской) исторической науки здесь, собственно, нет проблемы, особенно мучиться над переводом данного предложения не надо (разве что с чисто филологических позиций, ратуя за правильный перевод древних слов на современный язык). Указание на наличие у славян пиктографии есть, так сказать, «в чистом виде». Ну и слава богу! Большего нам и желать нечего.
Но пиктография — это начальная стадия в развитии письма, письмо крайне примитивное. Некоторые исследователи и письмом её не считают, чётко отделяя пиктографию, как мнемотехническое средство, от фонетизированной письменности (II, 40; 21). Отсюда уже всего один шаг до того, чтобы сказать: «Картинки картинками, а письма-то у славян не было».
Мы же, со своей стороны, следуя за рядом учёных, попытались показать, что слова черноризца Храбра не только не отрицают наличия у славян письменности, не только указывают на наличие у них пиктографии, но говорят о том, что славянское письмо носило довольно развитый характер.
Перейдём к свидетельствам других источников. О письме у восточных славян сообщают арабские путешественники и учёные. Ибн Фадлан, который во время пребывания у волжских болгар в 921 году видел обряд погребения одного руса, пишет: «Сначала они развели костёр и сожгли на нём тело, а затем построили нечто подобное круглому холму и водрузили в середине его большую деревяшку тополя, написали на ней имя этого мужа и имя царя русов и удалились» (II, 31; 109).
Арабский писатель Эль Масуди, умерший в 956 году, в своём сочинении «Золотые луга» утверждает, что он обнаружил в одном из «русских храмов» пророчество, начертанное на камне (II, 31; 109).
Учёный Ибн эль-Недим в труде «Книга росписи наукам» передаёт относящийся к 987 году рассказ посла одного из кавказских князей к князю русов. «Мне рассказывал один, на правдивость которого я полагаюсь, — пишет Ибн эль-Недим, — что один из царей горы Кабк послал его к царю русов; он утверждал, что они имеют письмена, вырезываемые на дереве. Он же показал мне кусок белого дерева, на котором были изображены, не знаю, были ли они слова или отдельные буквы» (II, 31; 109–110). Сообщение Ибн эль-Недима особенно интересно тем, что он даёт зарисовку упоминаемой им надписи. Но об этом ниже.
Ещё один восточный автор, персидский историк Фахр ад— Дин (начало XIII века), утверждает, что хазарское «письмо происходит от русского» (II, 31; 110). Очень интересное сообщение. Во-первых, речь идёт о неизвестном науке хазарском письме (по-видимому, руническом). Во-вторых, данное свидетельство заставляет задуматься о степени развития славянского письма. Видимо, эта степень была довольно высока, раз письмо заимствуют другие народы. В-третьих, встаёт вопрос: что же представляла собой славянская письменность? Ведь у хазар-то (поскольку они тюрки) предполагается руническое письмо. Не была ли рунической и русская письменность?
От сообщений восточных авторов перейдём к авторам западным, точнее автору, ибо в «нашем арсенале» всего одно свидетельство по интересующему нас вопросу. Епископ Мерзебургский Титмар (976—1018) рассказывает, что в языческом храме города Ретры (город принадлежал одному из племён славян-лютичей; немцы называли жителей Ретры «редариями» (II, 28; 212), (II, 58; 164)) он видел славянских идолов; на каждом идоле особыми знаками было начертано его имя (II, 31; 109).
Исключая сообщение Фахр ад-Дина о происхождении хазарского письма от русского, все остальные из вышеперечисленных свидетельств вполне могут трактоваться как говорящие только о наличии у славян пиктографического письма типа «черт и резов».
Вот что по этому поводу пишет В. А. Истрин: «Имена славянских идолов (Титмар), так же как имена покойного руса и его «царя» (Ибн Фадлан), представляли собой, вероятно, нечто вроде изобразительных или условных родовых и личных знаков; подобные знаки часто использовались русскими князьями Х — XI веков на их монетах. Пророчество, начертанное на камне (Эль Масуди), заставляет думать о «чертах и резах» гадания.
Что касается надписи Ибн эль-Недима, то одни учёные считали, что это искажённое переписчиками арабское написание; другие пытались найти в этой надписи общие черты со скандинавскими рунами. В настоящее время большинство российских и болгарских учёных (П. Я. Черных, Д. С. Лихачёв, Е. Георгиев и др.) считают надпись Ибн эль Недима образцом славянского докириллического письма типа «черт и резов».
Выдвигалась гипотеза, согласно которой эта надпись представляет собой пиктографическую маршрутную карту» (II, 31; 110).
Конечно, можно утверждать и обратное, т. е., что речь в этих сообщениях идёт о развитом письме. Однако полемика окажется голословной. Поэтому лучше обратиться к другой группе сообщений, которая однозначно указывает на наличие у славян в дохристианский период весьма совершенной письменности.
«Повесть временных лет» рассказывает, что во время осады князем Владимиром Святославичем Херсонеса (в конце 80х годов Х века) один из жителей Херсонеса по имени Анастасий пустил в стан Владимира стрелу с надписью: «Кладези еже суть за тобою от востока, из того вода идёт по трубе» (II, 31; 109), т. е.: «С востока от тебя есть колодец, из которого вода по трубе идёт в город». Такое сообщение пиктографией не напишешь, это будет очень трудно. Конечно, оно могло быть написано по-гречески. В стане Владимира, безусловно, находились люди, понимавшие греческий язык и по-гречески читавшие. Возможен и другой вариант. В своём сочинении Храбр сообщает об использовании славянами греческих и латинских букв для записи своей речи. Правда, писать по-славянски греческими и латинскими буквами довольно затруднительно, т. к. данные алфавиты не отражают фонетику славянского языка. Поэтому Храбр и указывает на использование этих букв «без устроения», т. е. без порядка, речь передавалась неточно. Тем не менее передавалась. Но никто не может исключить возможность, что своё сообщение Анастасий написал теми самыми «русскими письменами», о которых говорит «Паннонское житие Кирилла». Напомним, что, согласно этому «Житию» Константин (Кирилл) во время путешествия к хазарам именно в Херсонесе нашёл Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими письменами», и встретил человека, говорящего по-русски, у которого и научился по-русски читать и говорить. Данное свидетельство «Паннонского жития» — ещё одно доказательство существования развитой системы письма у славян в докирилловскую эпоху.
Вернёмся к русским летописям. В них говорится о письменных договорах, которые Русь заключала с Византией в 907, 944 и 971 годах (заметим, Русь языческая). Летописями сохранены тексты этих договоров (II, 28; 215). Письменные договоры заключают между собой народы, имеющие письменность. Кроме того, в самом тексте этих соглашений можно найти свидетельства о наличии у славян (русов) какой-то системы письма. Так, в договоре Олега читаем: «Аще кто умреть, не урядив своего имения (умрёт, находясь в Византии. — И.Д.), или своих не иметь, да возвратит имение к малым «ближикам» на Русь. Аще ли сотворит обряжение, таковой возметь уряженное ему, кому будет писал наследити имение его, да наследить е» (II, 37; 69). Обращаем внимание на слова «не урядив» и «писал». Последнее говорит само за себя. Что касается первого, то заметим, что «урядить» имущество, т. е. распорядиться им, находясь далеко от дома, на чужбине, можно только в письменной форме.
Договор Олега с греками, как, впрочем, и Игоря, заканчивается очень интересной формулировкой, на которой стоит остановиться и рассмотреть её подробнее. Звучит она следующим образом: «Договор написан Ивановым писанием на двою хартию» (II, 37; 53). Что за «Иваново писание», которым пользовались русы? И кто такой этот Иван? По мнению Стефана Ляшевского, Иван — это святой Иоанн, епископ греческой Готфской епархии в Тавриде. По происхождению он был тавроскиф. А тавроскифы, как считает С. Ляшевский, опираясь на свидетельство византийского историка Льва Диакона, и есть русы (Лев Диакон пишет: «Тавроскифы, которые сами себя называют “русы”») (II, 37; 39). В епископы Иоанн был рукоположен в Иверии, а не в Константинополе, т. к. в последнем церковная власть была захвачена иконоборцами. Когда территория Тавриды оказалась под властью хазар, Иоанн поднимает против них восстание (II, 37; 51). Греки предательски выдают его хазарам. Ему удаётся бежать. Вот такая бурная жизнь. Готфская епархия была в то время недавно создана. И находилась она, как полагает С. Ляшевский, на территории русского Бравлинского княжества в Тавриде (II, 37; 51). Князь Бравлин, незадолго до этого воевавший с греками, смог создать в Тавриде русское государство. Для своих единоплеменников и создал Иоанн письменность (надо думать, на основании греческой). Именно этим письмом были писаны Евангелие и Псалтирь, найденные Константином Философом в Корсуни (II, 37; 52). Таково мнение С. Ляшевского. Называет он и точную дату создания «Иоанновой письменности» — 790 год. В этом он опирается на Карамзина. Последний в своей «Истории государства Российского» пишет: «Ведати подобает, что словено-российский народ в 790 году от Р.Х. начат письмо иметь; зане в том годе царь греческий брань со словенами, имея и мир с ними содела, после им в знамение приятства литеры, сиречь слова азбучные. Сия от греческого писания вновь составиша ради славян: и от того времени россы начали писания имети» (II, 37; 53).
Вообще к данному свидетельству Карамзина надо, по нашему мнению, отнестись очень и очень внимательно. Дело в том, что Карамзин добавляет, что прочёл это в одной рукописной Новгородской летописи (II, 37; 53). Вполне вероятно, что летописью этой могла оказаться та самая Иоакимовская летопись, основываясь на которой свой труд писал Татищев, либо летопись, непосредственно опиравшаяся на неё.
К сожалению, Иоакимовская летопись до нас не дошла. Скорее всего, она погибла во время пожара Москвы в 1812 году. Тогда вообще была потеряна огромная масса исторических документов. Вспомним хотя бы древний список «Слова о полку Игореве».
Почему эта летопись так ценна? По мнению специалистов, её создание относится примерно к 1030 году, то есть она без малого на сто лет старше «Повести временных лет». Следовательно, в ней могла содержаться такая информация, какой в «Повести временных лет» уже не было. И на то есть ряд причин. Во-первых, Иоаким, автор летописи, — это не кто иной, как первый Новгородский епископ Иоаким Корсунянин. Он принимал участие в крещении новгородцев. То есть, находясь в Новгороде, он сталкивался ещё с очень и очень живым язычеством, его верованиями и преданиями. Нестор, писавший в 10х годах XII века, такой возможности не имел. Спустя более чем сотню лет после Владимирова крещения Руси до него дошли лишь отзвуки языческих преданий. Более того, есть все основания полагать, что Иоаким использовал некие письменные источники, восходящие к дохристианским временам. Эти источники всячески преследовались и уничтожались после принятия Русью христианства и до Нестора могли просто не дойти.
Во-вторых, не подлежит никакому сомнению, что то, что мы считаем несторовой «Повестью временных лет», на самом деле является таковым лишь отчасти. И дело здесь не в том, что эта летопись дошла до нас лишь как часть более поздних летописных сводов. Речь идёт о редактировании «Повести временных лет» ещё при жизни Нестора. Известно имя редактора — игумен княжьего Выдубецкого монастыря Сильвестр, поставивший своё имя в конце летописи. Редактирование проводилось в угоду княжеской власти, и что было в изначальной «Повести», одному Богу известно. Очевидно, был «выброшен» значительный пласт информации, относящейся к дорюриковским временам. Так вот, Иоакимовская летопись подобной редакции явно не подвергалась. В частности, насколько она известна в изложении Татищева, данных о временах до Рюрика там значительно больше, чем в «Повести временных лет».
Остаётся ответить на вопрос: зачем это греку Иоакиму из Корсуни, христианину, священнику, так стараться в изложении русской истории (дохристианской, языческой). Ответ прост. Как считает С. Ляшевский, Иоаким, подобно святому Иоанну, был из таврических русов (II, 37; 215). То есть излагал он прошлое своего народа. С этим, по-видимому, можно согласиться.
Так что, повторяем, к приведённому выше свидетельству Карамзина надо отнестись с вниманием. Итак, вполне вероятно, что около 790 года епископом Иоанном была изобретена некая русская письменность на основании греческой. Очень может быть, что именно ею были написаны Евангелие и Псалтирь, найденные Константином Философом в Херсонесе.
Но, по нашему мнению, началом русского (славянского) письма это не было. Славянская письменная традиция значительно древнее. В данном же случае мы имеем дело с одной из попыток создания сакрального христианского письма для славян. Подобную попытку, как считает ряд учёных, в конце IV века н. э. предпринимал святой Иероним, а семью десятками лет позже Иоанна — святой равноапостольный Кирилл.
* * *
Кроме сообщений письменных источников о наличии у славян письма, в распоряжении учёных имеется значительное количество образцов последнего. Получены они в основном в результате археологических исследований, но не только.
Начнём с уже известной нам надписи, содержащейся в труде Ибн эль-Недима. Выше говорилось, что в наше время она преимущественно трактуется как образец славянского пиктографического письма типа «черт и резов». Но есть и другое мнение. В. А. Чудинов считает эту надпись выполненной слоговым славянским письмом (II, 58; 439). Этого же мнения придерживаются Г. С. Гриневич и М. Л. Серяков (II, 58; 234). Что хотелось бы отметить? Бросается в глаза определённая схожесть с арабским письмом. Недаром ряд учёных считали надпись искажённым переписчиками арабским написанием (II, 31; 110). Но, скорее всего, имело место обратное. Это неоднократное переписывание арабами «уработало» образец русского письма до сходства с арабской графикой (рис. 7). В пользу данной гипотезы говорит тот факт, что ни араб эль-Недим, ни его информатор не обратили никакого внимания на сходство знаков надписи с арабскими буквами. Видимо, изначально такого сходства и не было.
Рис. 7.
Сейчас эта надпись в научных кругах считается нечитаемой (II, 52; 141), хотя попытки дешифровки предпринимались неоднократно начиная с 1836 года, когда эту надпись ввёл в научный оборот академик Х. М. Френ. Он же первый попытался её прочесть. Свои силы в этом деле пробовали датчане Ф. Магнусен и А. Шёгрен, знаменитые русские учёные Д. И. Прозоровский и С. Гедеонов. Однако их прочтения были признаны неудовлетворительными. В наше время надпись слоговым способом читают Г. С. Гриневич и В. А. Чудинов. Но результаты усилий этих исследователей весьма спорны. Так что «приговор остаётся в силе» — надпись эль-Недима пока не читается.
Многочисленную группу вероятных (добавим: очень и очень вероятных) памятников дохристианской славянской письменности образуют загадочные надписи и знаки на древнерусских предметах быта и на различных ремесленных изделиях.
Из этих надписей наибольший интерес представляет так называемая алекановская надпись (рис. 8). Надпись эта, нанесённая на глиняный сосуд Х — XI веков, была открыта в 1897 году В. А. Городцовым во время раскопок у села Алеканово под Рязанью (отсюда и название — алекановская). Содержит 14 знаков, расположенных в строковой планировке. Четырнадцать — это довольно много. Тем и ценна эта находка, что надписей с большим количеством знаков предполагаемой славянской письменности науке пока не известно.
Рис. 8.
Правда, ещё в первой половине XIX века академик М. П. Погодин опубликовал в своём журнале «Московский наблюдатель» некие надписи, обнаруженные кем-то в Карпатах. Зарисовки этих надписей были присланы в «Московский наблюдатель» (рис. 9). Знаков в этих надписях больше, чем четырнадцать. Причём интересен тот факт, что некоторые знаки похожи на знаки надписи эль-Недима. Но… И во времена М. П. Погодина, и в наше время учёные сомневаются в славянской принадлежности карпатских надписей (II, 58; 224). Кроме того, самих надписей М. П. Погодин не видел, имея дело лишь с присланными ему зарисовками. Поэтому сейчас, спустя более полутораста лет, очень трудно установить, не был ли почтенный академик введён в заблуждение, т. е. не являются ли данные зарисовки фальсификатами.
Рис. 9.
Так что, повторяем, алекановская надпись — самый большой образец неизвестного славянского письма. Бесспорным можно считать и то, что письмо славянское, и то, что знаки надписи — это именно письмо, а не нечто иное. Вот что писал по этому поводу сам открыватель алекановской «урны» В. А. Городцов: «…Сосуд плохо обожжён, изготовлен, очевидно, наспех… Следовательно, изготовление местное, домашнее, а следовательно, надпись сделана местным или домашним писцом, т. е. славянином» (II, 31; 125). «Смысл знаков остаётся по-прежнему загадочным, но уже является более вероятным иметь в них памятники доисторической письменности, чем клейма или родовые знаки, как можно было предполагать при первом знакомстве с ними на погребальном сосуде, где казалось очень естественным явление на одном сосуде многих клейм или родовых знаков, так как акт погребения мог служить причиной съезда нескольких семей или родов, которые и понаехали увековечить своё присутствие на похоронах начертанием своих клейм на глине погребального сосуда. Совсем другое дело — нахождение знаков в более или менее значительном количестве и в строгой планировке на бытовых сосудах. Объяснить их как клейма мастера невозможно, потому что знаков много; объяснить, что это знаки или клейма отдельных лиц, также нет возможности. Остаётся одно более вероятное предположение — что знаки представляют собой литеры неизвестного письма, а комбинация их выражает какие-либо мысли мастера или заказчика. Если же это верно, то мы имеем в своём распоряжении до 14 букв неизвестного письма (II, 58; 253–254).
В 1898 году там же, под Рязанью, В. А. Городцовым было обнаружено ещё пять аналогичных знаков. Близки по форме к алекановским знаки на горшках из Тверского музея, а также на медных бляхах, найденных при раскопках тверских курганов XI века. На двух бляхах знаки идут по кругу, образуя две одинаковые надписи. По мнению В. А. Истрина, некоторые из этих знаков, подобно алекановским, напоминают буквы глаголицы (II, 31; 125).
Представляет также интерес «надпись» (если только считать её надписью, а не случайной комбинацией трещин от огня; отсюда и кавычки при слове «надпись») на бараньей лопатке, открытая около 1916 года Д. Я. Самоквасовым при раскопках северянских курганов у Чернигова. «Надпись» содержит 15–18 знаков (точнее сказать трудно), расположенных внутри полуовала, т. е. по количеству знаков превосходит алекановскую (рис. 10). «Знаки, — пишет Д. Я. Самоквасов, — состоят из прямых резов и, по всей вероятности, представляют собой русское письмо Х века, на которое имеются указания в некоторых источниках» (II, 31; 126).
Рис. 10.
В 1864 году впервые у села Дрогичина на Западном Буге были обнаружены свинцовые пломбы, видимо торговые печати Х — XIV веков. В последующие годы находки продолжались. Общее количество пломб измеряется тысячами. На лицевой стороне многих пломб стоит буква кириллицы, а на оборотной — один-два загадочных знака (рис. 11). В 1894 году в монографии Карла Болсуновского приводилось около двух тысяч пломб с подобными знаками (II, 58; 265). Что это? Просто ли знаки собственности или аналог соответствующих кириллических букв из неизвестной славянской письменности?
Рис. 11.
Большое внимание исследователей привлекли также многочисленные загадочные знаки, встречающиеся наряду с надписями, сделанными кириллицей, на старорусских календарях и на пряслицах Х — XI и более поздних веков (рис. 12). В 40—50х годах прошлого столетия многие пытались увидеть в этих загадочных знаках прототипы глаголических букв. Однако затем установилось мнение, что это знаки типа «черт и резов», т. е. пиктография (II, 31; 126). Тем не менее позволим себе высказать сомнение в подобном определении. На некоторых пряслицах количество неизвестных символов довольно велико. Это никак не вяжется с их пониманием как пиктограмм. Скорее наталкивает на мысль, что перед нами дубляж кириллической надписи. Следовательно, более или менее развитое письмо, а не примитивная пиктография. Недаром в наши дни В. А. Чудинов и Г. С. Гриневич видят в знаках на пряслицах силлабограммы, т. е. символы слоговой письменности.
Рис. 12.
Кроме предметов быта и ремесленных изделий некие неизвестные знаки встречаются на монетах русских князей XI века. Выше мы говорили, что на основании этих знаков в конце 50х — начале 60х годов. XX века была сделана попытка воспроизведения протоглаголического алфавита Н. В. Энговатовым. Его работа подверглась сильной критике. Критикующая сторона была склонна объяснять происхождение загадочных знаков на монетах малограмотностью русских гравёров (II, 31; 121). Вот что, например, писали Б. А. Рыбаков и В. Л. Янин: «Матрицы, при помощи которых чеканились монеты, были мягкими или хрупкими, они нуждались в очень быстрой замене в процессе работы. А удивительная близость в деталях оформления монет внутри каждого типа говорит о том, что вновь возникавшие матрицы были результатом копирования матриц, выходивших из строя. Можно ли допустить, что такое копирование способно сохранить первоначальную грамотность исходного экземпляра, бывшего образцовым? Мы думаем, что Н. В. Энговатов ответил бы на этот вопрос положительно, так как все его построения основаны на представлении о безусловной грамотности всех надписей» (II, 58; 152–153). Однако правильно замечает современный исследователь В. А. Чудинов: «Сработавшиеся чеканы могут не воспроизводить часть штрихов буквы, но никак не удваивать их и не перевёртывать изображения, не подставлять боковые мачты! Это абсолютно исключено! Так что Энговатова в данном эпизоде критиковали не по сути вопроса…» (II, 58; 153). Кроме того, заметим, что для подтверждения своей гипотезы Н. В. Энговатов привлёк печать Святослава Х века, на которой также имеются загадочные символы, подобные знакам на монетах XI века. Итак, Х век, языческие времена. Тут уж трудно объяснить происхождение непонятных знаков ошибками при передаче кириллических букв. Плюс к тому — это ведь печать, а не монета. О массовом производстве речи идти не может, и, следовательно, нельзя говорить об огрехах массового производства. Вывод, на наш взгляд, очевиден. Мы имеем дело со знаками неизвестного славянского письма. Как его интерпретировать, является ли оно буквенным протоглаголическим, как считал Н. В. Энговатов, или слоговым, как считает В. А. Чудинов, — это уже другой вопрос.
Указанная группа возможных образцов докириллического славянского письма, за исключением надписей, опубликованных М. П. Погодиным, довольно хорошо освещалась в советской исторической литературе по соответствующей тематике и освещается в современной российской.
Другой группе образцов повезло меньше. Почему? Подобное отсутствие внимания к ним трудно объяснить. Тем больше у нас причин рассказать о них.
В 30х годах XIX века в Тверской Карелии на месте древнего городища были обнаружены четыре камня с загадочными надписями. Их изображения впервые опубликовал Ф. Н. Глинка (рис. 9, 13). Прочтение двух из четырёх надписей (но не на основе славянского) пытались дать уже упоминаемые нами датчане Ф. Магнусен и А. Шёгрен. Затем о камнях довольно быстро забыли. И никто серьёзно не рассмотрел вопрос о принадлежности надписей славянам. И напрасно. Все основания для этого были.
Рис. 13.
В 50е годы XIX века известному русскому археологу О. М. Бодянскому его болгарский корреспондент Христо Даскалов прислал надпись, обнаруженную им в древней столице Болгарии Тырнове в церкви Святых Апостолов. Надпись явно была не греческой, не кириллической и не глаголической (рис. 14). Но, как нам кажется, есть основания связать её со славянами.
Рис. 14.
В 1896 году археолог Н. Кондаков издал свои исследования, в которых, описывая различные клады, найденные в Киеве в течение XIX века, он, в частности, привёл изображения некоторых перстней. На перстнях этих есть некие рисунки. Их можно было бы принять за узоры. Но для узоров характерна симметрия, в данном случае отсутствующая (рис. 15). Поэтому есть большая доля вероятности, что перед нами ещё один образец докириллической славянской письменности.
Рис. 15.
В 1901 году А. А. Спицын при раскопках Кошибеевского могильника обнаружил медную подвеску с насечками на внутреннем кольце. В 1902 году на Гнездовском могильнике С. И. Сергеев нашёл заготовку ножа IX — Х веков, на обеих сторонах которой имелись насечки. Наконец, А. А. Спицыным при исследованиях Владимирских курганов было найдено височное кольцо XI–XII веков, на котором на трёх лопастях имелся несимметричный орнамент (рис. 16). Письменный характер изображений на этих изделиях археологами никак не выявлялся. Возможно, что для них наличие насечек на металлических изделиях было как-то связано с характером обработки металла. Тем не менее изображения каких-то несимметричных знаков на изделиях видны достаточно хорошо. По мнению В. А. Чудинова, «сомневаться в наличии надписей не приходится» (II, 58; 259). Во всяком случае, вероятность того, что перед нами знаки письма, ничуть не меньшая, и даже, пожалуй, большая, чем в случае со знаменитой бараньей лопаткой.
Рис. 16.
Рис. 17.
В монографии известного польского слависта Яна Лецеевского, вышедшей в свет в 1906 году, помещено изображение «Ледницкой фигурки», напоминающей козла (рис. 17). Обнаружена она была на озере Ледницы в Польше. На животе у фигурки были изображены знаки. Сам Лецеевский, являясь горячим поборником докириллической славянской письменности, читал эти знаки (как и знаки многих других надписей, в том числе и надпись алекановской «урны») исходя из предположения, что славянская письменность — это видоизменённые германские руны. В наше время его дешифровки признаются специалистами неудачными (II; 58; 260–264). Надпись на «Ледницкой фигурке» он дешифровал как «лечить».
Рис. 18.
Чешский археолог Вацлав Крольмус, в 1852 году путешествуя по Богуславскому краю Чехии, находился в селе Кральск, где узнал, что крестьянин Юзеф Кобша, копая погреб, по звуку удара предположил существование полости за северной стеной дома. Пробив стену, Юзеф обнаружил подземелье, свод которого держался на каменном столбе. На лестнице, ведущей туда, находились сосуды, которые привлекли его внимание, ибо он предположил, что в них спрятаны деньги. Однако денег там не было. Негодуя, Кобша разбил урны, а их содержимое выбросил. Крольмус, услышав о найденных урнах, зашёл к крестьянину и попросил показать подвал. Оглядев подземелье, он заметил на столбе, поддерживающем своды, два камня с надписями. Перерисовав надписи и внимательно осмотрев остальные предметы, Вацлав Крольмус уехал, однако при всяком удобном случае в 1853 и 1854 годах просил своих знакомых навестить крестьянина, скопировать надписи и отослать их ему. Так он убедился в объективности прорисовки (рис. 15). Мы специально столь подробно остановились на обстоятельствах находки надписей Крольмуса, ибо впоследствии надписи были объявлены фальсификатами (в частности, известным славистом И. В. Ягичем) (II, 58; 262). Если кто-то обладает богатым воображением, то пусть представит, как и для каких целей была претворена в жизнь эта фальсификация. Мы, если честно, затрудняемся.
Сам В. Крольмус пробовал прочесть эти надписи исходя из предположения, что перед ним славянские руны. Прочтение дало имена различных богов (II, 58; 262). На основании рун читал надписи Крольмуса и уже известный нам Я. Лецеевский (II, 58; 262). Однако прочтения этих учёных признаются ошибочными (II, 58; 262).
Ещё в 1874 году князь А. М. Дондуков-Корсаков обнаружил в деревне Пневище под Смоленском камень, обе стороны которого были покрыты странными надписями (рис. 19). Он скопировал эти надписи. Однако опубликованы они были только в 1916 году. Попыток прочтения этих надписей в России не делалось. Прочесть их пробовал австрийский профессор Г. Ванкель, который увидел в них, бог весть почему, еврейское квадратное письмо (II, 58; 267).
Ещё в 80х годах XIX века на берегу реки Буши, впадающей в Днестр, был обнаружен храмовый комплекс, принадлежавший славянам языческих времён (хотя впоследствии его, вероятно, использовали и христиане). В 1884 году храм был обследован археологом А. Б. Антоновичем. Он оставил подробное описание храма, опубликованное в его статье «О скальных пещерах Днестровского побережья в Подольской губернии», приведённой в «Трудах VI Археологического съезда в Одессе, 1884 год». В сущности, эта исследовательская работа остаётся непревзойдённой до сего времени. В ней, помимо описаний, содержатся также и качественные фотографии.
В 1961 году к Бушскому храму снарядил экспедицию известный украинский археолог Валентин Даниленко. Однако результаты работы этой экспедиции в советское время не были опубликованы (II, 9; 355). О его бушской экспедиции известно только по рассказам её участника Дмитро Степовика (II, 9; 354–355).
Вот, пожалуй, и все исследования такого замечательного памятника, как Бушский храм. Удивительное невнимание советских археологов. Правда, справедливости ради заметим что ещё в 1949 году в своей книге «Киевская Русь» краткое описание этого храма дал Б. Д. Греков. Вот что он пишет: «Образец языческой скульптуры сохранился в одной из пещер на берегу реки Буж (точнее, Буши или Бушки. — И.Д.), впадающей в Днестр. На стене пещеры находится большой и сложный рельеф, изображающий коленопреклонённого мужчину, молящегося перед священным деревом с сидящим на нём петухом. Сбоку от него изображён олень — возможно, приносимая человеком жертва. Вверху, в особом обрамлении, неразборчивая надпись» (II, 9; 354).
Рис. 19.
Надпись, собственно, не одна. Не одна и пещера. Есть небольшая пещера, которую А. Б. Антонович в своей работе обозначил литерой «А». Есть пещера, обозначенная литерой «В». В ней, в левой стене от входа, высечена в скале продолговатая ниша. Над нишей какая-то надпись. Антонович воспроизводит её латиницей: «КАIН РЕRUNIAN». А. И. Асов полагает, что учёный воспроизводил именно то, что видел, и буквы надписи действительно были латинскими (II, 9; 356). Это заставляет усомниться в большой древности надписи. То есть она могла появиться в эпоху Средневековья, но гораздо позднее времени функционирования языческого храма, и играла роль пояснения назначения святилища. По мнению А. И. Асова, пещера «В» представляла собой святилище Перуна, о чём и говорит надпись. Ибо слово «каiн (кай)» в древнерусском имеет значение «молот», а «perunian» может означать «перунин», принадлежащий Перуну (II, 9; 356). Ниша в стене — это, по-видимому, жертвенник либо постамент для статуи Перуна.
Больший интерес представляет пещера «С» храмового комплекса. Именно в ней находятся рельеф, описание которого Б. Д. Грековым мы приводили выше, и «неразборчивая» надпись в рамке (рис. 20). В. Даниленко прочёл эту надпись как «Аз есмь Миробог жрец Ольгов» (II, 9; 355). Также он прочёл, по утверждению Д. Степовика, на стенах храма и иные надписи: «Перун», «Хорс», «Олег» и «Игорь». Однако поскольку результаты экспедиции Даниленко не опубликованы, то суждений об этих последних надписях высказывать не приходится. Что же касается надписи в рамке, то ряд исследователей, основываясь на фотографии 1884 года, согласны с подобной реконструкцией (II, 28; 214). В таком случае надпись, видимо, придётся датировать временем княжения Олега Вещего, то есть концом IX — началом Х века. Она выполнена буквами, похожими на кириллические. Есть все основания утверждать, что перед нами ещё один образец протокириллицы. Принимая во внимание, что в надписи, по-видимому, фигурирует имя князя Олега, можно вспомнить и «Иоанново письмо» договора Олега с греками. Ещё один аргумент «в копилку» С. Ляшевского.
Рис. 20.
При этом надо учитывать, что само святилище и рельеф в частности, по всей вероятности, гораздо древнее рамки с надписью. На это указывал в своей работе ещё А. Б. Антонович. В окрестностях храмовых пещер «найдено очень много кремневых осколков, в том числе несколько экземпляров совершенно явственных отбивных кремневых орудий» (II, 9; 358). Кроме того, характер выполнения рельефа и рамки различны: рельеф выдаётся на скале, а рамка представляет собой углубление в ней. Этот факт со всей очевидностью может говорить о разновременности их изготовления. Следовательно, рельеф изображал отнюдь не Миробога. Но кого он изображал — это уже другой вопрос.
Хотелось бы упомянуть и ещё об одном памятнике — грандиозной наскальной надписи VI века, сопровождающей Мадарского всадника. Российская наука хранит об этой надписи непонятное молчание, хотя в Болгарии и Югославии по ней издана обширная литература (II, 9; 338). Надпись содержит известие о завоевании славянами Балкан. Писана буквами, похожими на кириллические и очень напоминающими буквы надписи пещеры «С» Бушского храма (II, 9; 338). Принимая во внимание время её создания, т. е. VI век, можно с полным основанием подвергнуть сомнению построения С. Ляшевского, касающиеся «Иоаннова письма». И, безусловно, в нашем распоряжении протокириллический текст.
Ко всем приведённым образцам докириллического славянского письма присовокупим уже упоминавшиеся в предыдущем разделе образцы протокириллицы. Вспомним свидетельства о существовании протокириллицы и протоглаголицы до святого Кирилла.
Скажем и о следующем. Как отмечают многие лингвисты, слова «писать», «читать», «письмо», «книга» общи для славянских языков (II, 31; 102). Следовательно, эти слова, как и само славянское письмо, возникли до разделения общеславянского (праславянского) языка на ветви, то есть не позже середины I тысячелетия до н. э. Ещё в конце 40х годов XX века академик С. П. Обнорский указывал: «Отнюдь не явилось бы смелым предположение о принадлежности каких-то форм письменности уже русам антского периода» (II, 31; 102), т. е. в V–VI веках н. э.
Причём обратим внимание на слово «книга». Если пишутся книги, то уровень развития письма довольно высок. Примитивной пиктографией книг не напишешь.
Нам кажутся абсолютно безосновательными попытки некоторых исследователей опровергнуть последнее приведённое доказательство существования докириллической письменности у славян, письменности весьма развитой. Вот что, например, пишет Д. М. Дудко: «“Писать” может означать “рисовать” (“писать картину”), а “читать” — “произносить молитву, заговор”. Слова же “книга”, “буква” заимствованы от готов, принявших христианство уже в IV веке и имевших церковные книги» (II, 28; 211). Что касается пассажей Д. М. Дудко относительно слов «писать» и «читать», то бросается в глаза их надуманность. Приводимые им варианты употребления этих слов явно не являются первоначальными, они вторичны. Относительно же заимствования у готов слов «буква» и «книга» заметим, что это заимствование весьма спорно. Часть этимологов полагает, что слово «книга» пришло к славянам из Китая через тюркское посредничество (II, 58; 49). Вот так. У кого же заимствовали славяне: у готов или у китайцев через тюрков? Причём, что интересно: сами тюрки употребляют для обозначения книг заимствованное у арабов слово «катаба». Разумеется, несколько изменив его. Например, у казахов «книга» — «кiтап». Тюрки уже и не помнят, какое слово для обозначения книг они позаимствовали у китайцев. Но зато помнят славяне, все без исключения. Ах, это извечное стремление славян всё заимствовать, всё подряд, без разбору. И относиться к чужому заимствованному даже лучше, чем сами изначальные хозяева. А может, это надуманное стремление? Его нет, но его выдумали в тиши учёных кабинетов?
Известный чешский славист Гануш выводил слово «буква» от названия дерева — «бук», дощечки из которого, вероятно, служили писчим материалом (II, 58; 125). Нет никаких оснований подозревать готское заимствование. Да, у германцев название соответствующего дерева очень близко славянскому (например, у немцев «бук» — «Buche»). Слово, по всей вероятности, является общим для славян и германцев. Никто ничего ни у кого не заимствовал. У современных немцев «буква» — «Buchstabe». Слово явно произведено от названия дерева. Можно думать, что так было и у древних германцев, готов в том числе. И что из того? С равным основанием можно утверждать, что не славяне у готов, а готы у славян заимствовали если не само слово «буква», то принцип его образования (от названия дерева). Можно допустить, что славяне и германцы совершенно независимо друг от друга образовали слово «буква» по одному и тому же принципу, т. к. буковые дощечки могли служить писчим материалом и для тех, и для других.
Аргумент же о христианстве готов с IV века и церковных книгах у них просто несостоятелен. Разве язычество делает принципиально невозможным наличие письменности у того или иного народа, исключает создание книг?
Итак, целый комплекс свидетельств письменных источников и образцов докириллического славянского письма, а также некоторые лингвистические соображения говорят о том, что письменность у славян была до 60х годов IX века. Вышеприведённые образцы со всем основанием позволяют также утверждать, что славянская письменность была достаточно развитой, перешагнувшей стадию примитивной пиктографии.
Соглашаясь с подобными утверждениями, тем не менее приходится отвечать на ряд порождаемых ими вопросов.
Прежде всего, когда возникло письмо у славян? Конечно, говорить о точной дате не приходится. Мнение С. Ляшевского о создании в 790 году некоей «Иоанновой письменности» заслуживает внимания. Но в данном случае речь идёт, очевидно, всего лишь об одном из типов письма, употреблявшегося славянами. Такая точная датировка — это единственное исключение. Приходится оперировать не конкретными годами, а веками. Как мы видели выше, можно говорить о VI, V, IV, III, II веках нашей эры, первых веках существования христианства, то есть, другими словами, первых веках нашей эры. Возникает другой вопрос: по сути, ряд гипотез подводит нас к рубежу эр. А возможно ли перешагнуть этот рубеж? Вопрос очень сложный, т. к. очень сложна проблема славянства до нашей эры.
Далее. Имеющиеся в нашем распоряжении свидетельства письменных источников и образцы докириллического славянского письма не дают однозначного ответа, каким было это письмо, каков был его тип.
Наконец, встаёт вопрос о соотношении славянского письма с письменностями окружающих народов. Были ли заимствования? Кто у кого и что заимствовал? Степень этих заимствований?
Попытки ответа на поставленные вопросы и будут рассмотрены в следующих главах.
Слоговое славянское письмо. Силлабарии Г. С. Гриневича
В первой главе, посвящённой основам теории письма, говорилось, что большинство учёных весьма скептически относится к возможности применения славянами слогового письма. Хотя примеры использования силлабариев народами с флективным типом языка науке известны.
Однако подобный скепсис разделяли и разделяют не все. Известный советский историк Л. В. Черепнин в 50х годах прошлого столетия писал: «Русское письмо прошло, надо думать, путь, общий всем народам, от рисунка, изображающего определённый образ или понятие, через изображения, соответствующие словам, к слоговому и, наконец, звуковому (или фонетическому) способу» (II, 31; 100).
В 1947 году Е. М. Эпштейн, анализируя в своей статье «К вопросу о времени происхождения русской письменности» надпись алекановской «урны», указывал: «Отсутствие повторяющихся знаков можно отнести за счёт того, что письмо могло быть слоговым, где каждый рисунок мог быть слогом или даже словом» (II, 58; 301). По сути дела, такое допущение означало, что славянское письмо могло быть не только слоговым, но даже логографическим.
Уже упоминавшийся нами Н. А. Константинов, создатель одного из вариантов предполагаемой протоглаголицы, не только выводил последнюю из кипрского слогового письма, но считал, что до использования буквенно-звукового письма славяне пользовались силлабарием, созданным на основе кипрского и послужившим переходным звеном к протоглаголическому алфавиту (II, 58; 314–315). Н. А. Константинов пошёл дальше простого предположения. Свою гипотезу он попытался реализовать, если можно так выразиться, на практике. Он попытался читать слоговым способом загадочные знаки на так называемых древностях русов VI–VII веков нашей эры (их ещё называют «приднепровскими надписями») и княжеские знаки Киевской Руси. В своей статье 1963 года «Начало расшифровки загадочных знаков Приднепровья» Н. А. Константинов уверяет, что прочёл 230 надписей, опубликованных Э. И. Соломоник, но демонстрирует всего семь прочитанных текстов (II, 58; 316). Деятельность Н. А. Константинова высоко оценил современный исследователь В. А. Чудинов. Он считает, что Н. А. Константинов продемонстрировал метод, «показал, что слоговым способом читать можно и что при этом получаются осмысленные значения» (II, 58; 317). И хотя его дешифровки были неточны, их можно охарактеризовать как небрежное чтение славянских надписей, но «он заложил базу, показав, что славянских знаков весьма много, что они образуют лигатуры (изображения одним знаком двух или более письменных символов. — Д.И.) и что их можно читать слоговым способом» (II, 58; 318–319).
Однако тогда, в конце 40х — начале 60х годов прошлого столетия, гипотезы и даже простые предположения о возможном слоговом характере славянского письма подверглись сильнейшей критике (II, 58; 318), (II, 31; 100). Поэтому дальнейшего развития они не получили, о них почти все «успешно забыли». И только в 1984 году «спокойствие вновь было возмущено». В интервью журналистке «Советской России» О. Плахотной с заявлением о существовании в прошлом славянского слогового письма выступил Геннадий Станиславович Гриневич. Статья О. Плахотной называлась «Праславяне на Крите», и основной её темой была дешифровка знаменитого Фестского диска, которую Г. С. Гриневич осуществил исходя из предположения, что язык диска — праславянский. Напомним, что Фестский диск был обнаружен в 1908 году итальянской археологической экспедицией под руководством Луиджи Пернье при раскопках царского дворца на акрополе древнего города Феста (отсюда и название диска). Вместе с ним в одном из подсобных помещений дворца была найдена табличка, исписанная критским линейным письмом А. Однако письменность диска (рис. 21, 22) отличалась и от критского линейного письма А, и от критского линейного письма В. Многие исследователи пытались дешифровать диск. Есть определённые результаты, но официальное мнение таково: письменность Фестского диска признать расшифрованной нельзя.
Рис. 21.
Рис. 22.
Странно и необычно звучит, не так ли? Праславяне и древняя цивилизация Крита, — первая европейская цивилизация. Да, Г. С. Гриневича за его построения часто упрекали в ненаучности, неисторичности и т. п. Заметим, однако, что историческая база в гипотезах Гриневича есть. Об этом речь у нас будет идти в последующих главах. Подвергался он критике и со стороны филологов и эпиграфистов (II, 58; 320–368), (II, 9; 337–338). Мы не являемся ни филологами, ни эпиграфистами, и нам трудно судить, насколько аргументы критиков Г. С. Гриневича справедливы. Однако полагаем, что как бы там ни было, но точка зрения этого исследователя имеет право на существование.
Но вернёмся к Фестскому диску и приведём полностью перевод Г. С. Гриневича.
Сторона «А». «Горести прошлые не сочтёшь, однако горести нынешние горше. На новом месте вы почувствуете их. Все вместе. Что вам послал ещё господь? Место в мире божьем. Распри прошлые не считайте. Место в мире божьем, что вам послал господь, окружите тесными рядами. Защищайте его днём и ночью: не место — волю. За мощь его радейте.
Живы ещё чада Её, ведая, чьи они в этом мире божьем».
Сторона «Б». «Будем опять жить. Будет служение Богу. Будет всё в прошлом — забудем, кто есть мы. Где вы побудете, чада будут, нивы будут, прекрасная жизнь — забудем, кто есть мы. Что считать, господи! Рысиюния чарует очи. Никуда от неё не денешься, не излечишься. Ни единожды будет, услышим мы: вы чьи будете, рысичи, что для вас почести; в кудрях шлемы; разговоры о вас.
Не есть ещё, будем её мы, в этом мире божьем» (II, 24; 54).
Не правда ли, красиво? Размышление о судьбе Руси и русичей, которые в диске именуются соответственно Рысиюнией и рысичами. Вполне возможная трансформация племенного имени исходя из названия тотемного животного — рыси. Но диск датируют XVII веком до н. э. Второе тысячелетие до н. э. и Русь, русичи. Да, звучит необычно, невероятно. Однако рассмотрение исторической возможности этого не является темой данной главы. Возвращаясь непосредственно к Фестскому диску, необходимо заметить, что это далеко не единственный его перевод. Таковых множество. Дешифровки проводились исходя из предположений, что язык диска семитский, греческий, хетто-лувийский (II, 40; 45–52). Но, как отмечалось выше, ни одну из дешифровок пока нельзя признать удовлетворительной (II, 40; 45–52). На этом фоне перевод Г. С. Гриневича выглядит очень даже неплохо.
Не останавливаясь на исторических подтверждениях гипотезы Г. С. Гриневича, рассмотрим лингвистические её подтверждения.
Рис. 23.
Прежде всего заметим, что славянское письмо типа «черт и резов» этот исследователь считает не примитивной пиктографией, а довольно развитой слоговой письменной системой. Им был реконструирован силлабарий, т. е. набор слоговых знаков, которыми пользовались славяне (рис. 25). Каким образом ему удалось сделать это? Процитируем самого Г. С. Гриневича: «Получив представление о типе и строе письма восточных славян, я провёл эпиграфический анализ и распределил знаки по группам, затем организовал их в соответствующие эпиграфические ряды. Содержание этих рядов было очевидным: знаки, их составляющие, должны означать слоги, начинающиеся на один и тот же согласный: Т — ТА, ТЕ, ТИ, ТУ или Н — НА, НЕ, НИ, НУ и т. д. Я также отождествил знаки дешифруемого письма с буквами кириллицы и глаголицы (рис. 23). В результате из 87 линейных знаков праславянской письменности для 6 знаков, обозначающих гласные, были получены фонетические значения, а для 53 знаков слогов типа СГ (согласный-гласный. — И.Д.) установлен согласный» (II, 58; 322). Использовал Г. С. Гриневич и метод акрофонии (озвучивания) (рис. 24). При этом методе, по существу, просто угадывается пиктографическое значение знака (т. е. предполагается, какой предмет, животное и т. д. данный знак первоначально изображал). Затем это значение отождествляется со словом языка, исходя из которого производится дешифровка. У Г. С. Гриневича это славянский язык. Первый слог или одиночный звук данного слова и принимается за фонетическое значение знака. Акрофоническим способом Г. С. Гриневич прочёл, например, алекановскую надпись. Вот как он описывает процесс этого прочтения: «При чтении алекановской надписи на глиняном горшке, найденном Городцовым В. А. под Рязанью, где знаки носят рисуночный характер и отождествляются с каким-либо предметом, я брал из названий изображённых предметов первый слог: ЗА (заяц), РЫ (рысь), ЦЕ, ЧЕ (целовек, человек). Достаточно отчётливо читались слова ЗАКРЫТ, ЧЕЛО, предлог В. Окончательный текст надписи содержал в себе лишь напоминание хозяйке: НАДОБЕ ЗАКРЫТЬ, В ЧЕЛО ВЪСАДИВЪ» (II, 58; 323).
Рис. 24.
В принципе даже неспециалисту видны недостатки используемых Г. С. Гриневичем методов. Графическое сходство знаков ещё не означает одинаковости их фонетической нагрузки. Например, восьмиричное «и» кириллицы (И) и буква «н» современного русского алфавита пишутся почти одинаково, но фонетические значения у них абсолютно разные. Что касается акрофонии, то субъективность этого способа получения фонетических значений письменных знаков налицо. Кто-то в данной графеме увидит один предмет, кто-то — другой. Соответственно, и фонетические значения будут разные.
Но Г. С. Гриневич не единственный, кто использует в своих дешифровках указанные методы. Поэтому результаты его работ, как нам кажется, всё же заслуживают внимания. Мы здесь не будем подробно рассматривать достоинства и недостатки переводов этого исследователя, вдаваться в эпиграфические тонкости. Кто интересуется данными вопросами, того отсылаем к работам самого Г. С. Гриневича, а также к книге В. А. Чудинова «Загадки славянской письменности». Сейчас же продолжим изложение лингвистических аргументов Г. С. Гриневича, касающихся перевода Фестского диска.
Выше мы упомянули об отождествлении Г. С. Гриневичем силлабограмм славянской слоговой письменности с буквами кириллицы и глаголицы. На кириллицу приходится 10 таких тождеств (II, 24; 53). Однако все эти 10 кириллических букв — буквы греческого алфавита. Всего же в греческом алфавите 24 буквы. Таким образом, 10 знаков славянского письма типа «черт и резов» и греческого алфавита совпадают. Десять из двадцати четырёх — это свыше 40 %. Отсюда Г. С. Гриневичем делается вывод, что можно говорить о родстве греческой и славянской письменностей (II, 24; 55).
Буквенное письмо (им является греческое) представляет собой более высокую ступень развития письменности, нежели слоговое (им является письмо типа «черт и резов»). Следовательно, слоговое письмо типа «черт и резов» на «древе» письменности располагается ниже греческого. Из него греки могли заимствовать отдельные знаки для своего алфавита, и никак не наоборот (II, 24; 55).
Однако общепризнанным считается положение, что греки заимствовали своё письмо у финикийцев. Г. С. Гриневич не оспаривает это положение. Но замечает следующее: 20 из 22 знаков финикийского алфавита соответствуют знакам слогового протобиблского письма (II, 24; 56). Протобиблское письмо до сих пор не расшифровано. Некоторые исследователи относят его к тому ряду письменностей, для которых характерен «эгейский» силлабарий.
Рис. 25.
Эгейское письмо, сложившееся на острове Крит в эпоху бронзы, образует особый тип письма, для которого характерны знаки, передающие только открытые слоги (согласный + гласный либо «чистый» гласный). По мнению Г. С. Гриневича, подобная особенность присуща и славянскому письму типа «черт и резов». Он относит это письмо к группе «эгейских» силлабариев (II, 24; 55–56). Внутри этой группы наиболее тесно связаны между собой критское иероглифическое письмо, линейное письмо А и линейное письмо Б.
Сопоставляя знаки линеаров А и Б со знаками письменности типа «черт и резов», Г. С. Гриневич обнаружил практически абсолютную схожесть начертаний большого числа знаков этих письменностей. Следовательно, линейное письмо А и письмо типа «черт и резов» представляют собой просто родственные письменности, а скорее всего — единую письменность. Г. С. Гриневич дал ей название «праславянская» (II, 24; 56). Напомним, что на линеар Б такой вывод распространить нельзя. Он расшифрован ещё в 50х годах XX века М. Вентрисом. Доказано, что он служит для записи греческого языка. Но в то же время линейное письмо Б, вне всяких сомнений, происходит от линейного письма А. Следовательно, в плане типа письма и графики его тоже можно назвать родственным «праславянскому», хотя «праславянским» оно и не является.
Линейное письмо А (в официальной науке до сих пор считается нерасшифрованным) было расшифровано Г. С. Гриневичем исходя именно из предположения, что минойский язык — это праславянский. На нём говорили пеласги — одно из крупнейших племён Древнего Крита. То есть пеласги и есть праславяне (II, 24; 56).
Фестский диск написан, по мнению Г. С. Гриневича, именно минойским языком. Количество слоговых знаков в системе этого письма (их около 60, т. е. столько же, сколько в линейном А) свидетельствует о том, что они передают только открытые слоги, что характерно для звуковой структуры минойского языка. Тождественность минойского языка и языка Фестского диска вытекает также из следующих обстоятельств. Во-первых, из родственной географии текста диска и текстов, написанных линейным письмом А. Во-вторых, из анализа надписи на вотивной (предназначенной для посвящения божеству) бронзовой двусторонней секире из святилища в пещере Аркалохори. Эта надпись содержит знаки обоих силлабариев (линеара А и Фестского диска) (II, 24; 56), (II, 40; 82). Данное обстоятельство служит важным подтверждением того, что обе слоговые системы предназначены для передачи на письме минойского языка (он же — праславянский). Линейное письмо А и письмо Фестского диска — единая праславянская письменность (в разновидностях) (II, 24; 56).
Какая же схема вытекает из построений Г. С. Гриневича? Подведём итоги. Кириллица и славянское письмо типа «черт и резов» имеют 10 сходных знаков. Кириллица составлена на основе греческого алфавита, и десять указанных знаков также имеют «греческое происхождение». Более 40 % букв греческого алфавита и знаков славянского письма типа «черт и резов» сходны, считая от 24 знаков греческого алфавита. Это даёт полное основание говорить о родственности славянского и греческого письма. Причём в данном случае речь не идёт о заимствованиях славян у греков, ибо слоговое письмо — это более низкий уровень развития письменности, чем буквенное. И вряд ли знаки фонетической письменности стали бы приспосабливать к слоговому письму. Легче перенять саму фонетическую письменность. Так что приходится говорить о каких-то общих корнях. Но где их искать? Греки заимствовали свой алфавит у финикийцев. А последние 20 из 22 букв своего алфавита заимствовали из протобиблского слогового письма. Оно не расшифровано, но, по всей вероятности, родственно критскому линеару А и письму Фестского диска, которые суть разновидности славянской слоговой письменности. Вот и общий корень — эгейские силлабарии. Греческий алфавит уходит своими корнями в славянские слоговые системы.
И волей-неволей напрашивается ещё один вывод, который, правда, пойдёт вразрез со взглядами Г. С. Гриневича. По нашему мнению, можно выдвинуть предположение, что протокириллические алфавиты, которыми пользовались славяне до создания кириллицы, не являются греческими заимствованиями (или, во всяком случае, являются не все). Они появились в результате трансформации славянской слоговой системы письма в буквенную. В дальнейшем святой ли Кирилл, его ли с Мефодием ученики лишь дополнили уже существовавший до них алфавит греческими буквами для передачи христианских имён и терминов и новыми славянскими буквами для передачи специфических славянских звуков. Последних в протокириллическом алфавите не было вследствие его несовершенности: трансформировать слоговую систему в буквенно-фонетическую — не такое уж простое дело.
Итак, вот новый взгляд на протокириллицу. В дальнейшем мы поговорим об одном памятнике, который служит подтверждением подобного взгляда.
В одной из наших предыдущих глав мы упоминали о трёх глиняных табличках с загадочными рисуночными знаками, найденных в 1961 году близ маленького румынского посёлка Тэртэрии в Трансильвании. Мы говорили тогда, что тэртэрийские таблички методом радиоуглеродного анализа датированы пятым тысячелетием до нашей эры и что многие исследователи видят в знаках этих табличек письмо, самое древнее письмо на Земле.
Г. С. Гриневич сделал перевод знаков одной из табличек (рис. 26). Почему только одной? На этот вопрос ответ нам не известен. Вероятно, в его распоряжении не было текстов двух других. Язык переводимой таблички, по мнению Гриневича, праславянский. «Тэртэрийские знаки в графическом отношении абсолютно идентичны знакам праславянской письменности…» (II, 58; 340). Перевод следующий: «Дети примут ваши грехи… Держитесь около», т. е. держитесь детей своих.
Звучит невероятно. Действительно, не укладывается в голове, что славянское письмо может быть древнее египетского и шумерского. Уж очень это диссонирует с общепризнанными научными постулатами. Но тем не менее у всех этих построений есть научная основа. Сейчас скажем о ней кратко. Г. С. Гриневич (и не он один) считает праславянами трипольцев. Последние, в свою очередь, были прямыми наследниками культуры Винча-Турдаш, которой и принадлежат тэртэрийские таблички.
Не менее необычно будет звучать, что Г. С. Гриневич считает праславянскими этрусские надписи и надписи первых индийских цивилизаций — Хараппы и Мохенджо-Даро. И у таких утверждений тоже есть историческая основа, которую мы рассмотрим в своё время. К сожалению, мы не располагаем возможностью привести хотя бы некоторые из дешифровок этрусских и протоиндийских надписей.
Выше указывалось, что Г. С. Гриневич подвергся уничтожающей критике как со стороны историков, так и со стороны филологов-языковедов. Однако необходимо отметить, что в научном мире у него есть и сторонники. Приведём несколько их высказываний.
Вот что писал профессор Белградского университета, президент Сербского фонда славянской письменности и славянских культур Р. Н. Мароевич по поводу вышедшей в 1993 году книги Г. С. Гриневича «Праславянская письменность. Результаты дешифровки»: «Речь идёт о капитальном труде, составляющем эпоху исследований, который отодвигает начало славянской письменности и славянской истории на несколько тысячелетий назад. Это книга, с которой начинается новое направление в славистике — изучение праславянской слоговой письменности и после которой методологически будем различать, с одной стороны, новую (фонетическую, гласно-согласную) славянскую письменность Кирилла и Мефодия, их учеников и последователей и, с другой стороны, собственно праславянскую письменность, письменность «праславянских рун», письменность «черт и резов», основанную на слоговом принципе, которая и может укорениться благодаря действию фонетического закона «открытых слогов» в праславянском. На существование праславянской письменности до Кирилла и Мефодия указывали многочисленные факты» (II, 58; 336–337).
Рис. 26.
Филолог А. К. Прийма так оценил результаты Г. С. Гриневича: «Г. С. Гриневич умудрился содеять практически невозможное. Он сделал научное открытие принципиального толка в той области гуманитарных знаний, которая, казалось бы, была уже изучена лингвистами и отчасти историками вдоль и поперёк. Г. С. Гриневич окинул, если можно так выразиться, абсолютно свежим взглядом дошедшие до наших дней образчики письменности типа «черт и резов», а также пиктографического типа и… прочитал начертанное на тех образчиках. Выяснилось, что древнейшие памятники письменности на евразийской континентальной плите были составлены — все до одного! — на праславянском языке. Попутно выяснилось также, что у истоков индоевропейской цивилизации лежала праславянская культура» (II, 58; 337).
Авторы «Пособия по истории России для школьников, студентов, преподавателей» А. и В. Сторожевые в предисловии к своей книге отметили: «Особая роль в создании этой книги принадлежит труду замечательного переводчика древнеславянских текстов Г. С. Гриневича… Фактически Г. С. Гриневич своей работой предоставил тот уникальный лингвистический материал, который стал опорой материалу историческому и укрепил стремление авторов этого издания к разработке особого направления исторического исследования» (II, 58; 338).
Кто прав — сторонники или противники Г. С. Гриневича, — покажут время и новые научные исследования. Сейчас же скажем, что на данный момент Г. С. Гриневич, не единственный учёный, который разрабатывает тему славянского слогового письма. Ещё одним является В. А. Чудинов. О результатах его работы у нас и пойдёт сейчас речь.
В. А. Чудинов начал, если можно так выразиться, с начала, т. е. он попытался теоретически обосновать возможность слогового письма у славян в прошлом. Подобным обоснованием, по его мнению, служат «живые» остатки древнего письма в одном из современных славянских языков — русском. Что это за живые остатки?
Во-первых, правила переноса. Согласно им, нельзя переносить или оставлять на строке одну букву, а слоги желательно оставлять открытые. В английском языке, напротив, перенос требует разбивки на закрытые слоги (слово «имидж» будет разбито как «им-идж»; с позиций русского языка это слово вообще неделимо и непереносимо). Иными словами, даже сегодня русские слова как бы делятся на древние морфемы (мельчайшие значимые части слова), звучащие как открытые слоги, и мы их оставляем на строке так, чтобы удовлетворить как бы требованиям древнего читателя, если бы он ухитрился дожить до наших дней. Это всего лишь традиция, немотивированный анахронизм, т. к. современные слоги семантической, т. е. смысловой, наполненности не имеют. Традиция, являющаяся следствием слогового характера древней славянской письменности (II, 58; 371).
Во-вторых, слоговая организация современного русского письма. Русская графика, по мнению В. А. Чудинова, пока во многом удерживает слоговое изображение слова. До сих пор в наших буквах сохранились чисто слоговые знаки — Я, Ю, Е, Ё, передающие слоги ЙА, ЙУ, ЙЭ, ЙО при единичном употреблении этих знаков или при их постановке в начале слова, или иногда слога. Слоговым ещё в начале XX века был и знак И в словах ИХ и ИМ (произносилось ЙИХ и ЙИМ). В школьной грамматике эти знаки называют буквами для обозначения гласных звуков, что, вообще говоря, неверно, ибо при отдельном расположении, как уже упоминалось выше, они образуют слоги. Однако после согласных они действительно обозначают гласные звуки. Итак, даже современная русская азбука содержит силлабографы, слоговые знаки, хотя и в небольшом количестве (II, 58; 371–372).
Далее. В современном русском написании мы встречаем согласные с буквами Ь и Ъ. Эти диакритические знаки нельзя считать буквой в полном смысле этого слова, ибо в наши дни перед согласными они не обозначают никакого звука, а лишь смягчение предшествующего согласного, хотя перед гласными они обозначают звук Й и тогда являются буквой. До реформы написания в 1918 году сфера применения диакритического Ъ была шире. Так что хотя в наши дни предлоги и частицы В, К, С, ЛЬ понимаются как один звук, в графике начала XX века они выглядели слогами ВЪ, КЪ, СЪ, ЛЬ, а тысячу лет назад и произносились как открытые слоги, где Ъ обозначал сверхкраткий звук А/О, а Ь — сверхкраткий Е/И. В пословицах и народных песнях до сих пор сохранились предлоги с гласными полного образования: «не КО двору»; «СО вьюном я хожу»; «ВО поле берёза стояла» и т. п. Так что современная графика сохранила нам слоговый облик ряда слов, которые уже много веков произносятся как отдельные согласные звуки. Более того, для мягких (палатальных) вариантов согласных в русском гражданском шрифте используются не особые буквы и не диакритические знаки над буквами (как в западнославянских языках, принявших латиницу), а как раз силлабографы. Тем самым мы не можем оценить, твёрдый или мягкий вариант согласного помещён в слове, пока мы не увидим после согласного знак Ь или его отсутствие. Иными словами, в современном русском языке мягкость согласного обозначается не буквенным, а слоговым способом (II, 58; 372). Данные примеры, приводимые В. А. Чудиновым, равно как и правила переноса, указывают на то, что русская графика по своему строению до сих пор во многом сохранила свою слоговую организацию, хотя сами слоги теперь изображаются гласными и согласными буквами.
Этого не могло произойти, считает В. А. Чудинов, если бы славяне сразу стали писать буквами. Но это вполне закономерно, если считать, что славяне перешли от слоговой письменности к буквенной, сохранив уже укоренившиеся навыки (II, 58; 372).
Третьим «остатком» слоговой письменности в современном русском языке является, по мнению В. А. Чудинова, слоговая организация чтения. Многие взрослые, обучающие своих детей чтению, замечают, что произношение «чистых» букв не вызывает у детей знакомого акустического образа, т. е. слово, разбитое на буквы, становится неузнаваемым. Для получения смысла слово должно быть прочитано по «складам» (слогам). Обучение чтению по слогам имеет в России давнюю традицию. До революции 1917 года в школах существовала практика заучивания слогов: БУКИ + АЗ = БА-БА; ВЕДИ+АЗ = ВА-ВА и т. п. Есть и более древний пример — знаменитый туесок мальчика Онфима из Новгорода, относящийся к первой трети XIII века. Как известно, на днище туеска изображена кириллическая азбука. Но после азбуки здесь находится изображение слогов, сначала с А (БА, ВА, ГА и т. д.), затем с Е и И. Найдена в Новгороде и берестяная грамота конца XIV — начала XV века, на которой вслед за буквами азбуки прорисованы слоги. Это означает, что и в древности изучению слогов уделялось большое внимание, что слоги изучались тотчас же за изучением букв как прямое продолжение изучения азбуки. В современных школах этот этап обучения тоже присутствует, только он завуалирован тем, что в букварях помещают специальные тексты, прекрасно членящиеся на открытые слоги. Например, МА-МА МЫ-ЛА РА-МУ
(II, 58; 373–374).
Кроме того, современные буквы имеют слоговое чтение в аббревиатурах, причём иногда это чтение отличается от названия буквы в азбуке. Например, аббревиатура ФРГ: Ф читаем как ФЭ (отлично от названия буквы в азбуке); Р как ЭР (чтение совпадает с названием, но налицо слоговое название); то же самое можно сказать и про прочтение в данном конкретном случае буквы Г (читается ГЭ). По сути дела, мы здесь сталкиваемся не с одним, а с двумя пережитками слоговой традиции: слоговое чтение аббревиатур и слоговое название букв азбуки (II, 58; 374).
Это последнее стало настолько привычным, что вытеснило их прежние названия в виде значимых слов — АЗ, БУКИ, ВЕДИ и т. д. Однако тут есть любопытные отклонения: если основное большинство букв называется или по их произношению (гласные), или открытым слогом (согласные? БЭ, ВЭ, ГЭ и т. п.), то ряд согласных назван иначе — прежде всего это группа ЭЛЬ, ЭМ, ЭН, ЭР, ЭС. По мнению В. А. Чудинова, тут, вероятно, сказываются очень древние традиции (II, 58; 375). Однако заметим, что в просторечии названия всех этих букв не «выбиваются» из общего ряда, то есть передаются открытым слогом: ЛЭ, МЭ, НЭ, РЭ, СЭ. На наш взгляд, именно это неправильное произношение названий букв и есть след древней традиции, другими словами — слогового чтения.
Итак, реликтов слоговой письменности даже в современном русском гражданском письме довольно много. Но тогда логично предположить, что их должно быть ещё больше в прежние века, во времена Киевской Руси например. Находка таких реликтов в письменных памятниках той эпохи послужила бы ещё одним хорошим доказательством существования у славян слогового письма, предшествовавшего буквенному. В. А. Чудинов это прекрасно понимает и приводит массу примеров консонантной записи кирилловских текстов, т. е. записи слов одними согласными буквами с пропуском гласных. Это новгородские берестяные грамоты, также новгородские надписи на посуде и разного рода сосудах, граффито на стенах Софийского собора Новгорода, грамота из Старой Русы, надпись на подсвечнике из Гродно, надпись на кресте Манасии из села Цар Асен в Болгарии и т. д., список можно долго продолжать. Примеры эти хорошо известны учёным, их хронологические рамки — Х — XVI века. Подобная «консонантность» ставила и ставит исследователей в тупик, ибо, исходя из современных исторических постулатов, объяснять её трудно. Будь такие надписи единичными, то их можно было бы считать выполненными с ошибкой (ошибками). Но поскольку их много, такое объяснение не подходит. Широкое использование сокращений — вот ещё один вариант разрешения загадки. Но тут же возникает вопрос: чего это наши предки так любили сокращать? Подобное можно понять, когда речь идёт о больших текстах. Но когда текст состоит из одного-двух слов, которые к тому же являются украшением бытового предмета или знаком собственности на нём, эти «сокращения», представляющие собой либо полностью консонантную запись слова (т. е. без гласных вообще), либо «пропуск» отдельных гласных в слове, на самом деле являются, по мнению В. А. Чудинова, реликтами слогового письма (II, 58; 375–384).
Как видим, доказательства существования слоговой письменности у славян, приводимые В. А. Чудиновым, выглядят весьма убедительно. Анализируя указанные консонантные кирилловские надписи, а также надписи, выполненные разного рода загадочными письменами, о которых мы говорили выше, В. А. Чудинов сделал следующие выводы, касающиеся славянского силлабария:
1) Славянское слоговое письмо имело обычный порядок чтения, слева направо, т. к. не обнаружено ни одной кирилловской или консонантной надписи, читаемой справа налево или способом бустрофедон (одна строка слева направо, другая — справа налево). Вместе с тем был возможен особый стиль слогового письма, когда слова писались по вертикали, но следовали друг за другом всё равно слева направо. При этом обычно слова читались сверху вниз, хотя иногда было допустимо и чтение снизу вверх (II, 58; 384).
2) Графическая форма знаков славянского силлабария очень проста. В. А. Чудинов исходит из предположения об особой древности славянской письменности; её возраст измеряется тысячелетиями. Эта древность исключает вычурный характер знаков (II, 58; 385). Их репертуар включает ряд палочек (горизонтальных, вертикальных, наклонных), углы (четыре вида), два вида полукружий. Есть в славянском слоговом письме ветвящиеся знаки типа Y, У, , пересечения типа Х или креста, стрелочки, двойные палочки. Есть знаки, напоминающие греческие, латинские или славянские буквы: П, F, З, М, Л, К и другие (вид силлабария В. А. Чудинова см. ниже). Данная простота и сыграла со славянским слоговым письмом злую шутку. В одних случаях его знаки вообще не принимались во внимание, т. к. считались простыми царапинами. В других — их считали латинскими или греческими буквами, либо германскими рунами. Соответственно латинским, греческим или германским считался и текст (II, 58; 385–386).
3) В славянском слоговом письме очень часто употреблялись лигатуры. Лигатуры известны и по кириллическим текстам. Но там они встречаются довольно редко и объединяют две, ещё реже — три буквы. В слоговом письме лигатуры встречаются много чаще и объединяют большее число знаков. Это также послужило для него своеобразным камуфляжем, ибо подобные сложные неповторяющиеся символы принимались большинством специалистов за знаки собственности.
4) В слоговой славянской письменности точность передачи звуков письменными знаками была невысока. Это вообще чуждо для славянской письменности в её буквенной форме, но является особенностью слогового письма как такового, на любых языках. В чём конкретно выражалась вышеозначенная неточность? Прежде всего, в слоговой славянской письменности часто неразличимы звонкие и глухие согласные. Например, знак может означать как слог КО, так и ГО. Кроме того, гласные звуки как бы объединены в две группы. Первая — это А, О, У, Ъ; вторая — Е, И, Ы, Ь. Внутри этих групп различие между гласными проводится нерегулярно. То есть знак? может означать не только слоги КО и ГО, но и КА, КУ, КЪ, ГА, ГУ, ГЪ. «Тем самым, — делает вывод В. А. Чудинов, — славянская слоговая графика передаёт, скорее, некоторый фонетический остов слова, чем его подлинное звучание» (II, 58; 387).
Метод, каким В. А. Чудинов получил значения конкретных силлабограмм, весьма интересен. Прежде всего, путём теоретических рассуждений он пришёл к следующим выводам. Слоги с А/О должны быть отличимы от слогов с Е/И, образуя отличия первого порядка, отличия довольно сильные (собственно, это противопоставление, носящее название противопоставления гласных переднего и непереднего рядов, свойственно даже детской речи). Различия же между слогами с А и О или между слогами с Е и И есть отличия второго порядка и должны быть выражены слабее. Отличия между слогами с О и У или И и Ы ещё менее регулярны. Слоги со сверхкраткими гласными (Ъ, Ь) совпадают при написании со слогами с гласными нормальной длительности (А/О, Е/И соответственно). Далее. Предположительно, до определённого периода мягкие и твёрдые согласные не различались в речи и, соответственно, не различались и на письме. Глухие и звонкие же различались непоследовательно и допускали оглушённые и озвончённые написания. Не должно было существовать особых знаков для молодых согласных звуков Ф и Х. По мнению В. А. Чудинова, «все эти соображения приводят к резкому сокращению репертуара слоговых знаков как против теоретически возможного, так и против конкретного силлабария письменности «черт и резов» Г. С. Гриневича» (II, 58; 388).
Следующим шагом исследователя было создание так называемого славянского виртуального консонария, под которым он понимает набор знаков, имеющих буквенное написание, но слоговое значение. Как подчёркивает В. А. Чудинов, «виртуальный консонарий — это моя попытка упорядочить все чтения букв в качестве слогов» (II, 58; 388). В его построении учёному помогли упоминавшиеся выше древнерусские и болгарские консонантные надписи, а также следы слогового письма, сохранившиеся в современной русской графике (йотированные гласные звуки Я, Е, Ё, Ю, И, представляющие собой типичные открытые слоги, начинающиеся с согласного Й) и в названиях современных русских букв (об этом говорилось выше). В итоге была получена таблица сочетания согласного с произвольным гласным звуком, в которой различаются только гласные переднего и непереднего ряда.
Рис. 27.
В ходе исследования конкретных славянских надписей, содержащих загадочные знаки, В. А. Чудиновым устанавливались слоговые значения последних. Как это делалось? Способы были различны, в зависимости от обстоятельств. Но очень характерно название соответствующего раздела его работы «Загадки славянской письменности», в котором как раз и показывается методика определения значения каждого конкретного слогового знака. Раздел называется «Можно ли угадать звучание знаков?» Разумеется, подобное «угадывание» делалось не просто так, не «с бухты-барахты» или «как бог на душу положит», а на основании каких-то обстоятельств. У нас нет возможности продемонстрировать в нашей главе, как определялось значение каждого слогового знака. Но один пример всё-таки приведём. На самшитовом гребне из древнего Берестья (современный Брест) XII — XIII веков можно видеть азбуку (рис. 25). Буквы кириллического алфавита в их древнерусском написании вырезаны по обеим сторонам гребешка — с одной стороны от А до Е, а с другой — от Ж до Л, включая двоякое написание И и З. Именно на этой стороне между буквами З, ЗЕЛО и ЗЕМЛЯ, находится вертикальная черта, означающая вынос, и слитно с ней под линией строки располагается выносной знак в виде не очень аккуратного косого креста. На взгляд В. А. Чудинова, так изображён знак слоговой письменности, являющийся слоговой транслитерацией буквы ЗЕЛО, которая в силу редкого употребления была не очень понятна населению (II, 58; 415). В аккуратной прорисовке он должен походить на букву Х. Поскольку обозначен знак с чтением ЗЪ, то звуковое значение слогового Х — это ЗЪ (II, 58; 415).
В результате подобных построений В. А. Чудиновым был создан силлабарий слоговой славянской письменности (рис. 28).
Приведём некоторые из дешифровок В. А. Чудинова.
Знаменитая алекановская надпись дешифруется: «Пить! Напейся дико, в горло всадив». Имелось в виду «всадить в своё горло» содержимое сосуда. Иными словами, по мнению учёного, перед нами — питейный девиз на кувшине с вином (II, 58; 459). Надпись на бараньей лопатке переводится: «Живо же моё рало, и конь, и Русь, вольная и явная». Надпись эль Недима: «Бери его и веди к братанам». Вспомним, что эта надпись на куске дерева представляла своего рода пропуск для посла, едущего на Русь. По предположению В. А. Чудинова, последнего, прежде чем допустить к князю, должны были для выяснения личности доставить к княжьим дружинникам, которые, как известно, занимали административные посты. Отсюда и «братаны», т. е. дружинники, бывшие друг для друга как бы братьями (II, 58; 441). Надпись Христо Даскалова: «Надежды наши на бога. Веруй, люби нашего благого живого бога, белого в небесах» (II, 58; 452). Здесь пояснений не нужно.
Рис. 28.
Дешифровку славянских слоговых надписей В. А. Чудинов поставил буквально «на поток». Только в его книге «Загадки славянской письменности» приведено свыше 50 прочтений различных надписей. Вообще же таковых прочтений у учёного ещё больше. Интересующихся подробно процессом создания силлабария, конкретными дешифровками отсылаем к вышеозначенной работе исследователя и его статьям в различных журналах. Сейчас же хотелось бы обратить внимание на следующее обстоятельство.
В. А. Чудинов является научным оппонентом Г. С. Гриневича. Его работы он подвергает критике как с позиций эпиграфистики, так и с исторических позиций. Между тем самим В. А. Чудиновым, в отличие от Г. С. Гриневича, исторической концепции славянской письменности не создано. Если Г. С. Гриневич утверждает, что возраст славянского письма насчитывает тысячелетия, то он и указывает, какие конкретно народы, известные по письменным источникам, какие археологические культуры были его носителями, т. е. какие народы были непосредственными предками славян, какие археологические культуры ими создавались. Критикуя Г. С. Гриневича за эти построения, Чудинов ничего не предлагает взамен. Может, он не считает, что славянское письмо столь древнее? Да нет. Некоторые его высказывания позволяют думать, что он также полагает, что история письменности славян и их непосредственных предков насчитывает не столетия, а именно тысячелетия. Так, комментируя слова Татищева о том, что славяне, обитая в эпоху Древнего мира рядом с евреями, египтянами, греками и италийцами, могли перенять от них письменность, Чудинов замечает: «Это интересные представления, хотя я больше склоняюсь к противоположному мнению, а именно, что праславяне и были носителями письма, тогда как другие народы перенимали его у них» (II, 58; 198). Или, описывая графическую форму письма славян, он говорит дословно следующее: «Славянское слоговое письмо имеет очень простую внешнюю форму, которая складывалась тысячелетиями…» (II, 58; 385). Однако столь древние славяне-праславяне как бы повисают у В. А. Чудинова в воздухе. Где они находились? Почему о них молчат источники? Или под каким именем они были известны в древности? Какие археологические культуры древности ими созданы? На эти вопросы учёный ответа не даёт. Другими словами, его эпиграфическим выкладкам не хватает исторического фона. Будем надеяться, что в будущем, в следующих своих работах, исследователь осветит указанные проблемы.
Зато бесспорным достоинством построений В. А. Чудинова является хорошая разработка вопроса взаимодействия слоговой славянской письменности с глаголицей и кириллицей.
По мнению В. А. Чудинова, «роль слогового письма в возникновении глаголицы не только значительна, но и основополагающа. Без него этой азбуки просто не было бы. Влияние других алфавитов (рунического футарка, греческого, кириллицы. — И.Д.) велико, но они лишь дополняли уже существующую азбуку отдельными элементами» (II, 58; 491). Остановимся на этом утверждении подробнее.
Как полагает В. А. Чудинов, практически все согласные буквы глаголицы произошли от знаков славянского силлабария (II, 58; 481–488). Глаголические гласные своим происхождением обязаны принципу, положенному в основу образования гласных в германском руническом алфавите. Дело в том, что в слоговой славянской письменности все гласные буквы обозначались одинаково, одной палочкой, чаще вертикальной«|», реже — наклонной «\» или «/», и ещё реже — горизонтальной, «—». Ясно, что для передачи гласных звуков посредством букв эти палочки должны быть дифференцированы, то есть снабжены какими-то дополнительными штрихами. Именно по этому пути пошли германские руны. Принцип получения разнообразия гласных букв в футарке и был использован в глаголице (II, 58; 483).
Влияние кириллицы, по предположению В. А. Чудинова, выразилось в том, что «юсы» в глаголице появились после того, как они появились в кириллице. Во всяком случае, из кириллицы заимствовано название, хотя сами графические знаки (без этого названия) могли появиться одновременно с прочими буквами (II, 58; 488).
Наконец, появлением букв «фита» и «омега» глаголица, безусловно, обязана греческому алфавиту (II, 58; 489).
Вообще исследователь выделяет шесть периодов в формировании глаголицы.
В первый период буквы глаголицы понимались как лигатуры слоговых знаков. Точнее, графическая форма букв являлась точной записью названий, тогда как названия слагались несколькими способами: повторением названия слогового знака (ША, ЦЫ), прочтением составных частей получившейся графемы по аналогии со слоговыми знаками (например, БУКИ состоит из знаков, похожих на слоговые знаки БЪ и КИ; ВЕДИ — из знаков, напоминающих ВЪ и ДИ и т. д.), разложением сложного звука на составные части и отражением этого в названии лигатуры (так, буква ШТА — это лигатура слоговых ША и ТА; при написании ТА даётся двойным контуром; итог —). На данном этапе влияние слоговой письменности наиболее значительно, поскольку слоговые знаки дали и графику, и названия букв. При этом гласные обозначались слоговым способом, т. е. просто палочкой, и понимались в зависимости от контекста. А согласные не различались по звонкости-глухости и мягкости-твёрдости. Иными словами, на азбуку были перенесены все особенности слоговой письменности. Вероятное употребление такой протоглаголицы — вкрапление её в чисто слоговые тексты для начертания произношения чужих имён и вообще иностранных слов в тех случаях, когда слоговая графика не даёт однозначного чтения (II, 58; 489).
Во второй период произошло обращение к германским рунам в славянском употреблении, для того чтобы различать гласные звуки (II, 58; 489).
В третий период идёт совершенствование глаголицы на основе нововведений. К ним В. А. Чудинов относит: появление удвоенного гласного УК, гласных Ю, Ъ, Ы, Ь, согласных ТВЁРДО, СЛОВО, двойного контура в начертании букв, знаков озвончения, мягкости и твёрдости. После этих усовершенствований азбука способна передавать все тонкости славянской речи и гораздо тоньше воспроизводить звуки иных языков. Теперь её уже можно назвать ранней глаголицей (на предыдущих двух этапах она — протоглаголица). Это уже самостоятельная письменность, а не набор знаков для лучшего понимания слоговых текстов. Однако у глаголицы ещё нет жёсткой последовательности знаков (II, 58; 490).
На четвёртом этапе глаголицу привязывают к греческому образцу: появляются греческая последовательность букв, их числовые значения, подражание греческой графике. Происходит введение ряда греческих букв в алфавит: «иже» (греческая «эта»), «ижица» (греческая «ипсилон»), «омега», «фита». На основе «альфы» была образована глаголическая буква «ять». Редактором, усовершенствовавшим глаголицу в подобном ключе, по мнению В. А. Чудинова, вполне мог быть святой Иероним в конце IV века н. э. (II, 58; 490). Глаголицу уже можно назвать поздней (II, 58; 491).
На пятом этапе в глаголице появляются носовые гласные. Уже существует кириллица, и под её влиянием в глаголице вводятся названия «юсов» и «еров» (II, 58; 491).
На шестом этапе глаголица распадается на два графических варианта — уставный (хорватский) и курсивный (болгарский) (II, 58; 491).
Итак, глаголица, как полагает Чудинов, возникла эволюционным путём, прошла длительный (несколько веков) путь становления и развития. Но её прародитель — это слоговое славянское письмо.
Роль последнего в возникновении кириллицы скромнее, но и тут не обошлось без его влияния. Четырнадцать негреческих букв кириллицы, которые исследователи выводили из разных систем письма, В. А. Чудинов считает произошедшими от знаков славянского силлабария (либо непосредственно, либо опосредованно — через глаголицу) (II, 58; 492–494).
После возникновения азбук наступил этап совместного существования двух типов славянского письма. Сосуществование прошло несколько стадий.
На начальном этапе слоговое письмо сохраняет свои позиции везде, кроме христианской литературы. Население приступает к изучению азбуки во взрослом состоянии, изучив в детстве слоговое письмо. Это продолжается несколько десятилетий (II, 58; 501).
На этапе активного наступления азбука постепенно проникает в другие сферы жизни: для записи государственных и правовых актов, в денежное обращение, в легенды печатей, в светскую литературу. Азбуку начинают изучать в детстве, приводя буквы к слогам в виде складов. Этот период характеризуется тремя видами влияния слогового письма: сознательными смешанными надписями, включая слоговые пояснения кирилловских букв; неосознанными слоговыми описками в буквенном тексте; слоговым чтением кирилловских букв. Продолжительность этапа — от нескольких десятилетий до двух-трёх веков, в зависимости от местности. Именно на этом этапе происходит размежевание письма по сферам употребления: кириллица оказывается основным шрифтом, тогда как слоговое письмо уходит на социальную и территориальную периферию. Иными словами, кириллица становится официальной письменностью, тогда как слоговое письмо превращается в простопись, письменный вариант просторечья, что-то вроде письма малограмотных, употребляемого для бытовых нужд (II, 58; 502).
На этапе вытеснения происходит частичное забывание слогов как знаков и появление слоговых ошибок. Самым важным показателем этого процесса оказываются буквенные описки в слоговых текстах, когда слоговые знаки понимаются как согласные буквы, после которых требуется писать гласную букву. Стиль слоговой письменности из простописи переходит в разряд традиции, которую уже помнят плохо (II, 58; 503).
На заключительном этапе многие перестают понимать слоговые знаки, которые становятся достоянием лишь горстки людей. Теперь слоговое письмо превращается в тайнопись, понятную либо жителям уж очень глухих мест, либо только посвящённым, например в рамках гонимой конфессии. Для основной массы людей оно просто перестаёт существовать, и его тексты начинают путать с письменами других народов, которые всё равно одинаково непонятны. Фаза эта может занимать всего пару десятилетий (II, 58; 503).
Вот такая периодизация. На наш взгляд, она обладает безусловным плюсом, показывая длительность совместного существования двух типов письма: буквенного и слогового. Появление первого не привело к быстрому исчезновению второго. Сдача позиций слоговым письмом происходила долго.
С другой стороны, данную периодизацию можно в полной мере отнести лишь к взаимоотношениям кириллицы со слоговым славянским письмом. В таком случае и территориально применение этой периодизации ограничено теми славянскими странами, где кириллица стала господствующим шрифтом, т. е. Русью, Болгарией, Сербией.
Перенести периодизацию автоматически на отношения слогового письма и глаголицы, пожалуй, затруднительно. Во-первых, возникла глаголица, по всей вероятности, значительно раньше кириллицы (даже если мы будем говорить о протовариантах этих азбук). Стало быть, вышеописанный начальный этап никак не мог занять всего лишь десятки лет, он занимал сотни. Во-вторых, в отличие от кириллицы, глаголица нигде не стала официальной государственной письменностью. Да, какое-то время она использовалась в Древней Болгарии наравне с кириллицей, но довольно быстро была вытеснена последней. Даже допуская, что известна в той же Болгарии глаголица была значительно раньше кириллицы, тем не менее активно вытесняла слоговое письмо не она (имеется в виду выделенная В. А. Чудиновым фаза активного наступления азбуки). Глаголица так и осталась церковной письменностью для некоторых славянских народов (хорватов, словенцев). У славян, принявших католичество, этапы активного наступления азбуки, вытеснения и заключительный слоговое славянское письмо переживало под воздействием не глаголицы, а латиницы.
Оканчивая обзор построений В. А. Чудинова, хотелось бы обратить внимание на следующий нюанс. Как могли древние славяне называть своё слоговое письмо? Здесь, конечно, нам остаётся только гадать, и, безусловно, речь в большей степени идёт о выборе современного научного термина. Г. С. Гриневич использует термин, профигурировавший у черноризца Храбра: «черты и резы», письмо типа «черт и резов». Однако В. А. Чудинов вслед за большинством учёных считает «черты и резы» примитивной пиктографией (знаки собственности, родовые тамги, символы для счёта и гадания) (II, 58; 326). Отмежёвывается он и от понятия «славянские руны», ибо, по его мнению, оно ведёт к путанице, так как под этим термином в XIX веке понимали германские руны в славянском употреблении, то есть буквенные, а никак не слоговые знаки. «Лично я, — заявляет исследователь, — предпочитаю термин «руница», который тоже иногда встречается» (II, 58; 326).
Позволим себе заметить следующее. Если набор слоговых знаков именовать «руница», то сами эти знаки волей-неволей придётся называть «рунами». Мы не видим ничего страшного в употреблении термина «руны». Прежде всего потому, что совсем не обязательно ориентироваться на то, что понималось под этим термином в XIX веке. Сейчас XXI век. Историческая наука ушла далеко вперёд, и какие-то старые определения вполне могут быть отброшены. Далее. Именно рунами могли именовать славяне (праславяне, русы) знаки своей письменности. Это название могли носить сначала слоговые, а затем, по наследству, и буквенные знаки. Правда, словосочетание «славянские руны» звучит необычно. Однако в следующей главе мы берёмся показать, что ничего невероятного в соединении этих двух слов нет.
Славянские руны: мифы или реальность?
Да, действительно, руническое письмо мы привыкли связывать с германцами (в частности, со скандинавами), а отнюдь не со славянами. Таинственностью и глубокой древностью веет когда произносишь слова: «Германский рунический футарк». Сразу вспоминаются произведения Толкиена, в которых живут и действуют эльфы, тролли, гномы и другие персонажи, позаимствованные из германской мифологии. Герои этих произведений в тех или иных ситуациях часто имеют дело с рунами.
Однако заметим, что таинственное слово «футарк» подобно нашему, столь привычному, слову «азбука». Это название германского рунического алфавита представляет собой первые его буквы, расположенные в соответствующем порядке.
Что же касается слова «руны», то звучит оно не очень-то по-германски. В голову приходит похожее слово «руно». То самое руно, за которым плавали аргонавты. Но аргонавты были греками, плавали за руном они в Колхиду, то есть Закавказье. Германцы тут вроде бы ни при чём. А слова-то явно родственные, а не просто похожие. Как же объяснить, что слово «руны» вроде бы германское, а слово «руно» не имеет к германцам никакого отношения?
Всё дело в том, что и слово «руны», скорее всего, по происхождению не германское. И оно, действительно, родственно слову «руно». Последнее же — славянское. Во всех славянских языках оно означает: «покрытая волосами кожа». И именно кожу использовали в старину для целей письма. Она называлась пергаментом. Вполне может быть, что письменные знаки, наносимые на специально обработанную кожу, напоминали славянам волосы, ранее эту кожу покрывавшие. Тогда слово «руны» подобно слову «буквы». Оно указывает на материал, на котором производилось письмо (напомним, что существует предположение, что слово «буква» происходит от названия дерева бук, на дощечках из которого могли писать славяне).
Интересно также, что славяне называли руном и поле, покрытое стеблями, будто волосом, и отару овец, и стаи рыб или птиц. Не сравнивали ли наши предки знаки письменности с этими стеблями и стаями? Очень может быть. Руны покрывают писчий материал, как — волосы кожу, стебли — поле, стая птиц — небо.
Языковедами восстановлена древняя форма слова «руно» — «rumno». На санскрите, родственном славянским языкам, слово «roman» до сих пор означает «волос на теле». Поэтому учёные не без основания видят родство слов «руно» и «руна». Значение последнего — «волос» (II, 9; 209).
Говоря о славянских рунах, необходимо сразу определиться с понятиями. Как верно заметил В. А. Чудинов, в XIX веке под этим термином понимали письмо, позаимствованное славянами у германцев (II, 58; 326). Мы сохраним такое понимание термина «славянские руны», но сделаем существенную оговорку: руны славян действительно схожи с германскими, но это не означает, что славяне их у германцев заимствовали. Мог быть один источник возникновения этого письма, а могло быть и обратное заимствование. Другими словами, первый смысл словосочетания «руны у славян» — это славянская письменность, схожая с письменностью германцев. Но это узкий смысл. В более широком значении под этим термином мы будем понимать славянское письмо вообще, каким бы оно ни было. Выше уже было сказано, что именно такое название могли носить письменные системы славян, и было показано, откуда могло возникнуть это название. Тогда славянские руны подобные германским, — это всего лишь один из путей развития письменности наших предков. Были и другие пути. Возможно, именно о разности истоков возникновения письма или разных путях его развития говорит славянская мифология.
Религиозным представлениям славян, их мифологии будут посвящены отдельные главы. Тем не менее здесь надо кое-что пояснить. О религиозных представлениях славян известно в принципе немного (если сравнивать, скажем, с древними греками или римлянами). Просто источников дошло до нас мало. Так что редкие исторические свидетельства, догадки, построенные на основании каких-то археологических находок, приходится дополнять этнографическим материалом. В совокупности «получается негусто». Тем более удивительно пренебрежение учёных тем же этнографическим материалом. Ещё в конце XIX века в Белграде и Санкт-Петербурге был издан двухтомник крупнейшего южнославянского фольклориста Стефана Ильича Верковича «Веда славян». В этой книге собраны песни и сказания небольшого, но крайне интересного славянского народа — болгар-помаков, живших в Родопских горах и сохранивших древнюю веру, обряды и даже жречество. Работа Верковича не менее значима, чем открытие учёными примерно в это же время на Русском Севере пласта былинных сказаний. Благодаря этой работе мы можем оценить всё богатство древних религиозных представлений славян. Однако даже в XIX веке труд Верковича был оставлен без внимания (правда, вышел он не очень большим тиражом). В наше же время о нём мало кто слышал. Но самое интересное в том, что те, кто пытается ввести данные этой бесценной книги в научный оборот, либо игнорируются научным миром, либо подвергаются его нападкам (что, мол, за чушь — славянские Веды?).
Можно также назвать небезызвестную «Книгу Велеса», в которой много новых данных по религии и мифологии наших предков. Но поскольку подлинность этой книги оспаривается, то сейчас мы не будем на неё ссылаться (к вопросу её подлинности вернёмся несколько позже). Именно из «Веды славян» почерпнут ряд мифологических сюжетов, касающихся возникновения у славян письменности. Согласно славянским мифологическим представлениям, руны людям дал Велес, бог мудрости. Интересно, что в ведической традиции (не только славянской, но и иранской, и индийской) Велес имеет и другое священное имя — Рамна (или Рама) (II, 9; 209). И как тут не вспомнить санскритическое «roman» («волос на теле») и древнюю праславянскую форму слова «руно» — «rumno», и ту же «руну», о которой мы уже говорили, что она в древности, возможно, сравнивалась с волосом на коже, служащей писчим материалом. Кстати, исследователи считают, что более древняя форма имени «Велес» — «Волос». Это второе имя употреблялось наряду с первым, но было старше. Имя же «Волос» недаром полностью совпадает со словом «волос», ибо оно и есть это слово (II, 44; 128–133). Волос на теле чудовища-медведя, послужившего прототипом для божества Волоса-Велеса (II, 44; 127–133). Круг замыкается. Построения лингвистов подтверждаются мифообразами. В свою очередь, подлинность мифологических образов и сюжетов, ставших известными нам благодаря этнографическим изысканиям, подтверждается выводами языковедов. То есть, говоря точнее, подлинность самих этих этнографических изысканий. Подтверждается то, что книги С. И. Верковича зафиксировали действительно сказания болгар-помаков, а не нечто, придуманное самим Верковичем. На наш взгляд, не остаётся ни капли сомнения в том, что слово «руна» не германского происхождения, что родилось оно в среде предков славян. Также не вызывает сомнения и значение этого слова.
Однако вернёмся к разности путей развития славянской письменности, которая, возможно, зафиксирована даже мифологически.
Итак, руны людям дал бог Волос-Велес. Воплощением Велеса на земле был Одинец, у которого, кстати, был сын Двоян и внук Троян. Тот самый Троян, «векб» которого воспеваются в «Слове о полку Игореве» (странно, но почему-то считается, что это произведение древнерусской словесности говорит о временах римского императора Марка Ульпия Траяна). Теперь сопоставим славянский миф о возникновении рунического письма с мифом скандинавов на эту же тему.
Согласно скандинавской эпической песне «Рунотал» («Песне о рунах»), сотворение рун произошло в результате мистического прозрения, когда Один пронзил себя копьём на Мировом древе, ясене Игдрассиль.
Ведомо мне, что висел я на ветреном древе, Девять целых ночей, пронзённый копьём, Отданный Одину, себе самому; На древе, о котором никто не знает, Откуда корни его восходят. Они не давали мне ни еды, ни рога питья; Я вглядывался вниз, я ловил руны, И сколь учил их, столь плакал… Перевод К. Пушкарёва (II, 9; 210)После обретения Один передал руны богам-асам. Затем Даин передал руны альвам (эльфам), Двалин — двергам, а Алсвид — великанам-йотунам.
Тут обращает на себя внимание совпадение мотивов славянского и скандинавского преданий: руны даёт бог, но этот бог имеет земное воплощение. У скандинавов этим воплощением является земной Один (он во время прозрения был отдан себе самому, то есть Одину небесному), а у славян — Одинец. Практически одинаковые имена. Если мы вспомним, что Один восседает в Вальхалле («халла» — это зал, а «Валь», как можно думать, — это скандинавская передача имени Волос-Велес, т. е. имеем дело с залом Волоса-Велеса), учтём, что в славянских преданиях также есть предки славян боги-ясуни, проживающие в Ас-граде (у скандинавов боги-асы живут в Асгарде), то на основании такого анализа мифов возможно сделать вывод, что скандинавская (шире — германская) и славянская руника имеют общий исток. О заимствованиях говорить не приходится. А. И. Асов употребляет термин «северный исток славянских рун» (II, 9; 212).
Но раз есть северный, то должен быть и южный. В преданиях славян, как полагает А. И. Асов, идёт речь и о нём. Существует вариант мифа о возникновении рун, по которому бог Святовит поднялся к трону Всевышнего и там получил золотые руны (II, 9; 211). Но кто такой Святовит? Согласно классическим представлениям о славянской мифологии, Святовит (или Свентовит) — это бог западных славян. У последних он был высшим богом, богом богов. В то же время Святовит был связан с войной и победами, его атрибутами были меч, знамя, копья, боевые значки (II, 48; 420). Подобные атрибуты позволяют либо отождествлять Святовита с Перуном, либо думать об их глубинной связи. Тем более что у балтов к богу Перкунасу (балтийский вариант славянского Перуна) относится эпитет «святой» (II, 48; 421). Интересно, что все эти представления о данном божестве почерпнуты у двух средневековых хронистов: Гельмольда и Саксона Грамматика, для которых славяне были чужим народом, верований которого они как следует не знали. Используемые А. И. Асовым новые источники (о них мы упоминали выше) позволяют ему утверждать, что образ Святовита был известен и южным славянам (II, 8; 211). Святовита отождествляют с великаном Святогором и Алтын-богатырём. Владения последнего, Алтынское царство, располагались где-то на юге (II, 9; 211). Вот вам и южный исток славянских рун.
Но мифы мифами, а возникает вопрос: что же это за южные славянские руны, где они?
Существует письменность, памятники которой хорошо известны в научном мире, в чём-то схожая с классическими германскими рунами, — письменность пеласгов. Она недаром получила название «пеласго-фракийской руники» (II, 9; 212). Однако при чём тут славяне? Дело в том, что ряд учёных считали ранее, а некоторые считают и теперь, что пеласги — это если не сами славяне, то их непосредственные предки (Е. И. Классен, А. Д. Чертков, Ю. Д. Петухов, Г. С. Гриневич, А. И. Немировский). К числу этих учёных можно причислить и языковеда Б. В. Горгунга, поскольку, по его мнению, трипольцы входили в число языковых предков славян (II, 24; 54). Археологически же прослеживается родственность пеласгов и трипольцев. Кроме того, исход трипольцев из Среднего Поднепровья по времени точно согласуется с появлением на Балканах, на островах Эгейского моря, в том числе на Крите, пеласгов (II, 24; 54–55). То есть, другими словами, пеласги — также языковые предки славян (они — те же трипольцы).
А. И. Асов сомневается, что пеласги были славянами, но полагает, что пеласгийская культура и письменность древним славянам могли быть знакомы (через фракийцев) (II, 9; 214–215).
Как бы то ни было, но рассмотреть вопрос о пеласгийской рунике мы должны.
И северные, и южные славянские руны имели своих исследователей.
Остановимся сначала на истории исследования северной руники.
Событие, о котором мы сейчас поведём речь, открыло тему славянских рун как таковую. Но обстоятельства этого события, как это ни странно, позже способствовали её закрытию.
Итак, где-то между 1687 и 1692 годами пастор деревни Прильвиц Нойстрелицкого округа герцогства Мекленбург (деревня находилась на месте разрушенного в XI веке славянского города Ретра) Самуил Фридрих Шпонхольц при работах в саду нашёл большой бронзовый котёл с множеством предметов языческого ритуала: блюдами, ножами и копьями для жертвоприношений, а также фигурками богов. По законам того времени всё найденное в земле Мекленбурга принадлежало великому герцогу Мекленбургскому, и находки надлежало сдать в герцогский замок.
Вместо этого Шпонхольц спрятал их у себя, а после его смерти в 1697 году его вдова продала древности златокузнецу Пельке из Нойбрандербурга, который приобрёл их в надежде на то, что в бронзе предметов содержатся помимо меди ещё серебро и золото. Остатки этих металлов действительно присутствовали там в очень небольшом количестве, но их извлечение из расплава оказалось нерентабельным. Расплавив пару фигурок и не получив из них благородных металлов, Пельке забросил находки. После его смерти клад отошёл его зятю, внуку по брату пастора Шпонхольца, носившему фамилию деда. А после смерти внука, жившего в том же Нойбрандербурге, коллекция из 66 предметов отошла его жене и сыну, тоже златокузнецу, Шпонхольцу-младшему. От него о древних сокровищах узнал местный врач Гемпель, который приобрёл у вдовы 46 предметов. Остальные 20 предметов приобрёл суперинтендант из Нойстрелица Маш.
Доктор Гемпель в 1768 году первым опубликовал в Альтоне и Ростоке заметки о находках, рассказав, в какое время они были обнаружены, и описав их. В том числе поведал и о рунических надписях на них, приведя эти надписи в латинской транскрипции (II, 58; 165).
Поскольку коллекция появилась на глаза общественности спустя почти сто лет после находки, возникли сомнения в её подлинности. Однако в том же 1768 году пастор Зензе выступил в защиту находок, разъяснив, что древности являются языческими святынями. Его поддержали также Тадель и приходской священник Генцмер. Для разрешения спора А. Г. Маш купил у Гемпеля все его находки и тем самым объединил в своих руках всю коллекцию. Призвав придворного художника Д. Вогена, он предложил ему скопировать фигурки, сделать из рисунков гравюры и проиллюстрировать ими свою монографию, которая вышла в Берлине в 1771 году под пышным заголовком «Богослужебные древности ободритов из храма Ретры на Толенцском озере. Точнейшим образом скопированные с оригинала в виде гравюр Даниелем Вогеном, придворным живописцем Стрелица герцогства Мекленбургского, вместе с разъяснениями господина Андреаса Готтлиба Маша, придворного священника, консистория, советника и суперинтенданта Мекленбургского Стрелица». Заметим, что благодаря Машу и приглашённому им Вогену мы вообще можем знать, что представляла собой эта коллекция, так как она не сохранилась. В 1945 году коллекция погибла в разрушенном советской артиллерией дворце герцога Мекленбургского. Каким-то чудом сохранилась одна статуя. Она, говорят, выставлена в краеведческом музее в городе Шверин (II, 9; 362–363).
Маш явился, по существу, первым исследователем ретринских рун. В своей монографии он описывает Ретру, опираясь на сообщения Титмара Мерзебургского, Адама Бременского и Гельмольда, излагает историю заселения Мекленбурга, уделяет значительное внимание самой коллекции, в частности, пытается читать рунические надписи на фигурах богов. При этом Маш отнюдь не считал эти надписи славянскими. По его мнению, племя редариев, населявших Ретру, было германским, имеющим некоторую славянскую примесь. Поэтому и его прочтения опирались на немецкий язык. Он лишь привлекал некоторые славянские слова, ибо, как было сказано, не отрицал у редариев некоторой славянской примеси. Как писал сам Маш: «Первые народы (населявшие Мекленбург. — И.Д.) бесспорно, говорили на подлинном древнем немецком языке» (II, 58; 171). Другими словами, Маш вовсе не исследовал руны славян, а полагал, что исследует один из вариантов германской руники.
Первым, кто заговорил о славянском письме рунами, был польский князь Ян Потоцкий. Ознакомившись с монографией Маша, он специально приехал в Мекленбург для того, чтобы посмотреть, а в случае удачи и приобрести коллекцию из металлических божков и предметов языческого ритуала. Ему действительно удалось приобрести у младшего брата того Шпонхольца, что продал ретринские древности Гемпелю и Машу, более сотни предметов и тем самым существенно расширить представления о рунических надписях редариев (варианты названия племени — «реты», «ратари»). По результатам исследования он издал на французском языке в 1795 году в Гамбурге монографию «Путешествие в несколько частей Нижней Саксонии в поисках славянских или венедских древностей». Таким образом, здесь уже в заглавии заключена мысль о том, что древности имеют не германский, а славянский характер происхождения. Потоцкий, подобно Машу, читал надписи на прильвицких фигурках. Его чтение носило явно выраженную славянскую направленность, хотя и оставляло желать лучшего.
Работа Потоцкого получила очень большой резонанс в славянских странах. Она заставила учёных пересмотреть свои взгляды на историю культуры славян и сделать некоторые выводы, которые, на наш взгляд, небезынтересны с научной точки зрения даже в наши дни. Так, польский историк Лаврентий Суровецкий в своём докладе «Нечто о рунических письменах» в 1822 году отмечал следующее: «…Все главные европейские народы употребляли гласные письмена и имели собственные почерки; однако ж в отношении к народам славянским, по причине недостатка достоверных памятников, сие чрез долгое время подвержено было сомнению и придало некоторым писателям смелость оспаривать у славян оное преимущество. Может быть, многие, основываясь на сём предположении некоторых учёных, поверили бы, что народ, многие века обладавший обширными странами, превышавший числом все прочие после падения Римской империи, рассеянный по большей части Европы и имевший тесные сношения с самыми просвещёнными в то время странами, что сей народ не употреблял письмён; если бы случайно вырытые из земли истуканы и многие орудия с надписями не открыли бы ошибочного в сём отношении мнения учёных…» (II, 58; 183). Последние процитированные строки Суровецкого — это о прильвицких находках. Далее: «Находящиеся на сих древностях рунические надписи тем основательнее названы славянскими, что оные выставлены на статуях божеств, несомненно, принадлежащих славянам, и что в них точно замечается славянское наречие. В них, равно как и в прочих северных рунах, сохранилась первоначальная простота, а потому и большое сходство с теми, которые ещё не подвергались переменам. Многие писатели, увлечённые сим обстоятельством, составили неосновательные догадки об их начале. Одни из них полагали, что славяне заимствовали руны у своих соседей, норманнов; другие, напротив того, утверждали, что норманны заимствовали оные у славян или какого-нибудь другого народа; первые в подтверждение своих предположений ссылались на известное множество памятников, исписанных сими рунами и находящихся в древних жилищах норманнов; другие же замечали, что сии письмена, без сомнения, заимствованы были норманнами у славян или у кого-либо другого, во-первых, потому, что они не соответствовали ни потребностям сих последних, ни произношению их языка; во-вторых, что славянская азбука содержит в себе буквы, которые вовсе не находятся в норманнской; что, наконец, письмена сих двух языков чувствительно между собою различаются» (II, 58; 172–174). Как видим, Суровецкий уже не сомневается в принадлежности рун славянам. Пересказывая же возникшие в науке мнения о происхождении славянских рун, излагает интересную идею, а точнее, даже две идеи: 1) не только славяне могли заимствовать у скандинавов руны, но мог иметь место обратный процесс (т. е. скандинавы заимствовали у славян); 2) славянские и скандинавские руны могли возникнуть самостоятельно, независимо друг от друга. Эти точки зрения вполне согласуются с тем, что мы говорили чуть выше. И, на наш взгляд, несколько излишне ироническое замечание В. А. Чудинова по поводу только что процитированных слов Суровецкого: «И это при том, что рунические памятники в Скандинавии к этому моменту (т. е. в 20х годах XIX века. — И.Д.) исчислялись сотнями, тогда как находки у славян можно было буквально перечесть по пальцам» (II, 58; 174). Подобное вполне может быть объяснимо. Скандинавия, в отличие от тех славянских областей, где могла быть распространена руника, не подвергалась завоеванию. Христианизация не была там связана с истреблением культуры покорённых язычников (да и самих язычников тоже). Достаточно вспомнить, что славянский город Ретра и его храм, в котором и находились прильвицкие идолы, были уничтожены германцами. Жрецы, видимо, и зарыли фигуры богов и предметы храмовой утвари, спасая их от гибели. Что ни говори, но шансов уцелеть у памятников славянской рунической письменности было куда меньше, чем у памятников руники скандинавской.
Однако оставим полемику с нашим современником, вернёмся в век девятнадцатый и продолжим рассмотрение тех изменений во взглядах учёных на историю славянского письма, которые повлекла за собой работа Потоцкого. Н. М. Карамзин в своей «Истории государства Российского», появившейся в 1818 году, писал: «Как бы то ни было, но Венеды, или Славяне языческие, обитавшие в странах Балтийских, знали употребление букв. Дитмар (т. е. Титмар Мерзебургский. — И.Д.) говорит о надписях идолов Славянских: Ретрские кумиры, найденные близ Толлензского озера, доказали справедливость его известия; надписи состоят в Рунах, заимствованных Венедами от Готфских народов. Сии Руны, числом 16, подобно древним Финикийским, весьма недостаточны для языка Славянского, не выражают самых обыкновенных звуков его и были известны едва ли не одним жрецам, которые посредством их означали имена обожаемых идолов. Славяне же Богемские, Иллирические и Российские не имели никакой азбуки до 863 года» (II, 58; 182). Как видим, Н. М. Карамзин, в отличие от Суровецкого, более сдержан в своих оценках. Он полагает, что руны были заимствованы у германцев, пользовались руникой только балтийские славяне, да и то только в сакральных целях. Тем не менее сам факт использования рун славянами у российского историка сомнения не вызывает.
Продолжались и попытки прочтения ретринских надписей по-славянски. В частности, свои варианты прочтения рун на некоторых фигурках предложил известный польский эпиграфист Тадеуш Воланский. Причём интересный факт: Воланский был специалистом по этрусским надписям. Подобно своему соотечественнику Яджею Кухарскому, он находил определённые черты сходства в славянской рунике и этрусской письменности (II, 58; 179). Выше мы отмечали, что северная славянская руника в определённой степени схожа с пеласгийскими письменными знаками. Но специалисты полагают, что этрусская письменность родственна пеласгийской, а то и происходит от неё (II, 9; 212–214). Так что называть мнения Воланского и Кухарского ошибочными мы не будем.
В тот период были сделаны и другие находки, содержащие рунические знаки, схожие с ретринскими. Принадлежность этих находок и этих рун славянам тогда сомнений уже не вызывала. В том же Мекленбурге, в окрестностях Нойстрелица, были найдены 14 мелких камешков. Рядом с рисунками на камешки были нанесены надписи. Их пробовал прочесть по-славянски немецкий эпиграфист Фридрих Гагенов. Результаты его работы современные учёные оценивают как неудовлетворительные (II, 58; 179).
В 1835 году в Польше в селе Микожине (или, как его позже стали называть в России, Микоржине) Остшешовского (позже — Островского) уезда была сделана интересная находка. Осенью этого года была найдена могильная плита с изображением человека, а год спустя — другая плита с изображением лошади; оба памятника были покрыты рунами. Первую заметку о них опубликовал Пётр Дрошевский, брат владельца Микоржина. В ней он сообщил, что под первой могильной плитой была обнаружена урна из глины грубой лепки с прахом сожжённого тела и остатками серебряных и медных ножных браслетов и что лет 10 назад крестьяне уже находили в этом районе подобную плиту с рисунками.
Польские эпиграфисты Пшиборовский, Цыбульский, Лецеевский предприняли попытки прочтения надписей на микоржинских камнях. Результаты, к которым они пришли, оказались весьма различны. Учёные сходились только в одном: это надгробные надписи над могилой воинов (II, 58; 180–182).
Были и другие находки, содержащие славянские рунические надписи. Ещё в 1812 году в Штирии при корчевании деревьев было найдено 20 шлемов. Все они были надписаны. Уже упоминавшийся Яджей Кухарский считал, что надписи на двух из них сделаны славянской руникой (II, 58; 179). В районе Кракова был найден медальон с рунами, которые читались вполне по-славянски (II, 58; 187). Наконец, есть известие, что какая-то находка, содержащая славянские руны, была сделана в Чехии (II, 58; 187). Сведениями, что конкретно это была за находка, мы не располагаем.
Казалось бы, у исследований рунической письменности славян блестящие перспективы. Но произошли события, которые поставили жирный крест на этих перспективах. Всё случившееся современный российский учёный В. А. Чудинов образно называл «падением славянских рун» (II, 58; 164).
Уже отмечалось, что критика прильвицких находок началась с момента появления первых сообщений о них. Автор первой монографии о ретринских божках Маш и ряд его сторонников аргументированно ответили на критику. Тогда, в конце XVIII века, полемика быстро затихла.
В 1804 году герцог Мекленбурга Карл, ознакомившись с книгой Потоцкого, решил приобрести обе коллекции: и Маша, и Потоцкого. Сделав это, он выставил их на всеобщее обозрение. Первым осмотрел набор древностей Рюс и заявил о своих сомнениях в его подлинности. Сомнения возникли и у известного слависта Йозефа Добровского, хотя он воздержался от категорических заявлений. Однако Яков Гримм оказался значительно суровее. Вынесенный им приговор гласил: «В прошлом столетии мекленбургский златокузнец изготовил несколько божков» (II, 58; 184). И такие слова прозвучали несмотря на то, что брат Гримма Вильгельм обнаружил наличие в прильвицких надписях двух рун, не имевших соответствия в германских футарках, что было равносильно публичному признанию новой разновидности рунического письма. Наконец, Конрад Левецов совершенно определённо заявил, что многие фигурки, выставленные в Нойстрелице, изготовлены в семнадцатом, а часть из них — в шестнадцатом веке. Всё это вынудило герцога создать следственную комиссию, работавшую два года (1827–1829). В результате допросов свидетелей, в том числе Нойманна, помощника Гидеона Шпонхольца (а именно этот Гидеон Шпонхольц продал 118 фигурок Яну Потоцкому), выяснилось, что некий гончар Поль делал формы, Шпонхольц отливал в них фигурки, а Нойманн вырезал надписи, руководствуясь книгой Маша. В то же время коллекция Маша была признана подлинной. Однако от признания её подлинности легче не стало: работа основателя славянской рунологии Потоцкого, своего рода основа основ, полностью обесценивалась, так как была целиком построена на исследовании сфабрикованных древностей. Кроме того, противники существования рунической письменности у славян на этом не успокоились. Тот же Левецов предложил Берлинской академии наук в 1835 году статью «О подлинности так называемых ободритских рунических памятников из Нойстрелица», где заявил, что литейщик фигурок из коллекции Маша был либо очень неуклюжим, либо просто дилетантом, что свидетельствует против древности находок (II, 58; 184). О плохой пластике фигурок писал также Лиш.
В конце концов против рунической письменности славян стали выступать даже слависты. Весьма эмоционально послал фигурки и их создателей к Эребу П. Й. Шафарик (II, 58; 185). Академик И. И. Срезневский в 1848 году высказался так: «Долго верили, а иные верят и теперь, в неподложность этих древностей; но, присматриваясь к ним, нельзя отказаться от всякой возможности доказывать их подлинность (то есть., говоря современным языком, доказывать их подложность. — И.Д.) …Некоторые из вещей могли быть действительно найдены; но, конечно, ни одной не найдено с рунами…» (II, 58; 185).
Итак, факт подложности фигурок коллекции Потоцкого породил «волну» скептицизма, которая «накрыла» вначале коллекцию Маша (вопреки мнению следственной комиссии, признавшей эту коллекцию подлинной!), затем коллекцию камней Гагенова, штирийские шлемы, краковский медальон и прочие находки, включая и Микоржинские камни.
Отчаянные попытки доказать аутентичность славянских рунических памятников предпринимали Лелевель, Войцех Цыбульский, Ян Коллар. Последний даже проводил экспертизу коллекции Маша, на которую подвигли руководство Мекленбурга научные баталии. Свои выводы Коллар изложил в публичной лекции, прочитанной им в Вене. В ней он признал подлинными не только фигурки Маша, но даже фигурки Потоцкого, а гравёра Нойманна назвал клятвопреступником, смалодушничавшим под угрозой пыток (II, 58; 186). Подробно аргументы Коллара были представлены в его двухтомной монографии «Боги Ретры или мифологические древности славян, особенно в Западной и Северной Европе», подготовленной к печати, но так и не изданной из-за смерти автора. Лекция же Коллара вызвала такой отклик Яна Лецеевского (кстати, бывшего ранее сторонником подлинности славянской руники): «Только ослепление и научная поверхностность могли навеять ему такие соображения» (II, 58; 186). Даже Игнац Гануш, поборник ободритской рунической письменности, кстати, прочитавший труд Коллара в рукописи, считал, что последний не продвинулся в чтении и толковании рун и что «у Потоцкого с уверенностью, у Маша с вероятностью многое сфабриковано» (II, 58; 186).
Столпы славистики один за другим отворачивались от славянских рунических памятников. Поэтому нет ничего удивительного, что в 1872 году вышла разгромная статья профессора А. Малецкого, в которой основная критика была нацелена на Микоржинские камни. «Смертный час прильвицким идеалам» — так охарактеризовал эту статью Лецеевский (II, 58; 186). В ней, в частности, утверждалось, что образцом для фальсификаторов ретринских рун послужила книга Клювера 1757 года, то есть руны были вырезаны только в XVIII веке (II, 58; 186).
Наконец, точкой в этой истории можно считать статью Ягича в «Энциклопедии славянской филологии», вышедшей в 1911 году, в которой он подытожил: «Это обозрение, богатое, к сожалению, лишь отрицательными результатами, доказывает, что при нынешнем состоянии науки все мифологические бредни о Стрелецких фигурках должны быть безусловно отвергнуты как неумелый подлог XVIII столетия; что вслед за ними и Микоржинские камни проваливаются как подделка XIX столетия; точно так же и Краковский медальон. Слабые следы славянских имён на подлинных надписях не обнаруживают ни малейшего отступления от германских рун» (II, 58; 187). После таких слов о «мифологических бреднях», произнесённых авторитетнейшим славистом, говорить, пожалуй, было уже не о чем. И не говорили практически век. А если славянские руны и упоминались, то исключительно в негативном ключе. Так, чешский историк письма Ч. Лоукотка в 1950 году писал: «Славяне, позднее выступившие на европейском культурном поприще, научились писать лишь в IX веке. Так называемые славянские руны, на которые часто ссылались, оказались при подробном исследовании фальсификацией…» (II, 31; 98). Положение о сфальсифицированности рунических памятников славян превратилось в научную аксиому, доказывать которую не надо. Поразительно, насколько научные догмы могут влиять даже на крупнейших исследователей с мировыми именами, заставляя их совершать курьёзные ошибки. В своей монографии «Язычество Древней Руси», вышедшей в 1987 году, Б. А. Рыбаков говорит и о богах из храма Ретры, и о Микоржинских камнях. Разумеется, называет их подделками. Но при этом приводит фотографии не этих древностей, а каких-то идолов, не то южноамериканских, не то древнеегипетских (II, 9; 351). По этому поводу А. И. Асов замечает: «Что по сию пору вводит меня в смущение. Видимо, Б. А. Рыбакова ввели в заблуждение…» (II, 9; 351). Да, видимо, академика ввели в заблуждение. Но… Мы с огромным уважением относимся к Борису Александровичу, очень высоко ценим его вклад в отечественную науку. Однако заметим, что подобная ошибка очень ярко характеризует отношение научного мира к славянской рунике. Мол, фальсификат — и точка. И проверять, изучать тут нечего.
Только в конце XX столетия в России группа учёных подошла к этому вопросу по-иному. А. Платов, Г. С. Гриневич, В. А. Чудинов, А. И. Асов считают проблему нерешённой. Более того, они склоняются к тому, что если не все, то некоторые памятники, содержащие славянские рунические знаки, безусловно, подлинны. Эти исследователи не являются стопроцентными единомышленниками, более того, часто они весьма жёстко спорят друг с другом. Но общим является резко отрицательное отношение к процессу развенчания рунической письменности славян в XIX — начале XX века. Очень ёмко данное отрицание выражено в словах В. А. Чудинова, предваряющих его рассказ об истории изучения этой письменности: «Это будет, к сожалению, знакомство с нашей общей бедой, ибо когда сами славяне обворовывают собственную историю культуры, называя это «торжеством науки», они принижают всех славян вообще. Грекам не приходит в голову объявлять храм Парфенон или скульптуры Фидия подделкой, да и итальянцы не спешат объявить свои древнеримские скульптуры шедеврами Ренессанса, хотя критиков, доказывающих почти полную идентичность стилей этих двух эпох, было огромное количество. И только славяне, едва обретшие хоть какие-то древние надписи, тут же поспешили счесть их подделкой» (II, 58; 164).
* * *
Познакомимся поближе с ретринскими рунами и изложим ряд соображений, которые могут свидетельствовать в пользу их подлинности.
Ниже мы приводим табл. 2 сопоставления ретринских и младших датских рун, заимствованную в книге А. И. Асова «Славянские руны и “Боянов гимн”» (с. 365). В таблице двадцать одна строка с ретринскими рунами. Однако руны 5 и 12 по введённой нами нумерации имеют очень сильно отличающиеся варианты начертания («» и «» соответственно). Учитывая, что значения ряда рун небесспорны, исследователи говорят о выделении не 21, а 23 рунических знаков (II, 9; 364). Абсолютно совпадают с датскими по начертанию руны: 4 (), один из вариантов руны 5 (), один из вариантов руны 6 (), руна 9 (), руна 11 (), руна 16 (R), руна 17 (), руна 19 (). Несколько отличное, но всё же схожее начертание имеет руна 8 (у славян — И, у датчан —). При этом звуковые значения данных ретринских и младших датских рун в общем схожи. Если прибавить к этому схожесть одного из вариантов славянской руны 15 () и датской руны 20 () при разных звуковых значениях («п» и «м» соответственно) и весьма натянутую схожесть руны 2 (у славян —, у датчан —) и одного из вариантов руны 3 (у славян —, у датчан —) при примерно схожих звуковых значениях, то тогда, пожалуй, можно говорить о совпадении двенадцати ретринских рун с младшими датскими, как это делает А. И. Асов (II, 9; 364). Хотя, на наш взгляд, количество совпадений ограничивается десятью (руны 2 и 3 совпадающими с датскими, мы не считаем). Но даже если принять число совпадений равным двенадцати, то это немногим более половины. Остальные руны различны, а знаки под номерами 1 (), 7 (), 12 (), 14 (), 18 () и 21 () аналогов в младших датских рунах не имеют вообще, а это более четверти от общего количества ретринских рун (шесть из двадцати трёх).
Таблица 2.
Подобный анализ даёт право говорить о родственности датского рунического футарка и славянской ретринской руники. Но говорить о простом копировании младших датских рун неким фальсификатором, внёсшим лишь незначительные изменения для вида, чтобы запутать дело, не приходится. Уж очень велика разница: в общем, около половины ретринских рунических знаков. Поддельщик, как верно замечает А. Платов, должен был очень хорошо быть знаком с тонкостями рунического искусства (II, 9; 364). И это вряд ли мог быть просто случайный человек, это был настоящий знаток.
Но кто же это? Вспомним обстоятельства дела. Итак, сделал находки пастор Самуил Шпонхольц около 1690 года. Затем после его смерти в 1697 году коллекция была продана златокузнецу Пельке. От него она перешла к его зятю, внучатому племяннику пастора Шпонхольца, также Шпонхольцу. Последнему наследовал его сын, тоже златокузнец, Шпонхольц-младший. Он и продал часть коллекции доктору Гемпелю, который опубликовал первое сообщение о ней в 1768 году. Младший брат данного златокузнеца впоследствии подсунул 118 фигурок, бывших, по-видимому, фальшивыми, Яну Потоцкому. Поэтому о коллекции Потоцкого мы речи сейчас вести не будем.
Но кто мог сфальсифицировать коллекцию Маша? Противники подлинности этой коллекции утверждали, что поддельщик скопировал руны книги Клювера либо 1757, либо 1728 года издания (II, 58; 186–187). Правильно. Больше людям того круга, где вращалась коллекция, взять изображения рун было негде. Ведь трудно предположить, что пастор, златокузнецы и даже врач Гемпель, которого также можно объявить фальсификатором, ибо первое сообщение о прильвицких рунах исходило от него, самостоятельно занимались изучением германской руники и были в этом вопросе большими специалистами. Кроме того, заметим, что сам пастор Шпонхольц и златокузнец Пельке отпадают как авторы подделки, так как в их время даже ранней работы Клювера ещё не существовало. Круг сужается. В числе подозреваемых остаются младшие Шпонхольцы и врач Гемпель. Правда, конечно, можно предположить, что пастор или златокузнец Пельке изготовили фигурки без рун, а впоследствии руны нанесли на них для повышения продажной стоимости. В общем, жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. Хотя ведь можно допустить, что фигурки были подлинными, а поддельны только руны на них. Как бы там ни было, «честь» быть фальсификатором рун, как уже указывалось, остаётся за одним из представителей младших Шпонхольцев или Гемпелем. Что касается первых, то все они были златокузнецами. Согласитесь, ремесленник примерно в середине XVIII века, который прекрасно разбирается в германских рунах, читает работы Клювера — это несколько странно. Ещё более странно то, что этот немецкий ремесленник неплохо знает славянскую мифологию. Уже позже, читая руны, специалисты прочли имена: «Радегаст», «Белбог», «Перун-бог», «Велс-бог», «Летеница», «Ящер-бог», «Сива», «Квасура» и др., которые действительно есть в славянской мифологии (II, 9; 374–402), (II, 58; 171). Причём о некоторых образах (Квасура, Сива) заговорили только в наши дни; классические представления о славянских мифах таковые образы не включали. Не только златокузнецы, но даже доктор Гемпель, образовательный уровень которого был, несомненно, более высок, подобными знаниями располагать не могли.
Но, предположим, в рунах Гемпель разбирался, что-то из Титмара Мерзебургского, Адама Бременского, Саксона Грамматика и Гельмольда знал о славянских богах, и именно он выступил автором подделки. Но тогда «вычислить» его было довольно легко. Остаётся загадкой, почему мекленбургская комиссия, в конце 20х годов XIX века проведшая столь обстоятельное расследование, не вышла на него. И хотя Гемпель был в то время уже наверняка мёртв, на суть дела это не влияло. Более того, достопочтенный врач сам приобрёл большую часть коллекции у Шпонхольца-младшего. Руны в момент приобретения, надо полагать, уже были, потому что меньшую часть коллекции суперинтендант Маш чуть позже покупал у Шпонхольца с руническими надписями на фигурках. Можно ещё предположить, что златокузнец Шпонхольц и доктор Гемпель были в сговоре. Сработали на пару. Обманули бедного, доверчивого Маша, который затем купил у Гемпеля его часть коллекции. Денежки от столь удачно обстряпанного дельца — пополам. Налицо «преступное сообщество, именуемое в народе шайкой». И комиссии в таком случае докопаться до истины было значительно труднее.
Противникам подлинности ретринских рун можно выдвинуть и такой аргумент: «Если менее чем тремя десятками лет позже младший брат златокузнеца Шпонхольца смог со своими помощниками изготовить фигурки с руническими надписями, которые князь Потоцкий принял за подлинные, то почему этого не мог сделать ранее старший из братьев». Ответим на данный довод сразу: в 90х годах XVIII века, когда покупал свою коллекцию Потоцкий, у фальсификаторов была под рукой работа их земляка Маша с прекрасными гравюрами художника Вогена. Особых знаний ни в области рунологии, ни в области славянской мифологии уже не требовалось. Вокруг древностей славян существовал сильный ажиотаж. Так что деньги, можно сказать, сами «шли в руки», прояви лишь чуточку старательности и фантазии. Тридцатью годами ранее ничего этого не было. Условия были другие.
В отношении же прочих аргументов противников подлинности прильвицких богов и надписей на них кроме того, что уже заметили по ходу изложения, скажем: чтобы допустить поддельность коллекции Маша, надо сделать слишком много допущений из разряда «вот если бы да кабы». А это само по себе наталкивает на мысль, что гораздо правдоподобнее считать коллекцию подлинной.
И тогда можно весьма просто объяснить совпадения с датскими рунами. Дело в том, что ещё в 808 году Ретру взял приступом Готфрид Датский, тот самый, что убил князя ободритов Годлава, отца Рюрика (ставшего потом новгородским князем, основателем династии Рюриковичей). А. И. Асов полагает, что с тех пор в Ретре жило немало датчан, постепенно ославянившихся (II, 9; 364). То есть у датчан реты могли позаимствовать руны вообще, частично изменив их со временем. Но они могли иметь свои руны ко времени прихода датчан. Тогда славянские руны просто испытали сильное влияние датских. Можно говорить и об изначальных общих корнях в древности (о чём упоминалось выше). Этими общими корнями объясняются элементы сходства, различия обусловлены долгим временем самостоятельного развития рунической письменности у каждого из народов. Наконец, возможно допустить, что скандинавы заимствовали у славян. Но заимствование это, если оно имело место, должно было быть гораздо ранее IX века нашей эры. Заимствовать должны были не скандинавы, а германцы вообще. Однако здесь мы вступаем в полосу абсолютно голословных предположений, ничем не подтверждающихся. Поэтому просто вернёмся к прильвицким находкам.
Нас весьма удивляет, почему никто не говорит о том, что подлинность ретринских богов и рун на них подтверждается столь очевидным фактом совпадения известия Титмара с местом и характером находок. Хронист говорит о славянском городе Ретра, храме в нём, статуях богов, на которых нанесены имена этих богов. Находки сделаны на месте, где находился город Ретра, представляют собой предметы культа и статуи богов с надписями, которые при чтении действительно оказались именами славянских божеств. Правда, на некоторых статуях, кроме имён, написано что-то вроде заклинаний (например, «ведаю» или «верю, мыслю свято, ведаю свято» и т. п.). На многих фигурах есть ещё и наименование города — «Ретра». Скептики могут возразить, что фальсификатор как раз и учёл свидетельство Титмара и на нём основывался. Что ж? Это вероятно в принципе. Но скептиков мы отошлём к тому, что говорилось чуть выше о личности фальсификатора, и пусть они учтут эти обстоятельства.
Более того, внешний вид фигур и сами надписи свидетельствуют за подлинность находок. Многие фигуры оплавлены. Значительное количество надписей нанесено поверх оплавления. Как считает А. Платов, это говорит о том, что руны могли быть нанесены в более поздние эпохи, хотя сами статуи божеств подлинны (II, 9; 364). Да и обилие надписей на каждой фигуре, по его мнению, свидетельствует о возможной фальсификации рун: трудно себе представить, что жрецы храма Ретры вдоль и поперёк исписали статуи своих богов (II, 9; 364).
На наш взгляд, все эти факты говорят как раз об обратном, об аутентичности рунических надписей прильвицких находок. В самом деле, основывавшийся на Титмаре Мерзебургском поддельщик должен был следовать хронисту как можно более строго. Последний говорил об именах богов на статуях, но ни словом не обмолвился о заклинаниях и имени города на них. Зачем поддельщик рисковал, процарапывая на каждой фигуре чуть ли не сочинение на тему «Как я провёл лето»? Загадка. Далее. Нанося надписи поверх оплавления, разве не выдавал он себя с головой? Заботясь о том, чтобы его подделка выглядела как можно более правдоподобной, фальсификатор должен был учесть оплавления. Он этого не делает во многих случаях. Право, он кажется человеком совсем недалёким. А между тем все обстоятельства говорят скорее о том, что он был очень и очень хитёр.
Нам представляется, что никакого поддельщика и не было. Статуи действительно были подписаны самими жрецами. Спасая изображения своих богов от уничтожения во время разгрома Ретры немцами в 1068 году, они вынесли их из горящего храма (отсюда и оплавления), затем укрыли в земле. Перед этим поверх оплавления из каких-то ритуальных соображений был нанесен ряд надписей. То есть, другими словами, надписи на фигурках двух родов: те, о которых говорил Титмар, т. е. нанесённые до оплавления; и те, о которых Титмар не мог ведать, ибо они наносились гораздо позже, во время военной катастрофы, на уже повреждённые (оплавленные) статуи.
Добавим ещё несколько аргументов, подтверждающих и подлинность статуй богов, и подлинность рун на них. Данным изображениям находятся аналоги, найденные в разное время и в совсем иных землях. К примеру, изображение Перуна из Ретры подобно изображению Перуна из храма долины Свинторога. Радогост, подобный ретринскому, изображён на одной сарматской надгробной плите (II, 9; 363).
Двенадцать рун Ретры подобны рунам, которыми записан «Боянов гимн» (II, 9; 364). Об этом памятнике речь пойдёт у нас ниже. Здесь лишь скажем, что его считают подделкой, изготовленной примерно около 1810 года. Тем удивительнее совпадение с «бояновицей» более половины ретринских рун: об этом памятнике воображаемые фальсификаторы прильвицких идолов знать не могли. А фальсификатор «Боянова гимна» (если уж признавать «Гимн» подделкой), на наш взгляд, постарался бы добиться большего сходства с рунами Ретры, ибо первое десятилетие XIX века — это период «взлёта» славянских рун. Другими словами, подобная степень сходства свидетельствует скорее о подлинности обоих памятников.
Конечно, германские рунические футарки имели массу территориальных разновидностей. Сопоставление этих разновидностей с ретринскими рунами может дать иные цифры совпадающих и различающихся знаков. Но, как отмечалось выше, ещё в XIX веке было установлено, что часть прильвицких рун не совпадает с германскими рунами ни одного из футарков (II, 58; 184). А это, по замечанию Чудинова, равносильно признанию новой разновидности рунического письма (II, 58; 184).
Вывод нам кажется несомненным. Всё вышеприведённое позволяет с уверенностью говорить, что руны северного (германского) типа использовались славянами (по крайней мере, частью западных). Однако вопрос о времени появления этого письма у славян, источниках его зарождения придётся оставить открытым. Материалами для его решения мы не располагаем. Хотя изложенный материал в дальнейшем даёт нам возможность высказать некую гипотезу, касающуюся и этой проблемы.
* * *
Ещё один тип руники, которой могли писать славяне и их непосредственные предки, — южная, пеласго-фракийская. О ней мы сейчас и поговорим.
Сегодня известно немного памятников, написанных пеласгийской руникой. Например, девять больших досок с вырезанными на них пеласгийскими надписями, найденных в 1444 году в Италии, близ Губбио (так называемые Евгубинские таблицы). По мнению учёных, они содержат описания священнодействий жрецов храма обричей (II, 9; 212).
Эти и иные подобные письмена изучали французские и немецкие учёные в XVI — XVIII веках — Фаст, Олав Магнус, Каппенс, Монфокон.
В XIX веке пеласгийской и этрусской письменностью занимались итальянцы и немцы: Ланци, Фиренце, Кварчази, Валериан, Мильярини, Лассен, Лепсиус.
В России работы по пеласгийской письменности публиковали в XIX веке Тадеуш Воланский, Егор Классен и Александр Чертков. Двое последних почитали пеласгийский и родственный ему этрусский языки праславянскими. Исходя из этого, пытались по-славянски читать пеласгийские и этрусские тексты. Но данные дешифровки не удались.
Тем не менее идея российских учёных XIX века оказалась весьма плодотворной. Уже в наши дни Г. С. Гриневичу удалось прочесть ряд этрусских текстов именно по-славянски. Правда, по его мысли, письмо этрусков носило не буквенно-звуковой, а слоговый характер (см. предыдущий очерк).
Так что труд Классена и Черткова даром не пропал. На фундаментальной работе А. Д. Черткова «О языке пеласгов, населявших Италию» хотелось бы остановиться подробнее, ибо в ней учёный решал проблемы озвучивания пеласгийских рун. Его результатами в конце XX века воспользовался А. И. Асов для перевода «Боянова гимна».
По мнению А. Д. Черткова, расшифровка языка пеласгов высветила бы в ином свете древнюю европейскую историю, которую тогда, в XIX веке, начинали с Греции и Рима (и по большому счёту начинают и сейчас) (II, 57; 238).
Рассматривая свидетельства древних авторов (Геродота, Диодора, Тацита), А. Д. Чертков пытается выяснить истоки пеласгийского письма. Весьма сильная схожесть финикийских и пеласгийских букв — это факт. По некоторым древним свидетельствам, финикийские буквы привёз в Грецию мифологический герой Кадм, и пеласги первыми их начали употреблять (II, 57; 239). Казалось бы, это указывает на то, что пеласги заимствовали своё письмо у финикийцев. Однако А. Д. Чертков приводит и другую группу свидетельств античных историков, которые ясно указывают, что пеласги и до прибытия Кадма знали грамоту. При этом первоначальная азбука была передана им Музами. А. Д. Чертков считает, что подобное предание говорит о незапамятной древности письма у пеласгов (II, 57; 239).
С такими выводами действительно можно согласиться. Однозначные указания древних авторов о наличии письма у пеласгов ещё до Девкалионова потопа нельзя считать просто фантазией. Некие докадмийские (т. е. дофиникийские) буквы в догреческой Греции несомненно существовали. Причём были они в употреблении не только у пеласгов Балкан. Их имели и пеласги в других странах (лиги, бреги, энеты и т. д.). Пеласгийскими были и этрусские письмена. Другими словами, близкородственные индоевропейские племена обладали единой письменностью. «Кажется, безошибочно допустить, что они при переселении своём из Азии уже имели письменность», — пишет А. Д. Чертков (II, 57; 239).
Интересны утверждения Плиния и Тацита, приводимые русским учёным. Эти римляне единодушны в том, что древние греческие буквы не похожи на современные им, а сходны скорее с латинскими (II, 57; 241–242). Удивляться таким словам можно только на первый взгляд. Но всё становится понятно, если допустить, что древнейшие греческие буквы суть пеласгийские. Так оно и было. Впоследствии греки заимствовали финикийский алфавит. Это совершенно достоверный факт. Подтверждается он не только древними свидетельствами (многие античные авторы говорят о первоначальном заимствовании греками у финикийцев шестнадцати букв), но внешней схожестью греческих и финикийских согласных, тождественностью названий этих букв, тождественным порядком их следования. Первоначальные греческие записи сходны с финикийскими и по направлению письма: справа налево. Учёные относят заимствование греками письма у финикийцев к Х — VIII векам до нашей эры (II, 27; 154). Хотя, безусловно, точную дату назвать просто невозможно. Самые ранние образцы греческого письма относятся к VIII–VII векам до нашей эры. Это надписи на скалах острова Фера. Они представляют образцы архаического письма, которое ещё очень близко к финикийскому. Ниже мы приводим одну из надписей с острова Фера (рис. 29).
Рис. 29.
С другой стороны, в современной науке считается непреложным фактом, что этрусский алфавит (рис. 30) берёт своё начало от греческого, но отделяется от греческой основы довольно рано, в VIII веке до нашей эры, ещё на той стадии, когда строки писали справа налево (II, 27; 170). Этрусскую же письменность заимствовали латиняне. Как видим, в этой схеме совсем нет места пеласгам. Так что же? Все построения А. Д. Черткова были неверны? Не будем торопиться с выводами.
Прежде всего, вспомним свидетельства Плиния и Тацита, которые вполне определённо указывают на то, что были некие древние греческие буквы, отличные от современных им, что эти древние буквы более схожи с латинскими, чем с современными этим римским авторам греческими (II, 57; 241–242). Причём древние авторы делали эти выводы не голословно, а имея образцы этого древнейшего письма «греков» (а точнее сказать, догреческого письма). Так, Плиний ссылается на некую дельфийскую надпись, хранившуюся в его время (II век нашей эры) на Палатинском холме в Риме.
Рис. 30.
Далее. В работах античных историков ясно указывается на то, что письмо на Апеннинский полуостров приносилось с Балкан дважды. В 660 году до н. э. Демарат привёз в Италию греческие буквы. Однако за 650 лет до этого некую письменность принесли с собой Эвандр и его единоплеменники, переселившиеся из Аркадии (II, 57; 241). Чертков прямо называет племя Эвандра пеласгийским (лидийская ветвь пеласгов)
(II, 57; 241–242). В то же время он говорит, что и до этого пеласги уже населяли Италию (II, 57; 242). Во всяком случае, были ли Демарат и Эвандр действительными историческими фигурами или это личности легендарные, можно утверждать, что италийское письмо имеет два истока. Один исток — это письменность пеласгов, другой — греков.
Теперь проведём некоторые сопоставления (табл. 3).
Таблица 3.
К сожалению, у нас нет возможности воспроизвести здесь собственно пеласгийскую рунику, т. к. образцов письма пеласгов нет в нашем распоряжении. Однако этрусское и пеласгийское письмо очень схожи (если вообще не представляют собой одной письменности с некоторыми вариациями). Так что, как выглядели письменные знаки пеласгов, мы можем приблизительно себе представить.
Из приводимой нами табл. 3 видно сходство греческих архаических букв с финикийскими, а этрусских — и с теми, и с другими. Всё, казалось бы, укладывается в существующую в современной науке схему: греки заимствовали алфавит у финикиян, а этруски — около VIII века у греков. Даже античные авторы эту схему подтверждают: Кадм привёз финикийские буквы грекам, а Демарат — греческие этрускам. При желании и незаслуженно забываемых современными учёными пеласгов можно в эту схему «вставить». Финикийский алфавит первоначально был заимствован пеласгами, у них его переняли греки. Переселявшиеся в Италию с Балкан пеласги научили своему письму этрусков.
И древние историки могут предложить подтверждение и такой версии: Диодор и Тацит говорят, что Кадм обучил финикийскому письму первыми пеласгов (II, 57; 239). По свидетельству же Геродота, эти же буквы позже приняли ионяне (т. е. греки) (II, 57; 239). Переселившиеся из Аркадии пеласги во главе с Эвандром, по утверждению Дионисия Галикарнасского и Тита Ливия, передали письмо этрускам (II, 57; 241). Тоже всё стройно и красиво. Правда, тогда заимствование этрусками финикийского письма надо относить не к VIII веку до н. э., как принято считать сейчас, а лет эдак на шестьсот раньше (как свидетельствуют античные историки). И греки получаются здесь совсем ни при чём.
От пеласгов учились жители Италии письму, учились ещё до прихода в Италию греков. От пеласгов же научились и греки. И сходство архаических греческих и этрусских букв объяснимо: учителя были одни и те же. И сходство с финикийским алфавитом понятно: учителя учились у финикийцев. Вполне возможно, что в VIII–VII веках этруски заимствовали ряд букв уже непосредственно у греков (предание о Демарате), но сути дела это не меняет.
Как видим, полностью объявлять построения А. Д. Черткова негодными не приходится. Можно признать весьма значительную роль пеласгов в обучении жителей Балкан и Апеннин письму. Но первоучительство (т. е. роль учителей самих пеласгов) всё-таки придётся оставить за финикиянами. Да и сам Александр Дмитриевич указывал на большое сходство букв финикийских и пеласгийских (II, 57; 239). Придётся лишь отбросить построения русского учёного в той части, в которой они говорят о самостоятельности письма пеласгов и не меньшей, чем у финикийцев, его древности. Прав, но частично — это всё-таки неплохой результат. Однако снова повторим, что не будем торопиться. И ещё раз обратимся к таблице сопоставления знаков различных письменных систем. Сходство архаических греческих, финикийских и этрусских букв неудивительно. А вот то, что эти алфавиты схожи не только друг с другом, но и с ретринскими рунами, и со знаками славянского силлабария, уже более достойно удивления. Вспомним, что ещё в XIX веке польские учёные Кухарский и Воланский считали славянскую рунику похожей на этрусскую письменность (II, 58; 179). Предвидим возражения: основывать какие-то выводы на графическом сходстве ряда знаков неправомерно; что-то на что-то всегда похоже; совпадения могут оказаться случайными. Верно. Но если для объяснения этих совпадений помимо случайности есть и другие причины, то их надо по крайней мере изложить. Этим мы сейчас и займёмся.
Как известно, ещё с античных времён существуют три версии происхождения этрусских племён: восточная (её высказал Геродот), согласно которой этруски пришли из Малой Азии (по Геродоту, из Лидии); северная (изложена Титом Ливием), по которой этруски переместились в Италию из-за Альп; и, наконец, по мнению Дионисия Галикарнасского, этруски были на Апеннинах автохтонами. Все эти три точки зрения существуют и в современной науке.
Так вот. Для нашей темы представляют интерес аргументы сторонников северной теории. Ещё Тит Ливий считал родственными этрускам альпийские племена, населявшие Древнюю Ретию — область, простиравшуюся от Боденского озера до Дуная, куда входят нынешний Тироль и часть Швейцарии (II, 27; 165). Причём к кельтам этрусков Тит Ливий не причислял. Заметим, что к его мнению надо отнестись очень и очень внимательно. Тогда, т. е. в I веке до н. э., он мог видеть и сравнивать и потомков древних этрусков, и тех самых альпийских ретов, которые не были кельтами (кстати, потомки последних до сих пор проживают в Швейцарии и говорят на своём, правда сильно романизированном, языке — ретороманском).
Современные сторонники Тита Ливия в подтверждение своей гипотезы не только ссылаются на почтенного римского историка, но и приводят два весьма весомых аргумента. Во-первых, слова «Ретия» и «расена», как называли себя этруски, сходно звучат. Во-вторых, в Придунайской ретийской области были обнаружены надписи, сделанные этрусскими буквами на языке, не только похожем на этрусский, но, по мнению некоторых исследователей, даже идентичном ему (II, 27; 165). Вот это, второе, обстоятельство для нас особенно важно. Наличие в Альпах, на север от них и в Придунавье, племён родственных этрускам и имевших схожую с ними письменность, может о многом говорить. Конечно, данное обстоятельство может быть объяснено тем, что часть этрусков из Италии продвинулась в Альпы и за них. Такое объяснение выглядит более вероятным в свете господствующей в современной науке восточной теории происхождения этрусков. Но, на наш взгляд, есть все основания дать и другое объяснение. Причём оно будет сочетать в себе и северную, и восточную версии. Заселение Апеннинского полуострова родственными друг другу пеласгийскими племенами происходило с различных направлений и неединовременно. Первоначально, по-видимому в Италию пришли пеласги с севера. Это и были этруски, или этруски составляли часть северных пеласгийских племён. Позже к ним присоединились соплеменники с востока. Собственно, об этих двух волнах пеласгийского заселения Италии и говорил А. Д. Чертков (II, 57; 242). Ничего удивительного в такой неединовременности нет. Ведь заселяли же древние арии Северную Индию несколькими волнами, приходившими в разное время. Русская Новгородчина осваивалась не какой-то одной ветвью славян: первоначально её колонизовали славяне с юга, позже в будущую Новгородскую область подошли единоплеменники с запада.
Во всяком случае, принятие нашей версии позволит объяснить многие загадки этрусской истории и примирить на данный момент противоборствующие научные гипотезы происхождения этрусков (северную и восточную).
Однако вернёмся к вопросу о письменности. Наличие схожего с этрусским письма у северных альпийских и заальпийских племён может поставить под сомнение заимствование пеласгами письменности у финикийцев, а чертковская версия о самостоятельности и не меньшей, чем у финикийцев, древности пеласгийского письма приобретает «дополнительные очки».
В свете всего этого сходство ретринских рун и ряда знаков слогового славянского письма с этрусскими (пеласгийскими) буквами получает другое объяснение, кроме того, которое выражается словом «случайность».
Прежде всего, полагаем, что вам уже бросилось в глаза сходство двух названий: Ретия и Ретра. Оно даёт основания думать, что население этих двух областей было родственным друг другу. Но Ретру населяли славяне. Отсюда следует, что и древнюю Ретию они же. «Невероятно», — скажете вы. Почему? Тит Ливий не причислял ретов ни к кельтам, ни к италикам, ни к германцам, ни к иллирийцам, племенам, безусловно, ему знакомым. Настаивал римский историк на их особенности, утверждая, что они родственники ассимилированных италийских этрусков. Так кто же они, эти особенные? Конечно, можно опять сказать, что совпадение названий «Ретра» и «Ретия» — случайность. Но не слишком ли много случайностей? И разве это научный подход: отметать любую проблему посредством низведения её в ранг случайностей?
Можно объяснить схожесть названий города и области, а также населявших их племён тем, что славяне эти названия попросту заимствовали. Объяснение тех или иных явлений в славянской истории заимствованием — вообще излюбленный приём в современной исторической науке (как и в исторической науке XVIII–XIX веков). Славяне заимствовали всё: племенные и родовые названия, личные имена, наименования (титулы) правителей, оружие, орудия труда, элементы духовной культуры. Создаётся впечатление, что и сами-то славяне — некое заимствование и не более.
Однако по этому пути мы не пойдём. Вспомним, что пеласги, бывшие древнейшим населением значительной части Европы и части территории Азии, рядом учёных считаются прямыми предками славян (см. выше). Исходя из этого, можно многое расставить по своим местам без «случайностей» и «заимствований». Один народ расселялся на огромных территориях. Говорил он, естественно, на одном языке (пра— или протославянском) с различиями на уровне диалектов. Обладал этот народ и письменностью. Отсюда и сходство письма этрусков, пеласгов, ретов Древней Ретии. Он нёс эту письменность сквозь века, и она, безусловно, изменялась, приобретала какие-то территориальные и временные особенности (в том числе и в результате заимствований каких-то элементов письма у других народов). Но, несмотря на это, общие черты, черты сходства с первописьмом всё равно сохранялись. Вот почему руны Ретры и знаки славянского силлабария так схожи с этрусскими буквами.
Однако если мы настаиваем на самостоятельности пеласгийского письма, то откуда сходство с финикийским алфавитом? Тут уж без заимствований не обойтись. Случайность исключается. Верно. Но кто у кого заимствовал? Казалось бы, странный вопрос. Понятно, пеласги у финикийцев. Тем не менее мы придерживаемся другой точки зрения: не финикияне были учителями пеласгов, а, наоборот, пеласги — учителями финикиян. И для подтверждения такой гипотезы есть некоторые факты.
Выше говорилось, что 20 из 22 букв финикийского алфавита были заимствованы финикийцами из слогового протобиблского письма. Последнее не расшифровано, но относится учёными к Эгейским силлабариям, к числу которых принадлежит линейное критское письмо А, а Г. С. Гриневичем причисляется и письменность Фестского диска. И то и другое он дешифровал исходя из предположения, что они передают праславянский язык. Круг замыкается, а самостоятельность пеласгийской письменности подтверждается.
Однако вопросы, и серьёзные, остаются. Во-первых, из наших рассуждений вытекает, что пеласгийская письменность должна быть слоговой. Но этрусское письмо явно буквенное. Оно содержит 26 знаков, слоговое же должно содержать минимум 60–70. Поэтому сомнения учёных в правильности дешифровки Г. С. Гриневичем этрусских надписей, в общем-то, справедливы (II, 9; 213). Буквенными знаками, а не силлабограммами являются и ретринские руны. Попытку Г. С. Гриневича придать им слоговые значения удовлетворительной признать нельзя (II, 58; 363–366).
Как объяснить всё это? Попытаться дать объяснение можно. Финикийское письмо, как известно, является консонантным. То есть, заимствовав графемы из слогового протобиблского письма, финикийцы со временем наделили их звуковыми значениями. Правда, звуки были только согласными. Шаг к буквенно-звуковому письму был сделан не до конца. А завершили этот путь греки: они придумали гласные. Так вот, как представляется, греки заимствовали у финикийцев не столько графемы (схожие у них уже были, они переняли их у пеласгов), сколько звуковые значения для этих графем (взамен слоговых). Затем у греков около VIII–VII веков до н. э. этот принцип заимствовали этруски. При таком объяснении остаётся предполагать, что об этрусской письменности современной науке известно не всё. Возможны находки ещё более древних её образцов, которые могут подтвердить нашу гипотезу и конечную правоту Г. С. Гриневича. Как говорится, поживём — увидим.
По этому же пути, т. е. переходу от слогового письма к буквенно-звуковому, пошли и более поздние (средневековые) славянские племена, те же реты (ретичи, редарии) мекленбургской Ретры. Благо перенимать опыт было у кого (греки, римляне, германцы).
Конечно, всё изложенное нами о южной славянской рунике носит характер гипотезы, но, представляется, гипотезы небезосновательной.
Северные и южные славянские руны имеют в конечном итоге один исток. Этот общий источник лишь с течением времени разделился на самостоятельные потоки.
В распоряжении учёных имеется любопытный памятник, который, по мнению А. И. Асова, писан руникой, сочетающей черты северной и южной, подобной германской и подобной пеласго-фракийской, — это «Боянов гимн» (II, 9; 212).
Об этом гимне речь у нас пойдёт в следующей главе.
Памятники рунической славянской письменности: «Боянов гимн». Вопрос его подлинности
Тема «Боянова гимна» очень тесно связана с именем человека, которому приписывается авторство, т. е. фальсификация, этого памятника. Человек этот — Александр Иванович Сулакадзев.
Оценки, которые ему даются в советской и российской исторической науке, мягко говоря, не очень лестны.
Процитируем, например, книгу В. П. Козлова «Тайны фальсификации». Глава о А. И. Сулакадзеве, носящая название «Хлестаков отечественной “археологии”, или Три жизни А. И. Сулакадзева», начинается следующими словами: «Александр Иванович Сулакадзев — наиболее известный отечественный фальсификатор исторических источников, “творчеству” которого посвящён не один десяток специальных работ. К этому необходимо добавить, что он наиболее масштабный фабрикант подделок. По меньшей мере три обстоятельства дают нам основания для такого заключения: непостижимая дерзость в изготовлении и пропаганде фальшивок, размах и “жанровое”, или видовое, разнообразие изделий, вышедших из-под его пера» (II, 34; 155). Причём эпиграфом к данной главе своей работы В. П. Козлов взял слова П. Я. Чаадаева: «Есть умы столь лживые, что даже истина, высказанная ими, становится ложью» (II, 34; 155).
Комментарии, как говорится, излишни. Сочетание названия главы, эпиграфа к ней и первых её слов даёт полное представление о точке зрения автора на личность и деятельность Александра Ивановича. Заметим, что таковое мнение не исключение, а общепринято и хрестоматийно.
Но вот слова другого автора о А. И. Сулакадзеве: «Как много давалось ему несправедливых и язвительных оценок! И сии оценки были в основном литературного характера, будто он был не реальным человеком, а неким придуманным персонажем» (II, 9; 133). Принадлежат эти слова А. И. Асову.
Итак, есть и другое мнение о А. И. Сулакадзеве. И пускай оно единственное, но тем не менее существует. И факт существования этого мнения заставляет нас приглядеться к личности Александра Ивановича Сулакадзева, его жизни и деятельности повнимательнее.
Родился А. И. Сулакадзев в 1771 году в небольшом селе Пехлеце Рязанской губернии. Село принадлежало его родителям. Как нетрудно заметить, фамилия у нашего героя имеет кавказские корни. Сулак — это река в Дагестане. Если верить автобиографическим записям А. И. Сулакадзева, то его дед по отцу — грузинский князь Г. М. Сулакидзе. Последний при Петре I приехал в Россию вместе с царём Вахтангом VI да так и остался на русской службе.
Отец Александра Ивановича, И. Г. Сулакадзев (1741–1821), был уже вполне обрусевшим. Он воспитывался в одной из гимназий при Московском университете (между прочим, вместе с Фонвизиным и Новиковым), занимал ряд канцелярских должностей, а с 1782 года до увольнения в 1808 году в чине титулярного советника служил рязанским губернским архитектором. В 1771 году И. Г. Сулакадзев женился на дочери рязанского полицмейстера С. М. Боголепова. В этом же году на свет появился Александр.
Неизвестно, где и как А. И. Сулакадзев получил образование (вероятно, в рязанской либо в той же московской гимназии, что и его отец). Однако известны его разносторонние знания. Он владел несколькими языками: латынью, древнегреческим, французским, немецким, итальянским. Во всяком случае, он свободно читает на этих языках, судя по трудам и книгам, на которые он ссылается (II, 9; 134). Как можно судить по его дневникам, Сулакадзев неплохо разбирался в астрономии, химии, физике, интересовался театром, музыкой, живописью.
Какое-то время А. И. Сулакадзев служил в лейб-гвардии в Семёновском полку, вместе с Преображенским являвшимся наиболее привилегированным гвардейским полком Российской империи. В этих полках служили дворяне, представители самых знатных фамилий России, а командовали полками императоры.
Вышел в отставку Александр Иванович в чине поручика. Служил далее уже по штатской линии. Он стал чиновником комиссии погашения долгов в Министерстве финансов. Был титулярным советником, то есть чиновником 9го класса. Чин невысокий. Тем не менее служба в Министерстве финансов, видимо, приносила неплохой доход, так как А. И. Сулакадзев был достаточно обеспеченным человеком. Он имел собственный двухэтажный особняк в Санкт-Петербурге. Его увлечение коллекционированием древностей также требовало немало средств.
В 1803 году А. И. Сулакадзев женился на Софье Вильгельмовне Шредер. С этой женщиной связан и трагический конец жизни нашего героя. 25 августа 1830 года (по свидетельству М. О. Макаренко, изучавшего письма Софии Сулакадзевой фон Гоч) она бежит из дома с подпоручиком уланского полка Альбертом фон Гочем (II, 9; 149). Александр Иванович, которому было тогда 59 лет, наверное, очень любил свою неверную супругу, потому что уже 3 сентября 1830 года он умирает (или кончает с собой).
Кстати, заметим, что в книге В. П. Козлова «Тайны фальсификации» дата смерти Сулакадзева приводится неверно. В ней указан 1832 год, а не 1830 (II, 34; 156).
Мы уже упомянули об увлечении А. И. Сулакадзева коллекционированием древностей. Причём из древностей его более всего интересовали древние книги, и прежде всего касающиеся отечественной истории. Страсть к истории и старинным книгам А. И. Сулакадзев унаследовал от деда по материнской линии С. М. Боголепова и от своего отца. Первый, по свидетельству внука, вёл «записки своей жизни, кои весьма драгоценны, о царствованиях и происшествиях» (II, 34; 156). Второй имел значительную библиотеку рукописей и печатных книг. Она затем вошла в коллекцию Александра Ивановича, о чём свидетельствуют штампы на ряде дошедших до нас экземпляров этой коллекции: «Сулакадзев. 1771» (II, 34; 156).
Собрание книг и рукописей А. И. Сулакадзева по своим размерам было весьма значительным. В настоящее время известна рукопись, числившаяся в коллекции под номером 4967, что говорит о минимуме письменных и печатных материалов собрания (II, 34; 161). На одной из рукописей А. И. Сулакадзев записал, что у него «более 2 тысяч рукописей всякого рода, окромя писанных на баргаментах» (II, 34; 161).
Однако, как принято считать, такое в высшей степени благородное занятие, как собирание древних книг и манускриптов, А. И. Сулакадзев сочетал с изготовлением фальшивок для своей коллекции.
Назовём некоторые из подделок Сулакадзева. Считается, что одним из наиболее часто употребляемых им приёмов при фальсификации были приписки к подлинным рукописям с целью их «состарить».
К подобного рода подделкам относят «молитвенник» князя Владимира. Его в 1923 году обнаружил винницкий архиепископ Иоанн Теодорович во время объезда своей епархии «в глухом углу Подолии». В рукописи имелись даты 999 г. и 1000 г. от Рождества Христова. Её поля, свободные места были сплошь заполнены многочисленными приписками известных и ранее неизвестных исторических деятелей Руси Х — XVII веков. В их числе фигурировали первый новгородский епископ Иоанн Корсунянин, первый российский митрополит Леон, патриарх Никон, в библиотеке которого в 1652 году находилась рукопись, некие Оас, Урса, Гук, Володмай, чернец Наленда-«псковит» и т. д. Но, пожалуй, наиболее значительны в обнаруженной рукописи две приписки. В первой говорилось, что настоящим молитвенником новгородский посадник Добрыня благословил великого князя Владимира. Вторая приписка представляет собой дарственную запись Владимира, согласно которой он возвращал молитвенник Добрыне для поминания его грешной души (II, 34; 169).
Приписки свидетельствовали об обнаружении самой древней из известных до этого русских рукописей, восходящей к великокняжеской библиотеке, а затем бережно сохранявшейся православным духовенством. Однако в 1928 году М. Н. Сперанский, проведя детальный палеографический анализ приписок, показал, что и речи не может идти об их сколько-нибудь значительной исторической ценности. По мнению Сперанского, перед нами «подлинная рукопись новгородского происхождения XIV века, но с поддельными приписками, сделанными позднее, притом по письму, подражающему с палеографической точки зрения неудачно письму древнему, — обычная манера Сулакадзева…» (II, 34; 170). Что заставило учёного связать «молитвенник» с именем Сулакадзева? Дело в том, что рукопись «молитвенника» была известна ещё в 1841 году как происходящая из собрания последнего. Отсюда последовал логичный вывод: то, с чем имел дело исследователь, и была книга из коллекции Сулакадзева с его фальсифицирующими приписками. Мы ещё вернёмся к вопросу о «молитвеннике» великого князя Владимира. Он несколько сложнее, чем представляется на первый взгляд. Сейчас же продолжим перечень подделок.
Ещё в 1881 году князь П. П. Вяземский сослался в своей работе о монастырях на Ладожском и Кубенском озёрах на пергаментный «вселетник» новгородского митрополита XI века Иллариона как на вполне достоверный источник. В нём под 1050 годом говорилось: «Се лето принесоша съ Валаама Новуградъ Великий преподобныхъ Сергия и Германа у трети разъ» (II, 34; 170).
Сперанский разыскал эту рукопись, представляющую собой церковный устав в списке XV века. Здесь, как и в «молитвеннике», на свободных местах киноварью более тёмного цвета, чем в подлинной рукописи, примитивным уставом был сделан ряд приписок. Первая из них сообщала, что рукопись написана иноком Ларионом в память пребывания в Печёрском монастыре в 1050 году. Вторая приписка повествовала со ссылкой на «древнее письмо» о путешествии апостола Андрея Первозванного в Киев, Смоленск, Новгород, на Валаам.
Сперанский обнаружил ещё две части этой рукописи, кем-то разделённой. В них также имелись фальсифицированные приписки. Все эти приписки и разделение рукописи Сперанский отнёс на счёт Сулакадзева (II, 34; 171).
В руках того же М. Н. Сперанского побывало и ещё несколько подлинных рукописей с приписками, как принято считать, Сулакадзева, содержащими вымышленные факты прошлого. Одна из них представляла пергаментную рукопись XIII — XIV веков, в которой были сделаны две приписки: 1367 года «Зуты посадницы» и 1116 г. «Жарослава». Последний молился за ладожского посадника Павла и просил Бога помочь закончить строительство церкви Богородицы и печи в монастыре на острове Валааме. Вторая — бумажная рукопись конца XVII века — содержала приписку, где заверялось, что рукопись ещё в XII веке принадлежала князю Игорю. В третьей рукописи (на бумаге начала XVIII века) в пространной записи говорилось, что написана она в 1280 году инокиней, бывшей женой князя Ярослава Ярославича, в знак поминания его души. Здесь же сообщалось, что в этот год скончался митрополит Кирилл, упоминались дети Ярослава — Святослав, Михаил и Ярослав. В четвёртой рукописи — Хронографе в списке XVI века сфальсифицированная приписка сообщала о её создании в 1424 году (II, 34; 171).
Подлинных рукописей, фальсифицированных приписками, находившихся в коллекции Сулакадзева, сохранилось довольно много. То, о чём мы сказали, — это далеко не всё. В 1832 году П. М. Строев писал Н. Г. Устрялову: «Ещё при жизни покойника (Сулакадзева. — И.Д.) я рассматривал книжные его сокровища, кои граф Толстой намеревался тогда купить. Не припомню там списка Курбского, но подделки и приправки, впрочем весьма неискусные, на большей части рукописей и теперь ещё мне памятны. Тогда не трудно было морочить» (II, 34; 160–161). Сомневаться в словах известного историка и археографа не приходится. То есть отнести приписки на рукописях ко времени их существования после смерти Сулакадзева, вне его коллекции, невозможно. Конечно, можно оспаривать принадлежность отдельных рукописей к собранию Александра Ивановича. Но то, что сфальсифицированные приписки на рукописях этого собрания были, — это, увы, факт. Однако можно усомниться в другом: принадлежат ли данные приписки руке самого Сулакадзева. Нельзя отрицать возможности попадания рукописей в коллекцию уже с приписками. А у Сулакадзева просто не хватало необходимых знаний, чтобы распознать подделки.
Кроме приписок Сулакадзева обвиняют ещё и в фальсификации целых исторических документов. Первое место в списке таких фальсификатов принадлежит «Боянову гимну». Первое даже по хронологии, ибо принято считать, что это одна из самых ранних фальшивок Сулакадзева, изготовленная им около 1807 или 1810 года (II, 34; 164), (II, 9; 120, 183–184). Примерно в это же время появились на свет «Перуна или Велеса вещания», или «Произречения новгородских жрецов». «Книгорек», а также «Каталог книг российских и частью иностранных, печатных и письменных, библиотеки Александра Сулакадзева» дают нам целый список древних книг и рукописей, которые учёными в один голос объявляются подделками Сулакадзева: «Сборостар», «Родопись», «Ковчег русской правды», «Идоловид» и другие (II, 34; 178–179). Причём вот интересный факт. Если «Боянов гимн» известен хотя бы в копии, изготовленной Сулакадзевым для Г. Р. Державина, «Перуна и Велеса вещания» известны в отрывках, опубликованных Державиным в 1812 году в его собственном переводе, то остальных памятников никто из учёных даже не видел. Они бесследно пропали, когда после смерти А. И. Сулакадзева его коллекция была распылена. Точнее, учёные первой трети XIX века могли их видеть, но никаких описаний не оставили, никаких мнений о них не высказали. Поэтому всё, чем мы располагаем, — это описания этих памятников самим Сулакадзевым в «Книгореке» и «Каталоге». А данные описания дают даты от I до Х века нашей эры. Учитывая такую датировку и присовокупляя к ней репутацию Сулакадзева как «разудалого» фальсификатора, современные исследователи все эти рукописи скопом относят к фальсификатам.
Долгое время А. И. Сулакадзева считали автором «Велесовой книги», которая, естественно, также объявлялась подделкой. Впервые без каких-либо веских на то оснований связала её с именем Сулакадзева Л. П. Жуковская, написавшая первую статью о ней в нашей стране (II, 34; 185). Этой точки зрения стали придерживаться вслед за Жуковской и другие учёные. Однако впоследствии в подделке этого памятника обвинили его комментатора и издателя Ю. П. Миролюбова. Тем не менее не столько в научных, сколько в «околонаучных» кругах взгляд на «Дощечки Изенбека» (второе название «Велесовой книги») как на произведение Сулакадзева сохранился. Ещё в 2001 году Андрей Балабуха в статье «Творцы небывалого и небываемого», увидевшей свет в одном из массовых современных изданий, безапелляционно обвинил Александра Ивановича в изготовлении «Велесовой книги» (II,14; 15).
Сами книжные каталоги А. И. Сулакадзева, то есть «Книгорек» и «Каталог… библиотеки Александра Сулакадзева» объявляются фальшивками, призванными связать серию фальсификаций в единое целое. Цель такой «увязки» — создание впечатления о большей достоверности подделок (II, 34; 179). Вот как характеризует создание каталогов Сулакадзевым В. П. Козлов: «В последние годы жизни Сулакадзев уже не мог удовлетвориться составлением отдельных подделок — его едва ли не болезненная страсть требовала большего размаха. Так, в его воображении постепенно созревает замысел подделки целого корпуса источников — их коллекций» (II, 34; 176). В этом свете использование Сулакадзевым при составлении каталогов последних достижений и требований палеографии (в каталогах книги распределены по разделам, каждая рукопись имеет в них свой порядковый номер, выделенное заглавие, указывается количество её листов, материал, на котором она написана, сообщается об имеющихся приписках, даются библиографические и иные сведения о входящих в неё сочинениях и т. д., т. е. излагаются палеографические приметы) выглядит только как совершенствование приёмов подачи своих подделок.
Когда речь идёт о столь масштабной, можно сказать, поставленной на поток фабрикации древностей, то неплохо было бы уяснить мотивы, которыми руководствовался фальсификатор.
Первый возможный мотив — корысть. Однако обвинять Сулакадзева в корысти никаких оснований нет. Его увлечение за всю жизнь не принесло ему практически никаких доходов. Известен лишь один случай продажи им древностей из своей коллекции: императору Александру I в Русскую комнату Эрмитажа (подробнее об этом ниже). Вообще же, напротив, Сулакадзев тратил большие деньги на приобретение новых раритетов, привидение их в должный порядок.
Справедливости ради необходимо отметить, что однажды попытку купить кое-что у Сулакадзева сделал также граф Толстой, любитель древних книг. Инициатива, как можно судить по обстоятельствам дела, тогда исходила именно от Толстого. Кроме того, приобретено ничего не было, ибо П. М. Строев, осматривавший по поручению графа собрание Сулакадзева, весьма скептически отозвался об этом собрании. Цитату из письма П. М. Строева, касающуюся данного поручения, мы приводили выше.
Сам же Александр Иванович один-единственный раз предлагает свою коллекцию. Причём не какому-нибудь частному антиквару. Он предлагает её Румянцевскому Музеуму (будущей Российской государственной библиотеке). Было это в 1823 году. Неизвестна сумма, о которой шла тогда речь. Да и вообще шла ли речь о какой-то сумме? Ибо есть основания предполагать, что Сулакадзев мог предложить своё собрание безвозмездно. Он мог руководствоваться тревогой за его судьбу, опасаясь в случае своей смерти (человек в то время он был уже немолодой) распыления собрания, что, собственно, и произошло в действительности.
В 1823 году Румянцевский Музеум, однако, ничего не приобрёл. На этот раз соответствующий отзыв о коллекции Сулакадзева дал другой «столп» российской науки — А. Х. Востоков. Правда, в то время никаким «столпом» он ещё не был. Был он служащим невысокого ранга в Музеуме Румянцева, помощником хранителя древностей. И научных заслуг особых не имел. Выпустил небольшую работу, посвящённую стихосложению и строению предложений, в которой показал себя учеником М. В. Ломоносова. И его плагиатором, как считает А. И. Асов (II, 9; 125).
Канцлер Румянцев давал поручение не Востокову, последнему дело перепоручили (II, 9; 125). Насколько добросовестно Востоков исполнял ему порученное, видно хотя бы из того, что канцлер, видимо, утомлённый затяжкой дела, сам требовал отчёта в его выполнении. На что получил вот такое «милое» послание: «Доселе ещё не имел я случая быть у г-на Салакадзева (ошибка Востокова. — И.Д.) для просмотрения его рукописей, но надеюсь побывать у него на этой неделе, и не умедлю донесть Вашему с-ву о том, что найду в его книгах достопримечательного (8 мая 1823 года)» (II, 9; 126–127). Судя по тому, что вернулся в Москву из Петербурга А. Х. Востоков с пустыми руками, ничего «достопримечательного» в собрании Александра Ивановича он так и не обнаружил. Его отзыв о собрании легко предположить. Мы ещё вернёмся к чёрной роли, которую сыграл Востоков в судьбе Сулакадзева и судьбе его коллекции. Также заметим, что пренебрежительные отзывы и Востокова, и Строева о коллекции Сулакадзева далеко не объективны. Об этом у нас тоже пойдёт речь в дальнейшем.
Сейчас же скажем, что «коммерсант» из Сулакадзева был плохой. Говорить о корыстных целях его подделок, коли уж допускать наличие этих самых подделок, не приходится.
Другим мотивом фальсификатора могло быть честолюбие. То есть наш герой хотел прославиться благодаря древностям из своего собрания. По мнению В. П. Козлова, двигать А. И. Сулакадзевым могло «болезненное убеждение в своих возможностях с помощью фальсификаций установить историческую истину» (II, 34; 179). Наконец, Александр Иванович был патриотом России. Это хорошо видно по его дневникам и другим записям. Стремление удревнить историю Отечества, посредством подложных исторических фактов ещё более прославить его, безусловно, могло руководить действиями Сулакадзева, заставляя его подделывать раритеты.
Сама общественная и научная атмосфера первых десятилетий XIX века была хорошим «двигателем» для этих мотивов, как отдельно взятых, так и всех вместе. Начало века было ознаменовано замечательными открытиями в славянской и русской литературе и письменности: в 1800 году вышло в свет первое издание «Слова о полку Игореве», спустя три года стал известен Сборник Кирши Данилова, ещё через четыре-пять лет — Остромирово Евангелие. На страницах периодики появились сенсационные известия о книгах Анны Ярославны, «древлянских рукописях», писанных руническими буквами, славянском кодексе VIII века, обнаруженном в Италии, и т. д. Всё это будоражило умы современников Сулакадзева. Казалось, что прошлое России, славянских народов всё больше и больше отодвигается в глубь веков, начинает щедро приоткрывать свои тайны. Энтузиазм первооткрывательства неизвестных источников поддерживался оптимизмом, надеждой и даже уверенностью, что от взора исследователей скрыто ещё немало памятников, способных перевернуть все исторические знания. Несомненно, и Сулакадзев испытывал энтузиазм и оптимизм первооткрывателя. И их можно рассматривать как ещё один мотив в его возможной деятельности по подделке исторических источников.
Однако допустить действие тех или иных побудительных причин — это одно, а вот найти подтверждение подобному действию в фактах жизни Александра Ивановича — это уже совсем другое. Мы уже показали, что допуск о меркантильных интересах не выдерживает никакой критики. Что же касается честолюбия, желания удревнить историю своей страны и «болезненного стремления» с помощью подложных фактов установить историческую истину, то нам прежде всего бросается в глаза, что Сулакадзев как-то «лениво», если можно так выразиться, действовал, побуждаемый этими мотивами.
Известна всего одна работа А. И. Сулакадзева, в которой он ссылается на древности из своей коллекции как на исторические источники. Это «Опыт древней и новой летописи Валаамского монастыря». В нём широко цитировались «Боянов гимн», «вселетник» митрополита Иллариона с рассказом о перенесении в 1050 г. с Валаама в Новгород мощей преподобных Сергия и Германа и путешествии Андрея Первозванного на Валаам (II, 34; 173). В «Опыте» Александр Иванович впервые привёл и выписки из «древо-славянских проречений на пергамине V века, где говорилось, что Андрей Первозванный «от Иерусалима прошёл Голяд, косог, Роден, скеф и скиф и славян смежными лугами» (II, 34; 174). Также впервые он использовал так называемую «Оповедь», находившуюся в его собрании. В ней рассказывается, по утверждению Сулакадзева, о возникновении Валаамского монастыря в Х веке, о крещении тогда же преподобным Сергием некоего лица, а также о путешествии на Валаам Андрея Первозванного (II, 31; 174).
Данная «Оповедь» безоговорочно современными исследователями признаётся фальсификацией (II, 34; 174). Хотя в глаза её никто из них не видел, палеографического анализа её ни в наше время, ни в XIX веке не проводилось. Откуда же такой строгий и однозначный приговор? Оказывается, его возникновением мы обязаны уже упоминавшемуся А. Х. Востокову. В 1850 году игумен Валаамского монастыря Дамаскин писал сему почтенному учёному мужу: «Титулярный советник Александр Иванович Сулакадзев, трудившийся много лет над составлением истории Валаама, приводит в рукописи, хранящейся в нашем монастыре, следующее заимствованное им из рукописной «Оповеди» (далее следует небольшой отрывок из «Оповеди» о путешествии Андрея Первозванного. — И.Д.) … Сколь вероятно это сказание и находится ли оно в печатном издании?» (II, 34; 174). Востоков ответил следующее: «Что касается приведённой Вами в письме Вашем выписки из сочинения Сулакадзева, то она не заслуживает никакого вероятия» (II, 34; 174). И далее: «Покойный А. И. Сулакадзев, которого я знал лично, имел страсть собирать древние рукописи и вместе с тем портить их своими приписками и подделками, чтобы придать им большую древность; и эта так называемая им «Оповедь» есть такого же роду собственное его сочинение, исполненное небывалых слов, непонятных словосокращений, чтоб показалось древнее…» (II, 9; 129). Такой вот отзыв. Заметим, что им не только перечёркивается «Оповедь» как исторический источник, но и наносится удар по репутации Сулакадзева, а также подвергается сомнению ценность его коллекции. Но возникает вопрос: а видел ли господин Востоков эту «Оповедь», которую он так безапелляционно объявил фальшивкой, или свой приговор объявил, основываясь на том маленьком отрывке из неё, который прислал ему игумен Дамаскин? А уж современные исследователи, кроме этого отрывка и «приговора» Востокова (кстати, высказанного в частном письме, а не на страницах какого-либо научного труда), для своих выводов никаких других оснований точно не имеют. Не маловато ли этих оснований? Между тем в XIX веке учёные ссылались на «Оповедь» как на источник, заслуживающий доверия. Достаточно сказать, что в 1841 году её данные вошли в «Материалы для статистики Российской империи», в 1852 году на неё ссылались в книге «Остров Валаам и тамошний монастырь». «Оповедь» использовалась в четырёх первых изданиях «Описания Валаамского монастыря» начиная с 1864 года и вплоть до 1904 года, когда вышло пятое издание (II, 34; 175). И даже в наше время не все склонны считать её фальшивкой. Её свидетельства использовали советский историк В. Б. Вилинбахов и «Журнал Московской Патриархии» (II, 34; 175).
Но вернёмся непосредственно к «Опыту древней и новой летописи Валаамского монастыря» Сулакадзева, его честолюбивым устремлениям и прочим «грехам». Как можно заключить из письма игумена Дамаскина, данное сочинение Александра Ивановича не было широко известно. Более того, вероятно, оно было всего в единственном, рукописном, экземпляре. И экземпляр этот хранился в Валаамском монастыре, о чём и свидетельствует его настоятель в вышеприведённом отрывке из письма. Говорит он и о многолетнем труде Сулакадзева над «Опытом». Согласитесь, странное честолюбие и странное стремление решать спорные исторические вопросы с помощью придуманных фактов, не стремясь к широкой огласке своих трудов, да ещё и занявших многие годы.
Примерно такая же ситуация сложилась с «Бояновым гимном». Сулакадзев предоставил его копию Г. Р. Державину, который опубликовал отрывок из неё. Но сам Александр Иванович воздерживался от публикации и не пропагандировал свой раритет каким-то иным образом. По этому поводу Евгений Болховитинов даже писал Державину следующее: «Г. Селакадзев (ошибка Болховитинова. — И.Д.) или не скоро, или совсем не решится издать их («Боянов гимн» и «Произречения новгородских жрецов». — И.Д.), ибо ему много будет противоречников…» (II, 9; 180). Конечно, эту «скромность» легче лёгкого объяснить тем, что фальсификатор боялся разоблачения. Собственно, так и объясняет её В. П. Козлов на страницах своей книги (II, 34; 168). Но, по нашему мнению, причина тут была иная. Не разоблачения боялся Сулакадзев, а травли. Да-да. Именно травли. Подобный же страх довлел над Ю. П. Миролюбовым, который более чем век спустя не решался публиковать текст «Велесовой книги», а, опубликовав его, вынужден был всё время оговариваться вот в таком духе: «Мы вообще не хотели публиковать текста «Дощек Изенбека», потому что такие публикации всегда вызывают дружное возмущение всех, кто даже «Слово о полку Игореве» считает подделкой…» (II, 52; 151). Он же, этот страх, довлеет даже в наши дни и даже над учёными с мировыми именами, когда речь заходит о признании подлинными памятников, которые в чём-то противоречат общепринятым научным догмам. Так, Асов описывает ситуацию, когда академик Борис Александрович Рыбаков, этот титан советской и российской исторической науки, испугался прорецензировать рукопись Асова, посвящённую той же «Велесовой книге» (II, 9; 155).
И не надо думать, что во времена Сулакадзева дела в этом отношении обстояли лучше. Они обстояли хуже. Диктат норманнской теории тогда был полный. Возвышать свой голос против неё было очень сложно, учитывая, что в Российской академии наук заседали немецкие профессора, в правительстве заседали в большом количестве немецкие министры, а на русском престоле сидели почти немецкие цари. Чтобы подобные наши утверждения не казались преувеличением, предоставим слово известным русским учёным, жившим в XIX веке.
Вот что пишет в своей книге «Варяги и Русь» профессор Гедеонов в 1876 году (т. е. почти полвека после смерти Сулакадзева): «Неумолимое норманнское вето тяготеет над разъяснением какого бы то ни было остатка нашей родной старины» (II, 37; 54). А несколько позже, в конце XIX века, профессор Загоскин, обозревая положение дел в российской исторической науке на протяжении этого столетия, писал: «Поднимать голос против учения норманнизма считалось дерзостью, невежеством и отсутствием эрудиции, объявлялось почти святотатством. Это был какой-то научный террор, с которым было очень трудно бороться» (II, 37; 54).
Вот так — ни больше ни меньше. Помимо диктата господствующей научной теории существовал ещё диктат церкви. Противоречить церковным догмам в те времена грозило весьма большими неприятностями. Действовали Индексы отречённых книг, существовали законы, основанные на постановлениях Соборов, о недозволенности публиковать всякую «языческую нечисть» (II, 37; 33). Очень же многие раритеты из собрания Сулакадзева попадали в разряд «книг еретических» и «книг непризнаваемых, коих ни читать, ни держать в домех не дозволено», как их обозначил сам Александр Иванович в своих книжных каталогах (II, 9; 146). И тем самым он не цену набивал своей коллекции, а всего лишь указывал истинное положение вещей.
Весьма показательно в этом отношении поведение отца Евгения Болховитинова, крупнейшего палеографа того времени, заложившего основы науки об определении подлинности древних текстов, и в то же время влиятельного лица в церковной иерархии (он был даже киевским митрополитом). На него все ссылаются как на одного из главных «разоблачителей» Сулакадзева. Между тем однозначности в отношении Болховитинова к древностям из собрания Сулакадзева, и в частности к «Боянову гимну», не было. Высказывания отца Евгения об этом памятнике несколько разнятся. И корректирует он их в зависимости от того, где эти высказывания помещает. Вот несколько отрывков из частных его писем:
«Сообщаю вам при сём петербургскую литературную новость. Тамошние палеофилы, или древностелюбцы, отыскали где-то целую песнь древнего славенорусского песнопевца Бояна, упоминаемого в песне о полку Игореве. Все сии памятники писаны на пергаменте древними славеноруническими буквами задолго якобы до христианства.
Если это не подлог каких-либо древнестелюбивых проказников, и если не ими выдумана сия славяноруническая азбука и не составлена из разных северных рунических письмен… то открытие сие ниспровергает общепринятое мнение, что славяне до IX века не имели письмен. Я прилагаю при сём вам срисовку первой строфы «Боянова гимна» и первой строфы жрецова оракула.
В Петербурге ещё идут споры о сём. Что-то скажут о сём ваши казанские учёные? Уведомьте меня. При подлиннике увидите здесь и перевод. Замечательно, что в рунах сих есть и буква Ъ, коей происхождение в нашей азбуке доселе отыскать не могли».
«О Бояновом гимне и оракулах Новгородских (кои все у меня уже есть) хотя спорят в Петербурге, но большая часть верит неподложности их. Дожидаются издания. Тогда в публике будет больше шуму о них».
(Оба отрывка из писем профессору Г. Н. Городчанинову. Первое из цитируемых писем от 15 января 1811 года, второе — от 6 мая 1812 года) (II, 9; 179–180).
«Славено-рунный свиток и провещания Новгородских жрецов лучше снести на конец в обозрение русских лириков. Весьма желательно, чтобы вы напечатали сполна весь сей гимн и все провещания жрецов. Это для нас любопытнее китайской поэзии…»
(Из письма к Г. Р. Державину от 1812 года) (II, 9; 180).
Как видим по письмам, Болховитинов не называет «Боянов гимн» подделкой. Да, есть сомнения в его подлинности, но в то же время налицо убеждение, что памятник надо сначала изучать, прежде чем выносить какой-либо приговор.
Другой характер носит упоминание о «Бояновом гимне» в официальном богословском сочинении «Жизнеописания св. Мефодия», изданном в 1827 году:
«Некоторые у нас хвалились так же находкою якобы древних Славено-Русских Рунических письмен разного рода, коим написан Боянов гимн и несколько провещаний Новгородских языческих жрецов, будто бы V века. Руны сии очень похожи на испорченные славенские буквы, и потому некоторые заключают, якобы славяне ещё до христианства издревле имели кем-нибудь составленную свою Рунную Азбуку, и что Константин и Мефодий уже из Рун сих с прибавлением некоторых букв из Греческой и иных Азбук составили нашу славянскую… Такими Славен-Русскими Рунами напечатана первая строфа мнимаго Боянова гимна, и один Оракул жреца в 6й книжке Чтения в Беседе любителей Русского Слова в С-Петербурге 1812. Но сие открытие никого не уверило» (II, 9; 180–181).
Итак, здесь мы уже видим однозначное отрицание и подлинности «Гимна» и «Оракулов», и возможности существования письма у славян до святых Кирилла и Мефодия. «Что же? — скажете вы. — За истекшие 15–16 лет мнение Болховитинова вполне могло и поменяться». Верно, могло. Но в изданном в том же, 1827, году светском сочинении Болховитинова «Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев» категорического отрицания «Боянова гимна» как не бывало. Опять те же сомнения. Процитируем:
«Наконец, недавно появился найденный целый древний Славянский гимн Боянов князю Мстиславу, писанный на пергаминном свитке красными чернилами, буквами руническими, доныне бывшими у нас в неизвестности. (Подлинник сего гимна и ещё книга нескольких древних оракулов новгородских, писанных также на пергамине, находится у г. Селакадзева. Образчики некоторых строф из них напечатаны в Чтении С. — Петербургской Беседы любителей русского слова.)
В сём гимне довольно подробно Боян о себе рассказывает… Но гимн сей в свете ещё не издан и критикою не удостоверен, а потому за историческое доказательство принят пока не может» (II, 9; 181).
То есть налицо «реверанс» отца Евгения в официальном богословском сочинении в сторону церковных догм. Мы не будем его за это осуждать. Такие были времена.
Итак, если не просто говорить отвлечённо о мотивах, которыми руководствовался Сулакадзев в своей фальсификаторской деятельности, а рассмотреть повнимательнее его действия, то приходишь к выводу, что мотивы эти заканчивались тут же за окончанием самого процесса изготовления подделок. Ни корысть, ни честолюбие, ни желание разрешать спорные исторические вопросы, ни даже стремление прославить посредством своих подделок Отечество не действовали, когда надо было предпринять определённые шаги в соответствующем направлении.
Отсюда, на наш взгляд, можно сделать вывод, что либо данные мотивы Сулакадзевым в его фальсификаторстве не руководили, а двигало им действительно болезненное стремление иметь в своей коллекции невиданные раритеты, то есть своеобразное помешательство, либо… никакими фальсификациями Александр Иванович не занимался. Это был честный коллекционер, пекшийся о сохранении памятников истории своей страны.
Нетрудно заметить, что излагаемый нами материал носит характер апологии Сулакадзева. В этом же ключе мы намерены продолжать и дальше.
Одним из основных «обеляющих» Александра Ивановича моментов является ответ на вопрос: откуда в его коллекции могли оказаться такие древние славянские рукописи (с IV по Х век). Подобные датировки текстов были сенсационными в то время, остаются они сенсационными и в наши дни. Вспомним, что официальная наука отказывает славянам в появлении какой-либо развитой системы письма каким бы то ни было образом (заимствование или возникновение на собственной основе) ранее VII века н. э. До этого в лучшем случае была примитивная пиктография. Такая точка зрения наиболее «оптимистична». Многие учёные до сих пор считают, что письмо у славян началось с Кирилла и Мефодия, а до этого они были народом бесписьменным. В собрании же Сулакадзева имелись раритеты, которые совершенно «опрокидывают» и ту, и другую точки зрения. Притом это были не какие-то краткие надписи на тех или иных предметах, это были рукописные книги. Что до последних, то общепризнанных в смысле их подлинности до Х века вообще не известно. К Х веку относятся так называемые «Киевские листки», писанные глаголицей. И это, собственно, всё. Все остальные древнейшие рукописи, в том числе и самые древние кириллические, — это уже XI век. Среди них, кстати, и древнейший восточнославянский письменный памятник (повторим: из тех, подлинность которых признаётся), датируемый 1056–1057 годами — «Остромирово Евангелие». Известно учёным оно стало около 1807–1808 года, то есть как раз при жизни Сулакадзева.
Итак, откуда в коллекции нашего героя могли оказаться такие древности? А. И. Сулакадзев и помогавший ему брат много ездили по монастырям, в которых либо приобретали древние рукописи, либо снимали с них копии (II, 9; 134). Совершал покупки манускриптов Александр Иванович и у торговцев антиквариатом. Но подобным путём в то время шли многие учёные и другие собиратели письменных древностей. Однако ни у одного из них не было даже близко ничего подобного экземплярам сулакадзевского собрания. То есть объяснить этими поездками и покупками наличие у Сулакадзева такой старины невозможно. И, кажется, становится понятным скепсис одного из главных хулителей Александра Ивановича ещё при его жизни А. Н. Оленина, который писал К. М. Бороздину и А. И. Ермолаеву, также собиравшим древние книги, следующее: «Вы ездили по белу свету отыскивать разные материалы к российской палеографии и едва нашли остатки какого-нибудь XI, а может быть, только и XII века. А мы здесь нашли человечка, который имеет свиток, написанный во времена дяди и тётки Олега и приписанный Владимиром Первым, что доказывает существование с приписью подьячих с самых отдалённых веков Российского царства… Если же вам этого мало, то у нас нашёлся подлинник Бояновой песни…» (II, 34; 164–165).
Однако есть одно обстоятельство, которое старались не замечать противники Сулакадзева в его время и о котором почему-то молчат (может, не знают?) его критики в наши дни. А между тем данное обстоятельство многое могло бы объяснить.
Этим обстоятельством является близкое знакомство и даже дружба между Александром Ивановичем и Петром Петровичем Дубровским.
Пётр Петрович Дубровский — основатель «Депо манускриптов» (современная Государственная публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге). Основу «Депо манускриптов» составила богатейшая коллекция книжных древностей, принадлежавшая П. П. Дубровскому. История происхождения этой коллекции такова.
Пётр Петрович, служа по дипломатическому ведомству, работал в русском посольстве в Париже как раз в период начала Великой французской революции. Революционные события заставили покинуть Париж не только французских дворян, но и большинство работников российского посольства. Дубровский оказался фактически его главой. В это время он познакомился с якобинцем Паулем Очером, членом клуба «Друзей Закона».
Этот клуб после падения монархии заседал непосредственно в бывшей королевской резиденции, в Версале. Для выработки законов необходимо было часто обращаться к юридическим актам из королевской библиотеки. Библиотекарем клуба как раз и был Пауль Очер. В его распоряжении были все её сокровища, в том числе и древлехранилище. Запомним этот факт. В нашей истории он сыграет свою роль. А сейчас скажем, что под псевдонимом Пауль Очер скрывался Павел Александрович Строганов, сын графа Строганова, одного из влиятельнейших российских вельмож. Мы не будем останавливаться на биографии Павла Строганова. Она очень интересна, но не имеет отношения к нашей теме. Интересующихся отсылаем к статье Александра Асова в журнале «Наука и религия» (№ 2 за 2001 год) и одной из миниатюр Валентина Пикуля.
Дубровский уже много лет занимался собиранием древних манускриптов. Приобретал он их и во Франции, и в других странах, в которых бывал. Бежавшие от революции дворяне менее всего думали о старинных книгах. Хранилища древностей во Франции оказались фактически распахнуты. Пётр Петрович не мог не воспользоваться этой ситуацией. Он колесил по стране и скупал за гроши сокровища, не имеющие цены. Может показаться, что поступал он не очень красиво, но, по сути, он спас от разграбления и уничтожения невежественными людьми памятники письменной культуры человечества. Так в его коллекции оказались античные и египетские свитки, книги византийские и старофранцузские, письма французских королей и… древние славянские рукописи из библиотеки Анны Ярославны (II, 9; 159–160). Передаче последних Дубровскому содействовал Павел Строганов (II, 6; 8). Благодаря этим двум людям то, что восемь столетий назад ушло из Руси, вернулось в Россию.
О библиотеке Анны, дочери Ярослава Мудрого, выданной замуж за короля Франции Генриха I Капета, у нас принято говорить больше как о легенде. А уж что там стоит за этой легендой — правда или вымысел, кто ж теперь разберёт. Между тем доподлинно известно, что Анна в качестве приданого привезла с собой во Францию русские книги и рукописи. И, судя по всему, книги эти были не только христианские, но и более древние — языческие.
В самом факте, что рукописи отдавались невесте в приданое, ничего удивительного нет. Книги тогда очень и очень ценились. И не только Ярослав Мудрый считал их достойным приданым невесты царственной особы, но и другие монархи. Так, дочь императора Византии Константина Мономаха Мария, выданная за сына Ярослава Мудрого Всеволода, привезла с собой на Русь книги античных писателей.
Во Франции привезённые Анной рукописи стали храниться в королевской библиотеке. Потом большая их часть была перевезена в основанное Ярославной аббатство Санлис. И там они пробыли вплоть до Великой французской революции.
Такая история странствий древних славянских манускриптов восстанавливается, как утверждает А. И. Асов, на основе свидетельств королевского архива Франции (II, 9; 157).
Тот же Асов в своей книге «Славянские руны и “Боянов гимн”» приводит интересный факт.
Русский писатель-эмигрант А. П. Ладинский, живя во Франции, много лет работал во французских королевских архивах, а потом написал роман «Анна Ярославна» (1960), в котором он изложил также историю славянской рунической библиотеки этой королевы. Причём интересовался ею не только Ладинский, но и некоторые французские учёные. Так, в бумагах Ладинского, хранящихся сейчас в ЦГАЛИ, есть указания на книгу некоего Люшера об аббатстве Санлис и библиотеке Анны и 10томное собрание «Истории Франции» (II, 9; 157). Как видим, французы, в отличие от русских, не считают библиотеку Анны легендарной, они считают её вполне реальной, так сказать, имевшей место быть.
Ещё интереснее то, что А. П. Ладинский в своём романе, описывая книги из библиотеки Ярославны, говорит о рукописях, которые были в собрании А. И. Сулакадзева («Песнь Бояна», «Громовник» Путисила и ряд других). Причём описывает он их словами, схожими с теми, которыми описывал их Александр Иванович в своих книжных каталогах (II, 9; 158). Как объяснить данный факт?
Самое простое объяснение, что Ладинский был знаком с архивами Сулакадзева. Отсюда и совпадение названий и описаний. Однако на такое объяснение есть ряд очень веских возражений. Во-первых, для того чтобы ознакомиться с архивами Сулакадзева, Ладинскому нужно было поработать в архивах и библиотеках тогда ещё Ленинграда и Москвы. Но ведь писатель находился в эмиграции! Во-вторых, если даже допустить, что каталоги Александра Ивановича были известны Ладинскому, то остаётся открытым вопрос, почему писатель связал эти каталоги с библиотекой Анны Ярославны. Ведь сам Сулакадзев ни разу, ни словом не обмолвился о том, что какие-то раритеты его коллекции происходят из библиотеки русской княжны и французской королевы.
Другое объяснение заключается в том, что данные сведения писатель-эмигрант почерпнул непосредственно из королевского архива Франции, даже не ведая о Сулакадзеве и его собрании (или ведая на уровне «что-то где-то краем уха слышал, краем глаза видел»).
И ещё одно объяснение. Асов считает, что Ладинский мог знать о связи коллекции русского антиквара и библиотеки Ярославны. Информацию об этой связи он мог почерпнуть из работ тех французских учёных, которые использовал при написании своего романа. Последние же из сопоставления данных французского королевского архива и того, что им было известно о собрании Сулакадзева (например, из публикаций XIX столетия), пришли к выводу, что книги дочери Ярослава Мудрого, уйдя из Франции, в конечном итоге оказались у Сулакадзева (II, 9; 159). Вывод, к которому мы подводим, становится очевидным: библиотека Анны Ярославны — источник, откуда в коллекцию А. И. Сулакадзева могли прийти древнеславянские рунические книги.
Остаётся выяснить совсем немного: как из коллекции Дубровского старинные славянские рукописи попали в собрание Сулакадзева. О дружбе между этими двумя людьми уже упоминалось. Так что становится понятно, что ничего в принципе невероятного в таком переходе нет. Если же говорить подробнее, то переход этот мог совершиться при следующих обстоятельствах.
В феврале 1800 года в возрасте 46 лет после 23 лет дипломатической службы П. П. Дубровский вернулся в Санкт-Петербург. Но родина приняла его не очень ласково. Из-за чиновничьих игр он был отчислен из Коллегии иностранных дел и остался без службы и каких бы то ни было средств.
Интересно свидетельство Бестужева-Рюмина, друга Дубровского, о причинах его опалы, ибо свидетельство это хорошо иллюстрирует нравы, существовавшие в высших кругах власти. «Граф Ростопчин, — пишет Бестужев-Рюмин, — не знал даже лица его, но при вступлении в звание вице-канцлера, в царствование императора Павла I, исключил его, Дубровского, из службы единственно потому, что он не был никому знаком из приближенных к графу, и такою несправедливостью ввергнул его в самое затруднительное положение возвратиться в отечество; и потом, когда он, Дубровский, кое-как возвратился и явился к нему, Ростопчину, он оболгал его перед государем, и Дубровский был выслан из Санкт-Петербурга» (II, 9; 160).
Можно представить положение, в которое попал П. П. Дубровский. Он — коллежский асессор, чиновник 8го класса, без средств, в немилости у государя. И только приход к власти Александра I в 1801 году отменил высылку П. П. Дубровского из Санкт-Петербурга. Высылку-то отменили, но на службу не вернули. И, как сами понимаете, средств у Петра Петровича больше не стало. Видимо, тогда, чтобы как-то свести концы с концами, он стал продавать некоторые ценные рукописи из своей коллекции. Что Сулакадзев у него что-то приобретал, сомнения не вызывает. Вполне возможно, что именно тогда и завязалась между ними дружба, хотя это всего лишь предположение. Дружить они могли и с более ранних времён. Для нас важно то, что как раз в этот период библиотека Анны Ярославны (по крайней мере, некоторые рукописи из неё) могла перейти из коллекции Дубровского в коллекцию Сулакадзева.
Всё постепенно становится на свои места и находит объяснение.
Но мы всё-таки ещё немного задержимся на судьбе Петра Петровича Дубровского и его коллекции. Отвлечение от нашей непосредственной темы в данном случае обоснованно. Оно позволит внести ещё несколько оправдательных для Сулакадзева штрихов в наше изложение.
В 1804–1805 годах П. П. Дубровский устраивает на своей квартире что-то вроде музея, куда он приглашает любителей старины и искусства. У него бывают А. С. Строганов (отец Павла Строганова), бывший в ту пору главным директором императорских библиотек, библиофил П. К. Сухтелин, будущий директор Публичной библиотеки А. Н. Оленин, Е. Болховитинов, немецкий учёный Аделунг и многие другие.
Кстати, Аделунг составил описание библиотеки П. П. Дубровского и опубликовал его в Лейпциге в 1805–1806 годах, причём в этом описании он упомянул и о рунических книгах из библиотеки Анны Ярославны (II, 9; 161). Очевидно, что в это время данная библиотека находилась у Дубровского либо полностью (т. е. она ещё не передавалась Сулакадзеву), либо частично (т. е. только часть книг из неё была передана Сулакадзеву, остальная оставалась у Дубровского).
О библиотеке Анны также сообщала заметка, опубликованная в марте 1805 года в «Вестнике Европы»: «Известно, что сия княжна основала аббатство Санлис, в котором все её книги до наших дней сохранились. В сём месте найдены они господином собирателем (П. П. Дубровским. — И.Д.) и куплены недешёвою ценою. Упомянутая домашняя библиотека состоит большей частью из церковных книг, написанных руническими буквами, и других манускриптов от времён Ольги, Владимира… Наши соотечественники, знатнейшие особы, министры, вельможи, художники и литераторы, с удовольствием посещают скромное жилище г-на Дубровского и осматривают богатейшее сокровище веков, которое, конечно, достойно занимать место в великолепных чертогах» (II, 9; 161–162). Обращаем ваше внимание, что в заметке указывается на наличие именно рунических книг в библиотеке Анны Ярославны. О собрании же Дубровского ещё несколько раз писал «Северный вестник» (II, 9; 162).
Видимо, А. С. Строганов убедил Петра Петровича передать коллекцию государству, дабы можно было её представить должным образом перед европейскими державами (II, 9; 162). А представлять, как вы сами понимаете, было что.
На Невском проспекте возводят для хранения древних рукописей одно из замечательнейших зданий Северной столицы. Это хранилище древних книг получает название «Депо манускриптов», а потом переименовывается в Императорскую публичную библиотеку.
В награду за передачу своей коллекции государству П. П. Дубровский получает должность хранителя «Депо манускриптов». Ему выделяют великолепную квартиру в том же здании. Он начинает жить, как вельможа. Александр I подписывает указ о восстановлении Петра Петровича в Коллегии иностранных дел в чине надворного советника. В 1807 году в награду за труды в Публичной библиотеке ему присваивают чин коллежского советника и награждают орденом св. Владимира 4й степени.
Всё идёт хорошо. Собрание «Депо манускриптов» сравнивали с книжным собранием Ватикана, его считали одним из пяти богатейших в Европе (II, 9; 162, 166). Дубровский ведёт активную научную деятельность по сбору и описанию древних рукописей, составляет каталог вверенной ему библиотеки. В эти годы с ним активно сотрудничает А. И. Сулакадзев. Как считает А. И. Асов, «в сущности, они основывают тайную Русскую академию — в противовес официальной Академии, в коей все посты принадлежали норманнистам» (II, 9; 163).
Итак, всё шло хорошо, пока не разразился скандал. А инициатором его выступил уже однажды упомянутый нами А. Н. Оленин.
Кто же такой этот Оленин? В. П. Козлов в своей книге почтительно именует его археологом (II, 34; 160). Скажем сразу: археологом в современном смысле этого слова он не был. Тогда, в начале XIX века, археологами называли людей, собирающих всевозможные древности, интересующихся ими. То есть слово «археолог» было синонимом слова «антиквар». В таком же смысле был «археологом» и А. И. Сулакадзев. Более того, к последнему можно применить и современное значение этого слова, ибо существуют свидетельства, что Александр Иванович вёл раскопки в Новгороде и на развалинах дворца татарских ханов в Сарае (II, 9; 140). Оленин же был, говоря современным языком, функционер от науки. Принадлежал к высшей знати, был действительным статским советником, статс-секретарём. Приходился племянником графу Г. С. Волконскому, отцу декабриста С. Г. Волконского. Его современник Ф. Ф. Вигель выразился о нём так: «Он прослужил целый век…» (II, 9; 164).
Примечательно, что Оленин был одним из первых, кто начал очернять Сулакадзева и утверждать, что коллекция его не имеет никакой ценности (II, 9; 122–123, 182–183). А. Х. Востоков в этом деле — лишь продолжатель, внесший немалый вклад.
Роль «злого гения» Оленин сыграл не только в судьбе Сулакадзева, но и в судьбе П. П. Дубровского. Что двигало этим человеком в его нападках на Дубровского и Сулакадзева? Научные ли его убеждения, основанные на недостаточных знаниях, личная ли неприязнь, основанная на аристократической спеси? Скорее всего, и то, и другое.
В отношении первого скажем, что считать Оленина каким-то научным авторитетом и ссылаться на него в критике того же Сулакадзева, как это делают некоторые современные исследователи, просто смешно (II, 34; 160,164–165). Да, он имел высокие должности и звания, слыл в определённых кругах образованным человеком. Но при этом, повторяем, был всего лишь функционером от науки, а познания его носили, по свидетельству более проницательных современников, весьма поверхностный характер (II, 9; 164). Лично знавший А. Н. Оленина А. С. Пушкин отозвался о нём так: «Пролаз, нулёк на ножках», что наряду с уровнем познаний характеризует и человеческие качества Оленина. Кроме того, Оленин был ярым норманнистом («то ли по убеждению, то ли по выгодности данной позиции в тогдашнем обществе», как отмечает А. И. Асов (II, 9; 164)), близким другом Шлецера, Маттеи, потом Востокова (о последних двух господах мы ещё упомянем). Всё это вместе, видимо, и сформировало у него то негативное отношение к деятельности Дубровского и Сулакадзева, которое впоследствии оказалось гибельным для собрания «Депо манускриптов».
Что до личной неприязни к Дубровскому и Сулакадзеву, то для неё у Оленина были весьма веские, с его точки зрения, основания. Он мог просто завидовать этим «худородным», по его мнению, выскочкам. О почестях, которых был удостоен Александром I Пётр Петрович Дубровский, мы уже говорили. А ведь на должность хранителя «Депо манускриптов» Оленин претендовал сам. Александр Иванович Сулакадзев таких милостей монарших особ не удостоился. Однако есть сведения, что как антиквар он был представлен двум императорам: Павлу I и Александру I (II, 9; 140, 168–169). Но Сулакадзев — простой титулярный советник, тогда как Оленин был действительным статским советником (это значительно выше). В общем, основания для злобы, ненависти и зависти у аристократа Оленина были.
В 1811 году, сразу после смерти покровителя П. П. Дубровского графа А. С. Строганова, Оленин написал рапорт, в котором оспаривал правомерность проживания Дубровского в здании Публичной библиотеки, а также нижайше просил проверить сохранность вверенных Дубровскому рукописей, намекая на то, что последний распродаёт их направо и налево.
Без особых разбирательств Дубровского отстранили от должности, лишили квартиры и только затем назначили комиссию для проверки сведений Оленина. Проверка длилась практически целый год. Выяснилось, что никакой недостачи нет, и наличествующие раритеты в полной мере соответствуют списку книг, подаренных Дубровским императору.
Однако все эти треволнения и унижения не прошли для Петра Петровича даром. Он серьёзно заболел и слёг.
Кроме того, и Оленин не успокоился. В декабре 1811 года он заявляет, что из собрания «Депо манускриптов» пропал так называемый «Молитвенник» Владимира Святого из библиотеки Анны Ярославны. А вот теперь стоп и внимание! Мы помним, что «Молитвенник» князя Владимира значился в «Каталоге книг… библиотеки Александра Сулакадзева», что какой-то «Молитвенник» князя Владимира был известен ещё в 1841 году как происходящий из собрания Сулакадзева, что в 1923 году какой-то «Молитвенник» Владимира Святого был обнаружен архиепископом Иоанном Теодоровичем в «глухом углу Подолии». Остаётся добавить такую интересную деталь, что в 1841 году «Молитвенник» обнаружили не где-нибудь, а в Северо-Американских Соединённых Штатах. Об этом сообщает журнал «Отечественные записки» (№ 5 за 1841 год) (II, 9; 144). Что «Молитвенник» каким-то образом попал из России в Америку, не столь удивительно. Гораздо удивительнее другое: что спустя восемь десятков лет его нашли в глухом углу Украины. А может, не его? Может быть, «Молитвенников» было два? Недаром ведь рукопись с таким названием фигурировала и в книжном каталоге коллекции Сулакадзева, и в коллекции Дубровского. Тогда один из них — точно подделка (может статься, и оба). Однако не будем гадать. Продолжим рассмотрение того, как развивалось «дело Дубровского». Это подскажет нам возможное объяснение.
В ответ на очередное вздорное обвинение Оленина Дубровский пишет ему письмо, в котором замечает, что данная книга не передавалась им в Публичную библиотеку, её нет в списках книг, подаренных им императору. И что ныне она находится в его личном собрании (II, 9; 165–166).
Тем не менее, судя по всему, П. П. Дубровского вынудили передать «Молитвенник» в «Депо манускриптов» в обмен на достойную отставку (II, 9; 166). Эта отставка состоялась в апреле 1812 года. Дубровский был удостоен чина статского советника, ему был вручён орден Анны 2й степени. Директором же Публичной библиотеки стал А. Н. Оленин. Он добился своего и мог быть доволен.
А что же «Молитвенник» Владимира Святого? По предположению А. И. Асова, в библиотеку была передана подделка (II, 9; 166). Понимая, к чему приведёт директорство Оленина, и желая спасти подлинную рукопись, Дубровский с помощью А. И. Сулакадзева пошёл на подлог. Процитируем А. И. Асова: «Был найден похожий манускрипт, тоже Молитвенник, либо Устав Церковный, но только XIV века. И на последней странице сей книги А. И. Сулакадзев скопировал приписку с подлинного Молитвенника Владимира. Манускрипт был передан в Публичную библиотеку и исчез в ней.
В 1995 году я пытался заказать эту книгу (шифр ОСРК, Fn. 1, № 26). Но в книге, на коей значилось «Служебник, или Церковный Устав, из библиотеки П. П. Дубровского», этой приписки не оказалось. Часть последней страницы, на которой должна была находиться данная приписка, была аккуратно вырезана. Озадачивает и то, что потом какой-то подложный Молитвенник св. Владимира с приписками был обнаружен на Украине и будто бы подлинный — в Америке. Все эти сведения требуют тщательной проверки. Однако и без проверки ясно, что этот «подлог» А. И. Сулакадзева был вполне оправдан. Нельзя было передавать подлинник тем, кто его непременно украл бы (они потом украли даже копию!)» (II, 9; 166–167).
Итак, какие выводы мы можем сделать из сказанного о «Молитвеннике» князя Владимира? Во-первых, что данный памятник действительно существовал. Первые упоминания о нём совсем не связаны с именем Сулакадзева. Так что обвинять его в создании этого памятника как такового не приходится. Происходит он из библиотеки Анны Ярославны. Во-вторых, кроме подлинного «Молитвенника» существовал и поддельный. И именно его обнаружил в 1923 году на Украине архиепископ Иоанн Теодорович. Предположение А. И. Асова о том, что Дубровский передал в Публичную библиотеку подделку, остаётся лишь предположением. Туда мог уйти и подлинник. Во всяком случае, когда после смерти Петра Петровича, последовавшей 9 января 1816 года, была составлена опись книг его личной библиотеки, то «Молитвенника» среди них не оказалось. А поскольку и из Публичной библиотеки этот манускрипт исчез, то нам остаётся только гадать, что же произошло на самом деле.
Заманчиво было бы предположить, что подлинную рукопись Дубровский передал в коллекцию Сулакадзева, дабы спасти этот ценный памятник славянского письма от господ расхитителей, заседавших в Российской академии наук. Тем более что до конца 20х годов XIX века, когда был составлен «Каталог книг… библиотеки Александра Сулакадзева», о «Молитвеннике» князя Владимира в его коллекции никто не говорил. То есть в конце 1811 — начале 1812 года Дубровский тайно мог передать рукопись Александру Ивановичу, а тот спустя примерно полтора десятка лет, на закате своей жизни, когда страсти вокруг книги поутихли, включил её в «Каталог», чтобы зафиксировать факт её нахождения в своём собрании.
Да, заманчивое предположение. Но сделать мы его, к сожалению, не можем. Вот как сам Сулакадзев описывает в «Каталоге» «Молитвенник» князя Владимира, находящийся у него в коллекции: «7. Молитвенник св. великого князя Владимира, которым благословлял его Добрыня. Молитвенник заключает две службы: св. Иоанна Златоустого и Василия Великого с их изображением красками древней рисовки, буквы, заглавные фигурные, изображают зверей и птиц, а другие — род лент или шнурков, искусно связанных, писанный на 218 страницах, на каждой почти странице 16 строк. Обряды литургии во многом разнятся от нынешних. На нём имеются подписи св. равноапостольного князя Владимира и дяди его Добрыни в следующих словах: «Вдаю сю кныгы стрыи нашему Добрыни на поминанiе мя грешна раба божия во стемъ крещеныи Василья преже Владимиря. 6508». Ниже подпись Добрыни: «Благославляю Владимиряю Добрыня в стемъ хрещении Василию». На 1й странице древним тоже почерком написано: «6808 къ Избору Псковцi прiде». Прочие надписи: патриарха Никона в 1652 г. и других. Древность письма и красок видимы, и паргамент сходен с Остромировым евангелием 1056 г., находящимся в императорской Публичной библиотеке» (II, 9; 143–144).
Судя по описанию, перед нами тот самый «Молитвенник», который был найден на Украине в 1923 году, то есть поддельный. Также совершенно ясно, что манускрипт из коллекции Александра Ивановича никоим образом не мог происходить из библиотеки Анны Ярославны, ибо библиотека эта, оказавшись во Франции в XI веке, вернулась в Россию только в начале XIX столетия, а стало быть, содержать приписки исторических деятелей Руси позже первой половины XI века «Молитвенник» никак не мог. Сам же Сулакадзев указывает на наличие приписок XIV и XVII веков.
Не вызывает сомнений, что «Молитвенник» святого Владимира из собрания Александра Ивановича подлинным быть не мог. Куда же делся подлинник? Как и при каких обстоятельствах он исчез? И главное — где он сейчас, уцелел ли? Боимся, что на эти вопросы получить ответы практически невозможно. Не исключено, что рукопись, найденная в Америке, и была подлинной. Возможно, она и сейчас находится там, в какой-нибудь частной коллекции. Но всё это лишь предположения.
Но самое страшное заключается в том, что судьба, подобная судьбе «Молитвенника» князя Владимира, постигла все наиболее древние и ценные книги из собрания Петра Петровича Дубровского, переданные в «Депо манускриптов». Они бесследно пропали, канули в неизвестность.
Как происходил разгром (а иного слова и не подберёшь) «Депо манускриптов» в директорство там Оленина, остаётся только догадываться. Но то, что Оленин «со товарищи» (Маттеи, Востоковым и др.) тащили всё, что можно, сомневаться не приходится. Первоначально странным образом исчезли списки, по которым Дубровский передавал свою коллекцию в императорскую библиотеку. Не сохранились и библиотечные каталоги, составленные при Дубровском (что тоже весьма подозрительно) (II, 9; 165–166). Затем начали пропадать сами книги. И в наши дни собрание Публичной библиотеки никто не сравнивает с собранием Ватикана. Его никто не включает в пятёрку наиболее ценных в Европе. Древлехранилище этой библиотеки ныне, конечно, представляет интерес, но уже далеко не столь значительный (II, 9; 166).
Чтобы обвинения, высказанные нами в адрес компании господина Оленина, не выглядели голословно, приведём некоторые факты. Собственно, доказывать что-то в отношении самого Оленина нет надобности: результаты его деятельности налицо, моральные же качества этого человека вы уже имели возможность оценить.
А вот о профессоре Маттеи и господине Востокове скажем особо. Первый, работая в России, прославился отнюдь не своими научными трудами, а самым настоящим воровством. Сейчас в немецком городе Лейдене хранится так называемый Лейденский манускрипт, содержащий лучший по сохранности и единственный полный текст «Илиады» Гомера. Так вот, Лейденским это манускрипт называется не по праву. В XIX веке его украл (выдрал из книги XIV века) из собрания Главного архива иностранных дел России господин Маттеи. Им же были вывезены в Германию десятки, если не сотни, ценнейших рукописей из Московской патриаршей библиотеки (II, 9; 128–129).
Что касается Александра Христофоровича Востокова, то его настоящая фамилия была Остенек. Он тоже был немцем. И, судя по всему, русская культура была для него чужда, хотя он и подвизался на ниве русской словесности. У нас нет прямых доказательств, которые бы позволили обвинить Востокова, подобно Маттеи, в расхищении исторического достояния России, но зато нам известен ряд фактов, который заставляет это предполагать практически со стопроцентной вероятностью. Так, в 1824 году А. Х. Востоков, на тот момент незаметный помощник хранителя Румянцевского Музеума, выпустивший одну-единственную небольшую работу, посвящённую стихосложению и строению предложений, внезапно становится доктором философии Тюбингенского университета, а через год членом-корреспондентом Немецкой академии наук. Естественно, возникает вопрос: за какие такие заслуги перед русской или немецкой филологией Остенек-Востоков удостаивается таких почестей? На тот момент их (заслуг) не было. К тому же заметим, что Востоков не имел даже специального филологического образования, был выпускником Академии живописи и архитектуры. Правда, он увлекался стихосложением, но стихи его, скажем мягко, известности не получили. А. И. Асов считает (и мы с ним согласны), что свои звания Востоков получил за хищение и уничтожение древних славянских рукописей (II, 9; 127). Должность помощника хранителя румянцевского собрания книжных ценностей позволяла ему весьма успешно заниматься подобной деятельностью. Вся история с осмотром Востоковым коллекции А. И. Сулакадзева, описанная нами выше, подтверждает такие выводы. Как не сумел Востоков разглядеть действительно древние и ценные манускрипты коллекции Александра Ивановича — для нас загадка. А может быть, вывод помощника хранителя древностей был заранее предопределён и не имел ничего общего с действительным положением вещей? Может статься также, что Востоков и не осматривал собрания Сулакадзева. Ведь недаром же канцлеру Румянцеву даже приходилось напоминать ему о данном поручении. Востоков явно не спешил. Что если это была элементарная нерадивость? Не было никакого злого умысла. Возможно. Тем более что сам Румянцев в одном из своих писем называет Востокова (и ещё некоего Ермолаева) «ленивым гнездом» (II, 9; 130). Только вот, несмотря на эту нерадивость и лень и, по сути, отсутствие научных работ, он был признан немцами выдающимся филологом России. Странно. Очень странно.
В общем, немецкие учёные, заседавшие в Российской академии наук и насаждавшие «норманнскую теорию», «славно» потрудились, чтобы изъять из российских древлехранилищ все свидетельства, противоречившие этой теории. Стоит ли после этого удивляться исчезновению «Иоакимовской летописи», с которой ещё в XVIII веке работал Татищев, или «Молитвенника» князя Владимира. Понятно, что сталось с богатейшим собранием Публичной библиотеки, когда в директорство Оленина подобные «хранители» получили возможность в нём беспрепятственно орудовать.
Сказанное выше даёт возможность заподозрить нас в германофобстве. И это будет несправедливый упрёк. Мы помним, что многие немцы верой и правдой служили России, многое для неё сделав, в том числе и на научном поприще. Достаточно вспомнить немца Гильфердинга — собирателя русских былин и потомка немцев Даля — составителя знаменитого словаря. Но надо признать, что было немало и таких, которые видели в России лишь место, где можно быстро обогатиться и сделать успешную карьеру. Интересы страны, принявшей их, её народ, её культура были для них чужды. Вот о таких людях и говорилось сейчас. Можно ли на основании свидетельств нечистых на руку людей выносить кому-либо приговор? Думается, что нет.
В апологию же Александра Ивановича Сулакадзева мы хотим внести ещё один штрих. Его коллекция древних книг после смерти владельца была распылена, а значительная её часть, к огромному сожалению, вообще оказалась утраченной. В настоящее время «осколки» собрания Сулакадзева находятся более чем в двадцати пяти коллекциях, разбросанных в разных хранилищах страны и за рубежом (II, 34; 162). Среди спасённых материалов много подлинных рукописей XIII — XVII веков (II, 34; 162–163). Это общеизвестные факты. То есть даже небольшая сохранившаяся часть книжного собрания Сулакадзева содержит значительное количество действительно ценных материалов. Что же говорить о собрании в полном объёме? В этой связи скажем, что нас не удивляют оценки, данные коллекции Александра Ивановича Олениным и Востоковым. О причинах возникновения таких оценок уже говорилось. Нас смущает пренебрежительное отношение Строева к ней. Но смеем предположить, что почтенный русский археограф находился в плену предвзятого мнения, созданного благодаря стараниям Оленина, Востокова и им подобных.
А теперь приведём факты не столь известные. Николай Макаренко, украинский учёный, работавший до революции 1917 года, а также во время революционных событий в 1917–1918 годах в Эрмитаже, видел там раритеты из коллекции Сулакадзева, а также часть его личного архива. И не только видел, он их изучал (II, 9; 168–169). Отсюда уже можно сделать вывод, что часть коллекции Сулакадзева попала в Эрмитаж, бывший, между прочим, императорским музеем. Изучая письма антиквара, Макаренко выяснил, что некоторые рукописи были приобретены Александром I у него лично, то есть ещё при жизни (II, 9; 168–169). То, что русские императоры покупали древние книги у самого Сулакадзева, а затем, видимо, у его вдовы, говорит о многом. Во-первых, о том, что императоры знали Александра Ивановича (выше мы говорили, что он как антиквар был представлен двум императорам — Павлу I и Александру I; видимо, наслышан был о нём и Николай I). Во-вторых, для царской библиотеки не стали бы приобретаться не только подделки, но даже копии. Приобретались действительно ценные вещи. Что конкретно? К сожалению, сказать этого мы не можем. В 1919 году библиотека императора была конфискована ЧК и вывезена из Петрограда в Москву, где её поместили в ЦГО АР (ныне Госархив РФ). Но сейчас в этом архиве нет ничего примечательного. Правда, есть слухи, что многие ценные материалы из ЦГОАР были изъяты и попали в спецхранилище НКВД (ныне ФСБ) (II, 9; 168–169).
Однако благодаря Макаренко мы знаем, что в библиотеке Эрмитажа хранились наряду с прочими манускриптами из коллекции Сулакадзева какие-то рунические тексты. Копии с них снимал Макаренко. Их он увёз с собою в Киев. Об этом украинский учёный сообщает в своей статье «Молитвенник великого князя Владимира и Сулакадзев», увидевшей свет в 1928 году в «Сборнике Отделения Русского Языка и Словесности» (том 101, № 3) и содержащей немало важных сведений о судьбе книжного собрания А. И. Сулакадзева (II, 9; 169).
Но Николай Макаренко в 30е годы был репрессирован, а его научный архив утрачен. Поэтому даже копии рунических книг Сулакадзева исчезли (II, 169–170). В этом отношении «Боянову гимну», можно сказать, повезло. Он сохранился хотя бы в копии.
Может показаться странным, что мы уделили столько много внимания личности Александра Ивановича Сулакадзева, его деятельности и его коллекции, не обратившись сразу непосредственно к «Боянову гимну».
Но всё дело в том, что когда речь идёт о таком памятнике, как «Боянов гимн», датируемом IV веком н. э. и при этом сохранившемся только в копии, то вполне естественно возникают сомнения в его подлинности. Если же при этом данный памятник находился в коллекции человека, имеющего репутацию «разудалого» фальсификатора исторических источников, то сомнения в подлинности как-то автоматически перерастают в убеждение, что документ — фальшивка.
Поэтому «обеление» Сулакадзева, предпринятое нами, является одним из аргументов в пользу того, что «Боянов гимн» — не подделка, и никоим образом не должно считаться излишним.
Сейчас же непосредственно к «Боянову гимну» и перейдём.
* * *
Итак, памятник до нас не дошёл. Доживи он до наших дней, радиоуглеродный анализ быстро бы поставил точку в спорах о его подлинности. Но, увы…
Что представлял свой «Боянов гимн»? В описании Сулакадзева он выглядел следующим образом:
«Рукопись свитком на пергамине, писана вся красными чернилами, буквы рунические и самые древние греческие» (из списка «Боянова гимна», изготовленного Сулакадзевым для Державина) (II, 34; 166).
«Боянова песнь в стихах, выложенная им, на Словеновы ходы, на казни, на дары, на грады, на волховы обаяния и страхи, на Злогора, умлы и тризны, на баргаменте разном, малыми листами, сшитыми струною. Предревнее сочинение от 1го, или 2го века» (из «Книгорека») (II, 34; 180), (II, 9; 147).
«Боянова песнь Славену — буквы греческие и рунические. Время написания не видно, смысл же показывает лица около I века по Р.Х. или позднейших времён Одина… Драгоценный сей свиток любопытен и тем, что в нём изъясняются древние лица, объясняющие русскую историю, упоминаются места и проч.» (из «Каталога книг… библиотеки Александра Сулакадзева») (II, 9; 142).
Из этих описаний видно, что рукопись была на пергаменте и писана каким-то красным составом. Может смутить кажущаяся разность описания «Гимна» Александром Ивановичем в «Книгореке», с одной стороны, и в копии, снятой для Державина, и в «Каталоге» — с другой. В первом случае он говорит о малых листах, сшитых струною, во втором — о свитке. Но разность, действительно, всего лишь кажущаяся. Объясняется всё очень просто: «Гимн» был записан на нескольких листах небольшого размера, сшитых сверху или с одной из сторон струною. Сшитые таким образом листы сворачивались в свиток. Так что никаких противоречий в описаниях Сулакадзева нет.
Рис. 31.
Другой вызывающий вопрос момент. В державинской копии и в «Каталоге» Сулакадзев говорит о том, что «Боянов гимн» записан руническими и греческими буквами. Вполне может возникнуть впечатление, что речь идёт о том, что запись текста произведена дважды, различными системами письма. На самом деле речь здесь идёт совсем о другом. Этими словами Александр Иванович говорит о том, что знаки, которыми записан «Гимн», похожи не только на нордические руны, но и на греческие буквы. Причём в списке, изготовленном для Державина, антиквар говорит не просто о греческих, а о «самых древних греческих» буквах. Очень интересное замечание. В предыдущей главе мы говорили о сходстве славянской руники со знаками этрусской, пеласгийской и древнейшей греческой систем письма и постарались объяснить этот факт. Это сходство бросилось в глаза и Сулакадзеву. Заметим, что он изучал труды Фаста, Олава Магнуса, Каппенса, Монфокона — немецких и французских учёных XVII–XVIII веков, посвящённые древним италийским и балканским системам письма, и говорил со знанием дела (II, 9; 212).
За то, что слова Александра Ивановича о рунических и «древнейших греческих буквах» надо понимать именно в таком ключе, а не как указание на двойную запись текста «Гимна», говорят и те сложности с переводом памятника, которые существовали у Сулакадзева. Да, он предоставил Державину копию рунического текста и его перевод, но честно признался, что из-за отсутствия «древних лексиконов» его перевод «может быть неверен» (II, 34; 166). Если бы имелся славянский текст, записанный греческими буквами полностью, то, думается, никаких трудностей с переводом не возникло бы.
Рис. 32.
Ниже мы приводим рунический текст «Боянова гимна» (рис. 31–33) и его перевод (рис. 34–36), выполненный А. И. Асовым, заимствованные из книги последнего «Славянские руны и “Боянов гимн”».
Итак, в переводе Александра Игоревича речь в «Гимне» идёт о событиях IV века н. э.: о борьбе славян и их союзников с готами. Упоминаются такие известные по другим источникам исторические деятели, как славянский князь Бус, король готов Германарих. Этим гимном песнопевец Боян прославляет победу славян, во главе которых стоял князь Словен, над готами. Сам Боян, как явствует из текста его песни, принимал участие в данном сражении, был стремянным у князя Словена. Боян — сын известного князя Буса, который вскоре после событий, описанных в гимне, будет распят преемником Германариха Амалом Винитарием.
Рис. 33.
Сам Сулакадзев в «Книгореке» датирует «Боянов гимн» I или II веком н. э., в «Каталоге» говорит о I веке н. э. или более поздних временах (см. выше). Из писем Евгения Болховитинова мы знаем, что в вопросе датировки памятника возникала дата V век н. э. (II, 9; 180). Почему такой разброс в датировке? Разве из событий, описанных в «Гимне», не явствует время его создания? Дело в том, что перевод Сулакадзева очень значительно отличается от перевода Асова. То, о чём говорится в «Бояновом гимне» в переводе Александра Ивановича, вовсе не свидетельствует о событиях IV века н. э.
Рис. 34.
Приведём часть перевода Сулакадзева, изданную Г. Р. Державиным:
Не умолчи, Боян, снова воспой. О ком пел, благо тому. Суда Велесова не убежать. Славы Славянов не умалить. Мечи Бояновы на языке остались. Память Злогора Волхвы поглотили. Одину вспоминание, Скифу песнь. Златым песком тризны посыплем (II, 9; 172).Нетрудно заметить, что похожих строк в переводе Асова нет.
Рис. 35.
Как полагает А. И. Асов, перевод Сулакадзева был неверен, что допускал и сам антиквар (II, 9; 123–124, 216). Здесь сказалось то самое незнание «древних лексиконов», на которое Александр Иванович ссылался в письме к Державину.
Рис. 36.
Подобные расхождения возникли из-за разного озвучивания рун, которыми записан текст. Как упоминалось выше, Сулакадзев пытался озвучивать руны, опираясь на работы Фаста, Олава Магнуса, Каппенса, Монфокона. Асов опирался в основном на труд А. Д. Черткова «О языке пелазгов, населивших Италию» (1855) (II, 9; 213). Чертков же не был знаком ни с работой Сулакадзева по озвучиванию рун «Боянова гимна», ни с трудами вышеперечисленных учёных. Вернее, результаты работы этих учёных XVII–XVIII веков были известны ему опосредованно, через труды современных ему зарубежных исследователей: Лепсиуса, Лассена, Ланци, Мюллера и других.
Насколько различно озвучивание рун «Боянова гимна» у Сулакадзева и Асова, можно судить из табл. 4.
Вообще такое сопоставление несколько условно по следующей причине. Данное транскрибирование руники «Боянова гимна» Сулакадзевым восстановлено по тем восьми строкам памятника, которые Сулакадзев перевёл для Державина. Как мы можем судить по работе А. И. Асова «Славянские руны и “Боянов гимн”», дальнейшего перевода Державину предоставлено не было (II, 9; 215). Асов же проработал на предмет установления звукового значения рун весь «Гимн». Сам репертуар рун «Боянова гимна» значительно шире того, что транскрибировал Сулакадзев. Многие руны имеют варианты начертания. Поэтому ту часть нашей таблицы, где показаны руны в прочтении А. И. Асова, можно было бы расширить. Но даже по тому, что продемонстрировано, можно видеть, что ряд рун имеет слоговое значение, ряд обозначает не только звонкие, но и соотносящиеся с ними глухие согласные звуки, некоторые обозначают носовые звуки. Всех этих нюансов в транскрибировании Сулакадзева нет. Всё это позволило А. И. Асову заметить следующее: «Это прочтение (прочтение А. И. Сулакадзева. — И.Д.) в целом близко к принятому мной, но оно не фонетическое» (II, 9; 216). Далее он пишет об ошибках Сулакадзева в озвучивании рун этой части «Гимна»: руна «» у последнего имеет значение как в футарке «th» и иногда отождествляется с «д». Сулакадзев смешивал руны «» и «» («и» и «р», к тому же озвучивал первую руну как «а»), «» и «», «», «», «». Спорно озвучивание им рун, означающих близкие звуки: «г» и «к», «о» и «у», «а» и «я» (обусловлено незнакомством с фонетикой). В одних случаях это не влияет на перевод, в других влияет (II, 9; 216). По мнению А. И. Асова, «этими смешениями и были вызваны невозможность чтения А. И. Сулакадзевым большей части рунического текста «Боянова гимна» и нарушения смысла в переводе (обусловленные также отсутствием словарей древнерусского языка, неразвитостью сравнительного языкознания и пр.) (II, 9; 216).
Таблица 4.
Выше уже отмечалось, что 12 ретринских рун совпадают с рунами «Боянова гимна». Пять рун бояновицы из 12 схожих с ретринскими схожи также с младшими датскими рунами. Табл. 5 соответствия, по А. И. Асову (II, 9; 365), приведена ниже.
Таблица 5.
Сходство в начертаниях и звуковых значениях 12 бояновых рун с ретринскими (а это около 40 %, исходя из того, что количество рун бояновицы свыше 30, и около 50 %, если отталкиваться от 23 рунических знаков Ретры) говорит о безусловном родстве этих двух типов письма. Определённое родство есть и с датским руническим футарком (5 рун — это около 16 %, отталкиваясь от количества бояновых рун). Памятуя о том, что руны «Боянова гимна» схожи также с пеласго-фракийской руникой, опираясь на которую даже произвели их озвучивание, можно смело говорить о промежуточном положении бояновицы между нордическим и южным типом рунического письма.
А. И. Асов видит в совпадении 12 ретринских и бояновых рун доказательство подлинности первых (надо полагать, и последних также). Вот что он пишет: «Мне представляется невероятным, чтобы священник Шпонхольц знал младшие датские руны, да ещё добавил к ним новые знаки, весьма напоминающие руны “бояновицы”, кои в то время были неизвестны» (II, 9; 364). Так-то оно так. Но вот поддельщик «Боянова гимна», если допускать, что «Гимн» — подделка, вполне мог знать о рунах Ретры (вспомним, что А. И. Сулакадзев был весьма образован и старался быть в курсе научных достижений и открытий своего времени) и обеспечить сходство с ними письменных знаков подделываемого им памятника. При таком раскладе не только не приходится говорить о подлинности «Боянова гимна», но и подлинности ретринских надписей также. Они вполне могли быть фальсификацией. Так что аргумент Александра Игоревича, на наш взгляд, вовсе не аргумент.
Но выше отмечалось, что доказательством аутентичности как надписей Ретры, так и «Боянова гимна» может считаться как раз то, что руны их совпадают лишь частично. А. И. Сулакадзев, если он подделывал «Боянов гимн», делал это в период, когда в подлинности ретринских рун почти никто не сомневался, славянская руника, если можно так выразиться, «была на взлёте». Вполне логично допустить, что Сулакадзев должен был добиваться как можно большего сходства с ней. Но этого почему-то не делал. Можно предположить буквально-таки дьявольскую хитрость с его стороны, что он сознательно запутывал дело. Можно. Но только почему-то в случаях с приписками, в которых Александра Ивановича тоже обвиняют, действовал он, наоборот, совсем немудрёно и легко «прокалывался». Одно с другим явно не согласуется. Допуская же подлинность «Боянова гимна», утверждать о поддельности руники Ретры уже значительно труднее. Ибо в этом случае, действительно, стоя на позициях её фальсификации, трудно объяснить тот факт, что 50 % ретринских рун схожи с рунами «Боянова гимна», о котором во времена возможной подделки древностей Ретры никто не знал.
А. И. Асов, досконально изучивший «Боянов гимн», выделил некоторые особенности его орфографии, которые, между прочим, согласуются с правилами орфографии более поздних славянских письменных памятников (в том числе и тех, подлинность которых под сомнение никто не ставит). Особенности эти таковы:
1) Часто в записи слов «Боянова гимна» опускаются руны, означающие гласные звуки (II, 9; 244). Подобные сокращения присутствуют в славянских рукописях и позднее (II, 56; 43). Однако для славянской речи присутствие букв, означающих гласные, всё же необходимо, иначе будет потерян смысл (в отличие, например, от языков семитской группы, которые успешно используют консонантное письмо).
2) Иногда в «Гимне» в именах собственных также опускаются руны, означающие согласные, ибо предполагается, что читателю известно, о ком идёт речь (II, 9; 244). Эта особенность также характерна для славянских памятников письменности всех времён (II, 9; 245).
3) Среди особенностей письма берестяных грамот учёными отмечены регулярные замены «О» — «Ъ», «Е» — «Ь» — «G» — «И», «Ц» — «Ч», «G»— «J». Подобная взаимозаменяемость букв отмечена, кстати, и в «Велесовой книге», о которой мы поговорим чуть ниже. Соответствующие руны заменяют друг друга и в «Бояновом гимне» (II, 9; 245).
4) Оказавшись рядом, две одинаковые руны чаще всего сливаются в одну (II, 9; 245). В старославянских рукописях обычно такое происходит в тех случаях, когда между оказавшимися рядом согласными до падения редуцированных и их утраты был полугласный. Например, в Синодальном Списке написано: «ПОКЛОNITIСJ»; вместо: «ПОКЛОNИТЪ ТИ СJ» (II, 9; 245).
В «Книге Велеса» отмечено соединение в одну не только одинаковых букв, означающих согласные звуки, но и гласные (и близкие по произношению гласные и полугласные) на стыке двух слов (II, 9; 245).
К этим орфографическим особенностям надо присовокупить ряд грамматических особенностей языка «Боянова гимна». Здесь мы не будем производить их разбор, дабы не усложнять изложение, ибо подобный разбор предполагает специальную филологическую подготовку. Интересующихся отсылаем к работе А. И. Асова «Славянские руны и “Боянов гимн”» (с. 246–247).
Если учесть, что «Гимн» — это памятник IV века н. э., то становится ясно, что и лексика его может отличаться от той, которую мы знаем по памятникам старославянского, древнерусского и прочих древних славянских языков, датируемым не ранее Х века н. э. (имеются в виду памятники, подлинность которых не подвергается сомнению). Пожалуй, никто не будет спорить, что русский язык XIV века отличается по фонетике, грамматике, орфографии и лексике от современного русского. Шесть веков — это шесть веков. Точно так же нельзя требовать абсолютного соответствия между славянским наречием IV века н. э. и славянскими языками Х века н. э., а при отсутствии такового соответствия объявлять памятник, написанный на этом самом наречии IV века н. э., поддельным.
Наше представление о славянских диалектах праславянского периода вообще очень схематично. Показательно мнение одного из ведущих советских языковедов Р. И. Аванесова, который считает, «что появление новых диалектных черт периода феодальной раздробленности (со второй половины XII века) наслаивается на старые диалектные черты, соответствующие старым племенам, в результате чего мы пока не можем судить о характере диалектов предшествующей поры (выделено нами. — И.Д.) и об их территориальном распределении» (II, 55; 30). И далее: «Раннедревнерусские диалектные границы (до X–XI веков), тем более границы «племенных диалектов», по современным лингвогеографическим данным вообще не восстанавливаются…» (II, 55; 31). Что это значит? Да то, что о племенных славянских диалектах мы ничего определённого сказать, по существу, не можем. И если уж такое положение существует, когда мы имеем в виду века, близкие к Х — XI, то что говорить о IV веке н. э.
Так вот, наличие указанных языковых особенностей «Боянова гимна» позволяет объяснить на первый вид дикое и бессмысленное звучание этого памятника. Вот как, например, звучат те строки гимна, транслитерацию которых А. И. Сулакадзев выполнил для Г. Р. Державина (перевод их приведён выше):
Умочи Боянъ Сновъ удычъ А комъ плъ блгъ тому Суди Велеси не убьгти Слвы Словенси не умлети Мчи Бояни на языци оста Памети Злгоръ Волхви глоти Одину памяти Скифу гамъ Злтымъ пески Тризны сыпи (II, 9; 172).Однако мы отмечали, что озвучивание А. И. Сулакадзевым ряда рун «Боянова гимна» неверно. Поэтому неверны и его прочтение, и его перевод «Гимна». Более благообразно выглядит транслитерация тех же восьми строк памятника, произведённая А. И. Асовым:
Гамъ послухси Бояни Стару Словену и младу Умерлу и ужилу и Златогору Волхву Сварогу Мётень отведаёще гости зедаи, Вы, родоволю Словена стару, Иже мгляны изгонвы люти, От Непре рече, послухы! (II, 9; 21).И всё-таки текст отличается по звучанию от старославянских и древнерусских памятников.
«Нагромождение псевдоархаизмов», собрание «заумных слов», «принципиально непонятный» текст — каких только уничтожающих характеристик не использовали для «Боянова гимна» современные исследователи (II, 34; 166–167). Как они перекликаются с характеристиками, которые безапелляционно давал раритетам коллекции А. И. Сулакадзева А. Х. Востоков: исполненные «небывалых слов, непонятных словосокращений, бессмыслицы, чтоб казалось древнее» (II, 34; 174).
Но даже современные критики вынуждены признать, что славянские корни в этих «псевдоархаизмах» всё-таки присутствуют (II, 34; 166). Значит, не так уж «псевдоархаизмы» бессмысленны. И, может быть, всё-таки нужно говорить о неизвестных нам языковых особенностях.
Кстати, выдуманная Сулакадзевым «бессмыслица», оказывается, имеет свои правила орфографии (во многом согласующиеся с орфографией более поздних славянских письменных памятников) и свои особенности грамматики. Другими словами, «бессмыслица» имеет довольно сложную систему. И примитивной работу по созданию такой системы назвать никак нельзя. Нельзя в таком случае именовать примитивными и представления Сулакадзева о признаках древности славянских письменных памятников, как это делает В. П. Козлов (II, 34; 167). Таковые признаки Сулакадзев знал, как следует из только что изложенного, совсем неплохо. И заслуживает Александр Иванович в этом случае звание не неумелого поддельщика под древность, а подлинного и очень грамотного аса фальсификации.
Либо мы под напором фактов просто признаем, что «Боянов гимн» — это действительно памятник IV века н. э.
Ещё более жаркие научные споры идут вокруг другого памятника докириллического славянского письма — «Велесовой (Влесовой) книги».
Памятники рунической славянской письменности: «Велесова книга». Вопрос её подлинности
В нашей стране (бывшем СССР) началось всё в 1959 году. Именно в этом году один из зарубежных исследователей «Велесовой книги» Сергей Лесной (Парамонов) прислал в Комитет славистов СССР фотографию одной из дощечек «Книги» (дощечка 16, сторона А). По неизвестным нам причинам первые исследователи этого текста решили, что фото было сделано не с самой дощечки, а с копии-прорисовки (II, 16; 202), (II, 28; 9, 232). Заметим, что буквально до конца 80х годов прошлого столетия это был практически единственный отрывок текста «Книги», которым располагали советские учёные. На его анализе и строились выводы (немногочисленные книги С. Лесного, Н. Ф. Скрипника, Б. Ребиндера, В. Качура, содержащие тексты отдельных дощечек памятника, сразу оказывались в спецхранилище и были доступны очень ограниченному кругу лиц) (II, 11; 296–297).
Первое заключение дал академик В. В. Виноградов. В своём отзыве от 15 апреля 1959 года он вынес вердикт: данный текст — подделка (II, 16; 202). Дальнейший углубленный анализ снимка был поручен известному языковеду Л. П. Жуковской (II, 10; 439). По результатам работы Лидия Петровна опубликовала в журнале «Вопросы языкознания» (1960, № 2) статью «Поддельная докириллическая рукопись (к вопросу о методе определения подделок)». Смысл статьи ясен из её заглавия. Интересную информацию по поводу этого отзыва приводит современный исследователь «Велесовой книги» А. И. Асов. В статье «Ещё раз о тайнах «Книги Велеса» («Наука и религия», 2000, № 5) он пишет дословно следующее: «Причину такой реакции объяснила, первой откликнувшись на «Книгу Велеса» в академической печати, палеограф Л. П. Жуковская. В своём выступлении в Доме учёных Лидия Петровна прямо говорила о том, что смысл её отзыва определялся чуть ли не на партийном собрании и, уж во всяком случае, был вызван давлением «органов» (хотя скорее тут сыграла роль её боязнь «как бы чего не вышло»)» (II, 5; 57). Нам не известно, в каком году состоялось данное выступление Л. П. Жуковской. Но то, что оно имело место, сомневаться не приходится (А. И. Асов, как честный исследователь, не стал бы помещать в своей статье ложную информацию). Не подлежит, на наш взгляд, сомнению и то, что на учёных могло оказываться определённое давление по партийной линии и даже со стороны «компетентных органов». Ведь шёл 1960 год. Борьба с «буржуазной псевдонаукой» была у нас в самом разгаре. Кроме того, фотография исходила из эмигрантских кругов (да ещё белоэмигрантских). А в то время в СССР от этих кругов ничего, кроме идеологических диверсий, не ждали.
Как бы там ни было, но советские учёные поставили на «Книге Велеса» «большой и жирный крест». Тут бы всему и закончиться, но… Видимо, отзывы В. В. Виноградова и Л. П. Жуковской убедили не всех. В 70х годах ряд публикаций о «Книге Велеса» появляется в популярных изданиях: «Техника — молодёжи», «Неделя». Не заставили себя долго ждать и разгромные критические отзывы маститых учёных на эти публикации. В частности, Л. П. Жуковская уже в соавторстве с двумя известными историками, академиком Б. А. Рыбаковым и В. И. Бугановым, опубликовала в журнале «Вопросы истории» (№ 6 за 1977 год) статью под недвусмысленным названием «Мнимая “Древнейшая летопись”». Однако, несмотря на заявления академиков, апологеты у «Велесовой книги» остались. С конца 80х годов происходит новый всплеск интереса к этому памятнику. Данный интерес не ослабевает по сей день. Характерным является то, что в наше время подлинность «Книги Велеса» доказывают не только энтузиасты-любители, но и профессионалы-учёные. Хотя и в 70х — начале 80х годов XX столетия в среде советских учёных находились такие, которые не только не клеймили «Велесову книгу» как подделку, призывая к её тщательнейшему изучению, но даже считали её подлинным памятником. Можно назвать кандидатов исторических наук В. Вилинбахова и В. Скурлатова, а также известнейшего археолога, открывателя берестяных грамот А. В. Арциховского (II, 11; 230–231, 299).
В 90е — 2000е годы в бывших советских республиках перестало ощущаться давление центральных (московских) политизированных академических структур. И, например, на Украине сложилась целая школа «влесоведения», которая заняла заметные позиции в украинской науке. За подлинность «Книги Велеса» в этой стране высказалась целая группа известных учёных: заведующий кафедрой истории украинского языка Киевского университета профессор О. И. Белодед, доктор филологических наук профессор Б. Яценко, кандидат филологических наук В. В. Цыбулькин, историки М. Ф. Слабошпицкий, В. Киркевич, С. П. Плачинда, кандидат исторических наук, известный археолог Ю. А. Шилов. И «Книгу Велеса» эти профессиональные учёные защищают не какими-то отдельными высказываниями, короткими рецензиями на чьи-то работы. Они публикуют монографии, статьи и брошюры по этой теме, делают переводы памятника (II, 11; 310–312). Можно сказать, что на Украине «Книга Велеса» на официальном уровне признана подлинным древним памятником, её изучают в школах и университетах. А вот статей и работ «антивлесоведов» в украинской академической печати практически нет (II, 11; 310, 312).
Даже в Латвии, где, как известно, русское население всячески притесняется (а может быть, как раз благодаря этому), на кафедре славяноведения Латвийского государственного университета (заведующий кафедрой профессор Лев Сидяков) с 1996 года идут защиты по «Книге Велеса», что очень ярко характеризует отношение профессиональных учёных-славяноведов данного учебного заведения в ближнем зарубежье к этому памятнику (II, 10; 440).
Что же касается собственно российской академической науки, то вслед за А. И. Асовым мы можем лишь посетовать на неоправданный скептицизм и, не побоимся этого слова, отсталость российских славистов (II, 11; 312). Один из критиков «Велесовой книги», доктор филологических наук профессор Б. И. Осипов, практически не ошибается, указывая, «что среди серьёзных учёных почти никто не принимает «Велесову книгу» за подлинник. Одним из случаев является литературовед Ю. К. Бегунов…» (II, 43; 223). Да, в России среди профессионалов исследователей дощечек мало. Что очень прискорбно. Это не триумф, а беда российской науки. Иначе и нельзя назвать столь глухое, столь непонятное невнимание к своему историческому наследию, памятнику, который признан и изучается учёными в других странах.
И всё же в России не всё так уж безнадёжно. Профессора Б. И. Осипова можно дополнить. Упоминаемый им литературовед Ю. К. Бегунов — академик и доктор филологических наук, известный специалист по средневековой русской литературе. Мнение такого учёного дорогого стоит. Кроме него аутентичность «Книги Велеса» отстаивает профессиональный филолог Н. В. Слатин (из рецензии на работу которого мы и цитировали уважаемого профессора Б. И. Осипова), а также санкт-петербургский профессор И. В. Базиленко, которым в 1999 году был прочитан доклад «Русь и Иран: общеарийское прошлое (по «Книге Велеса»). Проблемы историографии» (II, 11; 314–315).
Так что, учитывая постсоветское пространство и выражаясь образно, мы смело можем сказать, что теперь в бой с обеих сторон (и сторонников, и противников подлинности памятника) идут профессионалы.
Если же говорить об исследованиях «Книги Велеса» в странах так называемого дальнего зарубежья, то надо заметить, что интерес к ней проявляли и проявляют самые что ни на есть профессионалы, причём некоторые из них являются учёными с мировой известностью. Достаточно назвать имена П. Е. Ковалевского, Р. Пешича, русских профессоров старой школы Константинова и Башилова, учеников Г. В. Вернадского (II, 11; 300). Отдельно следует отметить югославскую школу «влесоведов». У её истока стоял вышеупомянутый Радивой Пешич. Он был генеральным секретарём Балканологического общества в Риме, ведущим сотрудником Института раннеславянских исследований в Лондоне, профессором Миланского и Белградского университетов (вот уж действительно учёный с мировым именем) (II, 11; 313). Пешич организовал центр по изучению «Влесовой книги» в Аахене (Германия), где живёт супруга первого исследователя книги Ю. П. Миролюбова Жанна и находится его архив. После смерти академика Р. Пешича (в 1991 году) его дело продолжила целая группа учёных: доктор филологических наук, декан филологического факультета Белградского университета Радмило Мароевич, доктор филологических наук А. М. Петрович, археолог С. Давидович-Живанович, дети Р. Пешича, также являющиеся учёными, и ряд других исследователей (II, 11; 312–313).
Однако таким акцентом на участии учёных-профессионалов в изучении «Велесовой книги» мы ни в коей мере не хотим умалить заслуги тех исследователей памятника, кого принято именовать любителями. Эти любители сделали для изучения памятника, распространения знаний о нём столько, что «профи», пожалуй, здесь оказываются на втором месте. Достаточно сказать, что практически все первые зарубежные исследователи и публикаторы «Велесовой книги» (а все они были из среды русской эмиграции) принадлежат к числу дилетантов-любителей. Имена этих людей мы назовём несколько ниже. Здесь упомянем отечественного исследователя, который, не имея научных степеней и званий, тем не менее посвятил работе с «Велесовой книгой» много лет своей жизни. Речь идёт об Александре Игоревиче Асове. Филолог по образованию, он — не профессиональный учёный, а писатель. Своими публикациями исходных текстов памятника и его переводов Александр Игоревич сделал «Велесову книгу» достоянием широкого читателя. Он первым обобщил аргументы сторонников подлинности «Велесовой книги» и опубликовал их в своих статьях и монографиях. По сей день он ведёт поиски самих дощечек и их копий, состоит в переписке с супругой Ю. П. Миролюбова Жанной Миролюбовой, Музеем русской культуры в Сан-Франциско, где хранятся бумаги первого издателя «Велесовой книги» А. А. Куренкова. Одним словом, им проделана огромная работа. Его заслуги признаются даже теми, кто ему оппонирует по ряду вопросов (при общей исходной позиции: «Велесова книга» — подлинна) (II, 52; 133,178–179).
Доводы противников аутентичности «Книги Велеса» можно разбить на несколько групп:
1) Аргументы, связанные с находкой памятника и введением его в научный оборот.
2) Аргументы, касающиеся материала, на котором зафиксирован памятник.
3) Аргументы, касающиеся алфавита книги и её языка.
4) Исторические аргументы, т. е. относящиеся к изложенным в «Велесовой книге» событиям.
Мы расскажем всё, что нам известно, о дощечках, получивших название «Велесовой книги», опираясь именно на эти группы доводов, излагая мнение обеих сторон (и сторонников, и противников подлинности памятника).
Итак, как же были найдены дощечки? Обстоятельства находки нам известны в изложении Юрия Петровича Миролюбова. В 1919 году полковник Белой армии, командир Марковского дивизиона Али (Фёдор Артурович в крещении) Изенбек оказался в опустошённом имении. В разгромленной библиотеке имения он увидел валявшиеся на полу дощечки, исписанные непонятными ему, но как будто древнеславянскими буквами. Он, будучи участником археологических экспедиций в Средней Азии, почувствовал, что дощечки могут иметь историческую ценность. Изенбек приказал своему вестовому собрать их в морской мешок. Полковнику удалось сохранить дощечки во время войны и вывезти их за границу.
Критика противников «Велесовой книги» начинается уже с этого момента. Дело в том, что то ли сам Изенбек запамятовал, то ли Юрий Петрович Миролюбов позабыл (в конце концов, когда в своих письмах и произведениях он передавал этот рассказ, был он уже человек в возрасте), но ни местонахождение усадьбы, ни фамилия её хозяев точно не назывались: либо под Курском, либо под Орлом, либо под Харьковом; хозяева — Донские или Задонские.
В своей книге «Тайны Руси» доктор исторических наук Игорь Можейко, более известный как писатель-фантаст Кир Булычёв, замечает по этому поводу: «Настораживает уже одна туманность этих адресов. Человек не может забыть, на каком направлении сражалась его часть, и уж тем более не забудет он за несколько лет фамилию владельца усадьбы, в которой провёл времени достаточно, чтобы отыскать, определить и прочесть фантастический памятник письменности» (II, 15; 32). Тут что ни слово, то несправедливое утверждение. Во-первых, почтенному историку и писателю-фантасту не может быть не известно о напряжённости боёв на тех самых «курском и орловском направлениях» осенью 1919 года. У нас здесь не труд по истории Гражданской войны в России, но краткую хронологию событий того времени придётся привести. В ходе начавшегося 12 сентября 1919 года общего наступления белые части Добровольческой армии 20 сентября занимают Курск, 13 октября — Орёл. Вскоре занят Новосиль, и белые стоят под стенами Тулы. Однако уже 20 октября Красная армия отбивает Орёл. Наступая, она 18 ноября захватывает Курск, в первых числах декабря — Белгород, а 12 декабря — Харьков. За три месяца белые много захватили и потеряли ещё больше. Наступление Белой армии было отнюдь не парадным маршем, оно сопровождалось ожесточённейшими боями. Точно так же и контрнаступление красных не являлось увеселительной прогулкой — бои шли не менее ожесточённые. Немудрено спустя шесть или восемь лет (Изенбек рассказывал это Миролюбову в 1925 или в 1927 годах) после такого калейдоскопа событий перепутать орловское направление с курским. Тем более что, строго говоря, направление-то было одно. Что под Орлом, что под Курском сражались части Добровольческой армии белых. Наступая от Курска к Орлу, они же затем отступали от Орла к Курску. И времени особо долго рассиживаться по усадьбам у них не было. Тем более не было времени у офицеров читать «фантастические памятники русской письменности». С чего господин Можейко (Булычёв) взял, что Изенбек прочёл найденные им дощечки, непонятно. Об этом никто никогда не говорил. Видно, почтенный историк и писатель «ввернул» данное утверждение для «красного словца». Критиковать — так критиковать. Нет ничего удивительного и в том, что полковник Изенбек не мог точно вспомнить фамилии хозяев усадьбы. Ведь в имение их не было (их вообще в то время уже не было в живых). То есть лично с ними Изенбек не знакомился. Мимоходом от кого-то услышанную фамилию хозяев усадьбы, в которой провёл в лучшем случае несколько дней, спустя шесть-восемь лет немудрено и запамятовать: Донские они были или Задонские? Не учитывает Можейко (Булычёв) и ещё одного немаловажного обстоятельства: Изенбек ещё с Гражданской войны страдал наркоманией (нюхал кокаин) (II, 4; 27). В эмиграции к этому пагубному увлечению присоединился алкоголизм: бывший полковник запоями старался перебить своё пристрастие к кокаину (II, 4; 28). Излишне говорить, что ни наркомания, ни алкоголизм памяти не улучшают. Поэтому требовать от страдавшего ими Изенбека (да ещё принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства) чуть ли не через десяток лет точной локализации поместья и точного воспроизведения фамилии его хозяев даже несколько странно.
Более конструктивным выглядит критическое замечание авторов статьи «Мнимая “Древнейшая летопись”». В то время (в 1977 году) в их распоряжении не было произведений Ю. П. Миролюбова (в частности, его «Биографических заметок»), его переписки, в которых он рассказывал о находке дощечек. Опирались они, видимо, только на те сведения, которые вместе с фотографией дощечки № 16а прислал Сергей Лесной (Парамонов). Последний же, по всей вероятности, говорил о находке памятника либо в Орловской, либо в Курской губерниях, ни словом не упомянув о губернии Харьковской. В. И. Буганов, Л. П. Жуковская и Б. А. Рыбаков выяснили, что никаких помещиков Донских или Задонских в Орловской и Курской губерниях не было (II, 16; 202). Верно, там их не было. Но советские учёные тогда не знали про то, что в числе мест, называемых как место находки «Велесовой книги», была и Харьковская губерния. И как раз в ней, недалеко от станции Великий Бурлук близ Харькова, находилось имение князей Задонских (II, 28; 176), (II, 5; 56), (II, 10; 433). А теперь приведём некоторые факты. В этом имении была богатейшая библиотека, которую собрала хозяйка Екатерина Васильевна Задонская, в девичестве Неклюдова (1834–1919). Точнее сказать, она продолжила её собирать, унаследовав уже значительное книжное собрание своего деда — Николая Васильевича Неклюдова, екатерининского генерала, и отца — Неклюдова Василия Николаевича (1805–1859). Неклюдовы были знакомы с А. И. Сулакадзевым. Не правда ли, интересные факты? Можно, конечно, назвать их простыми совпадениями. Но можно вполне обоснованно предположить, что в библиотеке Задонских-Неклюдовых содержались некоторые раритеты из коллекции А. И. Сулакадзева, приобретённые ими после смерти последнего у его вдовы. Среди этих раритетов могла находиться и «Велесова книга», которую нашёл Изенбек.
Правда, Е. В. Задонская в своих воспоминаниях, вышедших в 1907 году, о старинных дощечках из своей библиотеки не упоминает (II, 28; 176–177). Но так что с того? Во-первых, мемуары — это не библиотечный каталог, чтобы перечислять в нём экземпляры своего книжного собрания. Во-вторых, как полагает Д. М. Дудко, Неклюдовы и Задонские, мистически настроенные, могли считать необходимым хранить втайне существование эзотерической деревянной книги (II, 28; 176). И, наконец, есть всё-таки в мемуарах Екатерины Васильевны одна деталь, которая может указывать на наличие в её библиотеке «Велесовой книги»: много раз в них Е. В. Задонская ссылается на какую-то «Дедушкину книгу» как на источник своих мистических прозрений (II, 11; 132). Описаний этой книги не делается. Но, вспомнив, что дед Е. В. Задонской был знаком с А. И. Сулакадзевым, вполне можно предположить, что речь идёт именно о «Книге Велеса».
К огромному сожалению, библиотека Задонских-Неклюдовых была разграблена в годы Гражданской войны. Не пощадила судьба и самих хозяев имения: они все, за исключением двух детей, были изрублены местными красногвардейцами (II, 10; 433). Что уж тут говорить о книгах, хотя и древних.
Ниже мы ещё коснёмся проблемы отождествления «Велесовой книги» с древними книгами из коллекции А. И. Сулакадзева. Сейчас же скажем, что некоторые противники подлинности этого памятника выдвигают и такой аргумент: никакой находки ни под Орлом, ни под Курском, ни под Харьковом Изенбек в 1919 году сделать не мог, ибо воевал в то время не там, а в Бухаре. Даже делаются ссылки на некие архивы Туркестанской ЧК (II, 5; 56). Кое-кто идёт ещё дальше и утверждает, что полковника Изенбека не существовало вообще, он фигура мифическая, выдуманная самим Ю. П. Миролюбовым (II, 15; 32, 34).
В отношении второго утверждения скажем, что оно просто несерьёзно. Изенбек в среде русских эмигрантов Брюсселя был фигурой известной. Жива помнящая его жена Ю. П. Миролюбова Жанна, и, возможно, жив ещё кто-то. У Жанны Миролюбовой сохранились картины Изенбека (II, 4; 27). Но в 50х годах XX века, когда о существовании «Велесовой книги» стало широко известно, тех, кто мог знать и помнить, было значительно больше. И уж если бы Миролюбов действительно просто придумал такого человека, то подобный обман быстро был бы разоблачён.
Серьёзнее первый аргумент да ещё со ссылкой на архивы. Поэтому А. И. Асовым в Центральном архиве Советской армии были подняты документы Марковского дивизиона Добровольческой армии (фонд 39699, опись 1, дело № 5, лист 317б). Так вот, в списках этого дивизиона значится имя полковника Изенбека (II, 5; 56). Значит, был такой полковник, сражался в рядах Добровольческой армии в 1919 году. В Бухаре же воевал против красных другой Изенбек, возможно, родственник Фёдора Артуровича (Али). Документы, найденные А. И. Асовым, кстати, камня на камне не оставляют и от утверждений, что Изенбека не существовало вообще.
На наш взгляд, вопрос находки «Дощек Изенбека» (как называл памятник Ю. П. Миролюбов) перестаёт быть туманным, и его решение приобретает вполне чёткие очертания.
В эмиграции Изенбек оказался в конечном итоге в Бельгии, в Брюсселе. Там судьба и свела в 1924 году его с Ю. П. Миролюбовым. Точно так же, как «Боянов гимн» неразрывно связан с именем Александра Ивановича Сулакадзева, так и «Велесова книга» неразрывно связана с именем Юрия Петровича Миролюбова, человека, который, по сути, был её первым исследователем и который донёс этот памятник до нас (в каком виде — это уже другой вопрос). Другие считают его автором, т. е. фальсификатором, дощечек. Как бы там ни было, на его биографии мы должны остановиться подробнее.
Юрий Петрович Миролюбов родился 30 июля 1892 года в городе Бахмут (ныне Артёмовск) Екатеринославской губернии в семье священника. По матери происходил из известного запорожского казачьего рода Лядских. Детство и юность Юрия прошли на Украине и юге России, в сёлах Юрьевка (на Полтавщине, под Кобеляками), Антоновка (в низовьях Дона) и Анновка (под Кривым Рогом, у Жёлтых Вод). Он рос среди украинских крестьян, преданных «дедовщине» — многовековым языческим и полуязыческим традициям.
Сельский священник Пётр Миролюбов жил одной жизнью со своей паствой, «дедовщину» уважал и потому имел от церковного начальства немало неприятностей из-за нежелания «искоренять язычество». Однажды, проявив немалое гражданское мужество, он даже отказался читать с амвона погромное послание архиерея, за что и был уволен за штат (т. е. лишён постоянного трудоустройства).
От отца и окружающих простых людей усвоил Юрий трепетное отношение и даже любовь к дохристианской русской старине. Этой любовью проникнуты все его произведения. Может быть, именно из-за неё проявил Ю. П. Миролюбов такой интерес к «Книге Велеса». До конца своей довольно долгой жизни помнил он имена многих из тех, кто учил его «прабкиным» обычаям и традициям: старуха Захариха, «прабка» (прабабка) Варвара, дед Канунник, конюх Михайло, кобзарь Олекса.
Но при этом Юрий Петрович оставался глубоко верующим христианином. Одной из причин, по которой он не собирался первоначально публиковать «Дощьки Изенбека», Миролюбовал называл свои опасения, что большевистская власть в России будет использовать этот памятник против православия (II, 5; 57). Перед смертью Юрий Петрович из последних сил перекрестился по-православному рукой, изуродованной артритом (II, 28; 189). Обратим внимание на данное немаловажное обстоятельство. Его придётся учитывать позже, когда мы будем анализировать содержание «Велесовой книги».
По желанию отца Юрий поступил в духовное училище. Инспектор училища, магистр истории Т. П. Попов, развил в нём интерес к исторической и этнографической науке. По его совету Ю. П. Миролюбов стал записывать народные сказы, пословицы, обычаи. Эти записи буквально чудом уцелели в последующих бурных событиях.
Духовная карьера, однако, не привлекала Юрия, и он перевёлся в гимназию. В данных учебных заведениях Миролюбов, помимо прочих дисциплин, изучал церковнославянский, латинский и древнегреческий языки. Но от этого обучения мало что осталось в его памяти, о чём он впоследствии очень жалел. По окончании гимназии Ю. П. Миролюбов получил медицинское образование в Варшавском и Киевском университетах.
В 1914 году Юрий Петрович добровольно пошёл на фронт в чине прапорщика. Революцию он, подобно многим русским людям, воспринял как гибель России, разрушение всего исконно русского. К белым Миролюбов присоединился во многом и по личным мотивам: большевиками были расстреляны его отец и старший брат, штабс-капитан (II, 28; 188), (II, 4; 27). Он воевал сначала в войсках Центральной Рады, а затем — в Добровольческой армии.
После разгрома белых, в 1920 году, Миролюбов перебрался в Египет. Участвовал в экспедиции в Центральную и Южную Африку. Там он тяжело заболел и чудом остался жив. Болезнь суставов затем мучила его всю жизнь. В том же году он уехал в Индию, побывал в Калькутте, где навеки «заболел» ведической культурой, был потрясён индийскими храмами, обычаями, письменами. В Индии Юрий Петрович изучал санскрит (II, 28; 188).
Затем Миролюбов оказался в Стамбуле. А в 1921 году, при посредстве российского консульства в Стамбуле, переехал в Чехословакию и поступил в Пражский университет. Там он получил специальность инженера-химика и степень доктора наук (II, 4; 27). Одновременно он посещал лекции профессора Любора Нидерле, известного чешского слависта. К получению гуманитарного образования его побуждал не только чисто научный интерес. Было у Юрия Петровича обязательство перед погибшим в Гражданскую войну братом Николаем: незадолго перед смертью Николай просил Юрия создать поэму о князе Святославе, победителе хазар. Образ князя, по мнению Николая, перекликался с современностью, в которой им приходилось сражаться с «новыми хазарами» — большевиками (II, 4; 27). Тогда Юрий Петрович обещал это. Не выполнить данное погибшему брату обещание он не мог. Однако для написания поэмы необходимо было изучать древнюю славянскую историю и филологию.
Завершить гуманитарное образование Ю. П. Миролюбову не удалось. В 1924 году он по политическим причинам покинул университет и Чехословакию (II, 28; 189). По этому поводу Д. М. Дудко замечает, что Юрий Петрович навсегда остался в науке любителем-недоучкой (II, 28; 189). Наверное, справедливость требует заметить, что любителем он остался в исторической и филологической науках, а не науке вообще. Докторская степень по химии — это всё-таки докторская степень, а не аттестат о среднем образовании.
Перебравшись в Бельгию, Ю. П. Миролюбов поступил на работу в химическую лабораторию Лувенского университета. В Брюсселе он нашёл ещё одну работу — также не слишком доходную — на металлургическом предприятии.
В 1924 году в Брюсселе произошла встреча Ю. П. Миролюбова с А. Изенбеком. Два бывших деникинских офицера познакомились в так называемом «Русском клубе», где собирались эмигранты из России (II, 4; 27). Изенбек, по натуре человек недоверчивый, целых три года приглядывался к новому знакомому. Только в 1927 году, зная, что Юрий Петрович не может собрать материал для поэмы о князе Святославе, Изенбек показал ему дощечки. Здесь мы обязаны указать на разнобой датировки момента знакомства Ю. П. Миролюбова с «Велесовой книгой». 1927 год называется им в своих «Биографических заметках». В них же указывается, что период, в течение которого Юрий Петрович работал с дощечками, — с 1927 по 1936 год (II, 52; 129). Однако в 1957 году Ю. П. Миролюбов писал: «… первые из «дощек» были мною читаны ещё в двадцать пятом году, и я уже о них забыл подробности… А затем я их переписывал в течение 15 лет…», т. е. с 1925 по 1940 год (II, 52; 130).
Вот какое описание дощечек оставил Юрий Петрович. По сути, его описание — единственный источник, по которому мы можем судить о внешнем виде памятника (имеющиеся в распоряжении исследователей фотографии аверса и реверса дощечки 16, естественно, такого объёма информации дать не могут; к тому же существует мнение, что, по крайней мере, фотография аверса сделана с миролюбовской копии-прорисовки). Итак: «Я взял дощечки и поразился! Они были, несомненно на славянском языке, но каком-то архаическом, что даже слов нельзя было разобрать. Сразу было видно, что это многосотлетняя давность» (II, 52; 129). «“Дощьки” были приблизительно одинакового размера, тридцать восемь сантиметров на двадцать два, толщиной в полсантиметра. Поверхность была исцарапана от долгого хранения. Местами они были совсем попорчены какими-то пятнами, местами покоробились, надулись, точно отсырели. Лак, их покрывавший, или же масло, поотстало, сошло. Под ним была древесина тёмного цвета. Изенбек думал, что “дощьки” берёзового дерева. Края были отрезаны неровно. Похоже, что их резали ножом, а никак не пилой. Размер одних был больше, других меньше, так что “дощьки” прилегали друг к другу неровно. Поверхность, вероятно, была тоже скоблена перед писанием, была неровна, с углублениями.
Текст был написан или нацарапан шилом, а затем натёрт чем-то бурым, потемневшим от времени, после чего покрыт лаком или маслом. Может, текст царапали ножом, этого я сказать не могу с уверенностью.
Каждый раз для строк была проведена линия, довольно неровная. Текст был написан под этой линией… На другой стороне текст был как бы продолжением предыдущего, так что надо было переворачивать связку “дощек”, как в листах отрывного календаря. В иных местах, наоборот, это было, как если бы каждая сторона была страницей в книге.
На полях некоторых “дощек” были изображения головы быка, на других — солнца, на третьих — разных животных, может быть, лисы, собаки или же овцы. Трудно было разбирать эти фигуры…
Буквы были не все одинаковой величины. Были строки мелкие, а были крупные. Видно, что не один человек их писал. Некоторые из “дощек” потрескались от времени, другие потрухлявились, и я их склеивал при помощи силикатного лака…» (II, 52; 128), (II, 4; 28).
Ю. П. Миролюбов начал копировать дощечки. Работа эта была очень и очень трудной. Смысл написанного понимать было тяжело. Правда, с течением времени Юрий Петрович привык к языку дощечек и стал читать быстрее. Но и тогда на одну дощечку уходило более месяца (II, 52; 130). Как вспоминал Юрий Петрович: «Прочитанное я записывал. Буква за буквой. Труд этот тонкий. Надо не ошибиться. Нужно правильно прочесть, записать… Почему я взялся за эту перепись? Потому что я смутно предчувствовал, что я их (дощечек. — И.Д.) как-то лишусь, больше не увижу, что тексты могут потеряться, а это будет урон для истории» (II, 52; 130). Эта кропотливая работа шла не менее десятка лет. Можно себе представить чисто физические трудности, испытываемые Юрием Петровичем, потому что он, помимо той работы, что приносила ему хлеб насущный, проводил ещё исследования и писал свои работы о древней русской культуре и истории, и к тому же умудрялся выкраивать время для копирования текстов «Велесовой книги». Дело осложнялось тем, что Изенбек, не разрешавший Ю. П. Миролюбову выносить дощечки из своей мастерской, не всегда даже в мастерской допускал его к ним, а зачастую давал работать минут пятнадцать (II, 4; 28). Затем, как правило, следовало посещение питейных заведений: спивавшемуся Изенбеку нужен был собутыльник. И Юрию Петровичу приходилось следовать за своим знакомым, хотя пить он не любил (II, 4; 28). Впрочем, бывало, Изенбек оставлял Ю. П. Миролюбова наедине с дощечками, запирал его в своей мастерской. Однажды он оставил Юрия Петровича в мастерской на двое суток. Просто-напросто забыл про него. Но эти двое суток Миролюбов мог спокойно копировать тексты дощечек (II, 4; 28).
Как отмечает А. И. Асов, изучение архивов Ю. П. Миролюбова, его переписки, всех последующих публикаций о «Книге Велеса» позволяет сделать вывод, что Юрием Петровичем также были сделаны несколько фото— и светокопий с дощечек (что такое «световые копии» в то время, ни Асов, ни мы не знаем, ибо ксерокопировальных аппаратов, на которых получают современные световые копии, тогда не существовало) (II, 10; 435).
В 1936 году Ю. П. Миролюбов женился (после двух лет знакомства). Его супруга, Жанна, происходила из старинного, но обедневшего немецкого дворянского рода, осевшего в Бельгии. После женитьбы Юрий Петрович, вплоть до 1941 года, бывал у Изенбека, как правило, в сопровождении жены. Отпускать его одного Жанна опасалась, памятуя его с Изенбеком «питейные походы» (II, 11; 186–187). Но при Жанне Миролюбовой Изенбек ни разу не показывал дощечек. Сам же Миролюбов также не посвящал её в эту тайну (II, 4; 29). Почему? По какой причине? Бог весть. Сейчас это сказать уже невозможно. Но и делать из этого вывод, что никаких дощечек в то время не существовало, просто неправомерно.
После нападения фашистской Германии на СССР Ф. А. Изенбек впадает в глубокую депрессию. Видимо, она сопровождалась изрядным употреблением кокаина и алкоголя, что привело 13 августа 1941 года к смерти «от удара» (II, 4; 30), (II, 11; 170). Всё своё имущество Изенбек завещал Ю. П. Миролюбову. Но вступить в юридическую силу завещание должно было только через полгода, ибо нужно было ждать, не объявятся ли другие наследники. К тому же в оккупированном немцами Брюсселе действовали новые правила. Подпись должен был поставить сам гауляйтер Брюсселя. В дело вмешалось даже гестапо, ибо речь шла о русских (ведь Германия воюет с Россией). Словом, в те месяцы из мастерской Изенбека вынесли всё, что представляло какую-то ценность. По свидетельству Ю. П. Миролюбова, гестапо забрало более 600 картин Изенбека (Миролюбов унаследовал только оставшиеся 60) (II, 4; 30). Но главное — пропали дощечки. Больше Миролюбов их уже не видел. Их не видел никто. И с чего это господин Можейко взял, что Юрий Петрович их вновь находил, непонятно (II, 15; 34). Критика критикой, но заведомое искажение фактов, на наш взгляд, недостойно учёного.
В 1948 году Ю. П. Миролюбов пишет в Сан-Франциско, в находящийся там Русский музей. В этом письме он и сообщает впервые о досках «Книги Велеса». Процитируем это небольшое по объёму сообщение (этот текст пригодится нам для дальнейшего изложения): «…Многие архивы и библиотеки погибли за смертью их владельцев, другие подверглись расхищению. Как, например, небольшая, но ценнейшая библиотека покойного А. Изенбека, русского художника, бывшего командира Марковского артиллерийского дивизиона в Крыму. Художник умер в 1941 году. У него были «дощьки» Новгородско-Киевской Руси чуть ли не V века (их было 37–38 «дощьек»). На них были выжжены тексты «греко-готскими» рунами, содержавшие языческие молитвы Перуну, Вышнему, Даждьбогу, другим богам. Были тексты торговые, были записи об «Ории — отце пращуров, выведшем славян из степей». Все эти «дощьки» были выкрадены, потерю этих «дощек» надо считать тягчайшей…» (II, 11; 160–161). Вот, собственно, и всё свидетельство. Несколько строк. Заметим, что говорил о досках Миролюбов в числе других памятников древней русской письменности, хранившихся в Бельгии (в частности, упоминал он «Часовник» Ивана Фёдорова) (II, 11; 160). В общем, ничего удивительного, если учесть, что человек пишет в Русский музей (пусть и в Америке). Письмо это, кстати, осталось незамеченным, на него не ответили. И только пять лет спустя (в сентябре 1953 года) в русском эмигрантском журнале «Жар-птица», выходящем в Сан-Франциско, помещает воззвание учёный-эмигрант, ассиролог Александр Куренков: мол, отзовитесь те, кто сообщал о «дощечках Изембека» (именно так у Куренкова. — И.Д.) с древними письменами (II, 11; 204).
Юрий Петрович был подписчиком «Жар-птицы» ещё с довоенных времён (тогда журнал выходил в Берлине). Журнал с обращением Кура (под таким именем публиковался Куренков) он получил и откликнулся. Судя по ошибочному написанию фамилии Изенбека, сам Куренков письма Миролюбова 1948 года не читал. Каким образом до него дошли слухи о досках — неизвестно, да это и не так важно.
Важно другое. С января 1954 года в «Жар-птице» начинается публикация статей А. Кура о «Дощьках Изенбека». В ней же несколько позднее публиковались и сами тексты дощечек (в транслитерации Кура и с его правками), попытки переводов, а также одна фотокопия (дощечки 16а; опубликована в февральском номере журнала за 1955 год). Материалы, касающиеся «Книги Велеса», выходили в журнале по 1959 год включительно. По сути, это было первое издание как самих текстов и их переводов (хоть и далеко не полное), так и научных статей о памятнике. Плотина молчания вокруг «дощьек» была прорвана.
Заметим, что благодаря Куру появилось современное название данного памятника — «Велесова книга». Точнее, сначала оно имело вид «Влесова книга». Правда, учёный-эмигрант так назвал только часть текста, ту самую знаменитую дощечку № 16, начинающуюся словами: «Влес книгу сю птшемо…» (II, 11; 245). Затем, в 1957 году, это название предложил распространить на весь текст другой русский учёный-эмигрант Сергей Лесной (Парамонов) (II, 11; 245). Исследователи книги конца 80х — начала 90х годов XX века (А. И. Асов, Б. Яценко, Р. Пешич, Ю. К. Бегунов) стали использовать полногласную форму имени славянского бога: «Велес», полагая это более правильным (II, 11; 245). Памятник стал называться «Велесова книга», или «Книга Велеса». Хотя и сейчас некоторые учёные предпочитают его более старое название. Например, Н. В. Слатин выпустил свой перевод манускрипта под названием «Влескнига».
Летом 1954 года Ю. П. Миролюбов переехал из Бельгии в США. Его пригласили работать журналистом в «Жар-птицу». Одновременно А. А. Куренков устраивает его на должность главного редактора монархической газеты «Русская жизнь». Юрий Петрович с головой погружается в издательскую деятельность (правда, особых доходов она не приносит; жили супруги Миролюбовы главным образом на зарплату жены, устроившейся работать медсестрой).
Говоря об издании «Книги Велеса» в журнале «Жар-птица», нельзя не упомянуть о тех различиях, которые имели место в текстах Ю. П. Миролюбова и текстах, публикуемых А. А. Куром. Эти различия дали противникам подлинности дощечек лишний повод для критики. Первые тексты, посылаемые Ю. П. Миролюбовым в журнал ещё в бытность его в Бельгии, были в основном рукописными. В этом нас убеждают отправленные в Штаты рукописные транслитерации дощечек 31 и 32 (рис. 37). После переезда в США Юрий Петрович стал разбирать свой архив и перепечатывать на машинке со своей рукописной копии древние тексты, чтобы размножать их и посылать А. А. Куренкову, жившему недалеко от Сан-Франциско — в Пало-Алто. Позже эту машинопись Ю. П. Миролюбов отправлял также заинтересовавшемуся «Велесовой книгой» отцу Стефану Ляшевскому, жившему в Балтиморе. Так вот, различия наблюдаются между машинописным вариантом памятника и текстами в «Жар-птице». О причинах этих различий по некоторым соображениям мы скажем несколько ниже.
Кроме отца Стефана памятником с 1955 года заинтересовался уже не раз упоминаемый нами Сергей Лесной. Лесной — это его псевдоним, а настоящее его имя — Сергей Яковлевич Парамонов. Русский эмигрант, историк и писатель, в то время Лесной был профессором в Институте индустриальных и научных исследований в городе Канберра (Австралия). Имел степень доктора биологических наук, полученную до войны ещё в Советском Союзе. Кстати, во время войны он оказался в нацистском концлагере, был освобождён союзниками, в Россию не вернулся. В общем, нетрудно понять, почему. И хотя Парамонов был биологом, но древняя славянская история интересовала его ещё до войны. Как сообщает А. И. Асов, опираясь на Г. С. Белякову, Сергей Яковлевич с увлечением работал тогда в этой области, а также в области западнославянской диалектологии. На этом поприще он получил довольно широкую известность (II, 11; 236). С 1955 по 1966 год С. Лесной выпустил четыре ярко написанные, добротные по подбору материала книги, посвящённые древней истории славян и, прежде всего, «Книге Велеса». Также он подготовил тезисы для V Международного съезда славистов, опубликованные в научном сборнике «Славянская филология». Умер он в 1968 году.
Рис. 37.
Однако вернёмся к Юрию Петровичу Миролюбову. Кроме издательской деятельности он занимается также написанием работ по истории и этнографии славян. Первые произведения вышли из-под его пера ещё в Бельгии, в начале 50х годов: «Бабушкин сундук», «Родина-мать», «Прабкино учение», «Риг-Веда и язычество» (1952), «Русский языческий фольклор. Очерки быта и нравов» (1953 или 1954). В Америке появились: «Русская мифология. Очерки и материалы» (1954), «Русский христианский фольклор. Православные легенды» (1954), «Материалы к истории руссов» (1967), «Славяно-русский фольклор», «Фольклор на юге России», «Славяне в Карпатах. Критика “норманизма”», «Князь Кий, основатель Киевской Руси» (конец 1960х гг.). Все эти произведения были изданы лишь после смерти Ю. П. Миролюбова его вдовой Жанной Миролюбовой. Всего в 1974–1992 годах она опубликовала в Аахене 19 томов его сочинений. Материал, излагаемый в книгах Юрия Петровича, имеет не только сходство, но и различия с тем, о чём рассказывается в «Книге Велеса». Источником тех моментов, которые в трудах Миролюбова и «Книге Велеса» всё-таки сходны, Юрий Петрович часто называет не дощечки, а зафиксированные им на юге России сказы и предания (II, 28; 192–194, 196–198). В подлинности же этих сказов и преданий исследователи обоснованно сомневаются. Записанные Миролюбовым в трёх южнороссийских сёлах — Юрьевке, Антоновке и Анновке, — они более нигде и никем зафиксированы не были (II, 28; 202).
В 1959 году в мире разразился очередной экономический кризис. Жизнь подорожала. Ю. П. Миролюбов, испытывающий финансовые трудности, всё более слабеющий из-за болезни, был вынужден закрыть свой журнал. За шесть лет (1954–1959) с задачей публикации текстов «Книги Велеса» Ю. П. Миролюбов и А. А. Куренков не справились и на треть (II, 11; 266). Из-за нищеты и болезней им многое не удалось опубликовать. Но, несмотря на это, многие публикации тех лет сейчас являются единственными первоисточниками по «Книге Велеса» (II, 11; 266). Положительнейшим их следствием явилось то, что они пробудили интерес многих исследователей (профессиональных учёных и любителей) к этому ценнейшему памятнику славянской письменности. Кроме уже называвшихся С. Лесного, С. Ляшевского, П. Е. Ковалевского, Константинова и Башилова можно упомянуть В. Е. Лазаревича, М. И. Туряницу, П. Е. Соколова, А. Кирпича и многих других.
В 1970 году супруги Миролюбовы решили вернуться в Бельгию (журнал был закрыт, Жанна вышла на пенсию, и в Штатах их более ничего уже не удерживало). Во время путешествия по Атлантике Юрий Петрович заболел воспалением лёгких. Старый организм не справился с болезнью, и 6 октября 1970 года Ю. П. Миролюбов скончался на борту корабля.
Итак, на фоне биографии Юрия Петровича Миролюбова мы рассмотрели историю введения «Книги Велеса» в научный оборот. Какой простор для критики открывается здесь для противников подлинности этого памятника. Сформулируем те вопросы и аргументы, которые выдвигаются ими. И попытаемся на них ответить. Насколько это у нас получится — судить вам, уважаемые читатели или слушатели. Начнём:
1) Почему Ф. А. Изенбек, владевший книгой на протяжении двух десятков лет (имеется в виду период эмиграции; само собой во время Гражданской войны было не до того), не показал её никому из учёных? Вообще никому. Единственным человеком, которому дощечки были показаны, оказался почему-то Ю. П. Миролюбов. Притом учтём, что Изенбек не был в исследовании древностей абсолютным профаном. По сообщению того же Миролюбова, он принимал участие в археологических раскопках, проводившихся в Туркестане профессором Фетисовым, как художник-зарисовщик (II, 11; 163) имел определённый багаж знаний по археологии, а за свои заслуги в туркестанской археологической экспедиции был даже принят в Академию наук (II, 11; 165). Чтобы понять, что найденные им дощечки — вещь древняя, у Фёдора Артуровича знаний хватило. Но почему же дальше он вёл себя так непрофессионально?
2) Почему Ю. П. Миролюбов последовал примеру Изенбека и также молчал о древнем памятнике до 1948 года, когда дощечек и след-то давно простыл?
3) Почему Ю. П. Миролюбов даёт разные даты своего первого знакомства с «Книгой Велеса» (1925 или 1927 годы) и называет разные по продолжительности периоды работы по её копированию (9—10 лет, т. е. с 1927 по 1936 год, и 15 лет, т. е. с 1925 по 1940 год)?
4) Почему Юрий Петрович не удосужился сделать фотокопию всей книги? Неужели это было так трудно?
5) Куда делись дощечки из квартиры Изенбека? Миролюбов утверждал, что их изъяло гестапо. Но зачем гестаповцам этот старый, с их позиции, «хлам»?
6) Почему различались тексты, которые посылал в редакцию «Жар-птицы» Ю. П. Миролюбов, и тексты, которые публиковал А. А. Кур? Такое вольное обращение последнего с историческим источником не проистекало ли из того, что никакого источника вовсе и не было, и Кур, если не знал этого в точности, то догадывался?
7) Совпадение отдельных элементов произведений Ю. П. Миролюбова и текстов «Велесовой книги» неудивительно, раз уж Юрий Петрович пытался переводить её и кое-что в ней всё-таки понял. Удивительно другое: расхождения между произведениями Миролюбова и «Книгой» по одним и тем же вопросам. И ещё удивительнее совпадение информации в том случае, если источником этой информации Миролюбов называет вовсе не «Велесову книгу», а сказания стариков из трёх южнороссийских сёл. Почему так происходит? Невольно напрашивается мысль, что, когда эти произведения писались, «Велесовой книги» ещё не существовало (подробнее об этих фактах несколько ниже).
8) Наличие в «Велесовой книге» элементов, общих с ведической религией Индии, а также расположение букв письма «Книги» под строкой, подобно индийскому письму деванагари, вызывает удивление. Но если вспомнить, что Ю. П. Миролюбов был в Индии, восхищался индийской культурой и даже изучал санскрит, то это удивление тут же превращается в подозрение, что дощечки — это плод творчества самого Юрия Петровича, а вовсе не древний памятник. Тем более что аналогов такому памятнику нет.
9) В научный оборот был введён не сам исторический документ и даже не его копия-прорисовка или фотокопия, а всего лишь транслитерация этого документа, что вкупе с уже изложенными вопросами даёт очень веские основания сомневаться в подлинности «Книги Велеса».
10) Не случайно появление «Велесовой книги» в среде эмигрантов и сильнейший интерес к ней именно в эмигрантских кругах. Это не единственный сенсационный исторический документ, «найденный» эмигрантами, а на самом деле подделанный ими. Таким образом, эти люди напоминали изгнавшей их Родине о себе.
Ответы и контраргументы будем давать в точно таком же порядке:
1) То что Изенбек никому не показывал «Книгу Велеса» до Ю. П. Миролюбова, не совсем верно. Достоверно известно, что Фёдор Артурович, перед тем как обосноваться в Бельгии, какое-то время жил во Франции, и, вероятнее всего, в Париже (II, 11; 170,172). Там он мог обратиться к известному слависту Вайану или же к русскому историку П. Е. Ковалевскому. И вот что интересно: впоследствии П. Е. Ковалевский вспоминал, что слухи о «дощечках Изенбека» к нему доходили ещё до войны, потому ему и не показалась история о находке Изенбека невероятной (II, 11; 173). Так что, вполне возможно, какие-то попытки показать дощечки специалистам в Париже Фёдор Артурович предпринимал. Судя по всему, оказались они не очень успешными. Специалисты не проявили особого интереса. Вот и П. Е. Ковалевский только что-то слышал, но не видел. А слышать он мог и позже, когда работал в Брюсселе у профессора А. Экка. Одним словом, здесь мы имеем вероятность, а не достоверность.
Но вот другой, более достоверный, факт. В 1922 году Ф. А. Изенбек побывал в Белграде, где пытался предложить найденный им во время Гражданской войны памятник вниманию учёных Белградского университета. Работавший тогда в этом университете русский учёный А. В. Соловьёв осмотрел дощечки и признал в них подделку А. И. Сулакадзева (II, 28; 7), (II, 11; 153), (II, 5; 56). Впервые данную информацию сообщил сербский учёный-историк Р. Момчилович. Он же сослался на то, что сведения о появлении в Белграде белого офицера, безуспешно предлагавшего древние дощечки Белградскому университету, были опубликованы в 1923 году в газете «Новое время», опекавшей российских эмигрантов. Но номера газеты Р. Момчилович не привёл. Российский исследователь «Велесовой книги» А. И. Асов для проверки сообщений сербского историка поднял в архивах подшивки «Нового времени», но соответствующей заметки не обнаружил. Правда, как отметил Александр Игоревич, он мог и пропустить небольшую по размерам заметку, да и не все номера «Нового времени» были в подшивках (II, 11; 154). Тогда А. И. Асовым было предпринято исследование архива А. В. Соловьёва. Русский учёный-эмигрант завещал его после своей смерти Российской академии наук. Этот архив до сих пор не разобран и не описан (II, 11; 154). Поэтому можно себе представить, какие трудности возникают при поисках каких-либо документов в нём. Первоначально А. И. Асову не удалось обнаружить в бумагах А. В. Соловьёва упоминаний о знакомстве учёного с «Книгой Велеса» в 1922—23 годах. Были найдены неопубликованные статьи о «дощьках Изенбека», относящиеся уже к 60 м годам XX века, когда вокруг памятника уже велась дискуссия. Поэтому Александр Игоревич стал считать сведения, сообщённые Р. Момчиловичем, всего лишь одной из легенд, которых вокруг «Книги Велеса» возникло множество (II, 11; 155). Но вот удача! В фонде № 1890 Архива РАН (дело № 36) им была найдена статья А. В. Соловьёва о дощечках 1922 года (II, 5; 56). Итак, был Ф. А. Изенбек в Белграде, и дощечки у него в то время были. И он показывал их учёным. Не делал из них никакой тайны. И реакция белградских учёных была подобна чуть более поздней реакции учёных парижских: особого интереса к памятнику они не проявили, считая его подделкой.
Но из этих фактов можно сделать два вывода. Во-первых, становится понятным то, что в дальнейшем Фёдор Артурович Изенбек не приложил абсолютно никаких усилий, чтобы ввести «Книгу Велеса» в научный оборот. Подделка — так подделка. И хотя, может быть, сам бывший белый полковник в этом и не был абсолютно уверен, но и «стенку лбом пробивать» не стал. Так бы и провалялись дощечки в морском мешке в углу его мастерской-квартиры, не повстречайся он с Ю. П. Миролюбовым, который писал поэму о князе Святославе и жаловался буквально при каждой встрече, что материалов для поэмы он не находит. Во-вторых, обвинять Ю. П. Миролюбова в подделке «дощьек» нет никаких оснований, раз уж они существовали за два года до того, как он познакомился с Ф. А. Изенбеком, и за пять лет (или за три года) до того, как он их впервые увидел (по его, Миролюбова, словам). Да, о подлинности памятника как такового эти факты не говорят. Но с Юрия Петровича обвинения в фальсификации, кажется, можно снять. Хотя, чуть ниже мы увидим, что тут не всё так просто.
Кто же фальсификатор? Кандидатура Ф. А. Изенбека на эту роль отпадает сразу же. Как верно отмечает Д. М. Дудко, слишком мало усилий прилагал он для «рекламы» «Книги Велеса» (II, 28; 177). К тому же (если верить Ю. П. Миролюбову) Изенбек не владел славянскими языками, кроме русского (II, 11; 171). Он знал татарский, туркменский и ещё какой-то среднеазиатский язык и, как мы помним, участвовал в раскопках в Туркестане (II, 11; 171). Но в «Велесовой книге» нет тюркских элементов или следов знакомства со среднеазиатской археологией (II, 28; 177).
Придётся вспомнить о человеке, которого изначально и считали поддельщиком дощечек. Этот человек — Александр Иванович Сулакадзев. Его книжные каталоги называют ряд книг именно на дощечках. Так, в «Книгореке» фигурирует книга «Патриарси», описанная А. И. Сулакадзевым следующими словами: «Вся вырезана на буковых досках числом 45 и довольно мелко. Ягипа Гана смерда в Ладоге IX века, о переселенцах варяжских и жрецах и письменах, в Моравию увезено» (II, 28; 329).
«Патриарси» значит «Патриархи». Названия древним книгам своей коллекции Сулакадзев давал произвольно. Очень часто эти наименования совпадали с названиями христианских апокрифических книг. В частности, существовал и такой апокриф, как «Патриарси». Но Александр Иванович выбрал это наименование для вышеназванной деревянной книги, видимо, по той причине, что она содержала сказания о деяниях прародителей, предков славян, о чём он и указал в кратком её описании. «Книга Велеса» вполне подходит к этому описанию. А. И. Асов склоняется к мнению, что под названием «Патриарси» скрывается именно она (II, 9; 146). Ягипа Ган (или, как стал называть его А. И. Асов, Ягила Ган) — это и есть творец «Книги Велеса» (II, 12; 40–43). Хотя ранее А. И. Асов допускал, что он мог быть хранителем или копировщиком книги (II, 10; 429).
«Книгорек» А. И. Сулакадзева называет вырезанными на досках также ещё две книги, которые по описанию похожи на «Велесову книгу» гораздо меньше, но всё же о них необходимо упомянуть.
«Синадик, или Синодик, на доске вырезанный, был в Нове-городе в Софийс(ком) соб(оре). Всех посадников и вклады их, предревний…» (II, 28; 328). «Синодик» находится в разделе четвёртом «Книгорека», который носит название «Книги древнеучителей Словеном». И в принципе этот памятник тоже вполне мог претендовать на то, чтобы оказаться «Книгой Велеса», но вот описание, данное ему А. И. Сулакадзевым, оставляет на это мало шансов: Александр Иванович указал на то, что «Синодик» рассказывает о новгородских делах. Но «Велесова книга» уделяет Новгородской Руси очень мало внимания.
«О китоврасе, басни и кощуны. На буковых досках вырезано и связано кольцами железными, числом 143 доски, 5 века, на славенском» (II, 28; 332). Это произведение никоим образом не может оказаться «Книгой Велеса». Характер его определён А. И. Сулакадзевым однозначно — «басни» и «кощуны». Но интересно указание на писчий материал — буковые доски.
Есть в книжном каталоге у А. И. Сулакадзева и ещё один памятник. Материал, на котором он написан, не указан, но краткое описание его содержания даёт возможность предполагать в нём «Дощечки Изенбека». Это «Криница. 9 века, Чердыня, Олеха Вишерца, о переселениях старожилых людей и первой вере» (II, 28; 329).
Не только А. И. Асов считает, что под названием «Патриарси» «Книгорека» А. И. Сулакадзева скрывается «Велесова книга». В этом просто убеждён зарубежный влесовед Стефан Ляшевский. В своей работе «Русь доисторическая. Историко-археологическое исследование» он приводит любопытную таблицу сопоставления данных о «Дощьках Изенбека» и книге «Патриарси» (табл. 6).
Сопоставление данных.
Тут необходимы некоторые пояснения. Нам не известно, откуда С. Ляшевский почерпнул информацию, что последняя запись в дощечках Ягипа (Ягилы) Гана (Гапа) датируется 878 годом. Саму книгу никто не видел, Сулакадзев же в описании говорит лишь о IX веке.
В отношении количества «Дощечек Изенбека» заметим следующее: нам известно лишь одно свидетельство Ю. П. Миролюбова об общем количестве дощечек. В кратком сообщении о них в письме Русскому музею в Сан-Франциско он упоминает о 37–38 «дощьках» (II, 11; 161). Современные известные нам публикации переводов «Книги Велеса» содержат тексты 38 досок. Но при этом надо учитывать, что в ряде случаев название «дощечка» условно, ибо под дощечкой здесь понимается целая связка их. Подобными связками являются: дощечка 4 (связка из 2 дощечек), 6 (связка из 4 дощечек), 7 (из 5), 17 (из 2), 24 (из 2). Связки эти, видимо, составлены Ю. П. Миролюбовым, ибо нумерация вводилась им (II, 11; 164). В общем, если ещё учитывать, что некоторые доски собраны из осколков, о количестве досок говорить представляется затруднительным. Почему же С. Ляшевский упоминает 44 дощечки? Процитируем этого автора: «Полных текстов дощечек вместе с найденными в архиве жены Миролюбова Н. Ф. Скрипником двенадцатью текстами — всего полных, не считая поломанных, — 88 текстов, что соответствует 44 дощечкам, начертанным с обеих сторон, то есть на одну меньше хранившихся в музее Сулакадзева в конце XVIII века» (II, 37; 32–36).
Представляется необходимым сказать о материале досок «Велесовой книги». Как мы только что убедились, тот же С. Ляшевский не делает по этому поводу никаких заключений. Однако в литературе о «Велесовой книге» можно встретить устоявшееся мнение, что дощечки были берёзового дерева (II, 50; 26), (II, 28; 185). Источником этого мнения послужил Ю. П. Миролюбов, который действительно говорил о берёзе как о материале, из которого изготовлены «дощьки», найденные Изенбеком. Но при этом он всегда употреблял слова «кажется», «вероятно». Да, и он, и Изенбек считали доски берёзовыми, но уверены в этом они не были (II, 11; 166), (II, 4; 28). Так что молчание С. Ляшевского о дереве дощечек «Книги Велеса» вполне понятно. И говорить о том, что «Патриарси» «Книгорека» Сулакадзева никак не могут быть «Книгой Велеса», так как первые были вырезаны на буковых досках, а последняя — на берёзовых, никаких оснований нет. Вполне возможно, что писчим материалом и «Велесовой книги» также был бук. Во всяком случае, советский учёный А. Л. Монгайт в этом даже как будто не сомневается. В своей брошюре «Надпись на камне» (М., 1969) он пишет следующее: «…К Изенбеку попали буковые (выделено нами. — И.Д.) дощечки, которые уже более ста лет назад исчезли из поля зрения исследователей» (II, 37; 32).
Итак, вероятность того, что памятник, который впоследствии назвали «Велесовой книгой», находился в коллекции А. И. Сулакадзева, весьма велика. Очень и очень может быть, что «Книга Велеса» скрывается под названием «Патриарси». С. Ляшевский просто уверен в этом. После табл. 6, приведённой нами выше, он замечает: «Невозможно допустить, чтобы всё это было случайным совпадением. Нет ни одного фактора, противоречащего их идентичности…» (II, 37; 34).
Правда, нас, как и других исследователей, несколько смущает приписка в конце описания книги «Патриарси»: «В Моравию увезено». Как понимать эту приписку? Асов по этому поводу пишет: «Непонятна заметка о том, что именно и когда было увезено в Моравию. Может быть, в Моравию была увезена какая-то копия «Книги Велеса»? Или до нас дошла копия?» (II, 10; 429). Вообще непонятно, была ли когда-нибудь книга «Патриарси» в собрании Александра Ивановича, ведь в «Книгореке» указаны не только те старинные манускрипты, которые были у Сулакадзева, но и те, о которых он только был из каких-либо источников наслышан. Против тех книг, которые у него в коллекции были, Сулакадзев ставил надпись «есть». В описании же «Патриарси» не значится «была, но увезена». Откуда увозили, неясно: от Сулакадзева ли или от кого ещё? С. Ляшевский объясняет приписку тем, что А. И. Сулакадзев просто путал следы. Ничего в Моравию он не отправлял. Чтобы спасти дощечки от сожжения, ибо они находились в Индексе запрещённых книг, Александр Иванович отправил их в имение своего близкого друга, помещика Задонского (именно так у Ляшевского; правильнее, вероятно, было назвать фамилию Неклюдова), который был вне подозрений, а затем сделал не соответствующую действительности приписку об отправке книги в Моравию (II, 37; 32).
Итак, дощечки «Книги Велеса» могли быть у Сулакадзева. Но подделал ли он их или это всё-таки был подлинный памятник? Противники подлинности «Книги Велеса» отвечают: конечно, подделал. Раз не Ю. П. Миролюбов, то тогда А. И. Сулакадзев. Его, собственно, изначально и подозревали в этой фальсификации. Вспомним А. В. Соловьёва за рубежом и Л. П. Жуковскую в нашей стране. Но… Есть ряд обстоятельств, которые смущают противников аутентичности «Дощек Изенбека», когда они утверждают, что автором подделки был А. И. Сулакадзев. Во-первых, характер этой подделки не очень-то согласуется с характером тех фальсификаций, которые Александру Ивановичу принято приписывать. Он «упражнялся», в основном в приписках к подлинным рукописям. Максимальные по объёму собственные его «творения» (мы сейчас следуем логике противников «Велесовой книги» отнюдь не будучи согласны с их отношением к деятельности А. И. Сулакадзева и экземплярам его коллекции) — это «Боянов гимн» и «Перуна и Велеса вещания в Киевских капищах». Объём же «Книги Велеса» значительно больше. Достаточно сказать, что её тексты содержат свыше 22 500 слов и фрагментов слов и свыше 92 000 символов (II, 52; 197). Общее количество слов «Велесовой книги» больше количества слов в «Слове о полку Игореве» примерно в 8 раз (II, 52; 197). Объёмный памятник, не так ли? Кроме того, учтём, на каком материале писался текст, и представим всю трудоёмкость этого процесса: вырезать текст на примерно 40 деревянных дощечках с двух сторон. А язык дощечек? «Работать под старину» в таком объёме гораздо труднее, чем при фальсификации «Боянова гимна». Словом, не очень-то это похоже на Сулакадзева.
А ведь есть ещё и «во-вторых». И этим вторым является содержание «Книги Велеса». Сулакадзев с его научными представлениями конца XVIII — начала XIX века никак не мог писать об азиатской прародине русов, сосредоточить своё внимание на степных истоках славянства. Индоевропеистика тогда только зарождалась, и азиатской (среднеазиатской) теории происхождения индоевропейцев ещё не существовало. Внимание учёных было приковано к Новгородской Руси, господствовала норманнская теория. В некоторой степени Русь со степью увязывал только М. В. Ломоносов, выводивший русов от роксолан. Очень богаты и религиозные представления «Велесовой книги». А знания Александра Ивановича о славянском язычестве опять-таки не выходили за рамки того, что было известно в конце XVIII — начале XIX века, а известно было совсем немного. Что Сулакадзев большего не знал, ярко показывает его пьеса «Карачун», где мизерные знания мифологии славян сочетаются с разного рода романтическими веяниями (II, 28; 185), (II, 9; 140).
Всё говорит за то, что «Книгу Велеса» подделывал не А. И. Сулакадзев. Но тогда кто? Здесь противники подлинности этого памятника находят просто-таки соломоново решение. Впервые это решение профигурировало в уже упоминавшейся брошюре А. Л. Монгайта «Надпись на камне». Советский учёный считал, что дощечки «Книги Велеса» были у А. И. Сулакадзева в гораздо меньшем количестве. Когда они уже известными нам путями попали к Ю. П. Миролюбову, он подделал все остальные (II, 37; 32). В наши дни эту версию высказывает Д. М. Дудко: «Создавать её («Велесову книгу». — И.Д.) начал А. И. Сулакадзев в первой трети XIX века, основную же работу проделал не позже 1953 года Ю. П. Миролюбов» (II, 28; 233). «Рука его (Сулакадзева. — И.Д.), возможно, чувствуется в дощечках 15а и 17а, говорящих о начале Новгорода» (II, 28; 186). Что ж? Правильно. Если дощечки видели до Ю. П. Миролюбова, то полностью обвинять его в подделке нелогично. Связать фальсификацию в полном объёме с А. И. Сулакадзевым тоже, как мы видели, не получается. А вот сочетание этих двух лиц даёт противникам «Книги Велеса» желаемый результат. Частично подделывал один, а частично — другой. А что на это отвечают сторонники подлинности памятника. Нам их контраргументы не встречались. Только С. Ляшевский, отвечая А. Л. Монгайту, замечает, указывая на некоторую нелогичность рассуждений советского исследователя, признававшего существование дощечек в конце XVIII — начале XIX века: «Зачем же Миролюбову было подделывать, если они (дощечки. — И.Д.) уже существовали в конце XVIII — начале XIX столетия в количестве 45 штук?» (II, 37; 32). Аргумент этот работает, если признавать, что запись в «Книгореке», говорящая о 45 буковых дощечках «Патриарси», соответствовала действительности. Если же утверждать, что дощечки были, но количество их было меньшим, а запись в каталоге — одна из мистификаций А. И. Сулакадзева, то аргумент С. Ляшевского недействен.
Со своей стороны можем заметить, что вычленить из «Книги Велеса» доски, написанные Сулакадзевым, очень-очень трудно. Стиль всей книги однороден, одна историческая концепция, одни мифологические представления. Неоднороден лишь язык. Однако разность употреблённых при написании книги диалектов (их можно выделить три, но об этом ниже) не нарушает её целостности. Дощечки 15а и 17а, на которые ссылается Д. М. Дудко, действительно говорят о землях будущей Руси Новгородской, основании Нового града и Славенска, но рассказы эти невелики в сравнении с общим объёмом текста этих дощечек, из контекста их повествования не выпадают. А рассказывают эти доски в основном всё про ту же степь, упоминают об азиатской теории, говоря современным научным языком, происхождения русов (I, 4; 48–49; 51–52), (I, 5; 73, 76–77).
Очевидно, указанная однородность «Книги Велеса», которая никоим образом не могла быть достигнута, подделывай её два человека, между которыми промежуток времени более чем в сотню лет, а соответственно, значительная разница в уровне исторических знаний (принимая во внимание бурное развитие исторической науки в XIX — XX веках), смутила некоторых противников аутентичности данного памятника. Они отказались и от теории совместного (Сулакадзев и Миролюбов) авторства «Книги Велеса». Что же было ими выдвинуто взамен? Называть конкретные кандидатуры на роль фальсификаторов уже не стали, ибо не осталось уже этих конкретных кандидатур. Ограничились утверждением, что «“Велесова книга” — мистификация группы польских или украинских дилетантов, плод компиляции, а большей частью — просто фантазии. Нельзя с полной уверенностью настаивать, что она возникла в начале XX века, но самое смелое, что можно предположить, — это её создание в XVIII — начале XIX в., когда сильным было увлечение славянскими древностями, в частности, языческими» (II, 43; 223). Такое мнение озвучил профессор Б. И. Осипов в отзыве на статью Н. В. Слатина «Влескнига». На наш взгляд, оно является ярким выражением того тупика, в который загнали себя те учёные, которые любой ценой стремятся доказать поддельность «Книги Велеса». Некого конкретно называть фальсификатором, непонятно, когда подделывали (в XVIII, XIX или XX веке). Но подделывали, и трава не расти. Причём польские или украинские дилетанты. А почему? Не понятно. Почему не русские дилетанты, не чешские дилетанты, не дилетанты сербские? Ведь следы всех этих языков в “Книге Велеса” также встречаются. Причём, что примечательно: польские и украинские дилетанты то и дело говорят о Руси, о любви к ней, прославляют её. И никакого намёка на прославление Украины или Польши. Другими словами, нет и намёка на столь присущий украинской и польской интеллигенции в конце XVIII — начале XX века национализм.
Итак, ответ на вопрос, почему Ф. А. Изенбек никому, кроме Ю. П. Миролюбова, не показывал найденные им дощечки, повлёк за собой подобное объёмное рассуждение, кто же, кроме этих двух людей, мог дощечки подделать. Перейдём ко второму вопросу.
2) Утверждение, что подобно Ф. А. Изенбеку Ю. П. Миролюбов очень долгое время молчал о существовании «языческой летописи», также неверно. Верно другое: подобно Фёдору Артуровичу Юрий Петрович наткнулся на непробиваемую стену скептицизма маститых учёных, которые в своём отрицании подлинности досок исходили из одного только принципа: «Не может быть, потому что не может быть никогда». Сообщать же о памятнике учёным мужам — Миролюбов сообщал. В своих послевоенных письмах в Сан-Франциско Ю. П. Миролюбов упоминал, что о дощечках до Второй мировой войны знал целый ряд учёных: византийский отдел факультета русской истории и словесности Брюссельского университета, в частности профессор Экк и его ассистент Марк Шефтель (в письмах Юрий Петрович, запамятовав фамилию последнего, называет его то Пфефер, то Шеффел), профессор Дмитрий Вергун, ещё некий учёный, видевший дощечки в 1935 году в Брюсселе и переехавший в США. Об этом последнем Ю. П. Миролюбов вспомнил лишь то, что он был доцентом и перед войной в Варшавском университете защитил диссертацию на тему о славянском происхождении фракийцев (II, 11; 205, 208, 213, 214). Казалось бы, разве можно верить человеку, которого подозревают в подделке «Книги Велеса»? Он ведь в своё оправдание ещё и не такое может придумать. Но верить, оказывается, можно. А. И. Асов уже в наши дни списался с учеником Александра Экка, известным учёным, переведшим «Слово о полку Игореве» на французский язык, Жаном Бланковом, и тот сообщил ему, что до войны о «Дощечках Изенбека» в Брюссельском университете знали все сотрудники А. Экка (II, 11; 188), (II, 4; 29). Значит, не обманывал Юрий Петрович в отношении Экка и его сотрудников. Поэтому с доверием можно отнестись и к тому, что он говорит о знакомстве других учёных с досками «Велесовой книги». К тому же, вспомним, выше мы говорили о том, что русский учёный-эммигрант П. Е. Ковалевский слышал о дощечках ещё до войны. Упоминали, что это могло произойти в Париже, где П. Е. Ковалевский жил, а Ф. А. Изенбек бывал прежде, чем поселился в Бельгии, но могло и в Брюсселе, где Ковалевский некоторое время работал у Экка. И если это было в Брюсселе, то было это при непосредственном содействии Юрия Петровича Миролюбова. Не иначе. Ещё один аргумент в пользу того, что последний не лгал, он действительно пытался обратить внимание учёных на хранящийся у Изенбека памятник древней славянской письменности.
3) Разные датировки знакомства Ю. П. Миролюбова с «Дощечками Изенбека» и работы с ними в самом деле могут говорить за то, что никаких дощечек и не было. Их просто придумал Миролюбов. Текст, также придуманный им, изначально был на бумаге. Одним словом, мы имеем дело всё с той же фальсификацией. Однако давайте на минутку задумаемся, когда начала появляться датировка означенных событий, т. е. когда Ю. П. Миролюбов стал привязывать своё знакомство с «Книгой Велеса» и работу с ней к определённым датам. Началось это в конце 1953 года, когда завязалась переписка Юрия Петровича с А. А. Куренковым и с редактором журнала «Жар-птица». А ведь уже тогда ему был 61 год. Что же говорить про последующее время? За плечами — нелёгкая жизнь: две войны, полная лишений жизнь эмигранта, пагубное увлечение алкоголем (благодаря Изенбеку), работа на химических предприятиях (здоровья она, естественно, не прибавляет). И возраст, возраст… Отнюдь не юношеский. Ничего удивительного, что память подводила Юрия Петровича. Вот в феврале 1956 года он пишет Сергею Лесному: «С этим мешком он (т. е. Изенбек. — И.Д.) приехал в Брюссель, где я 15 лет разбирал «сплошняк» архаического текста…» (II, 11; 162). Если 15 лет, то время знакомства Миролюбова с дощечками никак не позднее 1926 года, ибо в 1941 году Изенбек скончался, а дощечки пропали. Однако в октябре 1957 года в журнале «Жар-птица» публикуется заметка Миролюбова, где дословно пишется следующее: «Чтобы не терять времени, я взялся за разбор текста, начав таковой, кажется (выделено нами. — И.Д.), ещё в двадцать седьмом году и закончив его в тридцать пятом!» (II, 11; 167). Фигурировали в письмах и заметках Юрия Петровича и конкретно 1925 год, как год первого знакомства с досками, и период с 1927 по 1936 год (а не по 1935-й, как мы указали чуть выше), как время, в течение которого он работал с ними. Но всё это надо воспринимать как вероятную датировку с тем самым словом «кажется». И разве можно ожидать чего-то другого от пожилого человека, который, давайте не будем забывать этого, не был профессиональным историком, и работа с «Книгой Велеса» не была главным делом его жизни. Как подобное «неглавенство» сквозит в его письмах. «А я сейчас страшно занят заводом химических продуктов, который создал. Он у меня отнимает всё время, дни и ночи, даже сплю на заводе зачастую! Как полегчает с заводом, так сейчас же обо всём этом подумаю» (из письма А. А. Куренкову; ноябрь 1953 года) (II, 11; 214). «Обо всём этом» — это о поиске в своём архиве фотографий дощечек и отзыва о дощечках профессора Вергуна. Или вот ещё: «Хоть Вы и доктор зоологии, а я доктор химии, мы оба далеко от филологии находимся, а занимаемся ею как любители» (из письма к С. Лесному; январь 1957 года) (II, 11; 241).
Можно вспомнить хорошую фразу Карла Маркса: «Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Совсем не чуждо человеку забывать точную датировку тех или иных обстоятельств своей жизни. Мы можем предложить даже такую схему событий. Ничего удивительного, что в 50х годах XX века Ю. П. Миролюбов не мог точно локализовать во времени своё знакомство с дощечками деревянной книги (то ли 1925-й, то ли 1926-й, то ли 1927-й год). Прошло в любом случае свыше четверти века, а разброс в год-два не так уж велик. Разность же дат прекращения работы с досками может иметь следующее объяснение. Мы помним, что в 1936 году Юрий Петрович женился. Жанна практически не отпускала его к Изенбеку одного. Тем самым она его спасала от алкоголизма. Но Изенбек никогда не показывал дощечки при супруге Миролюбова, т. е. после 1936 года последний работал с текстами «Книги Велеса» в тех редких случаях, когда оказывался у Фёдора Артуровича один. Поэтому ничего удивительного в том, что Юрий Петрович мог говорить и о работе с дощечками по 1936 год. Это была упорная, если можно так выразиться, «массированная» работа. И по 1940 (41) год (т. е. те самые 15 лет работы), учитывая «редкие свидания» с дощечками после женитьбы.
В общем, нам кажется, что разнобой в датировках знакомства и работы Ю. П. Миролюбова с памятником не несёт в себе никакого «криминала», вполне объясним (что мы и попытались сейчас показать). Более того, представляется, что если бы Юрий Петрович действительно был фальсификатором, то эта самая датировка была бы безупречна.
4) Прежде чем отвечать на вопрос, почему Юрий Петрович не сделал фотокопию всей «Велесовой книги», поставим более широкий вопрос: а сделал ли Ю. П. Миролюбов всё возможное для спасения этого памятника? Видимо, ответ будет всё-таки «нет». Не сделана полная фотокопия книги, не проведена полная ручная копировка текста, не привлечено внимание учёных к памятнику. Но эти упрёки предполагают существование неких идеальных условий: наличие времени, денежных средств и сердечной открытости научной среды. Ничего этого в случае Ю. П. Миролюбова не было. Интересно описывает сложившуюся ситуацию А. И. Асов: «Представьте, что у вашего странноватого соседа появился некий непонятного происхождения документ, к которому тот никого не допускает, да и вам показал только по дружбе. И при этом вы не историк, не археолог, а только интересуетесь стариной, ну и пописываете иногда, в свободное время… Какие шаги вы предпримете? Скорее всего, никаких! И мы должны быть благодарны судьбе за то, что всё же нашёлся “чудак” Миролюбов, который сделал то, что он сделал» (II, 4; 28). Да, действительно, если перейти от некой идеальности к реальности, то надо признать, что Юрий Петрович сделал немало.
После такой оговорки можно начать разговор уже конкретно о фотографиях дощечек. Так ли тяжело было изготовить фотокопию всей книги? Итак, около сорока досок, исписанных с двух сторон. Следовательно, минимум — около восьмидесяти снимков. Далее, снимки явно не должны ограничиться одним — с одной стороны дощечки. Профессиональная съёмка требует нескольких снимков при разном удалении от снимаемого объекта. Требуется специальное освещение. Да и сам фотоаппарат должен быть отнюдь не любительским. Если мы сложим все эти факторы, то станет ясно, что для полной фотокопии было необходимо довольно большое количество денег. А их-то у бедного эмигранта Ю. П. Миролюбова, работавшего на двух работах и при этом едва сводившего концы с концами, как раз не было. Это, так сказать, объективный фактор. Его в своих послевоенных письмах и публикациях описал сам Юрий Петрович. «Чтобы «дощьки» сфотографировать, мы не могли и мечтать, это бы стоило целое состояние, так как поверхность «дощьек» была неровной и, следовательно, не позволяла снять всё ясно. Каждая «дощька» потребовала бы три-четыре отдельных снимка на разном фокусном удалении» (из статьи в «Жар-птице», октябрь 1957 года) (II, 11; 167).
Но были факторы субъективные. Первый из них — это поведение Ф. А. Изенбека, никого не подпускавшего к дощечкам и не дававшего их выносить из своей мастерской. Почему, зачем так делал Фёдор Артурович? Рационального объяснения здесь, на наш взгляд, искать не следует. Какие «кульбиты» выдавал воспалённый от кокаина и алкоголя мозг Изенбека, можно только догадываться. Может быть, для бывшего белого полковника в этих дощечках сконцентрировалась Родина, которой он лишился, и потерять последний маленький остаток её он не хотел ни в коем случае?
Близок к этому и второй субъективный фактор, касающийся уже Ю. П. Миролюбова. Очевидно, Юрий Петрович мог получать от этого копирования некое наслаждение. Говорила ностальгия. Это были своеобразные встречи с Отечеством. Так что же? Заменить подобные встречи простым фотографированием, которое профессионал мог закончить за один раз?
Давайте учтём все эти объективные и субъективные обстоятельства, когда будем говорить об отсутствии полной фотографической копии «Велесовой книги».
Но и тем не менее, по крайней мере один раз, Ю. П. Миролюбов приносил фотоаппарат в мастерскую к Ф. А. Изенбеку и сделал фотографии нескольких дощечек. Сколько дощечек было сфотографировано? Этот вопрос — непростой. Современные исследователи «Велесовой книги» отвечают на него по-разному. Так, Н. В. Слатин говорит о трёх-четырёх фотографиях (II, 52; 177). А. И. Асов в своей книге «Славянские боги и рождение Руси» пишет о пяти фотографиях («три фотографии и две “световые копии”») (II,10; 435). Он же в статье «“Дощьки” Велеса: возвращение к людям?», увидевшей свет годом позже вышеупомянутой книги, говорит уже о шести свето— и фотокопиях (II, 4; 30). Где же истина? Может быть, имеет смысл обратиться к бумагам самого Ю. П. Миролюбова, и это поможет нам ответить на вопрос? Что ж? Попробуем.
Вот наиболее раннее упоминание фотографий дощечек в письмах Ю. П. Миролюбова: «Фотостав мы не смогли сделать с них (т. е. дощечек. — И.Д.), хотя, кажется, где-то среди моих бумаг находится один или несколько снимков (выделено нами. — И.Д.)» (из письма А. А. Куренкову, сентябрь 1953 года) (II,11; 207). Итак, о точном количестве не сказано. «Несколько». А может быть, и «один».
«Насчёт фотографии не могу утверждать, что она есть, ибо у меня тоже жена иностранка, и, думая навести «порядок», кое-что просто выбросила из бумаг! Драма была очень большая, но исправить ничего нельзя. Попала ли туда, кажется, одна или две фотографии, не знаю. Надо ещё искать…» (из письма А. А. Куренкову, ноябрь 1953 года) (II, 11; 214). Снова «одна или две фотографии». Причём они могут оказаться выброшенными Жанной Миролюбовой.
С этим же письмом А. А. Куренкову была послана копия дощечки 11А (об этом есть упоминание в письме (II, 11; 214); выдержки из текста этой дощечки А. А. Куренков опубликовал в «Жар-птице» в своей первой статье о «дощьках» в январе 1954 года; причём выдержки эти были воспроизведены древними буквами, т. е. взяты с копии, а не с транслитерации). На основании имеющихся у него материалов А. И. Асов считает, что копия дощечки под номером II 11А была не просто рисуночной, а световой (опять повторимся, что понятия не имеем, что такое «светокопия», но, очевидно, что-то родственное фотографии) (II, 11; 214). А раз так, то можно смело говорить, что две-три фото— и светокопии дощечек Юрий Петрович изготовил. Но о точном количестве опять придётся умолчать.
В своём письме к А. А. Куренкову от 10 января 1954 года Миролюбов пишет: «Честь имею приложить фотоснимки плохого качества четырёх страниц «дощьек», которые я нашёл в моих бумагах… Величина снимков соответствует самому размеру «дощьек». По мнению здешних фотографов, это всё, что можно сделать при посредстве имеющихся негативов» (II, 11; 223). Итак, фотографии четырёх дощечек. Может быть, и двух, но с двух сторон. Эти снимки так и не были опубликованы. Но, по сообщению А. И. Асова, сохранились их негативы, находящиеся сейчас в Музее русского искусства в Сан-Франциско (II, 11; 224), (II, 4; 31).
Александр Игоревич также пишет, что «по дошедшим до нас архивам можно понять, что 2 января 1954 года Ю. П. Миролюбов послал хорошо известную ныне и сотни раз публиковавшуюся потом фотокопию дощечки II 16 (обе стороны)» (II, 11; 223–224). Необходимо сделать некоторые добавления к этой цитате. Никакого специального сопроводительного письма к фотокопиям дощечки 16 нам не известно. Видимо, его и не было, потому что в письме от 10 января 1954 года Ю. П. Миролюбов поздравляет А. А. Куренкова с Новым годом. Зато был послан так называемый «документ № 3», содержащий несколько скопированных вручную строк дощечки 33 с машинописной транслитерацией этих же строк и машинописными же пояснениями Ю. П. Миролюбова (II, 11; 225). Далее. Слова о сотнях публикаций дощечки 16 всё-таки необходимо отнести к её аверсу (т. е. лицевой стороне), начинающемуся со знаменитых слов, давших название всему памятнику: «Влес книгу сю птшемо…» («Влескнигу сию посвятим…»). Реверсу, т. е. оборотной стороне, повезло куда как меньше. Впервые он был издан только в 1977 году отцом Стефаном Ляшевским (для сравнения: аверс напечатали впервые в 1955 году). Снимок, опубликованный С. Ляшевским, был очень некачественный. Более чёткая фотография реверса дощечки 16 была издана только в 1988 году В. Штепой. Наконец, в 1997 году А. И. Асов в своём издании «Книги Велеса» поместил его на втором фронтисписе (II, 52; 178). Нам не известно, по какой публикации, С. Ляшевского или В. Штепы, воспроизводил снимок А. И. Асов. Но, как бы там ни было, текст на нём практически нечитаем. По этому поводу Н. В. Слатин заметил: «Связного текста, кроме буквально нескольких словосочетаний, разобрать не удаётся» (II, 52; 178). Перед нами великолепная иллюстрация того, что полагаться на любительские фотографии при работе с текстами «Велесовой книги» было никак нельзя, что собственно, и отмечал Ю. П. Миролюбов.
Итак, можно попытаться сделать некоторые подсчёты: светокопия дощечки II 11А, фотокопия дощечки 16А, фотокопия дощечки 16Б, четыре фотоснимка, о которых шла речь в письме от 10 января 1954 года и которые А. И. Асов почему-то упорно именует «светокопиями» (причины, по которым это делает Александр Игоревич, нам не известны) (II, 11; 224), (II, 4; 31). В общей сложности получается семь.
А теперь процитируем письмо Ю. П. Миролюбова к С. Лесному от февраля 1956 года, т. е. от даты написания вышецитированных писем прошло чуть более двух лет: «К сожалению, подлинники были украдены после смерти Изенбека, художника, из его ателье (имеются в виду подлинники дощечек «Книги Велеса». — И.Д.), и, кроме 3 фотокопий (выделено нами. — И.Д.), у меня есть лишь текст, переписанный мной и разделённый на слова тоже мной» (II, 11; 162). Почему же фотокопий три? Мог ли Юрий Петрович забыть, что два года назад отправил Куру семь фотографий? А ведь Миролюбов находился в 1956 году в Америке, редактировал «Жар-птицу», в которой тогда печатались тексты «Велесовой книги» и статьи о ней. Непонятно, не правда ли? Но дальше — больше.
В заметке, опубликованной в «Жар-птице» в октябре 1957 года, Ю. П. Миролюбов пишет: «Однако за эти годы (годы работы с дощечками «Книги Велеса». — И.Д.) я сумел сделать пять фотокопий, одна из которых фотографическая, а четыре остальные светокопировочные (выделено нами. — И.Д.)» (II, 11; 167). Теперь фотокопий уже пять. Причём фотографическая из них всего одна, а остальные светокопировочные. Впрочем, как можно понять из этих строк, и то, и другое подпадает под понятие «фотокопии». В чём же отличие?
Можно, конечно, высказать предположение. Под светокопией подразумевается фотография прориси букв дощечек, выполненной под направленным световым излучением на достаточно тонкой и прозрачной бумаге (скажем, на кальке). Тогда, действительно, можно сказать «светокопировочная фотокопия». Вспомним, что Л. П. Жуковская (а следом за ней и другие советские, а позже многие российские учёные) утверждала, что фотография дощечки 16А, присланная С. Лесным в Советский Союз, изготовлена именно с копии-прориси, а не с самой дощечки. Тогда получается, что настоящая фотография дощечки была всего одна. Но почему же Юрий Петрович молчал об этом до 1957 года? О светокопиях он заговорил именно только в этом году. До сего же момента во всех письмах говорилось просто о фотографиях дощечек. И ни слова о том, что большая их часть изготовлена с прорисей. Может, наше предположение относительно того, что такое «светокопия», неверно?
Но тем не менее можно сделать вывод: в той неясности, которая сейчас существует вокруг изначального количества фотокопий (будем употреблять это единое понятие, как это делает Ю. П. Миролюбов), виноват сам Юрий Петрович. Именно из его утверждений вытекли современные «несколько фотографий», «три-четыре фотографии», «пять» и «шесть». Как всё это объяснить? Легче всего подобное объяснение дастся противникам подлинности «Книги Велеса»: мол, никаких дощечек изначально и не было. Всё придумывалось Миролюбовым буквально на ходу. На ходу же делались и фотографии. В конце концов он сам запутался в своём вранье. Тем же, кто считает памятник подлинным, разобраться в данных разночтениях гораздо труднее. Вполне безобидными и понятными кажутся только «один или несколько снимков» первых писем к А. А. Куренкову: прошло около двух десятков лет с тех пор, как фотографии были сделаны, архив не разобран и находится в полном беспорядке. Немудрено и запамятовать. Но вот письма и заметки 1956–1957 годов… То три, то пять, а подсчёты дают семь… Можно выдвигать разные версии, пытаться давать различные объяснения. Например. В письме к С. Лесному от февраля 1956 года Ю. П. Миролюбов говорит о трёх фотокопиях, которые у него есть на момент написания письма. А в заметке от октября 1957 года он пишет о пяти фотокопиях, когда-то им сделанных с дощечек. Согласитесь, «есть сейчас» и «когда-то было» — вещи совершенно разные. Вот и в одном из ранних писем к А. А. Куренкову Юрий Петрович упоминал, что одну или две фотографии дощечек его жена могла выбросить (см. выше). Пять минус два равно трём. Да, но ведь отправил из Брюсселя в Сан-Франциско он семь снимков. То-то и оно, что мы не можем быть уверены в этом количестве. Что если копия дощечки II 11А, которую А. И. Асов считает световой, на самом деле таковой не является? Тогда получаем шесть. Что если фотокопии дощечки 16 (А, В) были отправлены всё-таки не 2 января 1954 года, как опять-таки полагает А. И. Асов, а 10 января, т. е находились в числе тех четырёх, о которых пишет Ю. П. Миролюбов в своём письме к А. А. Куренкову от этого числа. Тогда получаем всего четыре снимка. А что такой вариант возможен, мы заключаем по следующей причине. Фотография дощечки 16А (если брать её полное воспроизведение) содержит в левом верхнем углу изображение какого-то как бы скачущего животного с довольно крупными ушами и хвостом метёлкой. В своём же письме от 10 января 1954 года Ю. П. Миролюбов так описывает одну из посылаемых им фотографий: «…На II— ой какое-то животное (т. е. изображено в левом верхнем углу. — И.Д.), похожее на кошку, но с длинным хвостом, напоминающим лисий, и с длинной шеей…» (II, 11; 223). Не правда ли, данное описание очень схоже с рисунком на дощечке 16А. Кроме того, весь тон письма от 10 января, кажется, говорит о том, что посылаемые с ним фотографии были первыми, отправленными А. А. Куру, и до них никакие снимки не посылались.
Так что толика вины современных исследователей в запутывании вопроса о количестве фотокопий дощечек «Книги Велеса» тоже имеется. Во всяком случае, делать какие-то выводы, на наш взгляд, можно только тогда, когда будут отпечатаны хранящиеся в Музее русского искусства в Сан-Франциско негативы четырёх фотокопий. Это, по-видимому, негативы именно тех снимков, которые Ю. П. Миролюбов отправил в Америку 10 января 1954 года.
Сейчас же можно заметить, что ничего из ряда вон выходящего в вопросе с фотографиями дощечек мы не видим. Как было показано, всё объясняется и без «притягивания» обвинений в фальсификации.
5) Почему же «Книгой Велеса» заинтересовалось гестапо? Уж не для пущей ли важности и напускания тумана приплетает в это дело нацистскую тайную полицию Ю. П. Миролюбов? Да, действительно, гестаповец Валлейс, возглавлявший эту службу в Брюсселе (а именно его имя в своих письмах называет Юрий Петрович), скорее всего, бросил бы дощечки в печь или «хряснул» бы по ним своим сапогом. Но были и другие люди, носившие чёрную форму СС, которых доски могли очень даже заинтересовать. Речь идёт о знаменитой нацистской организации «Аненэрбе».
С немецкого «Ahnenerbe» переводится как «Наследие предков». Организация эта была создана для историко-культурного обоснования национал-социализма. В 1933 году представляла собой мистический орден, организовывавший экспедиции по Европе и Азии в поисках архивов тайных обществ, предметов древних культов, обрядовых книг и т. д. Позже «Аненэрбе» была включена в РСХА на правах одного из отделов, т. е. входила в систему СС, подчиняясь Гимлеру.
В 1936 году Гитлер издал приказ, по которому члены «Аненэрбе» получали право «производить обыски в религиозных обществах, частных библиотеках и архивах на предмет выявления материалов, имеющих ценность для Германии, и обеспечить их изымание через гестапо» (II, 11; 191). Обратим внимание на этот нюанс: «Аненэрбе» изымала ценности через гестапо. Как здесь не вспомнить брюссельских гестаповцев во главе с Валлейсом, побывавших в мастерской у Изенбека после смерти последнего. И отделение «Аненэрбе» в Брюсселе тоже существовало.
Награбили аненэрбовцы за годы Второй мировой войны очень много: только та часть тайных архивов этой организации, которую захватила Красная армия в 1945 году, заняла свыше 25 большегрузных железнодорожных вагонов. А были ещё архивы, попавшие в руки союзников, и архивы, которые остались в Польше.
Помимо грабежей на счету «Аненэрбе» чудовищные преступления: организация массовых казней в концентрационных лагерях как жертвоприношений олицетворению бога Вотана (Одина) на земле — фюреру, уничтожение культурных ценностей на оккупированных территориях (в частности, Рижской городской библиотеки, основанной в начале XVI века, библиотеки евангелическо-реформаторского синода в Литве, основанной в начале XVII столетия, славянских древностей на польской земле и многое другое). Недаром руководителей «Аненэрбе» судили на Нюрнбергском процессе как военных преступников и приговорили к смертной казни.
Но вернёмся в Брюссель 1941 года. В том, что гестапо заинтересовалось делами покойного Изенбека, нет ничего удивительного: русский, наследует ему тоже русский. А с русскими идёт война. И «Наследие предков» здесь вовсе, казалось бы, ни при чём. Казалось бы, если бы не одно «но». Оказывается, в Брюссельском университете ещё до войны существовал отдел «Аненэрбе», во главе которого стоял… Марк Шефтель. Да да, тот самый Шефтель, ассистент Экка, фамилию которого никак не мог точно припомнить Юрий Петрович Миролюбов и воспроизводил её в своих письмах по-разному (причём ни разу точно). Тот самый Шефтель, который знал о существовании дощечек. Во время нацистской оккупации Бельгии он активно участвовал в изъятии исторических реликвий.
Сведения эти ещё в начале 80х годов XX века выяснил Радивой Пешич (II, 11; 190), (II, 4; 29). Данная информация очень и очень важна. Становится понятным, что интерес гестапо к делам наследства Изенбека мог быть вызван не только национальностью покойного и его наследника. Логично предположить, что брюссельский отдел «Аненэрбе» при посредстве гестапо изъял из мастерской Изенбека дощечки «Книги Велеса». Кстати, Ю. П. Миролюбов ничего не знал об этих фактах и интерес нацистской тайной полиции к дощечкам объяснить никак не мог. Но, как нам кажется, ещё один пункт обвинений Ю. П. Миролюбова в фальсификации памятника древней славянской письменности можно считать убедительно отклонённым.
Остаётся заметить следующее: интерес «Аненэрбе» к «Книге Велеса» даёт некоторый след в её поисках. Выше отмечалось, что значительная часть архивов этой организации попала в руки советского командования. По сей день данные архивы практически не разобраны (II, 4; 31). Что если дощечки находятся там? Однако если после изъятия из мастерской Изенбека они не были отправлены из Бельгии, а остались в брюссельском отделении «Аненэрбе», то тогда они, скорее всего, ушли в США. Американские архивы «Наследия предков» понемногу открываются и изучаются. Там работают учёные, ищут и находят уникальнейшие материалы, в том числе относящиеся к древнейшей истории мировых цивилизаций (II, 4; 31). Возможно, до «Велесовой книги» ещё не добрались.
Лучше всего изучены польские архивы «Аненэрбе». Среди их материалов дощечек «Книги Велеса» не обнаружено (II, 4; 31).
Итак, искать можно либо в России, либо в США. Однако все эти рассуждения имеют смысл, если дощечки уцелели, а не погибли. Но тем не менее надежда есть, и не малая.
6) Вопрос несовпадения текстов, публиковавшихся А. А. Куренковым в журнале «Жар-птица», с текстами Ю. П. Миролюбова очень и очень интересен. В самом деле, почему тексты не совпадали? И почему Юрий Петрович допускал такое вольное обращение с копией памятника? Нетрудно догадаться, какие выводы из данных фактов сделали противники подлинности «Книги Велеса». Вот что пишет в связи с этим Д. М. Дудко: «Кто же дурачил читателей: Куренков, Миролюбов или оба вместе? Если это генерал уродовал текст, дабы сделать его более «древним» и «загадочным», то почему Миролюбов годами терпел такое и никому о том не обмолвился?» (II, 28; 11). Контекст фразы таков, что нетрудно догадаться: Д. М. Дудко считает, что Куренков и Миролюбов дурачили читателя на пару, т. е. никаких древних дощечек на самом деле и не было. Или вот ещё. Уже не раз упоминавшийся нами И. Можейко (К. Булычёв) и здесь в своей критике и скепсисе превзошёл всех остальных (правда, как обычно, «передёрнул» факты): «Между тем множились переводы табличек и их публикации. Но затем украинский археолог Скрипник сравнил публикации Миролюбова, Лесного и других открывателей и выяснил, что в них упоминаются и исследуются разные таблички. То есть Миролюбов разным людям посылал различные тексты (видимо, Можейко считает Юрия Петровича просто-напросто идиотом. — И.Д.). Причём враньё обнаружилось многослойное. Не только Миролюбов придумывал различные таблички за Изенбека, но и ассиролог Куренков в журнале «Жар-птица» не переводил таблички, а многие из них писал заново» (II, 15; 34–35).
Прежде чем ответить на указанные вопросы и произведённые выпады, сами поставим два вопроса. Первый: а от каких, собственно, текстов Ю. П. Миролюбова отличались публикации А. А. Кура? Второй: каков всё-таки масштаб отличий публикаций в «Жар-птице» от текстов Ю. П. Миролюбова?
Первый вопрос звучит несколько странно. Дело в том, что существовала рукописная копия текстов «Велесовой книги», выполненная Юрием Петровичем непосредственно с дощечек, и машинописная, которую последний набирал со своей рукописной копии для отправки текстов А. Куру, а позже С. Лесному и С. Ляшевскому.
Итак, когда мы говорим об отличиях текстов, публикуемых А. А. Куренковым в «Жар-птице», от текстов Ю. П. Миролюбова, то имеем в виду машинописную копию.
Отвечая на второй вопрос, заметим, что Н. Ф. Скрипник, сравнивавший варианты текстов Ю. П. Миролюбова (машинописные) и А. А. Кура друг с другом, действительно пишет, что сравнение выявляет «сотни различий, какие никак нельзя объяснить обычной редакционной правкой…» (II, 52; 171). Но вот что примечательно. В 1990 году в «Трудах отдела древнерусской литературы» (Т. 43) профессор О. В. Творогов впервые в нашей стране полностью издал «Велесову книгу». Причём издал по всем правилам научных публикаций (с указанием разночтений и т. д.). Это издание и поныне считается наиболее полным и совершенным из выполненных в России (II, 28; 13), (II, 52; 175). Вместе с текстами помещена обширная критическая статья О. В. Творогова. В ней профессор указывает, что за основу своей публикации он принял машинописную копию Ю. П. Миролюбова (II, 52; 175). Фотокопию данной машинописи он взял из книги Н. Ф. Скрипника (II, 52; 171). Однако у О. В. Творогова имелись, как сам он отмечает, два выпуска работы Б. А. Ребиндера «Велесова книга» (II, 11; 278). Но Б. А. Ребиндер работал с текстом дощечек, опубликованным в «Жар-птице», т. е. с вариантом А. А. Куренкова (II, 52; 175). Сравнив два эти варианта текста, О. В. Творогов отметил: «Но различия этих текстов в их общей части (мы помним, что в машинописи есть ряд добавочных, сравнительно с публикацией, фрагментов) в основном носят орфографический характер и существенно не влияют на смысл текста» (II, 52; 175). Профессор О. В. Творогов — противник подлинности «Книги Велеса». Поэтому в каком-то искажении фактов или в их трактовке в пользу её аутентичности его никак нельзя упрекнуть. И тем не менее вывод предельно ясен: значительных различий между вариантами Ю. П. Миролюбова и Куренкова нет. Правда, в публикациях отсутствует ряд фрагментов, имеющихся в машинописной копии Ю. П. Миролюбова. Всему этому, на наш взгляд, можно дать объяснение. Но сделаем мы это несколько ниже. Сейчас же заметим, что «истеричные выкрики» по поводу огромных отличий текстов Ю. П. Миролюбова и публикаций А. А. Куренкова необоснованны. Наиболее вопиющим на этом фоне, конечно же, выглядит случай с дощечкой № 5. Вместо вполне исправного текста А. А. Куренков публикует лишь четыре «осколка» (II, 28; 11).
Но совершенно неверно утверждать, что Ю. П. Миролюбов спокойно и молчаливо сносил все переделки А. А. Куренковым текста его машинописной копии. А. И. Асов, работавший с архивом Юрия Петровича, утверждает, что по этому поводу между Миролюбовым и Куренковым случались конфликты (II, 11; 235). Причём существование разночтений Ю. П. Миролюбов не скрывал от других. В письме к С. Лесному от 26 января 1957 года он пишет: «Я бы предпочёл, чтобы Кур в своё время не публиковал его (текст. — И.Д.). Тогда можно было бы работать, не торопясь, над текстом, но опубликовать действительно безукоризненный текст…» (II, 11; 241). Эти слова явно показывают, что Юрий Петрович не совсем доволен публикациями А. А. Кура. И далее в этом же письме: «Болезнь моя подходит к концу. Я уже могу немного заниматься текстом “Дощьек Изенбека” и сделал сверку и копировку «дощьки» № IX и Х, как они попали в руки, ибо первые “дощьки” не столь интересны исторически. Обнаружилось “разночтение” моё с Куром: я читаю «», то есть: “до него” или “и до них”, а Кур читает: «» — “имя богини”. Видите, какие трудности?.. Иногда я думаю, что лучше было бы, чтоб о “дощьках” никто не знал, так надоедает думать о них, бороться с Куром (выделено нами. — И.Д.), а теперь и с Вами…» (II, 11; 241–242).
Что же касается случая с дощечкой № 5, то разногласия с Куренковым из частной переписки были вообще перенесены на страницы журнала «Жар-птица». Вот какая заметка появилась в мартовском номере журнала в 1958 году: «Редактор (а им и был в то время Ю. П. Миролюбов. — И.Д.), будучи тяжело болен, поручил работу “Дощечка № 5” третьим лицам, которые испортили как “сплошняк” дощечки, так и разделённый текст, а потому, принося извинения гг. читателям, редакция просит считать “Дощечку № 5” неверной. Скоро будет напечатан правильный текст “Дощечки № 5”» (II, 11; 258). Правда, редакция своё обещание не сдержала: полностью дощечка № 5 так и не была опубликована. Почему? Да, наверное, по тем же причинам, по которым Юрий Петрович вообще пропускал в печать варианты текста «по Куру». Во-первых, Юрий Петрович был редактором «Жар-птицы». Он занимался журналом целиком, всеми публикуемыми в нём материалами, и не мог сосредоточиться только на текстах дощечек. А их сверка брала очень много времени. Во-вторых, Миролюбов часто и тяжело болел. И ещё одна причина (хотя к случаю с дощечкой № 5 она не относится): Юрий Петрович доверял Александру Александровичу Куренкову, считая его профессиональным учёным-языковедом. Себя же относил не более чем к любителям. Так, в уже упоминавшемся письме к С. Лесному от 26 января 1957 года он отмечает: «Хоть Вы и доктор зоологии, а я доктор химии, мы оба далеко от филологии находимся, а занимаемся ею как любители. Один Кур — настоящий этимологист (говоря по-местному) и знаток языков как древних (шумеро-вавилонская группа языков), так и «новых» (латинский, греческий и т. д.)» (II, 11; 241). Слов нет, А. А. Куренков имел классическое языковедческое образование (окончил Петербургский университет) (II, 11; 235). Но чем всё-таки объяснить расхождения публикаций Кура и машинописи Миролюбова?
На наш взгляд, тут надо выделить две группы причин, точно так же как существуют два типа расхождений указанных текстов. Во-первых, в журнальной публикации отсутствует ряд слов, фраз и даже отрывков, которые есть в машинописном варианте у Юрия Петровича. Кур объяснял это «научной строгостью» издания. В нём-де всё должно быть понятно (II, 11; 235). Заметим, что если Александр Александрович руководствовался именно этим принципом («всё должно быть понятно»), выкидывая большие или меньшие участки текста копии «Книги Велеса», то поступал он как раз ненаучно. Публикатор должен публиковать весь текст, независимо от того, понятен он ему или нет. Если он видит написание и прочтение каких-то слов или фраз по-разному, то он должен указать варианты этого написания и прочтения. Безусловно, надо сделать скидку на то, что «Жар-птица» была не научно-историческим, а обыкновенным массовым изданием, и Куренков, заботясь о тираже журнала, действительно мог «выбрасывать» непонятные участки текста дощечек с тем, чтобы массовому читателю было интересно (а кому интересно читать то, что совершенно не понимаешь). Но тем не менее вольности А. А. Куренкова в обращении с памятником это не оправдывает. Можно также выдвинуть предположение, что Александр Александрович «подгонял» текст памятника под свои исторические воззрения. В принципе это возможно. Но уж больно невелик был объём «выброшенных» участков, чтобы обосновывать какие-то оригинальные научные концепции публикатора. Мы, конечно, не можем оценить этот объём непосредственно за неимением вариантов текста, но доверяем в этом вопросе О. В. Творогову. Этот противник подлинности «Велесовой книги», как мы уже указывали, говорит всего лишь о ряде выброшенных фрагментов у Кура, но не «напирает» на их большое количество. Следовательно, таковых было немного. Поэтому, кстати, совершенно неправомерно говорить о том, что Куренков писал дощечки заново (как это делает Можейко (Булычёв)).
Теперь представим себе ситуацию. Есть какой-то подлинный письменный исторический памятник. Учёный, его публикующий, подходит к вопросу публикации не очень добросовестно, вследствие чего текст памятника печатается с некоторыми искажениями. Можем ли мы на основании этого заявлять, что сам памятник является фальсификатом? Конечно, нет. Но ведь именно такая ситуация имеет место в случае с публикациями А. А. Куренковым дощечек «Велесовой книги».
Перейдём к рассмотрению второго типа расхождений текстов Миролюбова и Куренкова и причин этих расхождений. Мы помним, что О. В. Творогов характеризует их как различия, которые «в основном носят орфографический характер и существенно не влияют на смысл текста» (II, 52; 175). Выше демонстрировался пример таких различий. При работе с древними текстами разное восприятие одних и тех же письменных знаков исследователями вполне естественно. Весь вопрос в том, что у Куренкова не было под рукой самих дощечек. На основании чего он мог отклоняться от машинописи Миролюбова? Опять недобросовестность? Так многие и считают. Причём даже сторонники аутентичности «Книги Велеса». Вот, например, как реагирует на данное обстоятельство Н. В. Слатин: «…Как бы “профессионально” ни делал Куренков “транслитерацию”, делать ему её было не с чего — кроме как с миролюбовской же машинописной копии…» (II, 52; 177). Утверждение это ошибочно. Кроме машинописной копии Александр Александрович мог работать и с рукописной копией, выполненной Миролюбовым непосредственно с дощечек. Приезжая из Пало-Алто, где он жил, в Сан-Франциско, где проживал после переезда летом 1954 года в Америку Ю. П. Миролюбов, Куренков (как позднее и Ляшевский) сверял машинописную копию (а точнее будет её назвать всё-таки транслитерацией) с копией рукописной. Эта последняя, очевидно, в строгом смысле копией также названа быть не может. Дело в том, что Ю. П. Миролюбов не всегда делал точные прориси букв дощечек. По его же словам, он заменял «i» на «и», «iу» на «ю», «iа» на «я», употреблял «й» по своему усмотрению там, где, как ему представлялось, её следовало употребить, т. е., другими словами, использовал русский гражданский шрифт (II, 28; 218), (II, 52; 152). Таким образом, рукописная копия отчасти была транслитерацией. Как велика эта часть, мы судить не можем, ибо рукописной копии как таковой не сохранилось. После смерти Юрия Петровича она, увы, была утрачена. Есть, конечно, надежда, что она будет обнаружена в его архиве в Аахене, где сейчас проживает его жена. Но пока исследователи располагают только рукописной копией дощечек 31, 32, 33, приведённой в издании Н. Ф. Скрипника. Что представляли собой рукописные копии дощечек 31 и 32 (рис. 35), можно видеть по их фотографии, опубликованной в книге А. И. Асова «Тайны “Книги Велеса”». Если дощечка 31 — это прорись старинных письменных знаков с некоторым добавлением современных букв, то дощечка 32, на наш взгляд, «чистой воды» транслитерация. Однако предполагаем, что объём по-настоящему скопированного (т. е. прорисованного) текста был всё-таки велик.
Как бы там ни было, повторяем: Куренков, а позже и Ляшевский сверяли имеющиеся у них машинописные копии (транслитерации) «Книги Велеса» с копией рукописной, имеющейся у Ю. П. Миролюбова. Причём, по свидетельству А. И. Асова, который при посредстве госпожи Ж. Миролюбовой ознакомился со значительной частью архива Юрия Петровича, а также имеет у себя ксерокопии машинописей текста «Книги Велеса», принадлежавших Куру и Ляшевскому, последние делали в своих машинописных копиях поправки, ибо Миролюбов при перепечатке допускал многочисленные ошибки (что вполне объяснимо, ибо Юрию Петровичу было уже за шестьдесят) (II, 10; 436). Вот вам и причина второго типа расхождений публикаций Куренкова с текстом миролюбовской машинописи. И о более качественной транслитерации текстов памятника А. А. Куренковым у А. И. Асова есть основания говорить: проводить транслитерацию у Куренкова было с чего — с рукописной копии Ю. П. Миролюбова (II, 52; 177). Поскольку же Александр Александрович находил в транслитерации Юрия Петровича, кою представляла собой машинопись, довольно много неточностей, то вполне можно сказать, что транслитерацию Куренков делал более профессионально. Выпад Н. В. Слатина против А. И. Асова тут, на наш взгляд, совершенно напрасен.
Кстати, сам Ю. П. Миролюбов признавал, что его машинописная копия содержит ошибки по сравнению с исходным текстом, т. е. скопированным им непосредственно с дощечек. Вот что он пишет в уже неоднократно цитированном нами письме к С. Лесному от 26 января 1957 года: «Многоуважаемый доктор! Вы всё-таки торопитесь (подчёркнуто самим Миролюбовым. — И.Д.)! С такими вещами, как тексты «Дощьек Изенбека», я торопиться не имею права! Я их должен сверить с записями, имеющимися у меня и сделанными в своё время с текста оригинальных «Дощьек Изенбека». В тексты, переписанные на машинке, вкрались ошибки (выделено нами. — И.Д.) …Эти ошибки неизбежны при переписке. Тем более важна проверка самим писавшим…» (II, 11; 240).
Ошибки машинописного варианта текстов «Велесовой книги» признают и современные исследователи, которые сверили соответствующий участок машинописи с одной из двух имеющихся фотографий дощечек (имеется в виду дощечка 16, сторона А, ибо фотография стороны В практически нечитаема) (рис. 38, 39). Так, Д. М. Дудко находит в машинописном тексте этой дощечки несколько неточностей при сравнении с фотографией (указывает конкретно на три, но отмечает, что есть и другие) (II, 28; 232).
Рис. 38.
Думается, что мы объяснили причины расхождений публикаций в «Жар-птице» с транслитерацией, выполненной Ю. П. Миролюбовым на пишущей машинке. Можно сделать вывод, что ничего принципиально свидетельствующего против подлинности «Книги Велеса» в этих расхождениях нет.
Перейдём к следующему вопросу, значащемуся у нас под номером семь: соотношение информации из «Книги Велеса» с информацией, приводимой в произведениях Ю. П. Миролюбова. Вопрос этот очень серьёзен. Определённое его решение даёт весомые основания противникам подлинности «Велесовой книги» говорить о том, что она подделка. Напомним, что сведения, приводимые Юрием Петровичем в своих произведениях, как совпадают, так и расходятся с «Книгой Велеса» по одним и тем же вопросам. Источником же совпадающей информации Миролюбовым часто называются этнографические данные, т. е. сказы и предания, которые были им записаны на юге России.
Рис. 39.
Например, Ю. П. Миролюбов излагает учение о Яви, Нави и Прави, но со ссылкой не на дощечки, а на деда из Юрьевки, руководившего зворожинами (поминальным обрядом) (II, 28; 192). От 90летней «прабки» Варвары узнал Ю. П. Миролюбов, что Сварог был главный бог и звался также Прад (прадед), Дуб и Сноп, а Перун — его старший сын. Говорила она и о «дедовских» богах Вышнем и Крышнем (II, 28; 196,197). Знали крестьяне и о боге зимы Сивом, боге ветра Стрибе (Стрибоге), о малых богах, лесных, полевых и домашних — Кустиче, Листиче, Стебличе, Кветиче, Орешиче и др. (II, 28; 197). Старые люди в Юрьевке рассказывали о «батьке Ории», отце Кия, Щека и Хорива, который спас свой народ от потопа и землетрясения (II, 28; 197). Описывает Ю. П. Миролюбов со ссылкой на обычаи Антоновки, Юрьевки и Анновки и рецепт приготовления суряницы — напитка, употреблявшегося на Рождество или для лечения. И хотя рецепт его лишь отчасти напоминает рецепт суряницы из «Велесовой книги», но, как и в последней, питьё это употребляется пять раз в день (II, 28; 197). Предания, на которые ссылается Юрий Петрович, говорят о том, что раньше русы жили в степи, пасли скот, земледелия же не знали или только-только его осваивали (II, 28; 198). Без каких-либо ссылок вообще говорит Миролюбов о Триглавах — троицах славянских богов (12 главных богов, соответствующих 12 месяцам), доказывает, что славяне не приносили человеческих жертв, разве что под варяжским влиянием (II, 28; 192–193).
И всё это есть в «Велесовой книге». Действительно, странно. И смущают здесь следующие обстоятельства. Во-первых, глубина исторической памяти крестьян трёх южнорусских деревень. Во-вторых, то, что столь богатая традиция была зафиксирована только Ю. П. Миролюбовым, и никем ни до, ни после него. В-третьих, поразительное соответствие преданий жителей Юрьевки, Антоновки и Анновки как «Велесовой книге», так и историческим взглядам самого Миролюбова. По этому поводу Д. М. Дудко замечает: «И ведь хранила её (традицию. — И.Д.) не какая-то замкнутая секта язычников в глухих лесах, а обычные деревенские деды и бабки в трёх сёлах, разделённых сотнями километров, и притом не скрывали этих преданий и верований даже от попа с поповичем! А потом именно этот попович открыл деревянную языческую книгу, где было написано то же самое. Воистину чудо бога Велеса! Или талантливая мистификация» (II, 28; 202).
Да, обстоятельства дают основания говорить так, как говорит Д. М. Дудко. Однако справедливость требует указать и на элементы расхождения «Книги Велеса» с произведениями Ю. П. Миролюбова и отражёнными в них преданиями. Так, не совпадают списки богов в Триглавах (уже упоминавшихся троицах славянских богов). В дощечке 11А «Велесовой книги» Великий Триглав состоит из Сварога, Перуна и Святовита (I, 5; 68–69), (I, 4; 43–44). У Миролюбова место Перуна занимает Велес (II, 28; 193). Далее дощечка 11А и являющаяся её продолжением дощечка 11Б называют ещё четыре Триглава, видимо, соответствующих сезонам года: 1) Хорс, Велес, Стрибог; 2) Вышень, Леля, Летница; 3) Радогост, Коляда и Крышень; 4) Сивый, Ярила и Даждьбог (I, 5; 69), (I, 4; 44–45). Если верно предположение, что Триглавы отражают годовой цикл, то остаётся только гадать, какой из них какому сезону соответствует. У Миролюбова всё определённее: называется весенний Триглав — Яро, Хорс, Купала, летний — Ладо, Купала, Даждьбог, осенний — Перун, Вышний, Симаргл, зимний — Коляда, Сивый, Крышний (II, 28; 193). Как видим, наблюдается полное несовпадение Триглавов, т. е. соответствия составов нет ни в одном случае.
Далее. По мнению Ю. П. Миролюбова, славяне-арии пришли в Европу в качестве авангарда ассирийской армии. «Ассирийцы подчинили все тогдашние монархии Ближнего Востока, в том числе и персидскую; а персы были хозяевами северных земель до Камы. Ничего нет удивительного, если предположить, что славяне были в авангарде ассирийцев, оторвались от главных сил и захватили земли, которые им нравились. Персидские же земли были и вавилонскими. Вообще эти земли, особенно зеверные, переходили из рук в руки могущественных монархий Ближнего Востока» (II, 28; 193).
Ближневосточная тематика, если можно так выразиться, присутствует и в «Книге Велеса». Согласно данным дощечки 6 (В, Г) (вторая дощечка в связке под номером 6) русы во времена рода Ория (Орея) били Египет и Ассирию (последняя фигурирует в данном месте только в переводе Д. М. Дудко) (I, 5; 47), (I, 4; 19). Затем из-за отсутствия единства большая часть русов была пленена персами и угнана к вавилонскому царю Набсуру (Набупаласару или Навуходоносору). Русы, подчиняясь ему, ходят на Ассирию и Египет, но затем восстают и уходят на Север (I; 5; 47–48), (I, 4; 19–21), (I; 6; 326–327). Как видим, трактовка «Велесовой книги» отличается от трактовки Ю. П. Миролюбова. И, между прочим, первая выглядит убедительнее второй. Ведь в VII веке до н. э. (а именно к этому времени относит описываемые события «Велесова книга», и именно в это время славяне под именем скифов могли принимать участие в ближневосточных делах) Персия была небольшим царством на юге Ирана, неподвластным, однако, ни Ассирии, ни Вавилону. Ассирийские же войска никогда не заходили на север дальше Закавказья.
Вся «Книга Велеса» пропитана духом вечевой демократии; единовластие князей, наследственное закрепление власти за каким-либо княжеским родом осуждаются. Совсем не то в приводимых Ю. П. Миролюбовым сказах: живущими в степи русами управляют цари. Власть их велика. Попытки обойтись без царя плохо кончаются для племени. Кий заявляет, принимая власть: «Без кия (дубины) с людьми сговорения нет» (II, 28; 198). Это уже не похоже на апологию вечевой демократии в «Велесовой книге».
Но указанные расхождения «Дощьек Изенбека» и произведений Ю. П. Миролюбова носят всё-таки частный характер. И, кроме того, даже из этих несовпадений противники подлинности «Велесовой книги» извлекли аргументы в свою пользу. Какие, мы увидим чуть ниже.
Сейчас же скажем, что дополнительный повод для критики был найден в самой хронологии появления ссылок на дощечки в произведениях Ю. П. Миролюбова. Из чего исходят противники аутентичности памятника? В самом раннем произведении Юрия Петровича «Ригведа и язычество» (окончена в октябре 1952 года), по утверждению О. В. Творогова, ссылок на «Велесову книгу» нет, «реконструкция славянской истории и мифологии основана у Миролюбова на рассказах двух старушек да на наблюдениях за обычаями жителей трёх сёл — Юрьевки, Антоновки и Анновки» (II, 11; 286). «Итак, можно заключить, — делает вывод О. В. Творогов, — что в 1952 году ВК ещё не существовала, но велась, вероятно, подготовка к её созданию…» (II, 11; 289). По мнению О. В. Творогова, первое упоминание о дощечках появилось у Ю. П. Миролюбова в произведении «Русский языческий фольклор: очерки быта и нравов». О. В. Творогов считает, что Ю. П. Миролюбов закончил эту книгу, вероятно в конце 1953 года, т. е. ещё в Бельгии (II, 11; 290). А. И. Асов обоснованно возражает — 1954 год и США (II, 11; 290). О. В. Творогов пишет: «Итак, во время написания этой книги Миролюбов вдруг вспомнил о виденных им дощечках — том самом источнике, на отсутствие которого он жаловался за год до этого!.. Здесь всего лишь воспоминание о выпавшем “счастье видеть” и смутное обещание дать подробный разбор тех дощечек, “которые… удалось прочесть”» (II, 11; 290–291).
Далее у О. В. Творогова: «…В 1954 году Миролюбов работает над книгой “Русский христианский фольклор. Православные легенды”… Здесь он обращается к ВК дважды. Первый раз — в связи с гипотезой о времени создания славянской письменности. Как и в других случаях, у него ценнейшим источником является “народное предание…”. Далее читаем: “На этот вопрос дают ответ брюссельские (странное определение! — О.Т.) (не понимаем, чего тут странного — И.Д.) “Дощьки Изенбека”. Грамота действительно существовала, и была она основана на смеси готских, греческих и ведических знаков…”» (II, 11; 291).
Какие же выводы делает почтенный профессор О. В. Творогов из всего им сказанного: «Итак, предложим своё объяснение тому, как возникла ВК. В 1952 году, когда Ю. П. Миролюбов работал над своим сочинением “Ригведа и язычество”, ВК ещё не существовала… Но идея о желательности подобной «находки» уже возникла. Поэтому Миролюбов, с одной стороны, сетует на то, что он “лишён источников”, а с другой — не только утверждает, что была древнейшая письменность, что “она однажды будет найдена”, предвкушая посрамление “критиков”. В 1954 году работа уже ведётся, и Миролюбов невольно “проговаривается” об этом в своих сочинениях… Критика сенсационной находки испугала Миролюбова. Ему важно было спасти те идеи и “факты”, которые были включены в ВК и нужны были ему для обоснования своих историографических и религоведческих “концепсий”. И чтобы спасти концепции, он предал дощечки. Именно поэтому он ссылается на своих информаторов — Прабу Варвару и Захариху, а также на собственные этнографические наблюдения (их проверить было уже невозможно), а о дощечках говорит вскользь, препоручает их изучение и защиту подлинности А. А. Куру и даже утверждает, что ценность их лишь в том, что они “не противоречат традиции”, которая лучше всего сохранена в сказах Захарихи и обычаях Прабы Варвары…» (II, 11; 292–293).
О. В. Творогов в среде противников подлинности «Книги Велеса» считается буквально образцом критики. Так вот, в этой образцовой критике есть ряд фактических неточностей (мы сейчас не будем выяснять причины их возникновения). Прежде всего, первое документальное свидетельство Ю. П. Миролюбова о дощечках относится отнюдь не к 1953 году (по Творогову, в произведении «Русский языческий фольклор: очерки быта и нравов»), а к 1948 году (письмо в Русский музей в Сан-Франциско). Согласитесь, странно упоминать о дощечках, которых ещё и в помине нет (как утверждает О. В. Творогов, мысль о их создании родилась только в 1952 году, т. е. четыре года спустя, а работа над ними началась не ранее 1953 года). И не только странно, но и рискованно. А что если из Сан-Франциско откликнулись бы тогда же, а не осенью 1953 года, как произошло в действительности, и попросили бы предъявить памятник. И что тогда?
Далее. В 1952 году в книге «Ригведа и язычество» древние дощечки с письменами на самом деле упоминаются. Причём несколько раз, и даже уточняется, что они берёзового дерева (в сборнике «Сакральное Руси», где помещено это произведение, 161 и далее).
В 1954 же году, когда, по утверждению почтенного профессора О. В. Творогова, работа над дощечками только ведётся, на самом деле в «Жар-птице» уже идут первые публикации статей о них и фрагментов из них (с января 1954). А «недогадливый» Миролюбов «невольно проговаривается» о том, что он над ними работает? Очень странно.
Как видим, у О. В. Творогова не всё в порядке с логикой рассуждений, «концы с концами не сходятся».
Другой противник аутентичности «Велесовой книги» Д. М. Дудко, во многом на О. В. Творогова опирающийся, заметил эти недочёты последнего и с учётом упущенных по каким-то причинам О. В. Твороговым фактов предложил свою, более стройную, версию подделки памятника. По его мнению, «Велесова книга» начала создаваться Ю. П. Миролюбовым ещё в 20 — 30х годах XX века. Причём несколько дощечек действительно были у Изенбека, их создал ещё А. И. Сулакадзев (II, 28; 206–208). В конце 40-х — начале 50х годов памятник находился ещё в процессе создания, «Ю. П. Миролюбов же колебался: подкреплять ли свои исторические взгляды её текстами или ссылками на безымянных стариков из глухих украинских сёл» (II, 28; 194). В дальнейшем ссылался на неё весьма скупо. Очевидно, сделала своё дело критика «Велесовой книги» учёными (II, 28; 195).
В этих построениях учтено и то, что сведения о дощечках были ещё до Второй мировой войны (в частности, что Изенбек с ними приезжал в 1922(23) году в Белград), и то, что в 1948 году Юрий Петрович писал о них в Сан-Франциско, и то, что в первой книге Миролюбова «Ригведа и язычество» упоминание о дощечках всё-таки есть. Правда, в отношении этого упоминания Д. М. Дудко пишет следующее: «Лишь в одном месте приводится некая “страннейшая запись на дощечках”. “Иди, да иди до нашей Жаризны, Отче, Лицо коего сяет яко Солнце, а донь взирающ сплеп бяшет, тому зерцамо поду, а очи невздвигоша, зряме скуду есьмы, а окуд идемо, а такожде одыдехом”. (“Иди, иди к нашей жертве, Отче, лицо которого сияет как солнце, а глядящий на него ослепнет, потому посмотрим вниз и, глаз не подымая, узреем, откуда мы и куда идём, а также отойдём”). В “Велесовой книге”, однако, такого текста нет» (II, 28; 192). Заметим, что Д. М. Дудко здесь прав лишь отчасти. На самом деле дощечки в «Ригведе и язычестве» упоминаются несколько раз (о чём уже говорилось ранее). Процитированного же отрывка в известном исследователям тексте «Велесовой книги» в самом деле нет. Но это ещё ни о чём не говорит, ибо тексты «Книги» могут быть известны не все. Кроме того, как мы помним, машинописная транслитерация Ю. П. Миролюбова, по которой сейчас в основном «Велесова книга» и публикуется, не совсем точно отражает копию, снятую Ю. П. Миролюбовым непосредственно с дощечек (см. выше).
В общем же надо признать, что построения Д. М. Дудко куда как более совершенны, чем построения О. В. Творогова. Подытоживает свои рассуждения он следующим образом: «Словом, если «Велесова книга» — произведение XIX — XX вв., то трудно назвать более вероятных её авторов, чем А. И. Сулакадзев и Ю. П. Миролюбов. Вероятнее всего, первый создал лишь несколько дощечек, найденных впоследствии Ф. А. Изенбеком. Основную же часть работы выполнил второй. А выполнив, уже не переделывал даже неопубликованную часть текста, предпочитая сочинять (или перерабатывать) всё новые «сказы». Работу над «Велесовой книгой» Ю. П. Миролюбов, вероятно, завершил между 1952 г. (когда он ещё не решался ссылаться на неё в «Риг-Веде и язычестве») и 1954 г. (когда в сказах Захарихи появляется мотив связи русов с Троей, в «Велесовой книге» отсутствующий)» (II, 28; 208). Здесь даже расхождения между произведениями Миролюбова и «Книгой Велеса» обращены в пользу критиков её подлинности.
Что же можно ответить на эти аргументы? Попытаемся дать своё объяснение изложенным фактам. Прежде всего коснёмся несовпадений данных в произведениях Миролюбова и «Книге Велеса». В принципе в этом нет ничего удивительного. У Юрия Петровича могли быть и другие данные для его построений. Он ведь читал очень много исторической литературы. А значительная часть из того, о чём говорил он, С. Лесной, А. А. Куренков, в принципе не ново. Концепции, значительно удревняющие историю славян, отождествляющие их со скифами, сарматами или киммерийцами, создавались ещё в XVII — XVIII веках. Их авторами были Орбини, Стрыйковский, Татищев, Ломоносов. Определённой базой могли послужить и этнографические наблюдения Ю. П. Миролюбова (к вопросу о них мы вернёмся несколько ниже). Основываясь на последних, он мог строить догадки, делать предположения. Именно характер предположения, и не более, носят его слова о приходе славян в Европу в качестве авангарда ассирийской армии.
Вполне естественно и то, что ссылки Миролюбова на «Книгу Велеса» в его произведениях весьма скупы. Хотя, повторим, присутствуют они буквально с первого произведения («Ригведа и язычество»). Как можно широко ссылаться на источник, который учёные не признают, делать на основании его какие-то построения? Ведь в 1952 году, когда «Ригведа и язычество» писалась, и речи не было о каких-то публикациях. Зато памятно Юрию Петровичу было довоенное фиаско (его и Изенбека) попыток привлечь к дощечкам внимание учёных. И уж совсем свежим воспоминанием было молчание Русского музея в Сан-Франциско, куда в 1948 году он отправил письмо с кратким сообщением о дощечках. Да, в «Ригведе и язычестве» он не выдерживает и упоминает о них, даже цитирует небольшой участок текста. Но не более. А кто бы на его месте поступил иначе? Пожалуй, никто.
Последующие произведения, включая и «Русский языческий фольклор: очерки быта и нравов» (мы всё-таки более склонны относить его создание к 1954 году, а не к концу 1953 года, как это делает О. В. Творогов), писались тогда, когда дощечками заинтересовались, в том числе и профессиональный учёный, «этимологист» А. А. Кур, материалы о них начали печатать. И Юрий Петрович, если можно так выразиться, осмелел: ссылки на дощечки становятся более частыми, но широкого масштаба так никогда и не принимают. Почему? Причин две. Во-первых, Миролюбов текст дощечек полностью никогда не понимал («не понял их интегрально», как говорил он сам) (II, 11; 241, 288). Во-вторых, он считал неэтичным для себя комментировать подробно своё открытие, тем более, вызывающее сомнение учёных (II, 28; 195). В одном из своих произведений он прямо говорит об обеих этих причинах, объединяя их буквально в одном предложении: «…Серьёзное изучение как языка Дощек, так и их содержания, исторического значения или религиозного, вероятно, придёт значительно позже, когда улягутся страсти… Это отнюдь не является отрицанием Дощек, ибо мы уверены, что они будут в будущем признаны весьма важными, но мы хотим лишь заявить, что их содержание нами не изучено, и никаких теорий на их основании мы не строим (выделено нами. — И.Д.)» (II, 52; 151).
И надо признать, что это подход настоящего учёного, хотя в области истории и филологии Ю. П. Миролюбов был любителем, что и сам неоднократно признавал.
На наш взгляд, такие объяснения вполне удовлетворительны. И, придерживаясь их, совсем не обязательно становиться на точку зрения того, что «Велесова книга» — это фальсификат.
Сложнее разобраться с совпадениями «Книги Велеса» и этнографических данных, приводимых Ю. П. Миролюбовым. Тут, как кажется на первый взгляд, все сто процентов против подлинности «Дощьек Изенбека». Но это только на первый взгляд.
Вся проблема в том, что этнографические материалы Ю. П. Миролюбова, так же как и «Книга Велеса», считаются сфальсифицированными. И надо признать, что Юрий Петрович отчасти в этом виноват сам. Много тумана напустили публиковавшиеся им «Сказы».
Здесь, как представляется, необходимо выделить два уровня проблемы. Первый — могла ли существовать на юге России и в Украине в конце XIX — начале XX века богатейшая народная традиция, некоторые данные из которой почерпнул Ю. П. Миролюбов? Второй — что представляют собой опубликованные им «Сказы» (Захарихи, Прабы Варвары, кобзаря Олексы и других)? Ибо, скажем сразу, сказы эти не есть народная традиция как таковая. Но обо всём по порядку.
Богатейшая традиция существовать в то время могла. Из неё Ю. П. Миролюбов мог узнать как подробности быта далёких предков русских и украинцев (жизнь в степи, занятие скотоводством), так и элементы дохристианской веры (Явь, Правь, Навь, Триглавы, Даждьбог, Вышний и т. д.). В этом нет ничего невозможного. Помнили же ещё в XIX веке белорусские крестьяне о Перуне и Яриле, совершали в их честь обряды (кстати, зафиксировавшего это этнографа Шпилевского (Древлянского) объявили фальсификатором!) (II, 28; 196). В том же веке северорусские крестьяне помнили о Мокоши. На Киевщине хранили память даже о скифском царе Перепете. На Волыни уже в 1965 году были записаны песни о Даждьбоге (II, 28; 201, 202). Совсем не лишне будет вспомнить и об открытии большого пласта северных былин А. Ф. Гильфердингом. В 1873 году он издал 318 былинных текстов ранее не известных под названием «Онежские былины». Свыше трёхсот былин — это не одна, не две, не десять. Это — богатейшая традиция. И до 70х годов XIX века об этой традиции ничего не было известно. А обрядовые песни и моления болгар-помаков, собранные С. И. Верковичем и опубликованные им в 70—80х годах XIX века под общим наименованием «Веда славян» (двухтомник), также богатейшая традиция, да ещё дающая много новых, ранее не известных данных по религии и мифологии славян (II, 11; 385–397), (II, 8; 14–15), (II,10; 15). И также до 70х годов XIX века о ней никто не знал. Да по большому счёту почти никто не знает и сейчас, ибо книга С. И. Верковича предана забвению. А зря!
Но скептики приводят и другой аргумент: эта богатейшая традиция не зафиксирована никем и никогда, кроме самого Ю. П. Миролюбова, ей нет аналогий в материалах других собирателей. «Слишком много “сенсаций” на “единицу площади”», которые нигде более не профигурировали (II, 28; 195–196). Ведь легенды о Перуне зафиксированы не только в Белоруссии, но и на Новгородчине и в Запорожье разными собирателями и в разное время. Волынская песнь о Даждьбоге в 1970 году записана также в Тернопольской области (II, 28; 202). Всё это так. Своеобразный «дубляж», «перекличка» этнографических материалов, собранных в разных местах, в разное время и разными этнографами и фольклористами, должны существовать. Но то, что этой «переклички» нет у материалов Ю. П. Миролюбова, верно лишь отчасти. Если брать приводимые им «Сказы» целиком, в законченном виде, то да, они более нигде не зафиксированы. Но всё дело в том, что сказы эти, как мы отметили, не являются народной традицией как таковой. Что же это? Настало время поговорить о втором уровне проблемы.
Публикации «Сказов Захарихи», а также сказов прабки Варвары, кобзаря Олексы и других Ю. П. Миролюбов начал в «Жар-птице», когда увидел, что публикации во многом непонятных текстов дощечек «утяжеляют» журнал. Язык сказов в общем понятен, их чтение более занимательно. Но они ни в коем случае не являются фольклорным источником, как это понимается в современной фольклористике. В XIX веке существовал такой жанр народной литературы: грамотеи из народа, часто беря какие-то действительно древние, традиционные сюжеты, образы, персонажи, придумывали на их основе что-то своё. При этом использовались и прочитанные этими грамотеями книги. В принципе фольклорная основа могла отсутствовать и вовсе. «Под фольклор» просто работали. Так что выделение данной основы в подобных произведениях — дело очень трудное. Кстати, старуха Захариха, с публикаций сказов которой Ю. П. Миролюбов начал обнародование своих этнографических материалов, по его описаниям, была поэтессой из народа, имевшей библиотеку и читавшей, по крайней мере, всю классику: Пушкина, Жуковского, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Толстого, Достоевского. Её муж, Захар, зарабатывал на жизнь тем, что переплетал книги (II, 11; 261). Так что, по мнению А. И. Асова, они могли иметь в своей библиотеке произведения мифологов-славяноведов: Костомарова, Фаминцына, Леже (II, 11; 261).
Сказы стариков из Юрьевки, Антоновки и Анновки не представляют собой по стилю что-то уникальное. Повторяем: в XIX веке это был довольно распространённый жанр народной литературы. В частности, широкую известность получили «Сказы Артынова» (II, 11; 262).
Но, говоря о сказах, опубликованных Ю. П. Миролюбовым, необходимо отметить и следующее: частично к их досочинению, а иногда, вероятно, и сочинению приложил руку сам Юрий Петрович. То есть на творчество Захарихи и других сказителей наложилось и его творчество в таком же стиле. Примечательно, однако, что делал это Ю. П. Миролюбов не с целью кого-либо обмануть: сущность своего подхода к публикуемым им «Сказам» он никогда не скрывал, прямо указывал, что многие из них восстанавливает по памяти, т. е. досочиняет (II, 11; 261, 265). В самом деле, многое ли могло сохраниться в его памяти во второй половине 50х годов XX века из того, что он слышал, будучи ребёнком и совсем ещё молодым человеком, в начале этого века? А многие ли записи, из тех, которые он делал, остались у него после двух войн, в которых он участвовал, и скитаний в эмиграции? Так что, в общем, изначально никого Юрий Петрович не вводил в заблуждение: сказы, какие мы знаем, это в значительной степени плод его творчества.
Отчасти именно этим может объясняться их совпадение с «Велесовой книгой». В сказах встречаются прямые пересечения с ней и даже выражения, заимствованные из дощечек (II, 11; 264). Увидеть здесь руку самого Миролюбова нетрудно. Да, при этом он не ссылался на дощечки как на свой источник. Но ведь жанр этого и не требует. Кто же в стихах и сказаниях, хоть и написанных «под старину», указывает источники? Это ведь не научная монография. Для чего Миролюбов «перерабатывал» информацию из «Книги Велеса» в сказы? Конечно, может возникнуть подозрение, что для доказательства подлинности последней. Но тогда незачем ему было указывать, что сказы он отчасти сочиняет сам. Нет. Вероятно, дело в том, что Юрий Петрович хотел всё-таки донести информацию, которую он смог извлечь из дощечек, до массового читателя. Ведь текст дощечек был сложен и во многом непонятен, качественный перевод, произведённый по всем требованиям науки, требовал много времени. Да и научная общественность, в основном воспринявшая «Дощьки Изенбека» в штыки, сильно понижала доверие читателей к этому памятнику. В такой ситуации публикация «Сказов» была своеобразным выходом. А о том, что Юрий Петрович считал донесение данных «Книги Велеса» до русских людей делом огромной важности, говорят следующие его высказывания: «Напечатанные “сплошняком”, эти “дощьки” будут доступны только специалистам (да и доступны ли всем?). Между тем мы все должны думать о русских людях, которым эти “дощьки” нужны (выделено нами. — И.Д.)» («Жар-птица. 1957. Апрель) (II, 11; 254).
«Мы же, публикуя тексты, считаем только, что мы исполнили наш долг перед Русским народом и его Историей (выделено нами. — И.Д.)» («Жар-птица. 1957. Сентябрь) (II, 11; 254).
Давайте не будем забывать, что народная традиция всё-таки была, и она была очень дорога Ю. П. Миролюбову как память о детстве, юности, потерянной Родине, что Юрий Петрович, несмотря на своё медицинское образование и докторскую степень по химии, был всё-таки писателем, и его творческий потенциал требовал выхода.
Если мы учтём все эти обстоятельства, то причины появления «Сказов» нам станут понятны. Но естественно, что зафиксировать их где-то, кроме произведений Ю. П. Миролюбова, невозможно.
Сама же традиция, повторяем, была. Её не обнаружили в комплексе, в цельном виде сотни этнографических экспедиций на юге России и в Украине в послереволюционный период. Что ж с того? Ю. П. Миролюбов застал её «на излёте». После 1861 года, с ростом промышленности и городов, переселением многих крестьян в эти города, где они становились рабочими, традиция неизбежно умирала. Внесла свою лепту и столыпинская реформа с её переселениями. А потом Первая мировая и Гражданская войны с их огромными жертвами и большими передвижками населения, коллективизация, индустриализация, урбанизация. Что могло при всём этом остаться от традиции? Немного. Осколки. Помнили ведь в Украине и Перуна, и Даждьбога (об этом говорилось выше). Это и есть осколки. Ничего удивительного, что ряд мифологических представлений, преданий о жизни предков оказались утрачены. Северным русским былинам повезло несколько больше. После Гражданской войны, в 20х годах XX века, на Русском Севере ещё были записаны отдельные из них. Но давайте подумаем, получили бы исследователи такой богатый комплекс сказаний, который мы имеем благодаря А. Ф. Гильфердингу, если бы свои изыскания они только в 20х годах и начали, а до того ничего не было? Пожалуй, нет.
Тем не менее неправомерно говорить, что никаких аналогий этнографическим материалам Ю. П. Миролюбова не находится. Занимавшийся изучением волжской традиции А. И. Асов утверждает, что легенды о прародителях известны на Волге (II, 11; 263). Однако сохранились они только в кратких пересказах, а старые песни по большей части отмерли (II, 11; 263). То есть сохранилась сюжетная канва. И если кто-нибудь по ней взялся что-нибудь сочинять, то, вероятно, получились бы вещи, подобные сказам Захарихи, Варвары, Олексы (II, 11; 263). Между прочим, как утверждает А. И. Асов, волжскому фольклору до сих пор не уделено достаточно внимания (II, 11; 263). Подобное положение должно быть исправлено, ибо многие волжские легенды известны только в этом регионе (II, 11; 263). Другими словами, они легко могут быть утрачены.
Упоминаемая выше «Веда славян» также имеет пересечения с традицией, о которой говорит Ю. П. Миролюбов. Есть в ней те же легенды о прародителях, в частности об Оре, знает она богов Сиву, Вышня, Коляду и ряд других, не известных по другим источникам, кроме этнографических зарисовок Ю. П. Миролюбова и «Книги Велеса» (II, 11; 264, 390, 411).
Можно, конечно, подвергнуть сомнениям и подлинность волжской традиции, о которой говорит А. И. Асов, и подлинность молений и песен болгар-помаков, собранных С. И. Верковичем. Волжскую традицию, однако, можно ещё проверить, она ещё «теплится». Что же касается материалов С. И. Верковича, то в своё время их проверяли люди вполне беспристрастные. Когда в 1874 году С. И. Веркович в Белграде издал первый том «Веды славян», то книгой очень заинтересовались французские учёные. У них была возможность познакомиться с приведёнными в ней песнями, легендами, сказаниями и молениями на своём родном языке, так как С. И. Веркович снабдил тексты книги параллельным французским переводом.
Французы создали к тому времени крупнейшую в Европе школу, занимавшуюся изучением Вед Индии. Поэтому наличие Вед у славян не могло их не заинтересовать. Французское министерство народного просвещения, дабы убедиться в подлинности сборника Верковича, поручило консулу в Филиппополе Дозону — человеку, владеющему южнославянскими наречиями, — произвести проверку «Веды славян» в Родопских горах. Дозон отправился в Серез и прожил там два месяца, а затем подтвердил подлинность и несомненность сборника Верковича, опубликовав об этом две статьи (II, 11; 392–393).
Несколько позже известный санскритолог, переводчик Махабхараты Бурнюф, дабы лично удостовериться в подлинности родопских песен, также совершил путешествие в Македонию и тоже подтвердил бытование ведических песен и обычаев среди болгар-помаков (II, 11; 393).
После этого пришло признание труда С. И. Верковича французскими и итальянскими учёными, которые высказались в том смысле, что «песни “Славянской Веды” по своей важности и обширности занимают первое место среди всех литературными памятников старины, не исключая знаменитой Махабхараты» (II, 11; 393). Благодаря этому признанию, С. И. Веркович смог опубликовать второй том своей книги уже в Санкт-Петербурге (1881). При этом часть средств на её издание выделил лично император Александр II (II, 11; 387).
Итак, «Веда славян» подлинна. Следовательно, подлинны перекликающиеся с ней традиция, о которой писал Ю. П. Миролюбов, и «Книга Велеса».
Очень кстати сейчас будет сказать подробнее о пересечениях «Веды славян» и «Книги Велеса»:
1) И в «Книге Велеса», и в «Веде славян» повествуется об отце Оре (Яре), который вывел роды славян с их прародины из-за сильных холодов. В «Веде славян» он именуется Орпием и Баном (II, 11; 399).
2) И в «Книге Велеса», и в «Веде славян» даются сходные легенды о патриархе Богумире (Благомире, Благом Имире). В «Веде славян» он именуется Имой-царём. Он — патриарх-прародитель, первый царь, он делает первые жертвоприношения, учит земледелию и т. п. Напоминает авестийского царя Йиму, скандинавского Блаина Имира и т. п. Причём в «Веде славян» упоминается и столица Богумира, некий Колоград (II, 11; 399), (II, 8; 14). По мнению А. И. Асова, в нём мы не можем не узнать Вару Йимы («Авеста»), а также Уральский Аркаим, открытый совсем недавно (II, 11; 399), (II, 8; 14). Интересно в связи с этим вспомнить и Голунь (Голынь, Колынь) «Велесовой книги», город, судя по тексту памятника, имевший для русов (славян) важное значение. Он упоминается в довольно большом количестве дощечек. Поставлена Голунь была кругом (д. 17 Б). Круг — это коло. Как не вспомнить Колоград Богумира в «Веде славян». Правда, согласно свидетельству дощечки 35А, основал Голунь не Богумир, а Орий Оседень, который был сразу после Богумира (д. 10).
3) Этого Ория (Ария) Оседня знает не только «Велесова книга», но и «Веда славян». В последней, так же как и в первой, даются легенды о переселении славянских родов из Семиречья под его водительством. В «Веде славян» он — пахарь-орий Сада-король (II, 11; 399, 400). Семиречье в «Книге Велеса» фигурирует под названием земли Семи рек (д. 9А), в одном месте (д. 31), очевидно, именно оно именуется Арийским краем (II, 28; 153). По текстам «Веды славян» Сада-король ведёт славян из некоей Читайской земли (II, 11; 400), (II, 8; 14). Но Читайская земля легко с Семиречьем отождествляется, ибо, по свидетельству А. И. Асова, Семиречьем в широком смысле являются Южный Урал и степи близ Алтая (II, 11; 400), (II, 8; 15). Но эти же земли и по сей день иногда называют Читайской землёй (II, 11; 400).
Кстати, легенда о битве Сады-короля с Ламией имеет пересечение с ещё неопубликованным сказанием о такой же битве, но на Волге, у её притока Ламы (в тех местах сейчас находится город Волоколамск, ранее — Волок Ламский) (II, 11; 400), (II, 8; 15).
Некоторая разница в произношении имён патриархов в «Велесовой книге» и в «Веде славян» (Орий (Арий) — Орпю; Богумир (Благомир, Благой Имир) — Има; Оседень — Сада) объясняется долгой жизнью традиции. Ведь с тех давних пор и языки разошлись, что же говорить об изменении имён. Но, в общем, их созвучие уловить нетрудно.
4) Уже упоминалось выше, что помакские моления и песни содержали имена божеств и мифологических существ, которые известны только по «Велесовой книге»: Вышень, Сивый, Коляда, Мара-Юда (Мор-Мара «Велесовой книги») (II, 11; 390). Известна «Веде славян» и так часто фигурирующая в дощечках Птица Матерь Сва. В «Веде» она именуется «Сива голабче» (II, 11; 403).
5) Есть в «Книге Велеса» и в «Веде славян» совпадение и образов, и даже просто традиционных священных речений (II, 11; 401). Например, вот как описывается приход к славянам праздников в дощечках: «Как идут четыре конца Света, оттуда и праздники идут к нам. И они суть: Праздник первый Коляда, и второй — Ярь, и Красные Горы, и Овсени Великие и Малые. Идут те Праздники, как муж идёт от городов до сёл огнищанских, и посохом землю мерят. Идёт он от нас к другим, и от других — к нам» (выделено нами. — И.Д.) (д. 37А) (I, 4; 81). А вот описание прихода праздника в песне болгар-помаков:
Утром в Личень-день, в Личень-день, Коледов день слетел Бог на землю. Когда проснулось ясное солнце, когда проснулось, он пошёл. И шёл Бог пешком от града до Святого града, от села к селу, от избы к избе… И дошёл Коляда Бог, дошёл до застолья, и воссел он на навечерье… (выделено нами. — И.Д.) (I, 3; 402).Заметим попутно, что легенды о Коляде, имеющиеся в «Веде славян», пересекаются как с южнославянскими преданиями и песнями (например, по записям Вука Караджича), так и с восточнославянскими колядками (II, 11; 401). Это ещё раз показывает, что записанные С. И. Верковичем песни и легенды болгар-помаков не есть что-то в корне отличающееся от традиций других славянских народов, имеют с ними точки соприкосновения и совпадающие элементы. А это лишний раз свидетельствует о подлинности «Веды славян».
Необходимо сказать, что при всех взаимных пересечениях «Книга Велеса» и «Веда славян» — источники, совершенно не зависимые друг от друга. Отметим факты:
1) Подлинность болгаро-помакских песен, молений и легенд, собранных С. И. Верковичем, подтверждена совершенно беспристрастными людьми — французскими учёными. Так что в них сомневаться не приходится. При этом С. И. Веркович понятия не имел о «Книге Велеса». И уж тем более не мог он знать о её нахождении в то время в библиотеке Неклюдовых, с которыми знаком не был.
2) А. И. Сулакадзев, т. е. первый «подозреваемый» в подделке дощечек, умер за 50 лет до публикации в России «Веды славян». При жизни же Александр Иванович не был ни на Балканах вообще, ни в Родопских горах в частности. То есть воспользоваться преданиями болгар-помаков для своей подделки он никак не мог.
3) Второй «подозреваемый», Ю. П. Миролюбов, судя по всему, ничего не знал о «Веде славян», хотя в принципе книга могла быть ему известна. Но вот именно, что только в принципе. Научная судьба труда С. И. Верковича, с одной стороны, очень печальна, а с другой — чрезвычайно показательна. И чтобы понять, почему Юрий Петрович практически со стопроцентной вероятностью даже не слышал о С. И. Верковиче и его книге, необходимо эту судьбу изложить.
Итак благодаря признанию французских и итальянских учёных, С. И. Веркович в 1881 году при поддержке самого императора Александра II издал в России второй том «Веды славян». Но реакция российских славистов на неё оказалась совершенно неожиданной: книгу восприняли отрицательно. Лишь один учёный, Пётр Бессонов, крупнейший специалист по южнославянскому фольклору, одобрительно отозвался о родопских песнях (II, 11; 394). Итог: на IX съезде славистов в Казани работы Верковича были объявлены подделкой самого автора сборника (II, 11; 394). Почему так произошло? Очевидно, в силу того, что в России никто не понял суть этой загадочной книги, ибо изданный в Петербурге второй её том русского перевода не содержал. Первый же, вышедший не в России, имел только французский перевод (кстати, не очень совершенный (II, 11; 402–403)). А если что и разобрали русские учёные, то тогдашним представлениям о славянской мифологии это противоречило. С. И. Веркович, сильно болевший, вскоре скончался (болезнь и была причиной, по которой он не сделал перевод «Веды славян» на русский язык). Поскольку оба тома его книги вышли незначительным тиражом, то о ней в России «благополучно» почти забыли. Во всяком случае, на труд Верковича крайне редко ссылались после его выхода. Он не был известен даже таким крупным дореволюционным исследователям славянского язычества, как Н. Н. Костомаров, А. С. Фаминцын, Д. О. Шеппинг (II, 11; 394). Кстати, и в Советском Союзе, и в современной России в этом плане ничего не изменилось. Не знали о Верковиче у нас и не знают. Книга его сохранилась всего в нескольких экземплярах (II, 11; 394–395). «Веда славян» так и не переведена на русский язык (А. И. Асов перевёл лишь отрывки). И это при том, что ещё в XIX веке во Франции благодаря «Веде славян» сложилась целая школа исследователей славянского язычества, а с 60х годов XX века в Болгарии и Сербии наблюдается всплеск интереса к творчеству С. И. Верковича, религии и преданиям болгар-помаков (II, 11; 396).
Из всего сказанного следует, что Ю. П. Миролюбов о «Веде славян» наверняка ничего не знал. Он и русские-то источники по славянской мифологии знал не в полном объёме (II, 11; 399). В своих книгах, рукописях Миролюбов ни разу не упоминает ни о чём, что могло бы послужить хоть намёком на знание южнославянских древностей (каких-либо!) (II, 11; 399). Ему не был известен ни болгарский, ни тем более болгаро помакский язык (крайне архаичный и от собственно болгарского довольно сильно отличающийся) (II, 11; 396, 399). Добавим также, что знай и понимай Ю. П. Миролюбов «Веду славян», то, на наш взгляд, он бы не примянул на неё сослаться как на подтверждение подлинности «Книги Велеса». Но он этого не сделал, ссылаясь только на свои этнографические наблюдения, заведомо обрекая себя на упрёки в фальсификации, ибо дощечки в научный оборот были введены также им.
Итак, «Веда славян» и «Книга Велеса» — независимые источники. Мы имеем три независимые, малоизученные славянские традиции, которые пересекаются друг с другом: волжскую, болгаро-помакскую и украинско-южнорусскую (известна в изложении Ю. П. Миролюбова). Все эти три традиции имеют точки соприкосновения с «Велесовой книгой», что является ярким доказательством подлинности как последней, так и первых.
Начиная отвечать на вопрос о совпадениях и расхождениях «Книги Велеса» и произведений Ю. П. Миролюбова, мы показали всю силу аргументов противников подлинности дощечек. Заканчивая же ответ, как нам кажется, все эти аргументы мы убедительно отклонили.
Остаётся удивляться только тому, что Юрию Петровичу попал в руки памятник, содержащий элементы той традиции, которая была знакома ему с детства. «Воистину чудо бога Велеса!» — восклицает по этому поводу Д. М. Дудко. Что ж? Может быть, и чудо. А может быть, случай или судьба. Кому как угодно. Не всё в нашей жизни поддаётся рациональным объяснениям, бывает место и необъяснимым стечениям обстоятельств.
И ещё одно такое стечение обстоятельств дало противникам аутентичности «Книги Велеса» лишний повод, чтобы заклеймить Ю. П. Миролюбова как фальсификатора (вопрос № 8, сформулированный нами). Этот памятник содержит ряд элементов, присущих ведической культуре Индии. Что это за элементы?
1) Расположение букв письма дощечек под строкой, как в санскритическом письме деванагари.
2) В «Книге Велеса» — на равных правах с традиционно русским (славянским) словарным запасом — употребляются некоторые слова и термины, которые являются (как принято считать) исключительной принадлежностью санскрита, ведийского языка, ведийской, индуистской и связанных с ними культур, мифологий и религий: Веды, Арий (Орий), Индра (Интра), Исвара (Ишвара), Мара, Протева, Питар Дый, Сварга, сва, сура, Сурья, Твастырь, Ум.
При практически идентичной форме как в санскрите, так и в древнем русском и значение этих имён (в основном божеств) и терминов сакрального характера в тексте «Велесовой книги» и санскрите совпадают:
Арий — как имя собственное, так и родовое название.
Веды — священное учение, священные книги. Причём в «Книге Велеса» упоминаются три Веды (д. 25). Древнейших же индоарийских Вед также три: Ригведа, Самаведа и Яджурведа. Четвёртая Веда, Атхарваведа, более поздняя.
Индра — божество, предводитель небесного воинства. В дощечках он выводится как ипостась Перуна (д. 30).
Исвара, Иствара (ведический Ишвара) — Владыка, Господь. Здесь необходимо заметить, что в ведийской религии Индии Ишвара — эпитет Шивы, дословно означающий Повелитель. В «Книге Велеса» — это ещё одно имя славянского бога Сварога (Бога-творца). Само слово «Сварог», по-видимому, дословно и означает «Творец». В русском просторечье до сих пор сохранилось слово «сварганить» в смысле «приготовить что-нибудь», «что-нибудь сотворить». Эти два имени наиболее сближаются в дощечке 36Б, где употреблена форма «Исварог» (в переводе Д. М. Дудко) (I, 5; 119). И хотя дословные значения слов «Сварог» и «Ишвара» (Творец и Повелитель соответственно) не совпадают, но функционально они близки, ибо Бог-творец и есть повелитель и господин, Всевышний. Вообще это не единичный случай в «Книге Велеса», когда при близости звуковой формы имён божеств с ведическими божествами происходит некоторое переосмысление смысловой нагрузки слова. И случай со Сварогом и Ишварой — не самый в этом отношении показательный. Есть и более яркие примеры, когда при сходстве терминов их этимология различна. Но об этом ниже.
Мара — дух смерти, демон, наводящий иллюзию-морок, морочащий людей.
Матерь Протева (ведическая Притхиви Матар) — Мать-Земля. Супруга Неба-Отца (Питара Дыя).
Питар Дый (ведический Дьяус Питар) — Небо-Отец.
Сварга — небо, место пребывания душ предков.
Сва — и в «Велесовой книге», и в санскрите — притяжательное местоимение, означающее «свой, своя, свои, своё». В дощечках эпитет божественной огненной птицы, воспевающей победы славян и зовущей их к битвам — Птицы— Матерь Сва.
Сура — алкогольный напиток, употреблявшийся при богослужении и жертвоприношении.
Сурья — Солнце, божество солнца.
Твастырь (ведический Тваштар) — Бог-творец. В «Велесовой книге», по-видимому, ещё одно имя бога Сварога, что следует из слов в дощечке № 25: «Сказал Орию Сварог наш: “Я — Иствара. Сотворил вас из перстов моих, и будет сказано, что вы — сыны Творца. И ведите себя как сыны Иствароговы, и будете как дети мои…”» (I, 5; 95).
Ум (ведический Ом, Аум) — некое абстрактное, философское понятие. Своеобразный абсолют, идеальное начало бытия.
Есть в «Велесовой книге» такие божества, как Вышень, Крышень и Сивый. Они также довольно легко отождествляются с индийскими Вишну, Кришной и Шивой. Как раз вот здесь «известная степень ассимиляции (усвоенности) санскритских терминов древнерусским даёт некоторое переосмысление, с древнерусской точки зрения, их этимологии, а это влечёт за собой изменение звуковой формы (или наоборот)» (II, 52; 209). Вишну (в санскрите от корня vis, «проникать», «распространяться») стал Вышнем («Превышним» в современном русском), а Шива (civa, произносится (щива), «милостивый») стал Сивым. Аналогично Кришна (санскр. кrsna, «чёрный», «тёмный», «тёмно-синий») на Руси получил звуковую форму Крышень (что, очевидно, означает «покрывающий», учитывая смысл современного слова «крыша»).
Некоторые общие и схожие для санскрита и «Велесовой книги» слова имеют в последней производные. Например: Арийарецко (арийское), аристе (арийской); Сурья сурен, суражи, суражь (солнечный) (II, 52; 209).
Ряд сложных санскритских слов изменили в языке дощечек (древнерусском) одну из своих частей, сохранив при этом смысл, например, санскритское Тримурти — «три лика», «три изображения» (индийская Троица) древнерусский Триглав («три головы», «трёхглавый/трёхголовый») (II, 52; 210).
Итак, как видим, совпадений «Книги Велеса» с элементами ведической культуры Индии довольно много. И больше подобных памятников славянской письменности не известно. Правда, о ведических корнях древнерусской религии писали с древнейших времён и поныне сотни авторов. Есть целые научные школы, развивающие это направление в науке (II, 11; 282). И в последнее время появилось значительное количество данных, подтверждающих древнейшие индо-русские связи (II, 52; 207). В частности, поскольку только в наши дни результаты исследований С. И. Верковичем веры и обычаев болгар-помаков вводятся в научный оборот, стало известно, что в XIX веке помаки хранили заклинания и короткие гимны (подобные мантрам), которые говорились на неизвестном древнем языке, и Веркович определил, что язык этот близок к санскриту (II, 11; 390).
Да, всё это так. Но тем не менее письменных славянских памятников, которые если не в таком же объёме, как «Книга Велеса», то хотя бы частично содержали следы связей с ведической религией Индии, больше нет.
А здесь еще и то самое стечение обстоятельств, о котором мы говорили выше: Юрий Петрович Миролюбов после Гражданской войны был в Индии. Индийская культура произвела на него глубочайшее впечатление, он даже стал изучать санскрит. После же и научные его взгляды связывали древнюю славянскую и индийскую историю. Вывод противников подлинности «Книги Велеса» прост: данный памятник и был создан Ю. П. Миролюбовым для подкрепления своих исторических концепций, ибо больше подкреплять их ему было, в общем-то, нечем.
Попробуем возразить. Во-первых, Ю. П. Миролюбов не единственный, кто отождествлял индоарийцев и славян (об этом мы уже говорили). В этом случае он мог просто ссылаться на научные авторитеты, ибо ему, как человеку начитанному, образованному, интересующемуся древнейшей историей славян, они, безусловно, были известны. И корпеть над фальсифицированным источником было вовсе не обязательно. Во-вторых, как нам представляется, те, кто обвиняет Ю. П. Миролюбова в подделке, образно выражаясь, «ставят телегу впереди лошади»: научные взгляды Юрия Петровича сформировались во многом благодаря «Велесовой книге». Ведь он работал с ней со второй половины 20х годов прошлого столетия, кое-что из неё понял, обнаружил в ней индийских божеств и нашёл соответствие с той народной традицией, которая была знакома ему с детства. И в итоге присоединился к тем учёным, которые искали прародину индоевропейцев (а стало быть, и славян) в Азии (в частности, в Индии). Ю. П. Миролюбов сам демонстрировал, как формировались его научные взгляды. Вот, например, что он пишет по поводу письма дощечек: «…Старый дед на хуторе к северу от Екатеринослава нас уверял: “В старовину люди грамоте знали! Другой грамоте, чем теперь, а писали её крючками, вели черту Богови, а под неё крючки лепили, и читать по ней знали!” Только теперь, вспоминая эти слова, приходится думать, что дед говорил правду. Санскритские надписи пишутся именно так, что ведётся черта, а под ней ставятся разные крючки. Как могло сохраниться такое тысячелетней давности воспоминание, не наше дело отвечать, а что оно означало, мы понимаем. Вероятно, жила ещё традиция, изустно передававшая многое, что христианство стёрло из памяти большинства. Знали такую устную традицию немногие, но упорно передавали другим…» (II, 52; 206). Есть в этих словах всё: и ссылка на древнейшую традицию, которая удивительным образом совпала с «Книгой Велеса» и упоминанием которой Юрий Петрович рисковал навлечь на себя обвинения в фальсификаторстве, и указание на то, что определённые научные выводы были сделаны Миролюбовым после знакомства с «Дощьками Изенбека». В-третьих, упрекать Миролюбова в подделке «Книги Велеса» потому, что он бывал в Индии и был знаком с индийской культурой (в частности, с санскритом), можно с таким же основанием, как упрекать А. И. Мусина-Пушкина в подделке «Слова о полку Игореве». Ведь А. И. Мусин-Пушкин жил в России, был любителем и собирателем русских древностей, знал (хоть и не в совершенстве) древнерусский язык. Согласитесь, этого мало, чтобы объявить «Слово» фальсификатом (хотя кое-кто так делал). То же самое мы скажем и о «Велесовой книге».
9) Что же имеется на сегодняшний день из первоисточников? Частично эту проблему мы затрагивали, рассматривая предыдущие вопросы. Однако сейчас сфокусируем внимание именно на современном состоянии первоисточников, а не на том, что когда-то было, но затем было утрачено. Самого памятника нет. Нет его копии-прорисовки и фотокопии. А что есть? Машинописная транслитерация Ю. П. Миролюбова. Причём машинописей — два экземпляра. Одна принадлежала А. А. Куренкову, а другая — отцу Стефану Ляшевскому. Эти машинописи ценны тем, что содержат исправления, сделанные их владельцами. Появились эти исправления, как уже говорилось выше, вследствие того, что и Кур, и Ляшевский сверяли тексты принадлежащих им транслитераций с рукописной копией, находившейся у Миролюбова.
Есть рукописная копия трёх дощечек (31, 32 и 33). Они обнаружены в архиве Ю. П. Миролюбова Н. Ф. Скрипником. Причём это не копии в полном смысле, а опять-таки во многом транслитерации, т. к. наряду со старинными буквами содержат и буквы современные, которые Ю. П. Миролюбов вставлял по собственному разумению.
Присовокупим сюда публикации в «Жар-птице», которые в ряде моментов отличаются от машинописной транслитерации Миролюбова. Эти публикации — плод прочтения дощечек А. А. Куренковым. И не всегда его прочтение можно охарактеризовать как научно недобросовестное, ибо в ряде случаев оно вполне может быть более точным, чем прочтение Ю. П. Миролюбова, отражённое в машинописи. Публикации в «Жар-птице» ценны ещё и тем, что в статьях о дощечках, которые помещал в журнале Куренков до масштабной публикации их текстов (началась с 1957 года), содержатся отрывки, воспроизведённые непосредственно буквами алфавита «Велесовой книги». При масштабных же публикациях давались транслитерированные тексты. Благодаря этим статьям мы можем пополнить репертуар знаков велесовицы (назовём так алфавит памятника).
Наконец, существуют две фотографии дощечки 16: аверса (стороны А) и реверса (стороны В). При этом фотография реверса крайне некачественная, и на ней мало что можно разобрать.
Что же касается хранящихся в Русском музее в Сан-Франциско четырёх негативов, то, прежде чем заносить их в актив имеющихся первоисточников, надо, во-первых, выяснить, что же на этих негативах содержится (уже говорилось, что два из них вполне могут содержать фото дощечки 16 (А, В)), а во-вторых, необходимо проверить степень их сохранности, так как снимкам свыше семидесяти лет.
Приходится признать, что состояние источниковой базы, мягко говоря, неудовлетворительное. И оно действительно даёт повод противникам аутентичности «Книги Велеса» сказать, что никаких дощечек в действительности и не было, и всё это не более чем фальсификация Ю. П. Миролюбова. Но очень хочется провести аналогию со «Словом о полку Игореве», ведь сам этот памятник тоже не сохранился. Он погиб в московском пожаре 1812 года. Более того, изначально его оригинал находился в сборнике древнерусских произведений, который принадлежал отнюдь не к эпохе описываемых в «Слове» событий (т. е. не к концу XII века), а к более позднему времени (II, 36; 4). До нас дошла лишь копия, снятая Мусиным-Пушкиным для Екатерины II. Даже большая часть экземпляров первого издания «Слова о полку Игореве» 1800 года сгорела в Москве (II, 36; 5). Есть ли основания усомниться в подлинности этого произведения, исходя только из изложенных фактов? Да, безусловно, есть. И находятся те, кто сомневается до сих пор. Тем не менее большинство учёных признают «Слово» подлинным, т. е. сомнительные обстоятельства введения памятника в научный оборот не влияют на их вывод. Почему? Дело в том, что, во-первых, это произведение древнерусской литературы, созданное в конце XII века, написано языком, который вполне отвечает представлениям учёных о том, каким должен быть древнерусский язык; во-вторых, в нём изложены известные по другим источникам исторические события. Другими словами, в отношении языковой формы и непосредственного содержания в «Слове о полку Игореве» нет ничего особенного.
Но тогда мы должны сказать, что состояние источниковой базы по «Велесовой книге» также не должно приводить к однозначному выводу о поддельности этого памятника. Ведь исторические перипетии, как правило, не содействуют сохранности письменных исторических источников.
10) Наконец, есть в копилке противников аутентичности «Дощечек Изенбека» и ещё один аргумент: дощечки — не единственная историческая «сенсация», появившаяся в 20—30е годы в среде эмигрантов из России. Можно даже сказать, что среди них существовало некоторое «поветрие» — открывать неизвестные исторические источники. Так, эмигрант Ю. Арбатский «открыл» «тайное» житие князя Владимира, из коего следовало, что креститель Руси в конце жизни вернулся к язычеству и удалился на Балканы (II, 28; 19–20). Эмигранты-татары «открыли» тюрко-болгарского писателя Шамси-Башту, творившего в Киеве в IX веке, где якобы правили тогда болгары-мусульмане. А Шота Руставели будто бы всего лишь подражал ему (II, 28; 20). Эмигранты-осетины «обнаружили» эпическую песню о бое Мстислава с Редедей (II, 28; 20). Но всё это на поверку оказалось не более чем фальсификациями.
По-человечески эмигрантов можно понять. Подобные «занятия историей» были для них средством заглушить ностальгию, может быть, напомнить изгнавшей их Родине о своём существовании. Но с научной точки зрения эти люди — не более чем фальсификаторы.
И очень уж хорошо укладывается в перечисленном ряду «неизвестных письменных памятников» «Велесова книга»: и появилась в той же эмигрантской среде, и мотивы для её создания становятся во многом ясны. Всё так. Но, говоря юридическим языком, это «улики косвенные». Делать категорические выводы по подобию вообще очень и очень рискованно. Следуя этому пути, можно и Мусина-Пушкина смело обвинять в подделке «Слова о полку Игореве» на том основании, что конец XVIII — первая половина XIX века были очень богаты на открытие различных славянских письменных древностей, некоторые из которых оказались (или считаются) фальсификатами. Этот «славянский бум» был вызван интересом учёных славянских народов (профессионалов и любителей) к своей древней истории. И найденное Мусиным-Пушкиным «Слово» очень хорошо укладывается в цепочку этого патриотического интереса. Так что же: объявим «Слово о полку Игореве» подделкой? Или будем говорить, что оно с большой долей вероятности подделка? Думается, это совершенно неправомерно.
Неправомерны такие выводы и в отношении «Книги Велеса».
Итак, мы рассмотрели группу аргументов противников подлинности «Велесовой книги», связанных с обстоятельствами находки этого памятника и введения его в научный оборот, и попытались ответить на все поставленные ими вопросы. Теперь перейдём к рассмотрению аргументов, касающихся материала, на котором «Книга Велеса» была записана, т. е. дощечек.
* * *
Да, именно на том основании, что памятник был зафиксирован на деревянных досках, некоторые учёные делают вывод, что такового памятника вообще быть не могло. Так, профессор Б. И. Осипов «очень смущён» «уникальностью технологии изготовления текста» (II, 4; 222). Ясно, что под «уникальностью» подразумевается процарапывание текста на деревянных дощечках. Спору нет: материал для письма не очень удобный, ни скорости письма не добьёшься, ни красивого почерка. И вообще, трудоёмко так писать. Но что же поделаешь? Не существовало в IX веке (более вероятная эпоха появления памятника) на Руси бумаги. Да и нигде в мире её тогда не существовало, не было её и ранее. Вот и писали во все времена на чём попало, что под руку подвернётся: на глиняных табличках (Междуречье), на папирусе (Древний Египет; очень, кстати, удобный писчий материал, близок к бумаге, но вот беда — на Руси папирус не произрастает), на навощённых табличках (Древний Рим), на шёлке (Китай). Во многих странах использовался пергамент (особыми способами обработанная кожа ягнёнка, козлёнка или телёнка), но это был очень дорогой писчий материал. А уж на всяких камнях да бытовых предметах отдельных письменных знаков, а то и текстов наоставляли великое множество. И если, по мнению профессора Б. И. Осипова, на камнях процарапывать тексты удобнее, чем на дереве, то он, вероятно, будет очень удивлён, узнав, что в древности дерево для письма использовалось очень широко. Деревянные дощечки как писчий материал известны у хеттов, иранцев, фракийцев, тех же китайцев и римлян, тибетцев, чукчей, германцев (в частности, скандинавов), финно-угров и тюрок (II, 28; 215).
Вне всякого сомнения, письмена на дереве употребляли и славяне. Отголоски существования деревянных книг донесла народная традиция. По сей день наряду с выражением «прочесть книгу от корки до корки» бытует более редкое и более древнее «прочесть книгу от доски до доски». Русский народный «Стих о Голубиной книге» гласит: «Ты читай-то книгу, да с доски на доску» (II, 28; 215–216). Есть и письменное историческое свидетельство, прямо говорящее о том, что русичи использовали дерево как писчий материал. Это уже упоминавшиеся слова арабского путешественника Х века Ибн эль-Недима, который в одном из своих трактатов отметил: «Некто, чьим словам я могу верить, рассказал мне, что один из царей горы Кабк (т. е. Кавказа. — И.Д.) послал его к королю Руссов, и он обратил внимание на пропуск, который содержал письмена, вырезанные на дереве (выделено нами. — И.Д.). При этом он вытащил кусочек белого дерева, который передал мне. На нём были вырезаны знаки, которые, не знаю представляли слова или изолированные буквы…» (II, 58; 222). Наконец, совсем недавно, в 2000 году, в Новгороде археологи под руководством академика В. Янина сделали сенсационное открытие. Они обнаружили при раскопках деревянную книгу из трёх страниц, содержащих тексты трёх псалмов царя Давида — 75, 76 и 67 (II, 35; 13). Огромное значение этой находки не только в том, что «Новгородская Псалтирь» — древнейшая русская книга (она, как установлено, создана на рубеже Х — XI веков, т. е. на полвека старше знаменитого «Остромирова Евангелия»), но и в том, что находка неоспоримо подтверждает факт существования деревянных книг на Руси (и надо полагать, что и у других славян).
Так что говорить о какой-то «уникальности» «Велесовой книги», имея в виду её материал и намекая тем самым на её поддельность, не приходится.
В 1993 году столяру А. Бикмуллину удалось восстановить древнюю технику славянского письма на дереве (II, 52; 128), (II, 9; 95). Проведённые исследования показали, что тексты дощечек процарапывали шилом, а после написания дощечки подвергались горячему вощению. Это необходимо, чтобы подчеркнуть оптические свойства древесины и сделать буквы более заметными. Также горячее вощение многократно увеличивает долголетие дерева. Этим достигается закрепление прорезанных шилом капилляров древесины, дезинфекция и консервация. Жидкий воск глубоко проникает во все поры и трещины (II, 52; 128,129). Примечательно, что дощечки «Новгородской Псалтири» также навощены. Описание же дощечек «Велесовой книги», оставленное нам Ю. П. Миролюбовым, позволяет полагать, что и последние были обработаны воском: «Текст был написан или процарапан шилом, а затем натёрт чем-то бурым, потемневшим от времени, после чего покрыт лаком или маслом…» (II, 52; 128). На наш взгляд, натёртость букв «чем-то бурым», покрытие «лаком или маслом» указывают именно на вощение и, может быть, на олифение (вываривание в кипящем масле), как считают тот же А. Бикмулин и биологи из Харькова (II, 28; 217). С очень большой долей вероятности А. Бикмулин верно реконструировал технологию изготовления деревянных книг.
Но как раз с этой технологией тесно связан другой вопрос: могли ли дощечки сохраниться с IX по XX век и, более того, несколько лет пропутешествовать в морском мешке по фронтам Гражданской войны, а потом долгое время в том же мешке проваляться в углу мастерской Ф. А. Изенбека в Брюсселе и не обратиться в труху?
Именно подобные сомнения подвигли одного из сторонников подлинности «Книги Велеса» В. Грицкова высказать предположение, что, возможно, никаких дощечек у Изенбека не было, но была их копия на бумажном носителе (может быть, принадлежащая к XIV веку). Её-то Ю. П. Миролюбов и называл «Дощьками Изенбека» (II, 25; 36). Чем подкрепляет В. Грицков свою гипотезу? Он ссылается на самого Ю. П. Миролюбова. В одном из своих произведений («Славяно-русский фольклор») последний, по мнению В. Грицкова, «проговаривается» (II, 25; 36): «Позже судьба свела нас уже за границей с покойным художником Али Изенбеком… У него оказалась рукопись (выделено В. Грицковым. — И.Д.) «Дощьки Изенбека». Этот документ мы изучали, переписывали…» (II, 25; 36). Вот на этом слове «рукопись» и базируется построение В. Грицкова. Может быть, исследователь имеет в виду и слово «документ», которое больше подходит для письменного памятника на бумаге. Почему В. Грицков датирует копию дощечек на бумажном носителе XIV веком? Откуда взялась эта дата? Мы полагаем, к её определению его также подвиг Ю. П. Миролюбов. В одном из писем к С. Лесному, уговаривая последнего не торопить его с присылкой текстов дощечек, Юрий Петрович замечает: «Прошло, вероятно, с пятьсот-шестьсот лет с тех пор (выделено нами. — И.Д.). Что такое ещё два-три месяца?!» (II, 11; 242). Вот вам и XV — XIV века. Правда, непонятно, то ли действительно Ю. П. Миролюбов стал относить создание «Книги Велеса» к этим векам, то ли в письме была просто описка (предполагалось написать «тысяча пятьсот-тысяча шестьсот лет»). Признавая за версией В. Грицкова право на существование, мы всё же полагаем, что изначально у Изенбека дощечки всё-таки были, и слова «рукопись» и «документ» в книге Миролюбова объяснимы: ведь текст на дощечках фиксировался всё-таки рукой (т. е. это не машинопись), а с определённой натяжкой текст на любом носителе (не только на бумажном) можно назвать документом.
И тогда снова необходимо вернуться к вопросам: могли дощечки сохраниться за более чем тысячу лет? И могли ли они выдержать отнюдь не музейное хранение в годы Гражданской войны и эмиграции Изенбека (до встречи Ю. П. Миролюбова с ними)?
Табл. 7.
Относительно более чем тысячелетней сохранности ответ будет положительным: да, могли. Деревянные предметы хорошо сохраняются в земле, если климат влажный и сравнительно холодный. Могут они сохраниться за многие века и в помещении, если за ними там тщательно ухаживают. Обо всём этом убедительно говорят, например, раскопки в Новгороде или судьба древнерусских икон.
Можно думать, что в течение многих веков должный уход за деревянной книгой был. Предположительно её путь реконструируется следующим образом: библиотека Ярослава Мудрого — библиотека его дочери Анны Ярославны (во Франции) — книжное древлехранилище аббатства Санлис — собрание древних книг П. П. Дубровского — библиотека А. И. Сулакадзева — библиотека Неклюдовых — библиотека Задонских.
Остаётся только удивляться сохранности дощечек в течение нескольких лет, что они находились у Ф. А. Изенбека. Повторяем: в эти годы условия их хранения были не музейные и не библиотечные. Но, очевидно, вышеописанная технология изготовления дощечек всё-таки предохранила их от окончательного разрушения. Хотя, безусловно, условия, в которых находились дощечки до того момента, когда с ними стал работать Ю. П. Миролюбов, способствовали их разрушению. Вспомним, какое описание внешнего вида «Книги Велеса» оставил Ю. П. Миролюбов. Вид этот был далеко не «блестящий». Думается, в подобное состояние «Книга» во многом была приведена за последние годы своего существования.
Итак, мы дали ответ на ещё одну группу аргументов противников подлинности «Велесовой книги». Следующие их аргументы касаются алфавита и языка памятника.
* * *
Именно алфавит и язык «Книги Велеса» вызывают наибольшее недоверие специалистов к ней, другими словами, дают наибольшее количество поводов для её критики как подлинного исторического источника. Но сразу скажем, что именно в этой области находятся и весомые доказательства её аутентичности.
Первоначально рассмотрим алфавит «Велесовой книги». Судят о нём учёные лишь по фотоснимкам дощечки 16 (А, В). Как уже отмечалось, фотографий других дощечек нет. Но ведь есть статьи А. А. Куренкова, в которых помещались большие или меньшие отрывки текстов некоторых дощечек, бравшиеся Куренковым из рукописной копии Ю. П. Миролюбова. Причём отрывки эти давались в статьях именно письменными знаками «Велесовой книги» (в дальнейшем будем называть алфавит памятника «велесовицей»). Есть довольно чёткая прорись нескольких строк дощечки 33. На наш взгляд, статьи Кура и частичную копию дощечки 33 вполне можно использовать для пополнения репертуара знаков велесовицы.
Однако сначала всё-таки проанализируем фотографии дощечки 16. Вообще заметим, что проблему представляет не только определение звукового значения букв алфавита «Книги Велеса», но и по причине некачественных фотоснимков (особенно 16 Б), а также вариативности в начертании знаков выделение самих букв из сплошняком записанных текстов (т. е. без разбивки на слова и предложения).
Простых букв в текстах дощечки 16 насчитывается 27 (II, 28; 220), (II, 52; 156). Но, по мнению Н. В. Слатина, диграфы, т. е. письменные знаки, состоящие из двух букв, также необходимо учитывать как отдельные буквы (на наш взгляд, это справедливо, ведь считаются же отдельными буквами диграфы кириллицы). Таковых диграфов — семь. Таким образом, количество букв велесовицы равно 34 (II, 52; 156). Что представляет собой алфавит «Велесовой книги» (табл. 7)?
Кроме того, необходимо добавить, что в тексте дощечки 16 нет буквы, передающей звук «ф». Такого звука вообще не было в исконных словах древнерусского языка (II, 52; 156). В текстах других дощечек эта буква появляется, но не в русских словах. На основе миролюбовских транслитераций Н. В. Слатин считает возможным придать ей привычный для нас вид: «Ф». Таким образом, количество букв велесовицы можно довести до 35.
Если рассматривать азбуку «Книги Велеса» как один из вариантов протокириллицы, в классическом понимании считая, что последняя есть плод заимствования славянами греческого алфавита, то, безусловно, необходимо отметить количество заимствованных (общих с греками) и своеобразных (славянских, русских) букв. Общими являются «а», «в», «г», «д», «е(э)», «i», «к», «л», «м», «н», «о», «п», «р», «с», «т», «х» (итого 16). Специфические славянские звуки передаются буквами «б», «ж», «з», «у», «ц», «ч», «ш», «щ», «ъ», «ь», «G», «ы», «е» (йотированное «э»), «ю», «й», «я», «носовое э», «носовое о» (итого 18). Восемнадцать букв, правда, включая семь диграфов, собственно славянские (русские). И только шестнадцать букв — греческие. В процентном отношении это примерно 52 % к 48 %. Это предварительные «намётки». Напомним, что данное соотношение в классической кириллице, состоящей из 43 букв, из которых славянскими являются только 19, равно примерно 44 % к 56 %. Как видим, в велесовице славянских букв больше, чем греческих. Но если даже отбросить диграфы, не считая их самостоятельными буквами, и принять количество букв алфавита «Велесовой книги» равным 27, то и тогда славянские (русские) письменные знаки составят более 40 % от общего их количества (т. е. 11 букв из 27). В любом случае процент самостоятельного творчества очень велик. В первой ситуации он даже превышает процент простого заимствования. Однако вынуждены повторить, что, на наш взгляд, совершенно неверно исключать диграфы велесовицы из состава её алфавита. Из 19 славянских букв кириллицы явными диграфами являются семь (q, r, ю,Љ, ~, >, \). В четырёх из них оба элемента можно считать греческими (q, ю, Љ, ~), в трёх один элемент — славянский, другой — греческий (r, >, \). Два диграфа не имеют соединения между своими элементами (q (в преимущественном варианте начертания этой буквы), r). В пяти случаях соединение имеется (ю, Љ, ~, >, \). Но, несмотря на все эти особенности, все семь рассматриваемых диграфов кириллицы считаются самостоятельными буквами, и этого никто не оспаривает.
Однако такую же ситуацию мы имеем с велесовицей. Даже количество диграфов такое же — семь. Четыре из семи обозначают те же звуки, что и диграфы кириллицы:
Среди диграфов «Велесовой книги» также есть состоящие целиком из предполагаемых греческих элементов: 28, «ы» в вариантах 52, II, «я» в варианте 55 (с натяжкой), 56. Есть состоящие из одного предполагаемого греческого элемента и одного славянского (русского): «ю» (во всех вариантах написания), «ы» в варианте 47, «я» в варианте. Диграфы велесовицы могут иметь соединения между своими элементами, а могут и не иметь их ().
Почему же ряд специалистов не считают диграфы велесовицы самостоятельными буквами, ограничивая азбуку «Дощьек Изенбека» двадцатью семью графемами (II, 28; 220)? Ответ, как нам представляется, весьма прост и ни в коем случае не касается характера «двойных букв» велесовицы. Кириллица известна нам не только по написанным ею текстам, но и непосредственно по алфавитам, дошедшим до нашего времени в значительном количестве. Именно в этих алфавитах указанные диграфы значатся как отдельные буквы. И тут уж, как говорится, ничего не попишешь. Иное дело велесовица: эта азбука реконструируется только по тексту «Книги Велеса», т. е. выделенного древними книжниками алфавита «велесовица» мы не имеем. Да и текст, написанный ею, один-единственный. И хоть он объёмный, но дошёл до нас в основном в виде транслитерации.
Однако на этом вопрос «греческих заимствований» велесовицы считать исчерпанным не приходится. Ещё раз обратимся к шестнадцати «греческим» буквам этого алфавита. Так ли уж бесспорно, что все они заимствованы у византийцев? Мы даём отрицательный ответ на этот вопрос. Рассмотрим несколько таких «спорных» графем. Во-первых, это графема, обозначающая в азбуке «Велесовой книги» звук «а». Её преимущественное изображение —, более редкое — (причём как в самостоятельном употреблении этой графемы, так и в диграфе «я»). Положа руку на сердце в своём более распространённом варианте она совсем не похожа на византийскую уставную «альфу». Можно, конечно, в греческом курсиве найти начертания «альфы», схожие с «а» велесовицы (II, 58; 119), (II, 31; 70). Но данные начертания не являются не только единственными, но даже преимущественными. Кроме того, они всё-таки не демонстрируют абсолютного сходства с буквой, передающей звук «а» в велесовице. И, наконец, сомнительно, что составители этой последней работали по принципу «курочка по зёрнышку», «выдёргивая» буквы то из греческого унициала, то из греческого же минускула (курсива, скорописи).
С другой стороны, с полным основанием можно утверждать, что более распространённый вариант «а» «Велесовой книги» имеет сходство с соответствующей руной двух славянских рунических систем: рун Ретры и рун «Боянова гимна» (бояновицы) ().
В своём более редком начертании «а» «Велесовой книги» —
напоминает один из вариантов современного русского печатного «а» или, как отмечает Д. М. Дудко, соответствующую букву средневекового латинского маюскула (II, 28; 221). Следовательно, формально мы имеем право предположить заимствование данной графемы из латиницы. Однако, по нашему мнению, менее частый способ написания «а» в велесовице вполне мог быть всего лишь следствием срыва пишущего орудия при начертании графемы (т. е. шила при выцарапывании буквы на деревянной дощечке). К такому выводу нас подвигает не только имеющаяся в нашем распоряжении опубликованная фотография стороны А дощечки 16, но и скопированные фрагменты текстов из архива Ю. П. Миролюбова (фрагменты дощечки 33) и публикаций А. А. Кура в «Жар-птице» (рис. 40–43). Примечательно, что ни один из этих фрагментов не знает редкого способа начертания буквы «а».
Вторая «сомнительно-греческая» буква в велесовице — это графема, обозначающая звук «с». Напомним: её преимущественный вид в дощечке 16 —
более редкий —
Буква «слово» кириллицы, практически схожая с современным русским «с» по начертанию, явно соотносится с «сигмой» византийского устава, т. е. св. Кирилл, составляя свою азбуку, ориентировался на эту букву греческого алфавита. При этом мы не говорим о том, что «с» буквально всех вариантов протокириллицы ведёт своё происхождение от греческой «сигмы». Это вопрос весьма спорный, ибо, как представляется, не всякая протокириллица есть «переложение» византийского унициала. В предыдущих главах об этом говорилось. Но вернёмся к протокириллице-велесовице. Ясно, что «с» в ней ведёт происхождение не от греческой «сигмы». Последняя ни в уставном, ни в курсивном своём варианте никоим образом не похожа на знак «Книги Велеса»:
Есть другая буква византийского алфавита, которую можно считать «прародительницей» велесовского «с». Это «дигамма», точнее один из вариантов её начертания:
Но вот что интересно: буква эта обозначала звук близкий к нашему «в», и никогда не обозначала звука «с». Кроме того, в VIII–IX веках, когда, по мнению специалистов, протокириллические азбуки (в том числе, следовательно, и велесовица) могли возникнуть путём преимущественного их заимствования у греков, эта буква из византийского алфавита в ходе его эволюции практически исчезла, не употреблялась. Что заставило составителей (или составителя) велесовицы использовать для своей «с» «мёртвую» греческую букву, да ещё и обозначавшую «при жизни» совершенно другой звук — остаётся загадкой.
Рис. 40.
И загадка эта становится ещё более интересной, если принять во внимание тот факт, что, видимо, подобное же обстоятельство подтолкнуло составителя (или составителей) кириллицы использовать византийскую «дигамму» для своей буквы «зело». Любопытно, не правда ли? Мозги двух древних книжников «сработали» в одном направлении, избрав «прототипом» для своих (заметим, разных) букв одну и ту же греческую букву, фактически не употреблявшуюся и имевшую абсолютно иную звуковую нагрузку. Объяснение данному феномену, на наш взгляд, следует искать в том, что, очевидно, не «дигамма» послужила образцом для «с» велесовицы и «зело» кириллицы. Что же? Можно предположить латинскую S. Действительно, внешнее сходство несомненно.
Рис. 41.
Рис. 42.
Рис. 43.
Обозначает звук «с» в латыни, а у соседствующих со славянами германцев (немцев) в определённом положении читается как «з». Вот вам, казалось бы, весьма вероятный источник велесовского «с» и кирилловского «зело». Но… Уж больно эклектичными выглядят тогда наши азбуки. Получается, собирали их наши предки «с миру по нитке». Нам это представляется сомнительным. Нет. Должен был быть другой источник этих букв. Какой-то свой, родной, привычный. И, оказывается, такой источник есть. Обе славянские рунические системы (ретринские руны и бояновица) включают руну, звуковое значение которой «з, с», а начертание очень близко к велесовской «с». В бояновице её вид —
(особенно близок к «с» «Велесовой книги»), в ретринских рунах —
(руна больше похожа на современную печатную «и» и кажется весьма далёкой от «с» велесовицы; но если присмотреться, то хорошо видно, что подобный вид — лишь следствие незначительного изменения начертания руны «з, с» бояновицы, и, в сущности, руна та же самая). Представляется, что именно знаки славянских рун со значением «з, с» и послужили прототипом как «с» велесовицы, так и «зело» кириллицы.
Третья греческая буква велесовицы, которая при ближайшем рассмотрении таковой не является, — это «о». Её начертание —
или
Употребляется не только как самостоятельная буква, но и как составной элемент в диграфах «ы»:
«ю»:
«о носовое»:
Варианты начертания графемы встречаются приблизительно с одинаковой частотой. Второй вариант
даёт основание говорить, что эта буква велесовицы ведёт своё происхождение от греческого «омикрона». Однако легко заметить даже в таком способе написания велесовского «о» отличие от «омикрона». Последнему как в уставном, так и в курсивном варианте присуща округлая форма. У «о» «Велесовой книги» округлость внизу сменяется сужением и заострением кверху, так что буква напоминает наконечник стрелы.
Можно предположить, что способ изображения «о» без «усиков» наверху является лишь дефектом начертания, вызванным характером писчего материала (дерево), пишущего орудия (что-то подобное шилу) и расположением линии строки (над буквами, а не под ними). Заострение верхней части графемы, казалось бы, говорит в пользу такого предположения: тот, кто писал (точнее, процарапывал) «о» на дощечках, стремился к изображению «усиков», но упирался в линию строки.
Однако считать данное утверждение более чем предположением, мы не можем, т. к. подобные «огрехи» в изображении «о» «Велесовой книги» практически равны по количеству её «правильному» изображению. Таким образом, есть все основания считать, что разность начертания буквы имеет под собой какой-то смысл.
Способ начертания «о» велесовицы с «усиками» наверху ещё более утверждает в мысли, что произошла данная буква вовсе не от греческого «омикрона». Если уж говорить о греческой букве, послужившей прототипом для велесовской «о», то таковой может являться по форме скорописная «гамма» (γ) с той разницей, что её нижняя петелька гораздо уже подобной петельке «о» велесовицы. Но «гамма» обозначала звук «г», а потому её использование для передачи звука «о» в «Велесовой книге» более чем сомнительно.
Если же учесть то обстоятельство, что наряду с вариациями в начертании рассматриваемая буква велесовицы не имела однозначной звуковой нагрузки, то идею о том, что она есть заимствованный у греков «омикрон», можно смело отвергнуть. Действительно, в тексте дощечки 16 эта буква наряду с «о» обозначает и «у», и «ъ» («о» редуцированное). Греческий же «омикрон» обозначал лишь краткий звук «о» (для долгого у греков существовала «омега»).
Несколько ниже будет сказано о том, что могло явиться источником велесовской буквы:
Сейчас же хотелось бы опять обратиться к кириллице и указать ещё на ряд элементов её связи с велесовицей (выше мы говорили об общности происхождения кириллического «зело» и «с» «Велесовой книги»). Прежде всего речь пойдёт о кириллической букве «ук». Обозначая звук «у», она имела несколько вариантов начертания. Первоначально самым распространённым из них был вариант, представляющий собой диграф с горизонтальным сочетанием элементов, состоящий из букв «он» и «ижица»:
Своим появлением он явно обязан греческому образцу: в письме византийцев для обозначения звука «у» использовалось сочетание «омикрона» и «ипсилона» (однако данное сочетание, в отличие от кириллицы, никогда не считалось отдельной буквой и в алфавит не входило) (II, 31; 62, 69). Другим вариантом начертания буквы «ук» были привычное для нас У и, что для нас сейчас особенно интересно, знак, похожий на «о, у, ъ» велесовицы в варианте с «усиками» наверху:
Такой знак для обозначения «ука» трактуется как вертикальная лигатура тех же «он» и «ижицы» (II, 31; 69). Причём утверждается, что вертикальная лигатура стала употребляться только в позднем кирилловском письме (II, 31; 69). Но последнее утверждение, видимо, придётся охарактеризовать как ошибочное. Произведённая в своё время Л. В. Черепниным подборка вариантов написания букв кириллицы в русских рукописях XI века указывает, что «ук» с вертикальным расположением элементов применялся уже в этом столетии (как и «у» привычного для нас начертания) (рис. 42).
Рис. 44.
Что же касается трактовки «вертикального» «ука» как соединения «он» и «ижицы», то, возможно, более поздние средневековые книжники так его и понимали. Но рискнём предположить, что изначально эта форма представляла собой заимствование из протокириллической азбуки, подобной велесовице, где значок
одним из своих значений имел звук «у». Вряд ли этой азбукой была сама велесовица, т. к. в последней есть специальная буква для звука «у»; она имеет привычную для нас форму —
Возможно также, что глубина заимствования ещё больше, и кириллица, также как велесовица, унаследовала данный знак от какого-то более древнего славянского письма напрямую (об этом несколько ниже).
Теперь обратимся к кириллической букве «ю», одной из пяти йотированных гласных кириллицы. Нас всегда смущал тот факт, что буква эта образована как бы с отступлением от общего графического принципа построения йотированных в кириллице. Строились они с учётом фонетики, путём лигатурного сочетания буквы, обозначающей соответствующую гласную, с буквой «и» (I). Так были получены в кириллице буквы: «я» («и» + «аз»), «е» («и» + «есть») и два йотированных «юса» («и» + соответствующий «юс»). Однако для получения «ю» использовалось сочетание «и» с «он». Почему? Учёные объясняют данный факт только на уровне предположений: вероятно, «ю» первоначально представляла собой сочетание «и» с «ук»
с последующим отпадением второго графического элемента буквы «ук». Возможность использования такой сокращённой лигатуры (I + О) для передачи звука «ю» обеспечивалась тем, что звука «ё» в старославянском и древнерусском языках ещё не было, поэтому придание этой лигатуре звукового значения «ё» было в то время невозможным (II, 31; 70). Всё так. Очень правдоподобно. Только заметим, что, насколько нам известно, несмотря на немалое количество дошедших до нас древних кириллических рукописей и надписей (ряд надписей уверенно датируется Х веком, а некоторые предположительно — концом IX), ни одного случая «полного» начертания «ю», т. е. с «ук», а не «он» в качестве второго элемента лигатуры, не зарегистрировано. И это странно. А раз так, то утверждение о первоначальном использовании «ук» в лигатуре «ю» и лишь последующем его «усечении» может пользоваться только статусом гипотезы и не более того. Поэтому у нас есть полное право высказать своё предположение о возникновении кириллической Ю. Как второй элемент этого диграфа «ук» никогда не использовался. Изначально применялся знак одной из протокириллических азбук, схожий с кириллическим «он» и греческим «омикрон», но обозначавший звук «у». Велесовица показывает, что такая азбука существовала. Правда, вряд ли знак для «ю» кириллицы заимствовался непосредственно из неё. Скорее всего, это заимствование было произведено из близкого ей протокириллического алфавита, т. к. в велесовице есть специальная буква для обозначения звука «у» (У) и даже диграф «ю», использующий указанную букву «у»:
Но, заметим, есть в ней и «ю», где используется знак
Последнее обстоятельство ещё раз показывает, что звуковая неоднозначность буквы
никоим образом не могла помешать её использованию для получения буквы «ю». Почему? Здесь остаётся только повторить мысль В. А. Истрина: поскольку в старославянском и древнерусском языках звука «ё» не существовало, то в лигатуре с I знак мог обозначать только звук «у» (но не «о» и «ъ»). В итоге этого сочетания получался звук «ю». Итак, кириллица могла заимствовать сам принцип образования диграфа Ю (в смысле того, какие буквы использовались для этого). Но также можно предполагать заимствование из протокириллического алфавита, схожего с велесовицей, в кириллицу уже «готовой» лигатуры Ю.
Буква «н» велесовицы имеет современный вид, разительно отличаясь и от уставного, и от курсивного греческого «ни». Пока не будем делать из этого никаких выводов, кроме одного: византийское «ни» не могло быть образцом для велесовского «н». Скорее им могла послужить «эта (ита)» греческого устава. Но здесь сходство только по форме. «Эта (ита)» обозначала первоначально звук «э», а затем «и», явившись с последней звуковой нагрузкой прототипом кирилловского «иже». Но стать им для «н» велесовицы она не имела никакой возможности.
Наконец, велесовская «т» также вряд ли ведёт своё происхождение от греческой «тау». Наиболее распространённый способ начертания «т» велесовицы с заниженной поперечной перекладиной, так что буква имеет вид креста. Насколько мы можем судить, «т» привычного для нас вида, пришедшее в современный русский алфавит из кириллицы и являющееся точной копией уставной византийской «тау», встречается в аверсе дощечки 16 всего один раз. Нет его ни в участках текстов дощечек, опубликованных в «Жар-птице», ни в копии-прорисовке дощечки 33, выполненной Ю. П. Миролюбовым. В них «т» имеет вид креста. Отсюда можно заключить, что единственный случай начертания поперечной перекладины «т» велесовицы без крестообразного пересечения представляет собой всего лишь дефект начертания данной буквы. Но данный вывод ещё не отменяет положения о заимствовании «т» дощечек из греческого алфавита. Занижение поперечной перекладины вполне может быть объяснено тем, что в «Велесовой книге» буквы писались под строкой. И чтобы поперечная перекладина не сливалась с линией строки, её просто несколько приспускали. Это предположение вполне правдоподобно. Но это всего лишь предположение. С таким же успехом можно утверждать, что линия строки над буквами тут совершенно ни при чём и велесовское «т» само по себе имеет вид креста. Вот это последнее утверждение можно подтвердить, указав на источник происхождения «т» в виде креста. А таковым могут быть славянские руны. И ретринские руны, и бояновица имеют знак
который в первом случае означает звук «д», т. е. звонкий аналог глухого звука «т», а во втором — звуки «т» и «д» (II, 9; 365). С полным основанием можно предполагать, что крестообразное «т» пришло в велесовицу именно из славянских рунических систем, а вовсе не из византийского устава или курсива, которым подобная форма не известна.
Небезынтересно также отметить тот факт, что буква «и» велесовицы (I) имеет полное сходство по графике и звуковому значению не только с греческой «йотой», но и с «и» рунических славянских систем. Это даёт возможность предположить славянское происхождение и данной буквы «Книги Велеса». Но поскольку, в отличие от предыдущих пяти случаев, предполагаемый греческий прообраз велесовской буквы и начертательно, и по звучанию совпадает с последней, то совершенно отрицать её заимствование у византийцев мы не имеем права и сохраним «и» (I) «Велесовой книги» в списке «греческих» букв азбуки этого письменного памятника.
Таким образом, из 16 греческих по происхождению букв азбуки «Велесовой книги» мы с полным основанием отнимем пять и прибавим их к 18 самостоятельно изобретённым буквам этой азбуки, доведя их количество до 23. Итак, из 34 букв велесовицы 23 — плод самостоятельного творчества. Легко подсчитать, что в таком случае доля «собственных» букв составит около 68 %, тогда как заимствованных напрямую у греков — всего 32 %. Вывод напрашивается сам собой: если византийский устав или курсив использовались при изобретении алфавита «Дощечек Изенбека», то они играли исключительно вспомогательную роль. Утверждение С. Ляшевского о создании велесовицы неким священником Иоанном на базе греческого уставного письма приходится считать безосновательным (II, 37; 50–53). Подобно святому Кириллу, Иоанн, если он вообще имеет какое-то отношение к велесовице, вероятно, лишь вносил некоторые изменения в уже существовавшую у славян письменность, приближая её к греческой (т. е. христианской).
Такие выводы можно сделать, если проанализировать текст дощечки 16А с позиций возможности заимствования протокириллицы-велесовицы у греков. Заметим, что букву «ф» велесовицы в варианте, предложенном Н. В. Слатиным, мы не рассматривали. Полагаем, что у Н. В. Слатина всё-таки нет никаких оснований утверждать, что данная буква имела вид современной русской «ф» (а также кириллического «ферт» и византийского уставного «фи»). Имеющиеся копии текстов «Велесовой книги» его предположения не подтверждают. Сейчас самое время, продолжая анализ велесовицы, обратиться к публикациям в «Жар-птице» и миролюбовской копии-прорисовке дощечки 33 и выяснить, нет ли в них знаков, которые не известны по дощечке 16. Таковые имеются.
В копии-прорисовке есть значок
Ю. П. Миролюбов озвучивает его как «ч». Эта буква действительно очень похожа на кириллическую букву «червь» с той разницей, что начертание верхней части последней более округло. Интересно отметить по этому поводу, что она явно отличается от «ч» в трактовке Н. В. Слатина, который принимает за «ч» знак дощечки 16:
Если Н. В. Слатин не прав, то буквы «ч» в тексте дощечки 16А нет вообще.
В копии же дощечки 33 есть интересная буква
которая Миролюбовым трактуется как «щ». Однако легко заметить, что здесь же, буквально несколькими буквами ранее, стоит «щ» вполне современного вида, с хвостиком справа. И нельзя не вспомнить и о только что упомянутом значке
которому сам Ю. П. Миролюбов, а вслед за ним и ряд современных исследователей придают значение «щ», и об очень схожем с кириллической «шта» «щ» дощечки 16 (с хвостиком в центре; с той разницей, что в данной дощечке начертание «щ» более округло, чем в кириллице).
Публикация в февральском номере за 1954 год журнала «Жар-птица» даёт два незнакомых знака: первый —
второй —
Оба знака употреблены в помещённом в статье отрывке текста одной из дощечек «Велесовой книги» несколько раз. Факт неоднократного употребления говорит о том, что вряд ли публикатор ошибался, трактуя таким образом какие-то другие знаки. Какие звуки обозначали эти буквы, мы сказать не можем. Однако следует заметить, что первый знак
похож на кириллический «юс малый» (обозначал «э носовое»). Отличается он от «юса малого» более длинной поперечной перекладиной, выступающей за боковые перекладины буквы, вид «юса малого» —
Второй знак схож с руной «Боянова гимна»
дававшей звуки «в», «уо».
Таким образом, всего можно выделить четыре буквы, отсутствующие в текстах дощечки 16:
Звуковая нагрузка этих знаков остаётся под вопросом.
Каково мнение специалистов об алфавите «Книги Велеса»? Сделаем своеобразную подборку этих мнений, т. к. в них можно найти много интересного.
Первый исследователь «Книги Велеса» (точнее, фотографии дощечки 16) в СССР Л. П. Жуковская отмечала, что кроме букв кириллицы в тексте присутствуют греческие, латинские и знаки неизвестных письменностей (II, 27; 203). Графика дощечек неточно передаёт звуки славянской речи и по ряду признаков приближается к другим древним алфавитам (II, 27; 204). Что это за признаки? Л. П. Жуковская указывает на соответствие начертаний ряда букв велесовицы начертаниям букв в древнейших кириллических памятниках. Например, надписи болгарского царя Самуила 993 г.: «р», «х», «ь» не выходят за строку, «ж» симметрично, «м» с овальной перемычкой (II, 28; 221). В ряде случаев «щ» «размещена в строке, что присуще наиболее древним почеркам кириллицы» (II, 11; 230). В то же время Л. П. Жуковская говорит о том, что начертания ряда букв вызывают сомнения в подлинности текста, хотя и не могут свидетельствовать прямо о подделке, так как речь идёт о древнем, неизвестном нам письме (II, 27; 204). Помимо графики отдельних букв вызывал сомнения у Лидии Петровны сам алфавитный состав письменности «Книги Велеса». По её мнению, «орфография «дощечек» показывает, что тот, кто их написал, не умел обозначать носовые: он воспроизводил их в соответствии с тем, как это гораздо позже делалось в польском языке» (II, 16; 204). Здесь речь идёт о том, что велесовица не знает «юсов», носовые «э» и «о» обозначаются через
соответственно.
Таково мнение об азбуке «Дощьек Изенбека» ведущего советского палеографа. Мы не можем не прокомментировать его. Указание на присутствие в текстах «Книги Велеса» греческих, латинских букв и даже знаков неизвестных письменностей, в общем-то, очень типично для современной российской науки: легче утверждать, что письменность твоих предков представляет из себя подобие «солянки сборной», чем признать её самобытность. Поэтому то, что не объясняется из греческого алфавита, объясним из латинского, а то, что не вытекает ни из того, ни из другого, «окрестим» знаками неизвестной письменности. Мы уже показали на примере велесовского «с» (S), что нет никакой нужды выводить его не из греческой «сигмы», не из греческой же «дигаммы», ни из латинского S. Происхождение знака вполне может быть собственное, славянское. Но всё же надо отдать должное научной честности Л. П. Жуковской: она не свела всё к греческому и латинскому алфавитам, словами о неизвестных системах письма дав понять, что происхождение велесовицы может быть иным, путь её формирования более сложен.
Выше было сказано, что одним из источников велесовицы или письменности, имеющей с велесовицей общие корни, могут являться славянские руны. Недаром А. И. Асов относит «Велесову книгу» к памятникам рунической славянской письменности. И не он один. Сам Ю. П. Миролюбов именовал знаки письма дощечек рунами (II, 11; 161). Напомним, что подобное название могли носить вообще все древние славянские системы письма, ибо «руны» — слово славянское. Уже отмечалось сходство велесовских букв
со знаками славянских рунических систем. Сейчас этот список можно пополнить и ещё одним знаком. Буква велесовицы
имеющая значение не то «ч», не то «щ», не то даже «ш». Её выводят и из буквы «ча» деванагари
письма санскрита, указывая на возможность удвоения последней (II, 28; 221), (II, 52; 207). И из греческой «пси» (Ψ), почему-то игнорируя, что читается она как «пс», а вовсе не как «ч», «ш» или «щ» (II, 28; 221). Но схожий по начертанию знак есть в бояновых рунах —
Причём его звуковое значение — «ж» или «ш». Не он ли послужил прообразом велесовской буквы «ч, ш, щ»? Во всяком случае, здесь мы имеем не только близкую графику букв, но и совпадение звукового значения бояновской руны с возможным звуковым значением знака велесовицы. Безусловно, опять можно говорить и об общем происхождении данных букв «Боянова гимна» и «Велесовой книги».
Так что напрасно, на наш взгляд, критикуя А. И. Асова, с категоричностью и иронией Н. В. Слатин замечает: «Никаких «рунических букв» в текстах Влескниги нет — по крайней мере, на фотоснимке дощечки 16 нет. Где их увидел А. И. Асов — неведомо» (II, 52; 155). Были у Александра Игоревича основания говорить о рунах «Книги Велеса», были.
Но вернёмся к мнению Л. П. Жуковской. Отсутствие «юсов» в велесовице почему-то обозначается ею как признак, указывающий на поддельность «Книги Велеса». Право, совершенно непонятно такое утверждение. Как и ссылка на то, что носовые в этом памятнике обозначаются так же, как гораздо позже они стали обозначаться в польском языке. Учёные считают, что «юсы» были созданы либо Кириллом, либо даже после него. Следовательно, их отсутствие в велесовице — это как раз признак подлинности дощечек, а не наоборот. Что же до обозначения носовых звуков двумя буквами (как в более позднем польском письме), то здесь, как представляется, имеет место простое совпадение, порождённое неприспособленностью велесовицы и латиницы к передаче звуковых особенностей славянского языка.
В общем, критика Л. П. Жуковской «Велесовой книги», базирующаяся на рассмотрении алфавита памятника, довольно мягкая и категорических выводов не содержит. Куда как более категоричен современный исследователь Д. М. Дудко: «…Есть у велесовицы и явно поздние черты. «Н» с прямой (а не косой) перекладиной, знак»
(соединение «о» и «у») для передачи «ъ», «ь», «ы», как
большинство начертаний «в», «I», «к», «о», «х», «ц» — всё это свойственно киевской скорописи 1640—1660х гг. Такое сочетание древних черт с поздними говорит о том, что памятник IX века переписывали в XVII в. или подделывали в XX столетии» (II, 28; 222).
Вопрос о «н» с прямой перекладиной очень интересен. Такая ли уж поздняя черта — эта прямая перекладина. Если обратиться к подборке начертаний кириллических букв в русских рукописях XI века, произведённой Л. В. Черепниным, то можно заметить любопытную деталь: в некоторых вариантах начертания наклон поперечной перекладины в букве «н» едва различим. Создаётся впечатление, что для писцов XI века написание «н» с наклонной поперечной перекладиной было не очень привычно. Привычнее была перекладина прямая. И вот, пожалуйста, мы обнаруживаем «н» с прямой перекладиной в велесовице. Любопытно, не так ли? Не велесовская ли «н» толкала писцов на искажение кириллической, созданной по греческому образцу, буквы. О происхождении же данного начертания «н» в велесовице скажем чуть позже. Пока же продолжим комментировать выводы Д. М. Дудко.
Поражает научная смелость этого учёного, ибо отождествить начертания букв на дереве с письмом середины XVII века на бумаге или пергаменте — это действительно смелость. А вот указание Д. М. Дудко на использование знака
для передачи «ъ», «ь» и его сочетания с I для передачи «ы» как на позднюю черту — это либо случайная ошибка, либо сознательное «передёргивание» фактов. Начнём с того, что, насколько нам известно, редуцированное «е» («ь») значком
в «Велесовой книге» не обозначалась, а обозначалось только редуцированное «о». Далее. Написание «ы» велесовицы как
и ещё как
— не поздняя, а, наоборот, ранняя черта. Её наличие в «Книге Велеса» — одно из убедительных доказательств её аутентичности. Здесь необходимо обратиться к мнению другого авторитетного специалиста — академика А. В. Арциховского, открывателя новгородских берестяных грамот. Академик публично признавал подлинность текстов «Книги Велеса» (II, 11; 230–231). На чём он основывался? Прежде всего на анализе алфавита «Велесовой книги» и сопоставлении его с особенностями письма берестяных грамот. Так, А. В. Арциховский впервые заметил замену в грамотах Ъ на О при передаче звука «ы» (обычное написание ЪI, а древнейшее ОI). Это как раз тот самый признак письма дощечек, который Д. М. Дудко почему-то отметил как поздний, исказив тем самым истинное положение вещей. Далее. В своей монографии, посвящённой берестяным грамотам, А. В. Арциховский с М. Н. Тихомировым указали на размещение буквы «шта» в ряде наиболее древних грамот в строке. Основываясь на этом признаке, учёные датировали часть грамот временем ранее XI века (II, 11; 230). Но вспомним, что такую же особенность начертания «щ» в «Книге Велеса» выделила Л. Жуковская.
Основания для выводов академика А. В. Арциховского в отношении «Дощечек Изенбека» ясны. Но противниками подлинности памятника мнение известного советского учёного во внимание принято не было. Даже более того. Они стали утверждать, что фальсификаторы дощечек заимствовали особенности письма берестяных грамот для своей подделки (под фальсификаторами в этом случае, естественно, понимаются Ю. П. Миролюбов и А. А. Куренков) (II, 11; 228). Посмотрим, могли ли Ю. П. Миролюбов и А. А. Куренков использовать берестяные грамоты подобным образом.
В самом деле, первые грамоты найдены в 1951 году, а первое сообщение о «Книге Велеса» появилось в «Жар-птице» в ноябре 1953 года, первая статья о ней увидела свет в этом же журнале в январе 1954 года, статья же с участком текста памятника — в феврале 1954 года. И, казалось бы, заимствование действительно возможно. На это и обращают внимание противники подлинности дощечек. Но случайно или нарочно они умалчивают один факт, а именно: в 1951 году нашли только 10 первых берестяных грамот. Все они относились к XIV — XV векам. И по нескольким строчкам, написанным вполне в стиле известных летописей и грамот того времени, ничего нового в языке и письме открыто не было (II, 11; 228). Открытием можно было считать только сам писчий материал (т. е. бересту), но и он использовался старообрядцами ещё в XIX веке (II, 11; 228).
Лишь в 1952-м и затем в 1953 году было открыто несколько действительно старых берестяных грамот XI века. Первое краткое сообщение об этих грамотах и особенностях их языка академик А. В. Арциховский сделал в узкоспециальном научном журнале «Вопросы истории» (№ 3 за 1954 год, т. е. в мартовском выпуске этого журнала). И только в конце 1954 года вышло первое относительно обширное его исследование старых берестяных грамот.
Таким образом, даже краткое научное сообщение об особенностях письма и языка новгородских грамот на бересте появилось месяцем позже, чем публикация статьи о «Велесовой книге» в «Жар-птице» с участком её текста, в котором, между прочим, был диграф
т. е. сочетание «о» с «и», обозначающее звук «ы». Что касается буквы «щ» в строке, то особенности её начертания в «Книге Велеса» видны в частичной рукописной копии дощечки 33, посланной Ю. П. Миролюбовым А. А. Куренкову в конце 1953 года (II, 11; 225, 230). Арциховский же указал на этот признак только в своей монографии (вышла в конце 1954 года).
Из всего этого видно, что Миролюбов и Куренков никоим образом не могли переносить алфавитные особенности берестяных грамот в «свою подделку». Разве что они обладали даром предвидения. Заметим также, что те из противников аутентичности «Дощечек Изенбека», кто выдвинул подобную идею, не учли одной существенной особенности: Советский Союз первой половины 50х годов XX века — это не Россия 90х годов того же столетия. Существовал так называемый «железный занавес», и быстрое попадание советских исторических книг и статей (буквально в течение года) к рядовым западным гражданам, каковыми являлись Ю. П. Миролюбов и А. А. Куренков, было попросту невозможно.
В общем, мнение академика А. В. Арциховского противниками подлинности памятника игнорируется напрасно. Мнение это очень ценно.
Ещё один академик, украинец Б. И. Яценко, считает, что велесовица занимает место между азбукой Софии Киевской (27 букв), относящейся, по его мнению, к IX веку и только записанной в XI веке, и новгородской азбукой из берестяной грамоты XI века (32 буквы) (II, 28; 222). Нам не известно, о какой грамоте говорит Б. И. Яценко. Сейчас наиболее ранней считается грамота № 591, относящаяся к XI веку. Примечательно, что она представляет собой именно азбуку. Но в этой азбуке не 32, а 29 букв (II, 58; 110–111).
Рассмотрим мнение Б. И. Яценко, проанализируем его. Академик, безусловно, считает «Велесову книгу» подлинником. Но согласиться с его определением велесовицы, как занимающей промежуточное положение между азбукой-граффито Киевского Софийского собора и алфавитами наиболее ранних новгородских берестяных грамот, мы не можем. Причём не признаём этой промежуточности ни в хронологическом плане, ни в плане алфавитного состава азбуки. В отношении хронологии нам неясно, почему украинский академик датировал софийскую азбуку IX веком, она вполне может принадлежать и к Х. Впрочем, этот алфавит может быть и старше IX века. С другой стороны, датировка велесовицы IX столетием тоже условна. С уверенностью можно лишь говорить, что в это время создавалась лишь часть текста «Книги Велеса», а весь текст полностью мог тогда только переписываться. Иными словами, возникновение велесовицы может относиться и к VIII веку, и к более ранним векам.
Что касается алфавитного состава, то приглядимся к означенным азбукам. Да, азбука из Софии Киевской более примитивна в том плане, что она хуже велесовицы приспособлена для передачи звуков славянского языка. Собственно, бесспорных славянских букв в ней всего четыре: Б, Ж, Ш, Щ. Возможно, славянской, т. е спорной, является буква (вариант начертания именно такой, как показано). Неясно, «ук» это или «ижица», ибо в русских рукописях XI века встречаются начертания «ук» и без сочетания с «он». В этом случае «ук» становился очень похож на современную букву «у». Если перед нами всё-таки «ук», то можно говорить, что в софийской азбуке пять славянских букв. Если же — «ижица», то четыре. Но зато данный алфавит содержит «ферт», «фиту», «кси» и «омегу». А «кси», «фита», «омега» и возможная «ижица» — это как раз те буквы, которые славянскому языку не нужны в принципе. В кириллицу их ввели только для передачи религиозных греческих терминов в богослужебных книгах. Поэтому ряд исследователей справедливо отмечают, что кириллица представляет собой христианскую азбуку или, другими словами, христианский вариант уже существовавшей у славян до этого протокириллицы (или протокириллиц). Азбука же Киевского Софийского храма — это шаг к созданию такого христианского славянского алфавита, типичная заимствованная практически полностью у греков протокириллица. В ней доля собственного творчества минимальна. Если отталкиваться от количества славянских букв, равного четырём, то процентное отношение «своего» к «чужому» будет равно 15 % к 85 %. Это очень мало.
Обратимся теперь к азбуке грамоты № 591. Азбуки новгородских берестяных грамот, даже самых ранних, — это, по мнению исследователей, уже ранняя кириллица, и её следует отличать от протокириллицы. В алфавите грамоты № 591 29 букв. Из них славянских — 10:
Девятнадцать греческих. Таким образом, доля славянских букв в азбуке возрастает до 34–35 %. Есть «ферт» и «ижица», но отсутствуют «кси», «пси», «фита» и «омега».
Вспомним велесовицу. Общее количество букв без диграфов — 27, с диграфами — 34. Доля славянских знаков в этом алфавите, учитывая диграфы, свыше 50 %. Не учитывая таковых — более 40 %. Нет и помину о ненужных «кси», «пси», «фите», «омеге», «ижице». Присутствие буквы, передающей звук «ф» и имеющей вид кириллического «ферта» (греческой «фи» или современной русской «ф»), весьма сомнительно. Получается, что по очерченным параметрам велесовица даже совершеннее азбуки грамоты № 591.
Да, по ряду моментов она уступает кириллице: в ней наблюдается звуковая неопределённость буквы
буквы «ю», «ы» и «о» имеют неустоявшиеся начертания. Нет столь привычных в кириллице «юсов», букв для передачи носовых гласных. Это всё, конечно, говорит за то, что велесовица хуже классической кириллицы приспособлена к передаче звукового ряда славянского языка. Однако, во-первых, именно классической кириллицы, ранняя, как мы видим, велесовица даже в чём-то уступает. Во-вторых, хочется заметить, что передачу носовых в «Велесовой книге» посредством диграфов
вполне можно считать не признаком меньшего совершенства велесовицы по сравнению с кириллицей, а другим способом решения проблемы передачи на письме носовых «э» и «о». Выше говорилось, что эти диграфы с полным основанием могут считаться самостоятельными буквами.
И, наконец, характер велесовицы иной, чем азбуки Софии Киевской и азбуки ранних новгородских берестяных грамот. Последние — это славянские христианские алфавиты. Первая — славянский языческий алфавит. Кстати, это ещё одна причина, по которой велесовица не могла быть тем алфавитом, который, по мнению С. Ляшевского, изобрёл епископ Иоанн в конце VIII века н. э. Выскажем предположение: на роль «иоанновой письменности» вполне может претендовать, причём на гораздо больших, чем велесовица, основаниях, как раз азбука Киевского Софийского собора.
Подводя итог всему вышесказанному в отношении мнения академика Б. И. Яценко, приходится констатировать, что азбука «Велесовой книги» представляет собой не промежуточное звено между киевской софийской азбукой и азбуками ранних новгородских берестяных грамот, а самостоятельный побег на дереве славянской письменности. Она стоит как бы немного в стороне от той линии, которая связывает киевскую протокириллицу с новгородской ранней кириллицей. Но она могла послужить своеобразным «рабочим материалом» для них обеих.
Ещё один специалист, мнение которого в отношении велесовицы хотелось бы рассмотреть, — В. А. Чудинов. Он обнаружил в тексте дощечки 16А следы слогового славянского письма. Это очень интересный вопрос, ибо именно из слогового письма можно попытаться объяснить происхождение некоторых знаков велесовицы.
По мнению В. А. Чудинова, слоговым знаком является менее распространённый способ начертания буквы «б»:
Он называет его редуцированным, т. е. кратким, сокращённым, усечённым. По его наблюдениям, нормальное написание буквы «б» присутствует везде, где она передаёт звук «б». Но где имеется редуцированное написание данной графемы, она передаёт слоги «бо» или «бе» (в словах «бгу» (богу), «бъ» (бог), «дбеле» (дебеле)). В. А. Чудинов считает, что сокращённое начертание буквы «б» в велесовице — это не что иное, как повёрнутый вправо слоговый знак «пе» (II, 58; 496).
Необычное для кириллицы начертание буквы «н» с прямой поперечной перекладиной, оказывается, может вести своё происхождение от слоговой славянской письменности. В ней подобной графемой обозначался слоговый знак «нъ» (II, 58; 497).
Велесовская буква
передаёт, как мы помним, целых три звука: «о», «у» и «ъ». Иными словами, имеет место неопределённость звуковой нагрузки данной графемы. В. А. Чудинов отмечает, что «такое неразличение гласных звуков совершенно неизвестно для буквенной графики, но типично для слоговой. Более того, для передачи звука «о» слоговые тексты часто пользуются графемой «во» как в виде V, так и в виде О; знак велесовицы, по сути дела, представляет собой лигатуру из этих знаков, начертанных один над другим» (II, 58; 497).
Из слогового письма можно объяснить происхождение крестообразной буквы «т» велесовицы. В этом письме крестом обозначаются слоги «ть», «те», «ти» (II, 58; 497).
Буква «у» азбуки «Велесовой книги» имеет практически современное начертание. Такое начертание характерно для изображения «у» в слоговой графике (II, 58; 497).
Из слоговой графики в велесовицу попали знаки, обозначающие буквы «ц» и «ш» (II, 58; 497). Велесовские же «щ» и «ж» трактуются В. А. Чудиновым как лигатуры «ш» и «т» и двух букв «ш» соответственно, т. е. также выводятся им из слогового письма (II, 58; 497–498).
Наконец, буква «ять» велесовицы (как и кириллицы), по мнению В. А. Чудинова, также представляет собой лигатуру из Ь и I в горизонтальном положении. Тем самым в данном диграфе используется горизонтальная черта для обозначения «и», что опять-таки характерно для слогового письма (II, 58; 498).
Вывод исследователя таков: «Велесовица типологически старше кириллицы, представляя собой знаковую систему, удерживающую некоторые слоговые черты и тем самым до некоторой степени промежуточную между силлабарием и алфавитом» (II, 58; 498). И с этим выводом мы вполне согласны. Да, велесовица старше кириллицы. Добавим, что она ведёт своё происхождение не только от слоговой славянской графики, но и, на наш взгляд, от славянской руники.
* * *
Полный «беспредел». Таким новомодным термином охарактеризовал язык «Книги Велеса» современный исследователь Д. М. Дудко. Что же смущает учёных в языке этого письменного памятника? Язык этот противоречит многому из того, что известно о древнерусском языке и его эволюции.
Рассмотрим лингвистические аргументы противников подлинности «Книги Велеса» подробнее.
Заметим, что в полном объёме они сформулированы двумя учёными: в 1959 году Л. П. Жуковская, изучавшая только дощечку 16 А, отметила ряд черт, невозможных, по её мнению, в дренерусском языке IX века и говорящих о подделке. В 1990 году О. В. Творогов, познакомившийся с памятником в полном объёме, пришёл к ещё менее лестным для него выводам. Остальные исследователи, критикующие «Книгу Велеса», в той или иной мере опираются на выводы этих двух учёных.
«Как известно, — пишет Л. П. Жуковская, — языки развиваются во времени, но это развитие неодинаково реализуется в пространстве. В результате в определённое время и на определённой территории язык характеризуется сочетанием только ему присущих особенностей» (II, 16; 204). В IX веке, за памятник которого «Велесова книга» выдаётся, далее отмечает Лидия Петровна, у всех славян «бытовали только открытые (оканчивающиеся на гласный звук) слоги, носовые О и Э, особые звуки «ять», Ъ, Ь, после мягких согласных могли следовать только определённые гласные звуки, а после твёрдых — другие. Были и иные особенности фонетики и морфологии, позднее исчезнувшие или изменившиеся по разным языкам» (II, 16; 204).
Но в «Велесовой книге» «отражено смешение «е» и «ять», которое появится только в смоленских грамотах в начале XIII века» (II, 16; 205). Отмечены Л. П. Жуковской в тексте дощечки 16 А и другие поздние черты: «ы» после шипящих и «ц» (так называемый процесс отвердения шипящих и «ц»); «я» вместо
«юсы» то обозначаются через
и, то переходят в «е» или «у», как это значительно позже произошло в сербском языке (II, 28; 226), (II, 16; 205). Указывает она и на чисто грамматические ошибки: «при слове женского рода употреблено числительное в мужском роде; имеется ряд нелепостей в склонении существительных, в образовании причастий и т. п.» (II, 16; 205).
В своей совместной с В. И. Бугановым и Б. А. Рыбаковым критической статье 1977 года «Мнимая “Древнейшая летопись”» Л. П. Жуковская добавляет к числу черт, говорящих о поддельности дощечек, ещё и отмеченное в них явление «цоканья»: «Историкам, знакомым с древнерусскими и средневековыми письменными источниками новгородского происхождения, хорошо известно, например, «цоканье» — неразличение в письме (вследствие неразличения в устной речи!) букв «ц» и «ч». Однако в рукописях XII — XIII веков. таких ошибок ещё нет, так как тогда эти звуки различались в произношении» (II, 16; 205). Вывод, следующий из подобного утверждения, ясен: раз «цоканья» не было ещё в XII веке, то его не могло быть и в веке IX. Однако вот интересный факт: в своей работе 1956 года «Новгородские берестяные грамоты» Лидия Петровна утверждает абсолютно противоположное: «Новгородские берестяные грамоты показывают, что в новгородском диалекте уже с XII века было цоканье, то есть на месте различных этимологических аффрикат «ц» и «ч» в нём произносилась одна аффриката. Качество этого звука новгородские берестяные грамоты, конечно, не показывают, смешение «ч» и «ц» указывает лишь на близость, может быть, даже на полное совпадение звуков, которые произносили в этих случаях жители новгородской земли» (II, 11; 232). Вот так! Оказывается, в XII веке цоканье всё-таки было. Значит, оно могло существовать и ранее. Только вот почему в 1977 году Лидия Петровна выдвинула положение, опровергавшее её собственное утверждение двадцатилетней давности, совершенно непонятно. А. И. Асов предложил такое объяснение: «Очевидно, Л. П. Жуковская и другие писали разгромную статью в расчёте на знатоков новгородского диалекта и противоречивостью выводов хотели намекнуть на то, что их вынудили сделать вывод, с коим они не были согласны, ибо они обратили внимание на те особенности новгородского диалекта в «дощьках», которые уже были отмечены ими же в берестяных грамотах!» (II, 11; 233). Что ж? Весьма вероятно, если учесть, что Л. П. Жуковская в перестроечные времена прямо заявляла о том, что её выводы, касающиеся «Книги Велеса», во многом были обусловлены указаниями сверху (II, 5; 57).
О. В. Творогов, как уже отмечалось, изучал текст «Велесовой книги» полностью, а не только одну из дощечек. Поэтому аргументы этого учёного для нас особенно ценны.
Первоначально О. В. Творогов в своей статье «Влесова книга» вводит ряд положений, на которые опираются его дальнейшие выводы: «В том, что ВК написана на славянском языке, сомнений быть не может: лексика ВК, безусловно, славянская. Значит, речь должна идти лишь о том, что перед нами некий язык, так же как и остальные славянские языки, восходящий к языку общеславянскому, но трансформировавший его по своим, особым законам.
Сделаем уступку защитникам ВК и примем эту версию как исходную посылку для дальнейших рассуждений.
Допустим, что ВК отражает некий неизвестный науке язык (назовём его «язык ВК»), зафиксированный на определённом этапе его истории, а именно в IX веке н. э. (так датирует ВК
С. Лесной на основании того, что в ней упомянуты Аскольд и Рюрик). Мы видим при этом, что кругозор автора ВК ограничен территорией между Карпатами на западе и Волгой на востоке, Чёрным морем на юге и озером Ильмень на севере. Следовательно, язык ВК территориально относится к восточнославянским языкам. Но как только мы примем эти исходные посылки (а их примут, видимо, и защитники ВК), мы получим право анализировать язык ВК по тем же законам, что и любой другой славянский язык» (II, 52; 144).
Попутно заметим, что кругозор автора «Велесовой книги» значительно шире очерчиваемого О. В. Твороговым региона: речь в ней идёт о Египте, Месопотамии, Индии (или даже Китае). Но, в общем, исходные посылки учёного верны. Какие выводы делает он из этих посылок? По всему тексту «Книги», так же как и в дощечке 16А, путаница с «ять»: отражено её смешение с «е». Более того, «ять» передаётся то кириллическим
то на польский лад «ie», иногда в одной и той же дощечке; переходит то в «я», как в польском, то в «i», как в украинском. И это помимо отмеченного её перехода в «е», как в русском (II, 28; 226).
«Юсы», кроме перехода в «е» и «у», могут оказаться на месте «ы» или «ять» (II, 28; 226).
Ещё одна путаница, на которую указывает О. В. Творогов, связана с шипящими «ч» и «щ». В ряде старославянских слов «щ» соответствует древнерусскому «ч» («свеща» вместо «свеча», «рещи» вместо «речи»). Но в «Велесовой книге» «щ» часто заменяет «ч» даже там, где этого нет ни в одном славянском языке: «щас», «щесть», «щто» (II, 28; 227).
Слово «цветы» пишется то через «ц» (как в русском), то через «к» (как в польском), что в одном языке невозможно (II, 28; 227). Часто встречаются слова польские («менж» — муж, «морнже» — море, «гура» — гора и др.), чешские («въжды» — всегда, «цiзи» — чужой), украинские («вiра», «бiда»), сербские («суньце» — солнце), болгарские («земя» — земля). Причём слова эти не древнесербские или древнепольские, возможные в IX веке, а современные. Украинский же язык выделился из древнерусского лишь в XIV веке (II, 28; 227).
Отмечает О. В. Творогов такое явление в «Книге Велеса», как падение редуцированных (II, 52; 146). Суть его в том, что редуцированные гласные («ъ» и «ь») стали либо просто исчезать из слов, либо заменяться нормальными гласными (как правило, «о» и «е»). Первое проявление этого процесса — непоследовательность употребления редуцированных на письме, что говорит об определённых изменениях, произошедших или происходящих в фонетике языка. Так вот, сроки падения редуцированных считаются надёжно установленными: XII — XIII века (II, 52; 146). Следовательно, делает вывод О. В. Творогов, фиксация подобного явления в «Книге Велеса», памятнике якобы IX века, говорит о его поддельности (II, 52; 146).
Наконец, помимо «ошибок» фонетических говорит исследователь об ошибках грамматических: прилагательные не согласуются с существительными, неверно употребляются падежи, появляются небывалые глагольные формы («бяшехом», «изроняшехомо») и т. п. (II, 28; 228).
Вывод О. В. Творогова однозначен: перед нами — искусственный язык, сконструированный Ю. П. Миролюбовым грубо и невежественно, по принципу: чем древнее, тем запутаннее и неправильнее (совсем как у А. И. Сулакадзева) (II, 28; 228).
Казалось бы, что могут противопоставить столь серьёзным аргументам своих оппонентов сторонники подлинности «Книги Велеса»? Оказывается, и у них есть очень весомые доводы. Противники памятника, обобщая эти доводы, в то же время их упрощают, сводя всё к подобному утверждению: о подлинном языке Руси IX века нельзя судить по письменным памятникам Руси по меньшей мере XI века (II, 28; 223). На самом деле это суждение включает в себя аргументы нескольких порядков, приобретая характер вывода.
Первый аргумент связан с невозможностью объективно судить о племенных славянских диалектах дофеодальной эпохи. «Нам неизвестно состояние древнерусского языка в IX — Х вв.», — признаётся известный лингвист Г. А. Хабургаев (II, 56; 7). И, говоря так, учёный отнюдь не защищал «Велесову книгу». В разделе, посвящённом «Боянову гимну», мы уже приводили мнение крупнейшего советского языковеда Р. И. Аванесова (мнение, высказанное безотносительно к дискуссии о «Велесовой книге» и «Бояновом гимне», чем оно для нас особенно ценно). Повторим его сейчас: «…Мы пока не можем судить о характере диалектов предшествующей поры (дофеодальной. — И.Д.) и их территориальном распределении» (II, 55; 30). На четверть века позже Р. И. Аванесова, в 1972 году, исследователь К. Горшкова пришла к не менее интересным выводам: даже в Х — XII веках «территориальные диалекты по своим характерным чертам ещё были близки к диалектам племенным, на основании которых они сложились. К ним во многом применимы те общие характеристики письменных языков и диалектов, которые говорят об отсутствии чёткого отграничения диалекта от языка» (II, 50; 27). Что это значит? О. Скурлатова, комментируя это высказывание К. Горшковой, обоснованно замечает: «Таким образом, специалисты признают наличие нескольких языков у древних русов» (II, 50; 28). И это в Х — XII веках. Понятно, что для более ранних эпох данное утверждение ещё более справедливо. Сказать же, что эти языки-диалекты нам известны, мы не можем.
Здесь уместно заметить, что противники «Велесовой книги» постоянно отмечают, что памятник этот — единственный в своём роде: не найдено более ничего подобного ни в плане алфавита, ни в плане языка. Наш ответ на это будет таков: алфавит «Велесовой книги» — типичная протокириллица. И если наши оппоненты покажут нам хоть один памятник протокириллического письма, который был бы продублирован хотя бы ещё одной находкой именно такого же письма, то мы, пожалуй, подумаем о признании справедливости их утверждения. Но сейчас речь о языке дощечек. Никто из филологов по сей день детально не сопоставил язык «Книги Велеса» и «Боянова гимна» — памятника, над которым, так же как и над «Велесовой книгой», тяготеет приговор: «Фальсификация». И уж тем более никем не проводился детальный анализ языка «Веды славян» и его сопоставление с языком «Книги» и «Гимна». Кажется, резонно можно спросить: а на каком основании говорится тогда о полной исключительности и единственности языка «Дощечек Изенбека», если есть ещё два памятника с весьма архаичными славянскими языками, которые не вписываются в современные лингвистические представления? Может быть, во всех трёх случаях перед нами как раз те самые славянские диалекты дофеодальной эпохи, о которых учёные пока не могут объективно судить.
Да, язык развивается, есть какие-то законы его развития. Но не слишком ли самонадеянно думать, что эти законы сейчас уже все известны? И на основании правил и законов, постулированных, отталкиваясь от состояния языка не древнее XI века, огульно отвергать всё, что отражает состояние языка ранее этой эпохи? А что язык с IX до XI века (и уж тем более с веков более ранних) мог претерпеть изменения, сомневаться не приходится. Есть свидетельства того, что существенные языковые трансформации могут произойти и за значительно более короткие сроки. Так, в XVII веке французский язык за пятьдесят лет изменился более чем наполовину (II, 52; 145).
Далее. Современный языковед Ф. П. Филин, кстати, не являющийся сторонником аутентичности «Велесовой книги» (II, 28; 228), высказал очень интересную мысль, касающуюся славянских диалектов: «…В процессе выделения общеславянского языка из балто-славянской лингвистической зоны (или иных зон) в общеславянском единстве оказались генетически разные диалекты. Не каждая диалектная особенность обязательно моложе языковой основы, к которой она относится» (II, 52; 136). Мысль о генетической неоднородности той языковой системы, которую традиционно принято называть праславянским языком, высказывают Г. А. Хабургаев, О. Н. Трубачёв и ряд других учёных (II, 55; 44). Однако что это может дать защитникам «Велесовой книги»? Нет никаких сомнений в том, что та «языковая смесь», о которой говорят критики «Книги», — это свидетельство многодиалектного её состава. Н. В. Слатин говорит об употреблении в текстах «Велесовой книги» не менее трёх диалектов, условно именуя их венедским (ляшско-чешским), древним русским и венедо-русским (или славянским) (II, 52; 150).
Венедский диалект характеризуется наличием «рж»/«ж» на месте современного русского мягкого «р» и отчётливым употреблением носовых гласных, а также некоторой лексикой, сохранившейся в словарном запасе нынешних западнославянских языков (II, 52; 150). Для древнего русского диалекта присуще нерегулярное употребление носовых гласных и их переход в соответствующие звуки русского языка позднейшего периода, а также сохранение мягкого «р» (II, 52; 150). Венедо-русский (или славянский) — наиболее древний из употребляющихся в дощечках вариантов языка с наиболее архаичным набором лексики (II, 52; 150). Н. В. Слатин допускает возможность выделения ещё более древнего варианта, на что указывает употребление лексики, общей с санскритом (II, 52; 150).
Но откуда эта многодиалектность в одном памятнике? Во-первых, есть все основания полагать, что «Велесова книга» создавалась в различные эпохи, а IX веком можно датировать только самые поздние её тексты. Во-вторых, Восточная Европа первого тысячелетия нашей эры была ареной значительных передвижений различных племён. С эпохой Великого переселения народов переселения не закончились, и их масштаб был весьма значителен. Безусловно, перемещались и славянские племена. Никто не мешал представителям различных славянских диалектов контактировать друг с другом, и ничто не мешало этим самым диалектам оказывать взаимное влияние друг на друга. В итоге могли образовываться даже новые диалекты, сочетающие в себе черты различных диалектов-прародителей. А уж если мы учтём, что практически по всему ареалу своего расселения славяне сталкивались с племенами неславянскими (индоиранцами, тюрками, финнами, балтами, германцами), языки которых также влияли на диалекты славян, как и последние на них, то сложность процессов, происходящих со славянскими языками-диалектами, по крайней мере на Востоке Европы в первом тысячелетии нашей эры, легко себе представить. По мнению Н. В. Слатина, «та стадия языка, которая отражена во Влескниге, чем-то напоминает ситуацию трёхъязычия в средневековой Англии, которая, собственно, и дала в результате современный аналитический английский язык», что подтверждается, в отличие от ситуации с «Книгой Велеса», письменными памятниками (II, 52; 198). Этот же учёный отмечает, что столь сильная языковая мешанина приводила к тому, что люди, чтобы понимать друг друга, были вынуждены говорить на ломаном языке, уделяя основное внимание значимым частям слова, т. е. несущим его основной смысл. При этом окончания обязательно должны были подвергаться нивелировке или в той или иной степени унифицироваться с моделями, характерными для языков народов, с которыми славяне довольно тесно общались. Поскольку людям приходилось говорить таким образом часто, то такие языковые навыки проникали в их собственный язык (II, 52; 198). Всё это может объяснить те грамматические «ошибки», которые наряду с фонетическими «неточностями» столь обильно регистрируются учёными в текстах «Книги Велеса».
Причём, по утверждению того же Н. В. Слатина, «некоторые остатки языковой ситуации, подобные встречаемой во Влескниге, можно наблюдать ещё в первых (но уже после Влескниги) древнерусских памятниках» (II, 52; 198). Почему же учёные-ортодоксы их не замечают? Именно потому, что они не рассматривают эти особенности под углом зрения особенностей языка той эпохи, а считают их просто описками и ошибками (II, 52; 198–199). Знакомая ситуация, не правда ли? Все явления, что не укладываются в принятый стандарт, противоречат официально признаваемой схеме, либо не замечаются, либо объявляются случайностями. Между тем совокупность таких случайностей вполне способна разрушить, казалось бы, непоколебимую научную догму.
Наконец, ещё одно положение, которое выдвигают сторонники «Книги Велеса», защищая её подлинность, сводится к тому, что законы, выявленные для древнерусского и прочих славянских языков, опираясь на письменные памятники, относящиеся в основной своей массе к периоду времени не ранее XI века, суть не полны и слишком схематичны. Отнюдь не утверждается, что они неверны. Но, как и всякая схема, они не отражают всего многообразия жизни, в данном случае всей сложности языковых процессов, всех явлений, имеющих место в живом разговорном языке. Сейчас нас в большей степени интересует язык восточных славян. А таковым в XI — XIII веках был только древнерусский. Язык письменных памятников светского характера Древней Руси — это не церковнославянский, а именно древнерусский язык. Но нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что даже в светских памятниках на язык сильно влияла «славянская латынь», т. е. старославянский язык, и чистого разговорного древнерусского языка мы в них всё-таки не увидим. И уж тем более не увидим мы в них особенностей тех самых территориальных диалектов, которые в XI — XII веках, по утверждению К. Горшковой, были ещё очень близки к диалектам племенным. Так что вряд ли можно считать памятники древнерусской литературы безукоризненным источником для изучения живого языка простых людей Руси. Правда, у ортодоксов в этом случае есть, казалось бы, великолепный «конёк» — берестяные грамоты, найденные в Новгороде, Смоленске и некоторых других городах. Утверждается, что язык их «мало отличается от языка древнерусской литературы XI — XIII веков (выделено нами. — И.Д.)» (II, 28; 224). Но поскольку грамоты действительно отражали живую речь древних русичей, то делается вывод, что о последней можно судить практически безошибочно. Но как-то при этом упускается из виду, что особенности всё-таки есть. И поскольку у всякого следствия есть свои причины, то и в данном случае особенности чем-то порождены, они — след каких-то языковых явлений, которые надо бы постараться выяснить, а не отмахиваться от них, как от простых «ошибок».
В частности, выведенная хронология так называемого падения редуцированных (датируется учёными XII — XIII веками) почему-то оказывается не совсем верной на «новгородской почве». Н. В. Слатин замечает, что «даже при кратком знакомстве с текстами новгородских грамот (которые являются образцами народных письменных памятников в XI — XV веках и которые никто и не помышлял объявлять фальсифицированными) становится заметна непоследовательность употребления в них так называемых редуцированных гласных («ъ» и «ь») — как в самых ранних берестах, так и в самых поздних из найденных» (II, 52; 146). То есть хронологические рамки явления падения редуцированных размыкаются как в сторону древности, так и в сторону более поздних эпох. Вообще Новгород благодаря совершаемым в нём археологическим находкам можно рассматривать как своеобразный заповедник древнего русского наречия. Последняя сенсационная находка в нём, как уже отмечалось, — это так называемая «Новгородская Псалтирь», найденная в 2000 году. Памятник относят к Х веку. И вот что интересно: учёными уже было заявлено, что в тексте «Псалтыри» обнаружено 15 ошибок (II, 11; 229). «Ошибки» эти — не что иное, как несоответствие текста в определённых моментах установившимся представлениям о древнерусском языке. Отмахнутся ли от них учёные или всё-таки сделают из их существования какие-то выводы — покажет время.
Однако вернёмся к общепризнанным законам и правилам древнерусского языка. Не только Русский Северо-Запад, но и Юг не подтверждает установленных сроков падения редуцированных. В надписях Софии Киевской, относящихся к XI веку, «ъ» и «о» также путаются (II, 28; 229). Датировка смешения «е» с «ять» XIII веком также не бесспорна. Н. В. Слатин ставит вопрос таким образом: звук
употребление которого было упорядочено и этимологизировано в эпоху более позднюю, чем IX век, буквой
представляет собой всего лишь один из гласных звуков среднего ряда, произносимый как нечто среднее между «а» и «э» (II, 52; 147). И разными носителями языка он произносился по-разному. Ведь до сих пор, хотя в стандартном русском этого звука нет, в ряде диалектов он присутствует. И это сейчас, когда язык усредняется, стандартизуется, чему способствует образовательная система, радио, кино, телевидение. В прошлом же ситуация была совершенно иной. Поэтому нет ничего невероятного, делает вывод Н. В. Слатин, что этот звук мог появиться в позициях, с точки зрения современной славистики, «этимологически необоснованных» (II, 52; 147). То есть могла появиться там, где её, кажется, не должно быть, и обозначающая этот звук буква «ѣ».
Вот вам и смешение «ѣ» с «е». Представляется, здесь мы имеем дело с ранним смешением этих букв, ещё до упорядочения применения буквы «ѣ».
В XIII же веке этот процесс всего лишь повторился. Что касается замечаний Л. Д. Жуковской и О. В. Творогова о переходе «ять» в «я» (как в польском, отмечает О. В. Творогов), то Н. В. Слатин резонно указывает, что это никоим образом нельзя считать механическим перенесением в текст польского произношения (разумеется, фальсификаторами). Дело в том, что подобное же написание через «я» на месте бывшего «ѣ» характерно и для болгарского языка (в «Книге Велеса», например, «ляты», «вятром»; в болгарском — «лято», «вятър») (II, 52; 147). Другими словами, тут имеет место языковое явление, общее для языка «Велесовой книги», болгарского и польского языков. И то, что «академический древнерусский» такого явления не знает, ещё не означает, что в IX веке в реальном древнерусском языке его не существовало.
«Украинизмами» именуют противники «Велесовой книги» зарегистрированные в ней формы с написанием «I» на месте «ѣ» («бида», «писне», «вира», «дiда» и др.). Действительно, именно в украинском «ять» перешло в «i». Но поскольку формирование украинского языка началось только в XIII — XIV веках, то делается вывод о том, что перед нами дополнительный аргумент в пользу фальсификации памятника (II, 28; 225). Но вот в новгородских берестяных грамотах встречаем «диду» вместо «дѣду» или «деду», «ним» вместо «нѣм» или «нем» (в смысле «немой»), «сином» вместо «сѣномъ» или «сеномъ» и много других форм с написанием через «и» (II, 52; 148). Что это? Тоже украинизмы? Помилуйте. Это как раз проявление неизвестных «академическому древнерусскому» языковых явлений в реальном древнерусском.
Новгородским берестам «известно» и немало «грамматических ошибок». Например, употребление «неправильных» окончаний в словах. Так, в берестяном тексте XIV века читаем «есемо» вместо ожидаемого по правилам «есмь» («о» в конце вместо «ь»); в другой грамоте — «било» (в смысле «белка») вместо «бела» или «била» (в существительном женского рода употреблено «ненормальное» окончание — о, а не «положенное по правилам — а) (II, 52; 146,148).
Совсем нечужды языкам потомков носителей древнерусского языка оказываются многие черты языка «Велесовой книги». Так, в речи полесских и волынских украинцев, как современной, так и средневековой, обнаружено много ему параллелей: то же самое сохранение «ѣ», выпадение гласных после «р» и «л» («зрно», «крст» вместо «зерно» и «крест»), произношение «го», «му» вместо «его», «ему», «ду» вместо» «до», окончание — оу(-ов) в творительном падеже («довгоу рукоу» вместо «долгой рукой»), — ув (-ум) в дательном («волув», «потомкум» вместо «волам», «потомкам») и др. (II, 28; 229). В украинском же языке по сей день сосуществуют формы «квiти» и «цвiт» (интересно, почему этот факт не натолкнул О. В. Творогова на мысль о сфальсифицированности украинского языка вообще?).
К этому надо прибавить, что многие «неправильности» языка «Велесовой книги» находят аналогии и объяснения в славянских языках других групп, т. е. западно— и южнославянских. Не являясь филологами, мы отсылаем подробно интересующихся этим вопросом к великолепной работе Н. В. Слатина «Влескнига, русский язык и русская история». И речь здесь идёт не о механическом перенесении в тексты памятника гораздо более поздних особенностей других славянских языков неумелыми фальсификаторами, как пытаются трактовать эти факты противники «Велесовой книги». Нет. Всё это говорит об определённых диалектных особенностях языка дощечек, особенностях, общих для этого языка и целого ряда других славянских языков.
Сочетание в текстах «Велесовой книги» особенностей целого ряда славянских языков (причём принадлежащих к разным группам) — это, на наш взгляд, указывает как раз на подлинность памятника. Фальсификатор (а наиболее вероятным кандидатом на эту «должность» является Ю. П. Миролюбов) должен был избрать какую-то одну модель языка. Ю. П. Миролюбов не был полным профаном в славистике. Он, как говорилось ранее, изучал славянские языки и историю в Пражском университете, слушал лекции известнейшего слависта Л. Нидерле. В то же время детство и молодость Ю. П. Миролюбова прошли в Украине, и украинский язык он знал довольно хорошо. Словом, знаний у Юрия Петровича должно было хватить, чтобы хотя бы приблизительно держаться правил одного-двух, причём близких, славянских языков, не создавая на «страницах» «Книги Велеса» языковую «мешанину». В то же время профессиональным учёным-славистом Ю. П. Миролюбов всё-таки не был и вряд ли мог намеренно вводить в создаваемый им текст такие «ошибки», которые бы находили объяснения в других языках славянской языковой семьи. Более того, вряд ли он мог предвидеть будущее и сделать такие «неточности», которые стали известны учёным по другим источникам уже после первых публикаций, касающихся «Велесовой книги» (речь идёт о берестяных грамотах, граффито Софии Киевской, особенностях современного языка славян Полесья и Волыни).
Д. М. Дудко считает, что лингвистические аргументы сторонников подлинности «Дощечек Изенбека» не опровергают основных аргументов Л. П. Жуковской и О. В. Творогова и не меняют картины в целом (II, 28; 229). Мы полагаем, что, напротив, эти аргументы существенно меняют картину и показывают, что и с лингвистической стороны нет ничего невозможного в существовании такого памятника, как «Книга Велеса».
* * *
Помимо лингвистики само содержание «Велесовой книги» даёт обильную пищу для её критики. В самом деле, то, о чём повествует «Книга», может вызвать у ряда учёных состояние шока, ибо полностью переворачивает «классические» представления о славянской истории.
Академик Б. А. Рыбаков, первый из советских учёных критиковавший «Книгу Велеса» именно с исторической стороны, указал всего-навсего на единственное несоответствие содержащейся в ней информации существующим научным представлениям. Вот что он пишет: «Славяне ещё в III тысячелетии до н. э. (во времена трипольской культуры) были земледельцами и автохтонами, т. е. обитали в Среднем Поднепровье, а не пришли из глубин Центральной Азии и не были скотоводами» (II, 16; 205). Почему так мало аргументов «против» привёл уважаемый академик? Очевидно, что полностью с текстом «Книги Велеса» Борис Александрович знаком не был. Дощечка 16А, присланная в СССР в 1959 году, в 1977 году, когда академиком писались эти слова, уже не была единственным участком текста памятника, с которым могли познакомиться советские учёные. В спецхраны попадали тогда и зарубежные публикации «Книги Велеса», и работы о ней. Кое-что из этих материалов спецхранов Борис Александрович явно изучал, ибо дощечка 16А говорит о жизни предков русов в степях, но ничего не упоминает об их приходе в Европу из глубин Азии. Подобную информацию можно почерпнуть только из других дощечек памятника.
Также заметим, что научные воззрения академика Б. А. Рыбакова всегда отличались смелостью. Вот и в данном случае он говорит о славянах (земледельцах и автохтонах в Среднем Поднепровье) в III тысячелетии до н. э. Обычно и в то время, и сейчас историки и археологи не рисковали и не рискуют говорить о славянах ранее первых веков нашей эры. По их построениям складывается впечатление именно о внезапном появлении славян в пределах их прародины в первых веках нашей эры. Кстати, Среднее Поднепровье такими учёными в территорию славянской прародины не включается. Они ограничивают её только Повисленьем. Гораздо смелее лингвисты, которые говорят о том, что «праславянский язык сложился задолго до начала новой эры…» (II, 56; 12). Праславянский язык — это язык периода славянского языкового единства (его можно назвать ещё общеславянским). Но раз существовал язык, то существовал и его народ-носитель, т. е славяне.
В общем, академик Б. А. Рыбаков также во многом шёл вразрез с официальной наукой. И недаром в конце советской эпохи и в период независимой России его так сильно критиковали: советские регалии уже защищали слабо, а поводов для критики Борис Александрович своими смелыми построениями дал столько, что хоть отбавляй. И если разобраться, то, удревняя историю славян, Рыбаков должен был бы защищать, а не критиковать «Книгу Велеса», ибо она во многом подтверждала его научную концепцию (хотя в чём-то ей и противоречила). Но мы уже отмечали, что позиция как Б. А. Рыбакова, так и Л. П. Жуковской во многом могла быть обусловлена в советское время диктатом власти, а в перестроечный и постперестроечный периоды боязнью травли со стороны так называемых «учёных-профессионалов».
Но вернёмся к «Велесовой книге». О каких событиях и временах повествует она? Разумеется, мы не будем здесь пересказывать «Книгу». Но поговорить о датировке изложенных в ней событий, безусловно, стоит. И надо иметь в виду, что «Велесова книга» — не летопись в строгом смысле этого слова. Как известно, летописи представляют собой погодичное изложение исторических событий. На Западе им соответствовали хроники. Да, в летописи могут включаться какие-то документы (как, например, в «Повесть временных лет» включены Нестором договоры Олега, Игоря и Святослава с греками), в них могут быть какие-то отступления морально-этического, поучительного характера, как бы разрывающие погодичный перечень событий. Но перечень этот остаётся становым хребтом, в летописях он всегда главенствует (отсюда и название, означающее «описание лет»).
Конечно, некоторые из первых зарубежных исследователей «Книги Велеса» называли её летописью (А. А. Куренков, С. Ляшевский). Их примеру следовали некоторые из первых советских исследователей и критиков памятника (достаточно вспомнить совместную статью В. И. Буганова, Л. П. Жуковской и Б. А. Рыбакова под названием «Мнимая “Древнейшая летопись”»). Однако примечательно, что самый первый изучавший «Велесову книгу» человек, Ю. П. Миролюбов, никогда не называл её этим термином.
Но каков же характер «Книги Велеса»? Как определить её жанр? О. В. Скурлатова считает, что памятник — «это не летопись, не хроника в нашем понимании, а сборник языческих проповедей, которые читались народу, очевидно, во время богослужений. Их слушали и запоминали наизусть, ибо почитание предков было частью религиозного культа. Деяния предков, то есть история, становились, таким образом, всеобщим, всенародным достоянием, традицией, передававшейся из поколения в поколение. В разные эпохи к старым дощечкам прибавлялись новые, освещавшие либо старые времена, но в новом аспекте, либо говорившие о новых временах, но в сравнении со старыми. Отсюда многочисленные повторения исторического содержания, перемешанные с призывами к чести, храбрости, взываниями к небу о ниспослании благ и т. д. Таким образом, религия, история и быт сливались в одно неразрывное целое. Характер «Велесовой книги» становится понятным: это не курс истории, это сборник религиозных поучений (выделено нами. — И.Д.)» (II, 52; 32–33).
Близок к О. В. Скурлатовой в определении характера памятника Н. В. Слатин. Правда, сборником религиозных поучений он всё-таки «Велесову книгу» не именует. Процитируем этого учёного: «Это — сборник, составленный из текстов, написанных в самое разное время и разными людьми, возможно, отстоящими друг от друга на тысячи и десятки тысяч километров и сотни и тысячи лет. Это — не сборник гимнов и жертвенных и заклинательных формул, как Веды или Авеста; это — не жития каких-либо святых или героев; это — не хроника или летопись. В этом сборнике есть почти всё это, но понемногу. Это не княжеская книга (как «Слово о полку Игореве»), а книга для народа. Сборник этот составлялся не с хронологической целью (это не летопись); он проникнут идеей наставительности, воспитания — всякий раз на основе примеров из древности (выделено нами. — И.Д.). И это-то и является одной из причин, почему тексты Влескниги местами фрагментарны и как бы даже малосвязаны между собой сюжетно (и даже в пределах одной дощечки) — но все они связаны содержащимся в них Духом… И Дух этот — патриотизм, Любовь к Руси.
Тексты производят впечатление, употребляя современные термины, рефератов или конспектов, по которым их читающий — волхв ли или кто-то другой, но по-настоящему грамотный человек, хорошо знающий предание, легенды, свою веру, — мог, прочитав одну-две фразы, далее импровизировать, по ходу дела поясняя и приводя уже и свои, может быть, более знакомые окружающим его соплеменникам примеры, воочию показывающие реальную жизненную важность почитания Богов, взаимоподдержки, патриотизма…» (II, 52; 134).
Соглашаясь с только что процитированными источниками, от себя добавим, что последний из писавших «Книгу» авторов (Ягила Ган, по А. И. Асову) создавал явно агитационное произведение, звавшее русичей к борьбе с находниками-варягами.
Из всего вышесказанного понятно, что восстанавливать прошлое славян по «Книге Велеса», локализуя события во времени, очень непросто. Хронология памятника чрезвычайно запутана и противоречива. Почти нет датировок событий по какой-то эре (т. е. от определённого события, реального или мифологического). Только победа боярина Гордыни над готами датируется 1003 годом от Карпатского исхода (или от прихода славян на Русь) (дощечка 6Д). В остальных же случаях указывается, сколько лет прошло между двумя событиями: Богумир жил за 1300 лет до Германариха (дощечка 9А); от отца Ория до Дира было 1500 лет (дощечка 6В); Аскольд пришёл через 1300 лет после Карпатского исхода (дощечка 7Г); предки славян-русов пришли в Карпаты за 1500 лет до Дира (дощечка 5А) и т. д. Притом годы указываются округлённо, с точностью до ста лет.
Весь период от переселения славян с прародины до IX века определяется в «две тьмы». Но совершенно неясно, что значат эти «две тьмы». Если следовать буквальному значению древнерусского слова «тьма», то это — десять тысяч. Тогда мы имеем 20 000 лет. На эту цифру прямо указывает дощечка 4Б. В то же время увязка в текстах «Велесовой книги» сказания о «двух тьмах» (например, дощечка 2А) с именем Ория, приведшего славян-русов в Русский край, позволяет говорить и о 2000 лет. Как верно замечает Д. М. Дудко, «две тьмы» — это, скорее всего, «эпическая цифра, означающая весь цикл истории славян-русов — от прихода с прародины до подчинения варягами» (II, 28; 128).
Нет в «Велесовой книге» и датировки по годам правления князей. Правда, дощечка 36Б даёт небольшой список князей из династии Кия (включая его самого) с указанием продолжительности их правления (Кий — 30 лет, Лебедян Славер — 20 лет, Верен — 20 лет, Сережень — 10 лет). Но это мало может что дать, ибо опять-таки увязано с Карпатским исходом.
Кстати, локализация во времени этого знаменитого исхода славян с Карпат как нельзя лучше может продемонстрировать всю противоречивость хронологии «Книги Велеса». Так, дощечка 5А говорит, что славяне пришли в Карпатские горы за 1500 лет до Дира (жившего, как известно, в IX веке), т. е. в VII веке до нашей эры. Прожили там 500 лет, а затем ушли на восток, к Днепру. Таким образом, переселение русов с Карпат должно датировать II веком до н. э. Однако дощечка 7Г утверждает, что Аскольд, так же как и Дир, живший в IX веке н. э. (по общепринятой версии, они были князьями-сопровителями), появился на Руси через 1300 лет от Карпатского исхода. Получается, с Карпат наши предки ушли не во II веке до н. э., а на три века раньше, в V веке до н. э. Разница в датировке на три века — это весьма существенно. Но на этом хронологическая путаница не заканчивается, и дощечка 22 говорит: «Итак, было тысяча триста лет от Кия-отца, триста — от жизни в Карпатах и тысяча — от Киева-града». До этих слов в дощечке шла речь о варяжском наступлении. Последнее датируется IX веком н. э. В крайнем случае можно предположить проникновение варягов на территорию славянского Поднепровья в VIII веке н. э. Никак не ранее. Тогда Кий-отец (надо полагать, сын Ория) правил либо в V, либо в VI веке до н. э. В Карпатах жили, как можно заключить из этой фразы дощечки, 300 лет. В принципе мы попадаем на дату исхода, к которой нас подводит и дощечка 5А, т. е II век до н. э. Но только дощечка 5А говорит не о трёхстах, а о пятистах годах жизни в Карпатах. И Кий-отец, один из славянских князей, возглавлявший их переселение в Карпатские горы, жил, по дощечке 5А, не в V веке до н. э., а в VII. С другой стороны, на наш взгляд, приведённая фраза 22й дощечки весьма темна, и трактовать её можно по-другому: не увязывать с варяжским наступлением IX века. Оттолкнуться от VII века как времени жизни Кия, сына Ория, и даты прихода славян в Карпаты. Тогда Карпатский исход надо датировать IV веком до н. э.
Итак, перед нами три даты Карпатского исхода, которые вытекают из текстов «Книги Велеса» (а точнее, по этим текстам вычисляются) — V век до н. э., IV век до н. э., II век до н. э. Но именно от данного исхода в памятнике производится датировка многих событий. Как же их прикажете датировать? От какого века отталкиваться?
Может ли подобная хронология «Книги Велеса» вызывать сомнения в подлинности этого памятника? Думается, что нет. Хронологические противоречия вполне возможны в подлинном источнике, особенно сложном по составу, многослойном, соединившем в себе труд нескольких авторов, живших в разные эпохи, и сведения нескольких источников. Кроме того, древним людям вообще было чуждо наше современное, «линейное» понимание времени. Наверное, мы не ошибёмся, если скажем, что последнее стало утверждаться лишь в эпоху христианства. Древние цивилизации имели хронологию: по династиям фараонов (Древний Египет), от первой Олимпиады (Древняя Греция), от основания Города (Древний Рим) и т. д. Но по большому счёту конкретная датировка событий прошлого представителей этих цивилизаций интересовала мало. «Прошлое и есть прошлое. Это то, что было до нас. А уж когда до нас — не столь уж важно», — примерно так могли рассуждать тогда люди. Поэтому не стоит удивляться, что у Плутарха в его «Жизнеописаниях» или у Гая Светония Транквилла в «Жизни двенадцати цезарей» мы не найдём конкретных дат ни от первой Олимпиады, ни от основания Рима. Гадай, современный читатель, когда всё это происходило. Однако никому не приходит в голову объявлять произведения Плутарха и Транквилла на основании отсутствия в них датировки фальсификатами.
Но критика «Велесовой книги», подвергающая сомнению её подлинность, может использовать и противоположные аргументы, т. е утверждать, что хронология дощечек, наоборот, слишком уж точна. Поясним эту мысль. Принято считать, что народы, находящиеся на стадии «дикости» и «варварства» (если пользоваться периодизацией и терминологией Фергюссона — Моргана), не имеют никакой хронологии вообще (под таковой в данном случае понимается счёт лет от конкретной даты, события, точки отсчёта). Летосчисление в нашем понимании им чуждо. «Дикари» помнят конкретные события из жизни двух-трёх последних поколений. Дальше начинается уже мифологическая эпоха первопредков (II, 28; 236). «Варвары» слагают и запоминают длинные эпические сказания и родословные вождей и героев (II, 28; 236). Но точных дат, вообще счёта лет в них нет. Разве что «эпические» числа вроде «девяносто лет», «тридцать лет и три года» и т. п. (II, 28; 236). Более или менее точная датировка возникает уже в эпоху «цивилизации» (по годам правления, от определённого события). Да и то, как уже отмечалось, «линейного» восприятия времени у людей Древнего мира не было.
И здесь мы вплотную подходим к вопросу о стадии развития славянских племён. Если считать, что славяне чуть ли не до IX века сидели «в лесах и болотах», и только «цивилизаторская миссия» варягов позволила им из этих «лесов и болот» вылезти, если начинать историю славян с V–VI веков нашей эры, полагая, что до этого момента ничего примечательного в их истории, кроме тех же «лесов и болот» по реке Висле, не было, то тогда, да — хронология «Книги Велеса» очень уж точна, наличие её у варваров-славян выглядит подозрительно (как и само существование такого письменного памятника, как «Книга Велеса»). Но если предположить, что славянская история к V–VI векам н. э. (и уж тем более к IX веку) насчитывала не одну тысячу лет, если допустить, что славяне не единожды создавали свои государства, воздвигали города, входили в непосредственное соприкосновение со многими древними народами (смутные отголоски подобной информации мы находим и в летописях, и у средневековых авторов, и авторов начала нового времени, и именно об этом говорит нам «Велесова книга»), то хронология памятника излишне детальной нам не покажется.
Итак, о каких временах повествует «Книга Велеса»?
Есть основания полагать, что сказание о «двух тьмах» «Книги» — это смутная память об эпохе максимум последнего (валдайского) оледенения.
В дощечках говорится о переселении славян-русов из некоей Арийской земли (очевидно, Семиречье) в край Иньский (скорее всего, Индия) (дощечка 31), а затем об исходе из Иньского края и некоего Пятиречья и Семиречья (вероятно, речь идёт о Пенджабе) из-за стихийных бедствий и натиска дасов (дощечки 36А и 38А). А. И. Асов локализует данное событие в IV тыс. до н. э., что более согласуется с имеющимися научными данными о переселении индоевропейцев на Индостан (II, 10; 304). Д. М. Дудко, отталкиваясь от противоречивых хронологических указаний самой «Велесовой книги», датирует означенные события первой половиной I тыс. до н. э. (II, 28; 161–162).
Видимо, исход из края Иньского привёл предков славян снова в Семиречье. И уже в результате нового переселения из Семиречья они оказались в Сирии и Месопотамии (дощечки 15А, 6В и 6Г). Практически безошибочно можно определить, что случилось это в VIII–VII веках до н. э., ибо дощечки 6В и 6Г упоминают в связи с этими событиями царя Набсура. В Набсуре легко узнать либо вавилонского царя Набупаласара (627–605 гг. до н. э.), либо его преемника Навуходоносора (605–562 гг. до н. э.). Вполне вероятно также, что в образе Набсура слились оба этих вавилонских царя. При переселении в Сирию и Междуречье славяне сражались с персами, затем воевали с Ассирией и Египтом и даже попали в неволю к Набсуру (дощечки 6В и 6Г).
Все эти описания «Велесовой книги» соотносятся с зафиксированными множеством других источников нашествиями на Переднюю Азию киммерийцев и скифов в VIII–VII веках до н. э. Также можно соотнести с возвращением скифов из Передней Азии в Северное Причерноморье и свидетельство дощечки 15А: «И позже шли (из Сирии. — И.Д.) горами великими, и снегами, и льдами, и пришли в степи, и там были со стадами своими, и скифами были».
Далее следует целый ряд событий в жизни славян-русов, о которых обычная трактовка их истории, естественно, ничего не знает. В конце VI века Дарий I напал на русов и победил их из-за разделений и усобиц в их среде (дощечка 8). Эти события могли произойти только во время похода Дария в Северное Причерноморье в 514–513 гг. до н. э.
Русы вступают в столкновение с греками, колонизующими северное побережье Чёрного моря. Поскольку дощечка 6В говорит о возведении греками Хорсуня (т. е. Херсонеса по-гречески), то начало этих столкновений можно определить V веком до н. э., ибо именно в это время греки основали в Крыму этот город. Так и делают Д. М. Дудко и А. И. Асов (II, 28; 164), (II, 10; 329).
Примерно в VII–V веках до н. э. часть славянских племён переселяется на север. К такой дате переселения на север подводит дощечка 17А, которая вместе с повествованием об этом переселении говорит об утверждении русов на карпатских пастбищах. И поскольку датировать приход славянских племён в Карпаты, исходя из текстов «Книги Велеса», можно VII–V веками до н. э., то и перемещение части славян к северу относится к данному периоду времени. Можно предполагать и до какого района дошли славяне — это район Новгородчины, ибо та же дощечка 17А говорит об основании предводителем переселенцев князем Словеном города, который он назвал своим именем — Словенск. Словенск же в поздних русских летописях — это предшественник Новгорода. Исследователи полагают, что на роль Словенска может претендовать Рюриково городище в истоках Волхова (II, 28; 146). Правда, его возникновение они относят к IX веку нашей эры, а не к VII–V векам до н. э. (II, 28; 146).
Пятьсот лет жизни в Причерноморье были прерваны нашествием неких «гуннов» (дощечка 17А). Но данные «гунны» могут и не быть настоящими гуннами. Эти последние появились в Восточной Европе только во второй половине II века н. э., были, видимо, отброшены и снова вторглись туда лишь во второй половине IV века н. э. Кто же тогда «гунны» дощечки 17А? Исходя из хронологии «Книги Велеса», их нашествие вполне можно отнести к рубежу III–II веков до н. э. А тогда под именем гуннов могут скрываться сарматы. Именно в III веке до н. э. сарматы разгромили и изгнали скифов из степей, расположенных севернее Чёрного моря. То, что сарматы названы в «Велесовой книге» гуннами, в принципе возможно. В письменных источниках более поздние враги могут быть названы именем более ранних и, наоборот, более ранние противники могут ассоциироваться с более поздними. Но тем не менее сомнения в таком выводе всё же остаются. Запутанная и противоречивая хронология «Велесовой книги» даёт основания предполагать вышеописанное появление загадочных «гуннов» и в первой половине II века н. э. Тем более что рассказ о столкновении славян с «гуннами» в дощечке 17А очень напоминает первое появление настоящих гуннов в Восточной Европе: «…И так пришли враги на отцов наших с юга, и утратили они Скифскую землю на побережье морском и степи, и ушли на север, и встретились с фракийцами. Те дали помощь на врагов. И скифы вернулись, и сразились с вражеской силой, и побили её. И то были гунны, впервые ступившие на Русь, и в тот раз отогнаны были (выделено нами. — И.Д.)».
За то, что речь в данном случае идёт о подлинных гуннах II века н. э., а не о гуннах мнимых III–II века до н. э., под именем которых скрываются сарматы, говорят и следующие соображения: в «Книге Велеса» из сарматских племён славянам противопоставляются лишь языги (дощечка 15Б). Но названы они своим собственным именем, а не гуннами. Кроме указанного места в дощечке 15Б, о столкновениях с сарматами более не говорится. Гунны, согласно текстам дощечек, — это лютый враг. Отношение к скифам двойственное. Так, дощечка 17А говорит о некоем русском князе Скифе (наряду с князьями Словеном, Ильмером, Бастарном и Венедом). Этот Скиф возглавил ту часть русов, которая осела в Причерноморских степях. Племя получило имя по имени своего предводителя. Точно так же имена других князей, упомянутых в дощечке 17А, послужили для наименования племён: ильмеров, словен (славян), бастарнов, венедов. Скорее всего, здесь мы имеем дело с легендой, возникшей для объяснения происхождения имени племени. Но легенда эта очень и очень показательна: Скиф — русское имя, а скифы — всего лишь ветвь русов. Дощечка 15А тоже именует степную часть русов скифами: «И позже шли горами великими, и снегами, и льдами, и пришли в степи, и там были со стадами своими, и скифами были (выделено нами. — И.Д.)». Заметьте, «скифами были», а не «со скифами были», не «под скифами были». То есть никакого разделения славян со скифами нет. И тем с большим удивлением воспринимается текст дощечки 6В: «…И долгая вражда между родами разрывала борусов на части (борусы — ветвь русов. — И.Д.). Так, борусы не могли противостоять наступлению греков и скифов. Те были жёлтые, а русы — русые и голубоглазые, сильные и неутомимые (выделено нами. — И.Д.)». Противопоставление славян и скифов идёт даже на уровне антропологических признаков. Как считает Д. М. Дудко, «такое двойственное отношение к скифам вполне объяснимо своеобразным положением праславян в составе Великой Скифии», хоть и союзников, но всё же подчинённых, младших (II, 28; 248–249). Вполне возможное объяснение. Но о взаимоотношениях славян и скифов мы ещё поговорим ниже.
Сейчас же вернёмся к сарматам. Заметим, что название «сарматы» в «Велесовой книге» не фигурирует вообще. Данный факт может свидетельствовать о двух обстоятельствах: во-первых, о подлинности памятника; во-вторых, допуская, что «Книга» — подделка, о великолепном знании фальсификатором античных авторов. Остановимся на втором. Слово «сарматы» античного происхождения. Сами племена, входившие в эту группу, так себя не называли. У Геродота фигурировало племённое имя «савроматы» (II, 37; 9). Было ли это наименование одного конкретного племени или нескольких племён — неясно. Но вот у римлян это название, изменившись и зазвучав как «сарматы», приобрело обобщающее значение. Во II веке н. э. географом Птолемеем была составлена карта Великой Сарматии, дошедшая до нашего времени (II, 37; 9). Теперь перейдём к первому: отсутствие античной «клички» в текстах «Книги Велеса» говорит об аутентичности источника (косвенное доказательство). В самом деле, вряд ли славянский жрец стал бы употреблять римское или греческое наименование своего племени. В общем, такие вещи народам не свойственны (хотя в отношении славян учёные почему-то держатся другого мнения). Дойче не называют себя алеманами или немцами, несмотря на то, что так их именуют французы и русские соответственно, а суоми упорно не хотят называть себя финнами, и употребление имени «финны» всем миром им не указ. И не надо думать, что в древности было иначе: своё племя чётко отделяли от других (даже родственных) и берегли своё племенное наименование.
Мы не оговорились, когда сказали, что сарматы были для славянского жреца своими. В «Велесовой книге» неоднократно держава русов в Северном Причерноморье именуется Русколанью. Легко увидеть сходство с наименованием (самоназванием) одного из сильнейших сарматских племён — роксоланов. Сходство это не случайно. Ещё М. В. Ломоносов указывал на роксоланов как прямых предков русичей. Великий русский учёный не ошибался. Потому-то «Велесова книга» не знает, по сути, противопоставления сарматов и русов-славян, что сарматы-роксоланы и были славянами. Именно такого мнения придерживался и один из первых исследователей «Книги Велеса» С. Ляшевский (см. его книгу «Русь доисторическая»). Разгром роксоланами (русколанами) Великой Скифии в III веке до н. э. был для славян, живших на её территории, не завоеванием, а освобождением от власти жёлтых скифов (индоиранцев). Описанное в дощечке 15Б столкновение с языгами могло быть стычкой с иранской ветвью сарматской группы племён, которая, так же как и скифская, была неоднородна. К тому же данное столкновение закончилось вовсе не так, как закончилось сарматское нашествие на Причерноморские степи: языги (в отличие от сарматов III в. до н. э.) были разгромлены (согласно дощечке 15Б). Описанное столкновение могло иметь место и в более поздние времена, а не в III–II века. до н. э. Заметим к тому же, что впоследствии языги выступали союзниками русов (дощечка 5Б), союзниками были и некие иронцы (надо полагать, также сарматы-иранцы) (дощечка 4А). Но в «Книге Велеса» иронцы — это иронцы, языги — это языги. А Русколань населена русами. Не с иронцами, не с языгами в «Книге» их не смешивают.
Итак, дощечка 17А отражает вовсе не сарматское завоевание Скифии, а первый приход гуннов в Восточную Европу. И относить данный текст нужно к событиям II века н. э.
Столкнулись русы-славяне и с кельтами. Было это, согласно тексту дощечки 8, в III–II веках до н. э. От этого противника наши предки смогли отбиться: «И было тому тысячу лет (тысячу лет от IX века н. э. — это II в. до н. э. — И.Д.), как пошли на нас кельты с железом своим, а наткнувшись на нас, возвратились на закат Солнца…».
В дальнейшем кельты, ставшие соседями славян, даже выступали их союзниками (дощечка 28).
Славяне неизбежно должны были встретиться с римлянами, продвигавшимися в Восточную Европу со стороны Балкан. Когда гордые потомки Ромула и Рема пришли в Карпаты, эта встреча состоялась. Понятно, что носила она отнюдь не мирный характер. О борьбе русов с Римом упоминается в дощечках 7А, 7Б, 7В, 7Ж и 29. В Карпатах противостояли римлянам славяне-карпы (дощечки 7А и 7Б). В устье Дуная сражались с захватчиками дулебы (дощечка 29), сражались успешно, ибо «римские орлы… поражены были дедами нашими…». Противостояние с римлянами длилось тысячу лет (дощечка 7В). Не обходилось оно и без тягостных для русов поражений. Именно о тяжёлом поражении повествует дощечка 7Ж: «Речёт та птица о героях борусских, которые от римлян пали около Дуная, возле Троянова вала. А те без тризны полегли, и стрибоги лишь плясали, плача о них на Овсени и зимой студёной. Курлычит о них журавль степной и голуби дикие, и говорят, что погибли те во славе и не оставили земли своей врагам». Павших в битве с римлянами славянских воинов даже некому похоронить, некому справить по ним тризну. Да, это явно описание проигранного сражения. Повествование о борьбе с Римом не лишено хронологических противоречий. Уже упоминалось выше о том, что дощечка 7В говорит о тысячелетнем противостоянии римлянам. Если исходить из тех соображений, что римляне могли столкнуться со славянами только во время своего прихода в Карпаты (конец I в. н. э.), то возникает вопрос, почему русский автор IX века н. э. говорил о тысяче лет битв с ними. Даже если римлянами считать византийцев (что, впрочем, верно, ибо сами византийцы называли себя ромеями, т. е. римлянами; однако приходится при этом учесть, что «Книга Велеса» совершенно в духе русской традиции именует византийцев греками), то к IX веку н. э. можно говорить максимум о восьми сотнях лет противостояния, а не о тысяче. Что это? Эпическая цифра? Или, может быть, квирины и русы столкнулись ранее конца I века — начала II века н. э. Может быть, это случилось во II веке до н. э., когда племена тевтонов и кимвров угрожали Риму и кимвры были не германцами, а славянами? Дощечка 6Е даёт утвердительный ответ на последний вопрос: «Аскольд — тёмный воин, а ныне греками просвещён, что нет никаких русов, а есть варвары, и потому можем смеяться на тем, что были киммеры, также отцы наши. А те римлян потрясали (выделено нами. — И.Д.), а греков разметали, как поросят напуганных».
Дощечка 29, повествуя о поражении императора Траяна от дулебов, говорит, что это было «за триста лет до нашего времени», т. е., если считать от IX века н. э., то поход Траяна на дулебов придётся датировать VI веком н. э. В той же дощечке 29 говорится, что «Траян был за пятьсот лет до готов». Траян покорил Дакию в 106 году н. э., а готы пришли в Восточную Европу в конце II века н. э. Между этими двумя событиями менее века. О каких пятистах годах говорит «Книга Велеса» — загадка. Скорее всего, и в первом, и во втором случае мы имеем дело с обыкновенными хронологическими ошибками. Интересно, что обе хронологические выкладки, касающиеся императора Траяна, входят в текст одной и той же дощечки, но не согласуются друг с другом, что заставляет предполагать сложность её состава, т. е. написание не одним автором.
Наконец, «Книга Велеса» уделяет большое внимание борьбе русов-славян с гуннами, готами, греками-византийцами. Дощечки 4А и 4Б упоминают хазар, войны с ними и временное подчинение ими славян. Дощечка 34 рассказывает о походе князя Кия на болгар. Много внимания автор «Книги» уделяет варягам. Причём варяги для него — злейшие враги, захватчики. Очень многие тексты памятника пронизаны антиворяжским пафосом. И хотя повествования о столкновениях с гуннами, готами, византийцами, хазарами, болгарами, варягами также содержат тёмные места, неясности, хронологические противоречия, но в целом большого удивления они не вызывают, ибо данные события либо известны по другим источникам, либо что-то подобное в славянской истории с большой вероятностью предполагалось (например, было ясно, что гуннское нашествие явилось тяжким испытанием для славян).
Что же в историческом содержании «Книги Велеса» вызывает такое огромное недоверие и скепсис ряда специалистов? Обобщённо говоря, это то, что славянскую историю придётся углублять на тысячелетия. Трудно отказываться от псевдоисторических мифов о лесах и болотах, в которых дикие славяне сидели, никому не известные, до V–VI веков н. э., о цивилизаторской миссии греков и варягов, а то и тюрок.
Если же говорить более конкретно, то первым пунктом для критики является предположение, что «две тьмы» славянской истории — это двадцать тысяч лет и что славяне могли помнить последнее (валдайское) оледенение (сказание дощечки 2А о приходе предков славян в край Русский из-за сильных холодов, которые они терпели на прежнем месте жительства). На разные лады критики повторяют мысль, что человеческая память в дописьменную эпоху может удерживать конкретные события истории на протяжении всего нескольких поколений. Далее они превращаются в эпос (в котором ещё можно выделить реальную историческую основу), а затем — в миф. В любом случае речь идёт не о десятках тысяч лет (II, 18; 189, 198), (II, 28; 236). Представляется, что это верно лишь отчасти. Хочется сделать ряд оговорок. Во-первых, напомним то обстоятельство, что знак равенства между «двумя тьмами» «Книги Велеса» и двадцатью тысячами годами ставится лишь предположительно (об этом говорилось выше). Во-вторых, в памятнике повествование о событиях «двухтемной» давности носит именно мифологический характер. Нет никакой конкретики, никаких подробных описаний, фигурирует лишь прародитель («отец») Яр (Орий), который выводит праотцов славян в край Русский. Всё предельно схематично и обобщённо. Наконец, можно говорить о пяти-семи сотнях лет, по истечении которых реальные события превращаются в эпос. Возможно, это происходит даже быстрее. Ещё более древние события находят отражение в мифах. Но вот сколь отдалённые события народная память может удерживать в мифологической форме, на этот вопрос ответа нет. Вполне возможно, что воспоминания о каких-то глобальных катастрофах, сыгравших огромную роль в жизни народа, могут жить многие тысячелетия (как миф, конечно). Ведь сохранили же многие народы мира миф о потопе. Учёные сейчас склонны считать потоп реальным событием. И событие это произошло много тысяч лет назад, задолго до того, как миф о нём был записан и разукрашен различными литературными подробностями. Поэтому нет ничего удивительного, что славяне могли запомнить эпоху последнего оледенения, согнавшего их племя с насиженных мест и подвигшего к скитаниям в поисках нового места для жительства.
Вторым пунктом для критики «Книги Велеса» с позиций изложенного в ней исторического материала являются сказания об азиатской прародине русов (Семиречье, Пятиречье, Иньский край). По всему выходит, что русы пришли в Европу из Азии. Однако современная индоевропеистика скептически относится к теории азиатской прародины. Ныне древних индоевропейцев ищут на юге Восточной Европы, на среднем и нижнем Дунае, среди земледельцев и скотоводов энеолита и бронзового века IV–III тыс. до н. э. Правда, есть видные индоевропеисты (Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов), которые по-прежнему локализуют прародину в Азии (от Малой Азии до Туркмении). Юг Восточной Европы и север Балкан они определяют как «вторичную прародину» (II, 28; 241).
Что можно сказать на это? Прежде всего, из текстов «Велесовой книги» всё-таки не очень ясно, в Азии ли находилась прародина русов? Арийский край дощечки 31 трактуется толкователями памятника, видимо, в увязке с текстами дощечки 9А как Семиречье. Но можно ли быть в этом уверенным стопроцентно? А затем: можно ли быть стопроцентно уверенным в том, что Семиречье — это земли на юге Казахстана, то есть то, что мы привыкли именовать Семиречьем? С. Ляшевский, например, трактует Семиречье «Велесовой книги» совсем по-другому. По его мнению, Семь рек — «это, безусловно, Дон с притоками: Северский Донец, Оскол, Хопёр, Медведица, Маныч и Сал» (II, 37; 120). И, объективно говоря, мы не видим в «Книге Велеса» данных, которые бы противоречили этому мнению. Индия же (скорее всего, именно она является Иньским краем дощечек) изначальной прародиной в памятнике и не называется. Туда русы-арии пришли, согласно дощечке 31, из края Арийского. Оттуда значительная часть их, как повествуют дощечки 36А и 38А, затем ушла из-за стихийных бедствий и нападений вражеских племён. Так что, вопреки утверждениям критиков, индийской теории происхождения индоевропейцев «Велесова книга» в себе не заключает. Под вопросом, как отмечалось, и изложение в ней среднеазиатской теории. И это ещё раз (правда, косвенно) подтверждает подлинность памятника, ибо одним из аргументов скептиков было утверждение, что фальсификатор (подразумевается Ю. П. Миролюбов) устроил в текстах «Книги» мешанину трёх теорий происхождения индоевропейцев: индийской, среднеазиатской и нордической. Никакой мешанины там нет. А есть изложение не наукообразное, а эмоциональное, сбивчивое и даже противоречивое (ибо памятник многослойный) сложного процесса расселения индоевропейских племён.
Собственно говоря, и азиатскую теорию прародины индоевропейцев (среднеазиатскую или же центральноазиатскую), судя по археологическим данным, «списывать в архив» ещё рановато. Коротко изложим несколько фактов. В IV тысячелетии до н. э., в эпоху энеолита, в степной полосе Восточной Европы появляются люди так называемой курганной (или ямной) культуры. Сегодня большинство археологов и очень многие лингвисты согласны с тем, что «ямники» — это ранние индоевропейцы (II, 18; 59), (II, 50; 28). Но «ямники» в Восточную Европу не с неба свалились. Откуда же они взялись? Все данные говорят за то, что пришли они из недр Евразийского континента. Во всяком случае, ямная культура имеет родственные археологические культуры к востоку от Урала: в степях Южной Сибири и на Алтае-Саянском нагорье (афанасьевская культура) (II, 18; 59). Время существования культуры — IV — рубеж III–II тысячелетий до н. э.
По археологическим данным, к концу III тыс. до н. э. индоевропейцами были освоены Северная Индия, Иран, Балканы, Малая Азия, обширные области Центральной и Северной Европы (II, 50; 29).
И вот тут, на рубеже III–II тысячелетий до н. э., начинается впечатляющий марш «боевых топоров». Как пишут некоторые исследователи, «не очень понятно, откуда взялась» эта культура (II, 18; 59). Другие указывают, что её истоком явились Урало-Волго-Донские степи (II, 50; 29). Несомненно, что представители этой культуры — это точно индоевропейцы. Известно также, что распространилась эта культура на огромные территории, заняв практически всю Европу и достигнув берегов Атлантики. Заметим, что Уральские степи являются границей между Европой и Азией, а примыкающие к ним Волго-Донские степи — как раз тот регион, на который указывал С. Ляшевский как на легендарное Семиречье «Велесовой книги».
Итальянские археологи, производившие в 60—70х годах XX века раскопки в долине Свата (Пакистан), пришли к выводу, что в конце II тысячелетия до н. э. происходили мощные передвижки евразийских пастухов. Из Центральной Азии в Европу и в Северный Индостан пришли в то время воинственные кочевники-индоевропейцы (II, 50; 31). Вполне возможно, что именно в этой волне переселенцев находились и знаменитые киммерийцы Северного Причерноморья, и «люди моря» Средиземноморья. Появление и тех, и других в указанных регионах относится именно к концу II тысячелетия до н. э.
Одним словом, даже если принять, что «Велесова книга» говорит об Азии как прародине русов, то ничего противоречащего историческим данным в этом нет. Азия действительно могла явиться прародиной индоевропейцев; по крайней мере, «вторичной». Археологический материал блестяще подтверждает изложенные в текстах дощечек факты.
Другой вопрос: правомерно ли отождествление индоевропейцев и славян? И вопрос этот, звучащий из уст критиков «Велесовой книги», как говорится, «не в бровь, а в глаз». Но позволим себе задать встречный вопрос: а как могли называть себя индоевропейцы в период своей общности? Наличие такой языковой и этнической общности наука на современном этапе признаёт, определяя её хронологические рамки V–IV тысячелетиями до н. э. (II, 45; 12). Вряд ли представители этой общности называли себя «индоевропейцами», «праиндоевропейцами», «протоиндоевропейцами» и тому подобными научными терминами. Да, существовали родовые и племенные наименования, которые впоследствии, с распадом общности, стали превалировать, превратившись постепенно в имена отдельных народов. Но первоначально, когда индоевропейцы были относительно едины, не расселившись на огромных территориях, когда они осознавали свою общность, должно было быть у них единое имя, отличавшее их от других племён. И таковым именем могло быть имя «русы» — светлые, белые, свои. Мог употребляться этноним «арии», указывающий на прародителя русов — Яра-Ория. Но ведь именно о русах, русичах, ариях рассказывает «Велесова книга». Наименование «славяне» употребляется в ней достаточно редко. И это, пожалуй, подтверждает высказываемую некоторыми учёными мысль (Ю. Д. Петухов, А. В. Гудзь-Марков), что этноним «славяне» сравнительно молодой, моложе ряда других наименований этого племени. «Словене» (а именно так, по мнению учёных, звучало первоначально имя «славяне»; именно в такой форме его ещё на рубеже I–II тысячелетий н. э. хранили славяне Новгородчины; в несколько изменённой форме по сей день его сохранил один из балканских славянских народов — словенцы, в ещё более изменённой форме — соседи чехов — словаки) означало — «владеющие словом, понимающие его», т. е., другими словами, «говорящие на понятном языке». Это наименование вполне могло закрепиться за той частью русов, которые максимально сохранили обычаи и язык своих предков, так сказать, за «основным стволом древа» русов, тогда как «боковые ветви и побеги» постепенно утрачивали и язык, и обычаи, утратили, наконец, и само имя «русы». Предвидим множество возражений по этому поводу. Но основываться данные возражения будут на гипотезах, а не на доказанных теоремах и бесспорных аксиомах. И наша гипотеза, а точнее всего лишь изложенная нами, ибо принадлежит она Ю. Д. Петухову, имеет полное право на существование.
Могут последовать возражения, основанные на том, что вряд ли славяне в IX веке н. э. могли так хорошо помнить события IV–II тысячелетий до н. э. Это опять тот же вопрос глубины исторической памяти народа, который поднимался несколько выше. События какой давности, пусть даже в мифологизированной форме, может удержать народная память? Мы отмечали, что ответов на этот вопрос нет. Но для того, чтобы иметь хоть какой-то ориентир, напомним, что древнегреческие мифо-эпические произведения дошли до нас из культуры поздней, дорийской, которая «научилась писать» примерно в VIII веке до н. э. (II, 18; 193). И записывала она не только и не столько собственные, дорийские мифы, сколько мифы предыдущего этнического поколения — ахейского. Вполне можно предполагать, что ахейские этногенетические мифы, «помнящие» их приход на Балканы, — об Эллине, о Данае, о Кадме и ряд других — связаны с началом крито-микенской культуры (II, 18; 193). Археологические исследования показывают, что эта культура на Балканах возникла около 3000 года до н. э., просуществовав до 1100 года до н. э. (II, 18; 193). Получается, народная память способна хранить события более чем двухтысячелетней давности.
Так что помнить о событиях по крайней мере II тысячелетия до н. э., о каких-то переселениях под водительством мифически-обобщённых прародителей (Орий, его сыновья — Кий, Щек, Хорив) славяне в IX веке н. э. вполне могли, даже будучи народом бесписьменным. Но в том-то и дело, что в IX веке н. э. письменность у славян уже была. И, как мы пытались показать в предыдущих главах, возникла она задолго до этого века, в глубокой древности. Тэртерийские таблички и их возможный перевод на русский язык позволяют говорить даже о V тысячелетии до н. э. Поэтому память русов-славян подкреплялась записями, благодаря которым и события IV тысячелетия до н. э. в конце I тысячелетия н. э. были отчасти известны.
Но вернёмся к излагаемым в «Велесовой книге» событиям, привязка которых данным памятником к славянской истории вызывает скептическое отношение к нему со стороны ряда учёных. Речь сейчас пойдёт об участии русов в делах Передней Азии и об отождествлении их с киммерийцами и/или скифами. Вот типичная реакция критиков «Книги Велеса» на подобные её повествования: «Правда, странствия русов по Ирану и Месопотамии напоминают расселения древних иранцев… В VIII веке до н. э. иранцы-мидяне вместе с пришедшими с севера киммерийцами и скифами уже активно вмешивались в дела ближневосточных монархий, сокрушив, в частности, Ассирию… Но славяне-то в эти времена возделывали землю на Висле и Днепре, в лесах и лесостепи!» (II, 28; 248). Слова эти принадлежат Д. М. Дудко. И, пожалуй, мы несколько ошиблись, говоря, что они типичны для критиков. Нет, Д. М. Дудко принадлежит к той их части, которая рискует говорить о существовании славян аж в начале I тысячелетия до н. э. В остальном он действительно типичен. Та же привязка к Висле и Днепру, те же утверждения об изначальном земледельческом характере хозяйства славянских племён. В науке существует глубокое убеждение в том, что и скифы, и киммерийцы были иранцами. Однако если посмотреть объективно, то стопроцентной эта уверенность быть никак не может. Вот, например, что можно прочесть о киммерийцах в 3 м томе «Всемирной истории» (24 тома, Минск, 1996 год издания): «По всей вероятности (выделено нами. — И.Д.), это были племена, родственные иранским (выделено нами. — И.Д.), а может быть, и фракийским племенам (выделено нами. — И.Д.), которые впоследствии расселились на берегах Чёрного моря» (II, 21; 138). Получается, что иранцами киммерийцы были лишь «вероятно». А вполне возможно, что они были и фракийцами. Правильно, слишком мало мы знаем об этом племени, чтобы утверждать что-то однозначно. Но тогда сам собой напрашивается вопрос: почему нельзя допустить, что киммерийцы — это предки славян? Вполне можно. Аргументом против будет лишь утверждение, что «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». В пользу же такого вывода говорит источник — «Велесова книга». В дощечке 6Е можно прочесть, «что были киммеры также отцы наши». При этом в тексте дощечки спутаны, как считают критики, германцы-кимвры и иранцы-киммерийцы, а славяне тут вообще ни при чём (II, 28; 138). Но действительно ли спутаны? Дело в том, что киммерийцев и кимвров путали и античные авторы (II, 28; 138). Они тоже ошибались? Аргумент же против славянства и тех, и других (а точнее, одних и тех же) приведён нами несколько выше: «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Если попросить наполнить хоть каким-то смыслом сей пассаж, то, пожалуй, можно услышать доводы, касающиеся изначального земледельчества славян. Мол, не могли киммерийцы быть славянами, потому что они были кочевниками-кавалеристами, а славяне — земледельцы-пехотинцы. Земледельческий характер славянского хозяйства (везде и всюду, и во все времена) постулируется и обсуждению не подлежит. И как-то забывается, что индоевропейские племена, к которым и принадлежат славяне, долгое время оставались именно скотоводами-кочевниками, благодаря чему они и освоили громадные территории Европы и Азии. Да, они отличались от воинственных кочевых орд Средневековья, делая упор на разведение крупного рогатого скота, перемещаясь не с такой скоростью и не сметая всё на своём пути. Но лошадь индоевропейцы знали и новые земли завоёвывали. Да, правда, что они на этих землях быстро переходили к земледельческому способу хозяйствования. Но была и такая их часть, которая сохраняла кочевой быт. Например, те же индоиранцы (скифы и сарматы). И кто может решительно утверждать, не кривя душой и разумом, что среди оставшихся кочевать индоевропейцев не было непосредственных предков славян или даже самих славян? «Книга Велеса» как раз говорит нам о том, что таковые имелись, кочуя в Причерноморских степях ещё в VIII–IX веках н. э. Абсурд? Нет. Эта мысль не казалась абсурдной замечательному русскому историку второй половины XIX — начала XX века Дмитрию Ивановичу Иловайскому. О «Велесовой книге» он ничего не знал. Опираясь на данные зарождающейся тогда лингвистики и на раннесредневековые письменные источники (византийские и более поздние болгарские), он пришёл к выводу, что болгары были изначально кочевым славянским племенем, а не тюрками, как принято считать (см. Д. И. Иловайский «Рождение Руси»). Итак, славяне — кочевники. И только ли болгары? Несколько ранее последних оставили кочевое хозяйство и осели на землю их соседи по Балканам — сербы и хорваты. Но ещё в начале нашей эры, как свидетельствуют античные источники, они кочевали. Эти источники говорят о некоем племени «сербой», пастуществующем между Азовским и Каспийским морями, и их соседях — племени «хоруатос», пасущем свои стада где-то неподалёку от Нижнего Дона (II, 50; 32). Наверное, не надо пояснять, кто такие «сербой» и «хоруатос». Конечно же, славяне — сербы и хорваты. Правда, можно сказать, что и те, и другие — индоиранцы-сарматы. А рядом с ними жили никому не известные славяне, подчинявшиеся им, платившие им дань продуктами своего земледельческого хозяйства и в конечном итоге перенявшие их племенные названия, забыв при этом свои собственные. О, эта страсть славян к заимствованию! Затем, в VI веке н. э., эти славяне на «своих двоих» переселились на Балканы, где именно они и стали известны под именем сербов и хорватов. Кочевники-индоиранцы с такими этнонимами бесследно канули в Лету. Стройно и согласуется с классическими взглядами на славянскую историю, а точнее — с классическими заблуждениями.
И всё сказанное о кочевничестве у славян можно смело иметь в виду, когда чуть ниже мы начнём говорить о скифах.
Заканчивая же разговор о киммерийцах, заметим, что сохранившиеся от киммерийцев имена и названия во многих случаях сходны со славянскими (II, 50; 30). Это серьёзнейший аргумент в пользу славянства киммерийцев. Имея в виду данный факт, известный русский историк-эмигрант Г. В. Вернадский отмечал: «Есть наименования местностей как в Закавказье, так и в Малой Азии, которые звучат по-славянски и… действительно могут быть славянского происхождения» (II, 50; 30). Развивая мысль Г. В. Вернадского, чехословацкий востоковед Б. Грозный объяснял удивительное сходство некоторых вавилонских (и даже более того — шумерских) и славянских слов именно существованием древних контактов между семитами и индоевропейцами-славянами в Закавказье (II, 50; 30).
Проблема этнической принадлежности племён, входивших в скифскую группу, очень и очень интересна. Лингвистические данные позволяют учёным утверждать, что это были индоиранцы. Но… Прежде всего надо иметь в виду, что в первом тысячелетии до нашей эры языковые различия между индоиранцами и другими племенами индоевропейской языковой семьи наверняка не были столь велики, как в наше время. Далее. Современная археология даёт основания с уверенностью сделать вывод о неоднородности состава скифских племенных союзов, то есть скифами были не только индоиранские, но и славянские племена. В частности, замечательным памятником скифской культуры считается так называемое Бельское городище на Полтавщине, на границе лесостепи и степи. Сейчас археологи надёжно отождествляют это городище со знаменитым городом Гелоном, о котором писал ещё Геродот (II, 28; 251). Основано Бельское городище было в VII веке до н. э. И вот что любопытно: заселявшие его западную часть (первоначально — самостоятельное городище) «скифы» были, согласно археологическим данным, праславянами (II, 28; 147, 251). Так-то.
Однако не только в школьных, но даже в университетских учебниках по истории СССР такого было не прочесть. Автору этих строк хорошо памятно, что весь вопрос о взаимоотношениях скифов и славян в вузовском (университетском) учебнике истории СССР решался буквально в полутора-двух строчках. Говорилось, что, возможно, рядом со скифами на Днепре жили предки славян и, возможно, ими были сколоты, о которых упоминает Геродот. Вот и всё. Думается, в современной России в этом отношении мало что изменилось. И скифы — это по-прежнему скифы-индоиранцы, а славяне — это славяне. И нет никаких проблем, и нечего тут обсуждать. Вернее, учёным есть что обсуждать, но населению страны голову этим лучше не забивать.
Между тем проблема может оказаться куда как глубже, чем те же самые учёные полагают. Выше говорилось, что современные исследователи склонны считать славян, входивших в скифские племенные союзы, данниками скифов-индоиранцев или, в лучшем случае, младшими (подчинёнными) союзниками. Как говорится, союзниками не от хорошей жизни, т. е. вынужденными к союзу силой скифов-индоиранцев. Подобная трактовка предполагает некое механическое соединение племён славян и племён скифов. Да, безусловно, при этом соединении происходили контакты, заимствования на культурном, языковом, бытовом уровнях. В конечном итоге те скифы, которых в конце III — начале II века до н. э. не изгнали и не истребили сарматы, были этими сарматами и славянами ассимилированы. Заметьте: у скифов было около полутысячелетия, чтобы растворить в себе подчинённых славян. Срок, скажем прямо, не малый. Причём и уровень скифской культуры, контактировавшей в Причерноморье с греческой культурой, был довольно высок. То есть объяснить удивительную устойчивость подчинённых славян тем, что они, как более культурный народ, навязали свою культуру и язык дикарям-завоевателям (явление в истории известное) и в конечном итоге растворили их в себе, — так вот этим объяснить славянскую устойчивость не получается. Загадка? Да, на наш взгляд, загадка. И исходя из точки зрения «механического соединения» скифов и славян её не решить. Можно только говорить о случайности подобного хода истории. Мол, вот получилось так, и всё тут. А почему? Бог весть. Но подход такой, прямо скажем, ненаучный.
На проблему можно взглянуть по-другому: что если скифы как таковые изначально, в основном своём массиве индоиранцами не были? Что если не славянские группы, а, наоборот, индоиранские были включениями в основной массив? Возможно ли такое? Для ответа на этот вопрос рассмотрим один из дошедших до нас скифских мифов (известен он в изложении Геродота). Причём миф этот о первочеловеке, прародителе, т. е. не рядовой, а, если можно так выразиться, основополагающий, «генетический». Излагаем его по книге Ю. Д. Петухова «Тайны древних русов». У царя Таргитая было три сына: Липоксай, Арноксай и младший Колоксай. Этот Таргитай и был первочеловеком, рождённым от верховного божества (в передаче Геродота — это Зевс, но, разумеется, у скифов было своё название божества) и дочери Борисфена-Днепра. Во время правления сыновей с небес упали на землю золотые предметы: плуг с ярмом, секира и чаша. Двум старшим братьям не удалось овладеть дарами, потому что при попытках приблизиться к ним братья испытывали нестерпимый жар, словно золото раскалялось и горело. Всё взял себе младший брат Колоксай. В результате земли скифов были поделены на три царства. И главное царство — золотое — стало принадлежать Колоксаю. От него и пошли все скифские цари (II, 45; 54–55).
На что сразу можно обратить внимание в этом мифе? Во-первых, на сходство с русским (шире — славянским) фольклором, для которого мотив соревнующихся трёх братьев — излюбленный. И ведь выигрывает всегда счастливчик-младший. Есть и сказки о трёх царствах, которые делят между собой братья. Причём младшему достаётся как раз золотое (двум старшим — железное и серебряное) (II, 45; 55). Любопытное совпадение. Вообще оно не единственное. Славянский и индоиранский фольклор имеют много схожего. На это учёные обратили внимание очень давно. Но, исходя из бытующего по сию пору мнения, что скифы-индоиранцы «бесспорно старше славян», выводы делались однозначные: славяне позаимствовали мотивы и детали сказок у иранского происхождения скифов-кочевников или, в крайнем случае, у сарматов. Но, строго говоря, никаких доказательств подобного заимствования у исследователей нет (II, 45; 55). Это всего лишь гипотеза, которую почему-то выдают за непреложную истину. Хотя с тем же основанием можно утверждать, что имел место обратный процесс заимствования: иранские мифологические сюжеты заимствованы у славян. И две других особенности вышерассмотренного мифа говорят именно о таком варианте.
Итак, во-вторых. Весьма странным кажется то обстоятельство, что в сказании скифов-кочевников, сказании, как мы отмечали, основополагающем, говорящем о первочеловеке и происхождении скифских племён, с неба падает плуг с ярмом, т. е. атрибуты земледельцев, но никак не кочевников. Для последних с небес должны были упасть скорее седло и уздечка или седло и стремя. Странно, не правда ли? И исследователи эту странность заметили давно, но, как это часто бывает, попросту отмахнулись от неё. Между тем факт наводит на вполне определённые размышления. В итоге же таковых — вывод о заимствовании сюжета данного мифа скифами у доскифского земледельческого населения Причерноморья.
Третья же особенность сказания может дать ответ на вопрос, к какой этнической группе принадлежало доскифское земледельческое население. Зарубежный исследователь Х. Коте установил, что имена братьев: Липо-, Арно-, Коло— не являются иранскими, а принадлежат древнейшему земледельческому населению, проживавшему в бассейне Днепра задолго до прихода туда ираноязычных скифов (II, 45; 56). Лишь окончание, искусственно добавлявшееся к именам «-ксай», то есть «царь», «вождь», имеет, возможно, скифо-иранское происхождение (II, 45; 56). Но эта прибавка дела не меняет.
Х. Коте воздержался от выводов, какому конкретно народу принадлежали заимствованные скифами имена. Но, думается, мы этот вывод можем сделать. Для славян имя «Коло» практически не требует перевода: «коло» — это «круг», «колесо», «круговое движение» и даже «солнце», совершающее по небу это самое круговое движение. По сей день слово это входит составной частью во многие слова славянских языков, везде обозначая именно «круг», «нечто круговое»: «колесо», «околица», «околичность», «коловорот», «колобок», «около».
Вполне по-славянски звучит и имя «Липо».
Заслуживает внимания, что, согласно мифу, от Колоксая пошли все племена сколотов (корень «коло» очевиден и в этом племенном названии) (II, 45; 56). Эти же последние, по мнению учёных, действительно в Причерноморских степях появились гораздо раньше скифов-иранцев. Так, Х. Коте считает, что сколоты обитали в Северном Причерноморье уже в середине II тыс. до н. э. (II, 45; 33). Не забудем и мнение советских учёных: сколоты вполне могли быть праславянами. Во всяком случае, академик Б. А. Рыбаков в этом был просто убеждён (II, 45; 44).
Остаётся только добавить, что, на наш взгляд, скифы-иранцы нашли в Причерноморье не только осёдлых славян-земледельцев, но и славян-кочевников, тех славян, которые сохраняли кочевой или, точнее, пастушеский уклад хозяйства, присущий их предкам во время многочисленных переселений. Земледелие таким славянам не было абсолютно чуждо: их сородичи «сидели» на земле. Поэтому и мифологические сюжеты славян-кочевников вполне могли содержать земледельческие атрибуты (такие как плуг и ярмо). Пришлые же кочевники-иранцы усвоили подобные мотивы именно потому, что перенимали их у славянских родов, ведущих схожий с ними образ жизни и хозяйствования. Представляется, что именно этим объясняется своеобразная механичность перенесения земледельческих мифологических сюжетов в мифологию кочевников.
На отношения скифов-иранцев и скифов-славян можно взглянуть совсем по-другому. В славянский (или праславянский, если угодно) этнический массив, состоявший из обитавших в Северном Причерноморье осёдлых, кочевых или полукочевых племён, с востока вклинился иранский элемент. Первоначально отношения между хозяевами и пришельцами могли быть мирными, ибо последних было не так уж много. С течением времени количество скифов-иранцев возрастало. В конечном итоге это привело к столкновениям со славянами. Очевидно, с VIII по V век до н. э. в Причерноморских степях славяне были сильно потеснены скифами. И Геродот записывал историю и предания уже «жёлтых» скифов, не зная, что в них вплетены история и предания более ранних скифов, «белых», т. е. славян. Славяне же выведены у него под именем сколотов и, возможно, скифов-пахарей.
Во всяком случае, именно к такой трактовке скифо-славянских отношений подводит нас «Велесова книга». Правы мы или нет, но то, что славяне в Северном Причерноморье обитали вместе со скифами, — это факт неоспоримый. А тогда нет ничего удивительного и в столкновении славян с персами царя Дария (дощечка 8), и в борьбе с греками-колонистами в эпоху основания Херсонеса (дощечка 6В). Это не фантазии мнимого фальсификатора «Книги Велеса». Всё указывает на то, что эти события действительно могли иметь место в истории славян.
Описанные в дощечках 8 и 28 отношения славян-русов с кельтами также соответствуют исторической действительности. Правда, об этом нет ни слова в учебной литературе, но учёным факт славяно-кельтских контактов хорошо известен. В III веке до н. э. кельты овладели Закарпатьем, Южной Польшей, Молдавией, став на два века сильными и агрессивными соседями славян на юго-западе. Покорить или ассимилировать славян кельты не смогли, но определённое культурное влияние на них оказывали, о чём говорят частые находки кельтских вещей на Среднем Днепре (II, 28; 141,152, 253–254).
Выше отмечалось, что римляне в своих завоевательных походах подошли совсем близко к границам расселения славянских племён (в Карпатах и на Дунае). Столкновение славян-русов с этим противником, безусловно, имело место. «Повесть временных лет» донесла до нас глухое воспоминание о тех далёких событиях, говоря о неких волохах, из-за которых славянам пришлось уйти с Карпат. Многие учёные полагают, что волохи — это и есть римляне. Справедливости ради необходимо отметить, что ряд исследователей видят в волохах русских летописей кельтов.
Как бы там ни было, но ничего не вероятного в описанных «Велесовой книгой» войнах русов с Римом нет. Другое дело, что детали этих войн в «Велесовой книге» иногда противоречат известным по другим источникам фактам. Например, всегда считалось, что римские легионеры никогда не заходили севернее Карпат (II, 28; 257). Однако текст дощечки 29 говорит об обратном. Император Траян — покоритель Дакии. Неудачи этого императора в Восточной Европе по римским письменным источникам не известны. Но та же дощечка 29 упоминает о крупном поражении легионов Траяна от дулебов. Причём пленные римляне десять лет трудились на полях дулебов.
Войны с готами, гуннами, болгарами, хазарами, греками-византийцами и, наконец, с варягами — всё это есть в «Книге Велеса». И критиковать памятник за изложение этих событий у скептиков оснований нет. Они известны и по другим источникам. Да, детали и хронология данных событий могут иногда противоречить тому, что известно. Но сути дела это не меняет, а указанные противоречия ещё не есть свидетельство ошибочности изложения фактов в «Дощечках Изенбека». Версия дощечек может оказаться и правильной. И уж тем более противоречия уже известному исторической науке не говорят о сфальсифицированности «Велесовой книги».
Итак, так же как и обстоятельства находки и введения «Книги Велеса» в научный оборот, и её язык, и алфавит, изложенные в ней исторические факты не дают оснований говорить, что этот памятник не является подлинным. Он по-другому заставляет взглянуть на славянскую историю. Взгляд этот противоречит общепринятой и привычной классической схеме. Но с тем большим вниманием необходимо отнестись к дощечкам, а не выбрасывать их из научного оборота, необоснованно считая подделкой.
Между тем критики приводят против «Велесовой книги» аргумент, который им, возможно, кажется очень серьёзным: «В ней («Велесовой книге». — И.Д.) нет ничего такого, чего заведомо не мог знать историк-любитель середины XX века. Ничего, что стало бы известно после 1953-го или 1970 гг. благодаря раскопкам либо открытию новых исторических документов или хотя бы таилось где-нибудь в музейных фондах либо неопубликованных экспедиционных отчётах» (II, 28; 285).
Вообще логика любопытная. Предположим на какоё-то время, что всё в вышеприведённом высказывании соответствует истине и Ю. П. Миролюбов (а именно он и имеется здесь в виду) действительно знал все факты, изложенные в «Книге Велеса». Что же с того? Абстрагируемся от данной конкретной ситуации и представим себе, что некий учёный находит некий исторический документ, в котором излагаются факты, уже известные науке. Только факты эти имеют своеобразную трактовку. Можем ли мы на основании известности излагаемых документом фактов обвинить учёного в том, что он подделал документ? Думается, что нет. Оснований для этого у нас будет маловато. Но тогда почему подобное соображение не действует в отношении «Дощечек Изенбека» и весьма категорично делаются утверждения, подобные тому, которое сейчас рассматривается нами?
Однако говорить, что в «Велесовой книге» нет ничего такого, «чего заведомо не мог знать» Ю. П. Миролюбов в середине XX века, — это искажать факты. Критики говорят, что Юрий Петрович подделывал памятник в конце 40 — начале 50х годов XX века. Но в то время он не мог знать о работах итальянских археологов 60—70х годов XX века, которые доказали, что в конце II тысячелетия до н. э. происходили мощные передвижения индоевропейских племён из Центральной Азии в Европу (см. об этом выше). О таких передвижениях дощечки говорят многократно. Миролюбов предвидел данные работы и их результаты? Здесь ещё можно возразить, что ничего он не предвидел, а просто автоматически переносил в текст памятника элементы популярной в середине XIX — начале XX века теории азиатской прародины индоевропейцев (к середине XX века, кстати, утратившей своё научное влияние).
Не мог знать эмигрант Миролюбов в момент подделки текстов дощечек и работ советских историков А. Н. Насонова и Б. А. Рыбакова, в 1940 —1950х годах установивших, что в русских летописях Русью именуется в широком смысле вся территория Киевской Руси, в узком же — территория Киевщины, Черниговщины и Переяславщины, а в ещё более узком — юг Киевщины. Именно здесь находится гнездо топонимов, связанных с корнем «рос/рус»: река Рось, её притоки Росава и Раставица, Русская поляна на Тясмине (II, 28; 255).
Ещё позже советские археологи нашли в этом регионе следы присутствия сарматов-роксолан. Но результатов их работ Юрий Петрович тем более не мог знать, ибо они были опубликованы уже после его смерти (II, 28; 255–256). Но и здесь критики могут возразить, заметив, что Русь от роксоланов выводил ещё М. В. Ломоносов, а Миролюбов просто изложил на страницах «Велесовой книги» его гипотезу. И эта гипотеза в дальнейшем подтвердилась. Вот и всё. И никаких якобы «гениальных» предвидений, предположение о каковых неизбежно подтверждает подлинность «Книги Велеса».
Но не могли быть известны первому исследователю дощечек в момент их провозглашаемой критиками подделки (кон. 40 — нач. 50х гг. XX столетия) итоги раскопок знаменитых Змиевых валов на Киевщине в 1968–1970 годах. Об этих итогах Ю. П. Миролюбов, умерший в 1970 году, не узнал вообще. А они таковы: методом радиоуглеродного анализа найденных внутри валов деревянных сооружений установлено, что эти огромные валы были построены в IV–VI веках н. э. (II, 37; 55). Причём, судя по объёму перемещённого грунта (80 млн куб. метров), подобные работы могли быть произведены только высокоорганизованным большим государством (II, 37; 55). Но не такое ли государство представляет из себя Русколань, описанная в «Велесовой книге». И заметим: никакой позднеантичный или раннесредневековый источник не даёт описания подобного государства. Да, говорится о мощных племенах роксоланов, но не об их государстве, сильном и высокоорганизованном. О нём говорится только в «Дощечках Изенбека». И здесь критикам и скептикам возразить уже нечего.
Глобальности глобальностями. Но ничто так сильно не подтверждает или не опровергает те или иные обстоятельства, как мелкие детали. Мы приведём несколько таких мелких штрихов, свидетельствующих, на наш взгляд, в пользу подлинности «Велесовой книги».
Тексты памятника говорят о том, что Киев основывался русами несколько раз. Впервые, согласно дощечкам 31 и 38А, его основал Кий, сын Ория, после переселения славян из Иньского края. Причём дощечка 38А уточняет, что тот, первый, Киев находился именно на Днепре. Локализовать во времени это событие весьма сложно. Но, судя по противоречивым указаниям самой «Книги Велеса», его вполне можно датировать первой половиной I тысячелетия до н. э. Дощечка 22 даёт возможность полагать, что Киев был основан только через триста лет после того Кия, который был сыном Ория («Кий-отец», как именуется он в тексте этой дощечки). И основал его, очевидно, тоже Кий, но уже другой (потому и название у города «Киев»). Можно думать, учитывая то, о чём говорит дощечка 15Б, что это был Кий — предводитель исхода славян с Карпат. Правда, в дощечке 15Б говорится, что, идя с Карпат, славяне не основали, а захватили уже существующий (основанный Кием-отцом?) на Днепре Киев. Выше отмечалось, что датировать Карпатский исход можно по-разному: V век до н. э., IV век до н. э. и II век до н. э. Соответственно, и второе основание (или завоевание уже существовавшего) Киева могло произойти в любой из этих трёх веков. Наконец, третий фигурирующий в текстах «Велесовой книги» Кий — Кий, водивший русов на болгар и живший, надо полагать, где-то в конце V — начале VI века н. э., также создал, согласно тексту дощечки 33, на днепровской земле город Киев. Можно с большой степенью уверенности предполагать, что это именно тот Кий, которого помнит «Повесть временных лет» как основателя Киева и могучего правителя, с которым считалась даже Византия. Кстати, Никоновская летопись содержит свидетельство о походе Кия на болгар (II, 28; 155). И именно опираясь на сообщение «Повести временных лет» и результаты раскопок на Старокиевской горе, в ходе которых было обнаружено городище, датируемое концом V–VI веками н. э., в 1982 году было решено отпраздновать 1500летие Киева. Но… Самое интересное, что археологические исследования показывают, что «Матерь городов Русских» действительно могла основываться несколько раз. На территории Киева и его окраин есть поселения и скифского времени (Хотовское и Ходосовское городища VI–V веков до н. э.), и зарубинецкого (рубеж н. э.), и раннесредневекового (II, 28; 239). Но в конце 40 — начале 50х годов Ю. П. Миролюбов не мог ничего знать об этом, ибо данные эти ещё не были известны науке. А о многих результатах раскопок он так и не узнал вообще, т. к. либо результаты не были опубликованы при его жизни, либо раскопки проводились уже после его смерти. Но как прозорлив он был, введя в текст своей подделки сообщения о нескольких основаниях Киева. И как гениально запутал хронологию лжепамятника. Так гениально, что она при всей запутанности всё-таки в ряде случаев вполне согласуется с полученными много лет спустя после фальсификаторских стараний Юрия Петровича научными данными.
Надеемся, вы уловили иронию последних слов. Да, в этом случае критикам «Книги Велеса» трудно выдвинуть какие-то аргументы. Как говорится, факты свидетельствуют сами за себя.
Не менее «яркие прозрения» посетили «фальсификатора» Миролюбова, когда он придумывал сюжеты, связанные с ещё одним городом русов — Голунью. Вообще «Книга Велеса» уделяет Голуни много внимания. О ней говорится в дощечках 17Б, 18А, 19, 22, 34, 35А, 36А, 36Б. Дощечка 22 сравнивает Голунь с Киевом, и сравнение это далеко не в пользу последнего: «Голунь была городом славным и триста городов сильных имела, а Киев-град имел меньше: на юге десять городов, и веси, и сёла немногие». Из текста той же 22й дощечки можно сделать вывод, что Голунь — это столица знаменитой Русколани: «Одна часть (славян. — И.Д.) пошла в Голунь, там осталась, а иная — в Киеве-граде. Первая — это Русколань (выделено нами. — И.Д.), а другая — киевляне…»
Дощечки 17Б, 35А и 34 содержат описания, которые позволяют составить некоторое представление о местоположении Голуни и её облике. «И то была Голунь, так как она в голой степи и лесу» (35А). «И та Голунь была поставлена кругом, который врагам тяжело одолеть» (17Б). «А Голунь-град был велик и богат, и враги шли на него, подожгли его, и стену сожгли» (34).
Основываясь на определённом созвучии названий, исследователи «Велесовой книги» выдвинули предположение, что Голунь — это город Гелон, о котором упоминает Геродот. Что ж? Логика в этом предположении есть. Очевидно, Голунь с Гелоном отождествлял ещё Ю. П. Миролюбов. Либо если допускать мысль о написании «Велесовой книги» им самим, то придётся признать, что название «Голунь» придумано им по созвучию с названием «Гелон». Но в конце 40 — начале 50х годов XX века, т. е. во время, когда предполагаемая подделка могла быть создана, о Гелоне практически ничего не было известно. Даже не было известно его местоположение. Ю. П. Миролюбов вслед за некоторыми дореволюционными авторами склонен был искать его где-то в Мордовии, между Волгой, Доном и Окой (II, 28; 251). Современник Ю. П. Миролюбова Г. В. Вернадский, известный русский историк-эмигрант, в своей книге «Древняя Русь», вышедшей в 1943 году, писал: «Геродот ничего не говорит о днепровских порогах. Речные пути по Дону и Волге были, очевидно, лучше изучены греками. Геродот упоминает город Гелон, находящийся в глубине суши по направлению на северо-восток. Он, возможно, был расположен на нижнем Дону или на реке Донец (выделено нами. — И.Д.)» (II, 19; 75–76).
Однако исследования советских археологов 60—80х годов прошлого столетия (в первую очередь Б. А. Шрамко) надёжно отождествили Гелон с огромным Бельским городищем на Полтавщине (II, 28; 251). Раскопки Бельского городища дали результаты, которые можно считать интересными именно с позиций отождествления геродотовского Гелона с Голунью «Велесовой книги». Прежде всего Бельское городище стоит на границе лесостепи и степи (дощечка 35А о Голуни: «…она в голой степи и лесу»). Оно имеет форму треугольника. Но первоначально (по археологическим данным, в VII веке до н. э.) здесь возникло два городища округлой формы — Западное и Восточное. Несколько позже возникло так называемое Куземинское городище, но оно имело также округлую форму. И все эти три гигантских круга впоследствии были встроены в вал Большого Бельского городища, общая площадь которого не уступает Москве конца XIX века (II, 28; 251, 147). Причём Западное городище населяли праславяне — потомки носителей чернолесской культуры (II, 28; 251). Но на этом любопытные совпадения не заканчиваются. VII век до н. э. — время основания Бельска-Гелона, по данным археологов. Но дощечка 35А «Книги Велеса» утверждает, что Голунь была основана самим Орием: «И тогда отец Орий отвёл стада свои и людей от них, и вёл подальше, и сказал: «Там заложим город». И то была Голунь…». Выше говорилось, что события, связанные с Орием и его сыновьями Кием, Щеком и Хоривом, можно датировать, исходя из хронологии «Велесовой книги» первой половиной I тысячелетия до н. э.
Раскопки Бельского городища показали, что в конце VI века до н. э. стена Западного городища (т. е. именно славянского) была сожжена (II, 28; 155, 251). Возможно, это произошло в связи с походом Дария на Скифию. Но дощечка 34 говорит о подожжении Голуни врагами и сожжении её стены. А дощечка 8 упоминает о нападении персов и том поражении, которое русичи потерпели от них из-за своих усобиц.
Та же 34я дощечка содержит текст о походе князя Кия на болгар с целью отвоевания у них Голуни. Поход был успешным: «И так Голунь, град русский, отобрали по обету своему у другой земли. Так-то он те края отобрал и русичами населил». Когда у нас речь шла о Киеве, то уже отмечалось, что этот ходивший на болгар Кий жил примерно в конце V — начале VI века н. э. и что это, по всей вероятности, тот Кий, которого помнит «Повесть временных лет». И вот что интересно: окончательно запустевшее в I веке н. э. Бельское городище снова возродилось именно в VI веке н. э.: на Восточном Бельском городище раскопано славянское поселение этого времени и найдена, в частности, антская фибула с надписью (II, 28; 155).
Теперь ясно, что современные исследователи «Велесовой книги» в своём отождествлении Гелона и Голуни, помимо созвучия наименований городов, могут опираться на археологические данные, которые дают множество оснований для подобного отождествления. Но это в наши дни, а вот Ю. П. Миролюбов только что изложенной информацией не располагал, ибо, повторим, в середине прошлого столетия, когда, по утверждению критиков, он корпел над дощечками, ею не располагал никто. Она попросту ещё не была известна учёным. Некоторые факты стали известны уже после смерти Юрия Петровича.
Поэтому, хотят того критики или нет, но им придётся снова, как и в случае с Киевом, объяснять всё либо «гениальной прозорливостью» фальсификатора, либо «невероятнейшими совпадениями». Но в таком случае нам придётся спросить: а не много ли совпадений допускают наши оппоненты? Как-то это антинаучно выглядит: там совпадение, тут простое совпадение, а вот здесь случайное совпадение. Богатый арсенал совпадений — ничего не скажешь.
* * *
Итак, на этом мы завершаем рассмотрение интереснейшего памятника древней славянской (дохристианской) письменности — «Велесовой книги». Памятника спорного, ибо далеко не все учёные признают его подлинность. Однако в своей работе мы попытались показать, что нет ничего такого ни в обстоятельствах находки и введения «Велесовой книги» в научной оборот, ни в её алфавите и языке, ни, наконец, в излагаемых в ней фактах, что однозначно свидетельствовало бы в пользу сфальсифицированности этого памятника. Но зато есть масса нюансов, которые говорят в пользу его аутентичности. Видимо, именно поэтому проходивший в 1992 году в Лондоне международный симпозиум «Разрушение и ренессанс славянской цивилизации» признал «Велесову книгу» важным звеном системы общеславянских ценностей. И с таким выводом согласился учёный совет Международного Славянского института им. Г. Р. Державина (II, 28; 14).
Нам же остаётся только сказать огромное спасибо тем людям, которые сохранили «Велесову книгу» и благодаря трудам и заботам которых этот памятник стал широко известен: Ф. А. Изенбеку, Ю. П. Миролюбову, А. А. Куренкову, С. Ляшевскому, С. Я. Парамонову (Лесному), Б. А. Ребиндеру, Р. Пешичу, Ю. К. Бегунову, А. И. Асову, Н. В. Слатину и многим другим. Мы искренне убеждены, что пройдёт совсем немного времени, и значительный вклад этих учёных и просто энтузиастов в углубление знаний по славянской истории и языковедению будет признан бесспорным.
Некоторые выводы (вместо заключения)
Подведём итоги.
Прежде всего хотелось бы заметить, что существующее в науке мнение о прямой связи возникновения более или менее развитых форм письма и зарождения классового общества и государства верно лишь отчасти. Точнее сказать, оно страдает некоторым схематизмом и не отражает всей сложности такого процесса, как возникновение и развитие письменности. По нашему мнению, схема «зарождение классов и государства — зарождение развитой письменности» является частным случаем. Потребность в передаче накопленного опыта — вот в действительности тот рычаг, который подвигал людей к совершенствованию примитивной пиктографии.
Голословное утверждение? Не более, чем то утверждение, которое оно оспаривает. Мы привыкли судить о справедливости мнения о возникновении письма в предгосударственный период, опираясь в основном на результаты исследований древнейших (как принято считать) цивилизаций — египетской и месопотамской. И там, и там развитые письменные системы появляются в IV тыс. до н. э. вместе с первыми государствами. Но позволено нам будет заметить, что истоки этих письменных систем всё-таки не выявлены. Да, имеются образцы письма, единовременные с моментом возникновения довольно развитых цивилизаций. Да, эти образцы обнаружены археологами. Однако то, что не обнаружено более ранних, ещё не говорит об их несуществовании в истории. Другими словами, были какие-то предтечи.
Поводы так утверждать и усомниться в общепринятой концепции у нас есть. Вспомним тэртерийские таблички, которые на целое тысячелетие старше древнейших образцов египетского и шумерского письма. Археологические данные не дают оснований говорить, что в этом районе в V тыс. до н. э. существовала высокоразвитая цивилизация, подобная цивилизациям Египта и Междуречья, с расслоением общества на классы, выделением правящей элиты. Кажется, ничего этого не было. Но письменность была.
Другой пример. Скифы-иранцы и их сородичи саки, которых Геродот именовал азиатскими скифами. Государство у скифов существовало — это Скифское царство. Саки, по общему признанию учёных, находились на последней стадии разложения родового строя — стадии военной демократии. Уже выделилась правящая элита. До создания государства оставался, образно говоря, один шаг. Но ни у скифов, ни у саков письма не было. Да, выдвигаются робкие предположения, что у саков письмо могло существовать. Но подтверждений этому, прямо скажем, маловато. Точнее, оно всего одно: надпись на малой серебряной чаше, найденной при раскопках кургана Иссык в Казахстане. Исследователь Иссыкского кургана К. А. Акишев по этому поводу резонно замечает: «Иссыкская находка хотя и чрезвычайно важный факт, но пока единственный, и выводы, делаемые только на основе этой находки, легко могут быть поставлены под сомнение. Иссыкская серебряная чаша может быть трофеем. Мы не должны исключать и такую возможность» (II, 3; 57–58). О письме же у скифов причерноморских не упоминают античные авторы, довольно хорошо их описавшие. Не даёт оснований предполагать наличие собственного письма у скифов и археология. Не исключено, конечно, что скифы могли использовать письменность своих соседей, греков-колонистов. Но подтверждений этому нет.
Вполне можно возразить, что скифы и саки — кочевники. И что, мол, с кочевников возьмёшь. Государство если и есть, то примитивное, кочевое. Структура управления таким государством несложна. Возможно, оно и так. Структура кочевых государств менее сложна, чем в государственных образованиях, создаваемых осёдлыми народами. Но… Вот другие кочевники — тюрки. Созданное ими Древнетюркское государство, первые достоверные сведения о котором относятся к VI веку нашей эры, простиралось от Сырдарьи до Маньчжурии. Типичная кочевая империя. Но в этой кочевой империи существовала довольно развитая письменность — тюркская руника. Учёные считают её либо буквенным, либо слогово-буквенным письмом (II, 27; 135).
Почему же в одном кочевом государстве создаётся развитая письменность, а в другом нет? Ответ, как представляется, должен быть следующим: всё дело в том, что развитые формы письменности появляются в недрах родового строя. В предгосударственный период и во время существования государства они лишь совершенствуются. Потребность в передаче опыта (в том числе исторической памяти), а не только нужды государственного управления побуждают людей изобретать знаки письма. Почему одни народы при этом создают письменность, а другие нет — остаётся только гадать. Возможно, играет роль степень развитости жреческого сословия, т. е. института жрецов, ибо жрецы во все времена и у всех народов выступали в роли хранителей знаний, опыта, памяти.
С другой стороны, обращаясь уже непосредственно к славянам, можно сказать, что вопрос времени зарождения государственности у славян — вопрос спорный. Выдвигаемый официальной исторической наукой тезис о появлении государств у славян в VII–IX веках н. э. верен лишь для Средневековья. Но история славян началась не в V–VI веках н. э., а, как мы пытались показать и уделим этому вопросу место в других лекциях, гораздо раньше. В V–VI веках в византийских источниках появляется лишь само имя «славяне», но это не начало народа и его истории как таковых. Можно согласиться лишь с тем, что этноним «славяне» довольно позднего происхождения. Но непосредственные предки славянских племён могли фигурировать в истории под другими именами (в том числе и являющимися самоназваниями). Прежде всего это имена «арии» и «русичи» (русы). Но были и «расены», и «венеды», и «русколаны», и «анты», и многие другие. Племена и народы, носившие эти названия, создавали государственные образования задолго до начала нашей эры. Поэтому, даже подходя к вопросу возникновения письменности с классических позиций (связка «возникновение государства — появление развитых форм письма»), не приходится удивляться тому, что письмо было известно славянам ранее начала просветительской деятельности Кирилла и Мефодия.
Мы отдаём должное трудам и стараниям солунских братьев, вместе со всеми славянами чтим их память, но вынуждены заметить, что просвещали Кирилл и Мефодий вовсе не «звероподобный народ», сидящий по лесам и болотам. Они просвещали народ, имеющий богатую историю, тысячелетние традиции и культуру, в том числе и древнюю письменность. Деятельность их можно назвать просветительской, только имея в виду приобщение славян к христианской вере и утверждение их в ней. Не более того.
Ещё раз повторим, что никоим образом не хотим приуменьшать заслуги Кирилла (Константина) и его старшего брата. Более того, за Кириллом мы признаём создание не одной из двух славянских азбук (кириллицы или глаголицы), а обеих этих азбук (сначала Кирилл создал глаголицу, позже — кириллицу). Однако создавал он не с «чистого листа» и не на пустом месте.
Имеется масса письменных свидетельств (трактат черноризца Храбра, произведения восточных авторов, сообщение Титмара Мерзебургского, русские летописи, «Паннонское житие Кирилла»), говорящих о существовании у славян докириллического письма.
Немало в распоряжении учёных есть образцов этого письма (надпись эль-Недима, алекановская надпись, дрогиченские пломбы, загадочные надписи на старорусских календарях и пряслицах и множество других образцов). Все они в совокупности позволяют говорить, что письмо у славян до Кирилла было (даже нескольких типов), и было оно довольно развитым. Наличие нескольких типов письменности не должно смущать, если принимать во внимание большие территории, заселённые славянами, а также слабость политических и культурных связей между этими территориями. Можно сказать, что отдельные группы славянских племён «варились каждая в своём котле». Кроме того, не будем забывать, что история наших предков, как уже отмечалось, началась гораздо раньше VI века н. э. Она значительно богаче, чем принято думать в так называемой классической науке. Речь надо вести не о веках, а о тысячелетиях. А за тысячи лет многое может поменяться, в том числе и письменность.
Есть среди образцов докириллического письма и такие, которые написаны так называемой протокириллицей (Ватиканская рукопись, текст Живко Петровича, Софийская азбука и ряд других). Именно один из вариантов протокириллицы послужил Кириллу (Константину) образцом для создания той азбуки, которая позже получила название кириллицы. Скорее всего, «русское письмо» богослужебных книг, виденных младшим из солунских братьев в Херсонесе, было протокириллицей.
Образцов протоглаголического письма на данный момент не найдено. Будем надеяться, что это только пока. Однако существует ряд свидетельств авторов XVI — XVIII веков, согласно которым корни глаголицы уходят в первые века нашей эры. В частности, её создание приписывают святому Иерониму, жившему в IV веке н. э. Последнего автором глаголической азбуки считает и народная традиция, существующая у юго-западных славян (словенцев и хорватов). На древность глаголического, а точнее — протоглаголического, алфавита указывает и наименование в средневековых западных письменных памятниках глаголицы болгарским письмом (это при том, что в Болгарии собственно глаголица широкого распространения не получила; она была быстро вытеснена кириллицей).
Мы не склонны считать святого Иеронима ни автором, ни переработчиком глаголицы или протоглаголицы. Во всяком случае, крупных изменений в уже существующую азбуку он не вносил. Но этой азбукой он пользовался, видимо, для перевода Библии на славянский язык. Может быть, поэтому народная традиция и увязывает создание глаголицы с именем этого христианского святого. Авторы же XVI — XVIII веков лишь следовали народной традиции.
Создателем глаголицы в практически законченном виде, так же как и кириллицы, был Константин Философ. Но в обоих случаях он создавал лишь христианскую славянскую азбуку на основе уже существующей языческой славянской азбуки. В середине 50х годов IX века, после или во время миссии в Болгарии, он создаёт глаголицу, а в 862–863 годах, готовясь к поездке в Моравию, — кириллицу.
Итак, создание азбук Константином было лишь их переработкой, включавшей в себя введение в славянские азбуки ряда греческих букв для передачи христианских терминов и имён, по-видимому, добавление букв для носовых славянских гласных (юсов) и создание цифири, т. е. предание буквам алфавитов славян цифровых значений, подобно тому, как таковые значения имели буквы алфавита греческого. Кроме того, глаголические графемы были получены путём значительного усложнения начертания букв протоглаголицы.
В Моравии солунскими братьями как алфавит использовалась кириллица. Глаголица же применялась лишь в качестве тайнописи, которую помимо Константина и Мефодия знали также их ученики. Именно последние после смерти Мефодия в 885 году, спасая славянскую письменность от преследования католическим духовенством, перевели глаголицу из разряда тайнописи в ранг общеупотребимого алфавита, надеясь, что отсутствие внешней схожести с греческим письмом, т. е. письмом восточно-христианской церкви, уменьшит гонения на славянское письмо. Но положения дел этот шаг не исправил. После изгнания из Моравии в 886 году ученики Мефодия принесли обе азбуки в Болгарию, где они обе получили возможность для свободного развития. Часть же учеников, тайно вернувшаяся в Моравию, продолжала дело своих учителей, работая уже только с глаголицей.
Протоглаголица и протокириллица — это лишь два варианта из существовавших когда-то нескольких типов славянского письма. Разные виды письменности возникали у славян в разное время и на различных территориях. Можно сказать, что протокириллица и протоглаголица явились своего рода завершающим этапом эволюции некоторых бытовавших у славян письменных систем: слогового письма, рун, письма типа «черт и резов» (под последним в данном случае понимаем пиктографические знаки).
Что касается слогового письма, то возможность его существования у славян большинством учёных как не признавалась, так и не признаётся. И основной тезис в данном случае таков: «Славянский язык — язык флективный. А поэтому он слишком сложен для записи его какой бы то ни было слоговой письменной системой». Не отрицая указанный тезис как таковой, группа советских учёных (Л. В. Черепнин, Е. М. Эпштейн, Н. А. Константинов) ещё в конце 40 — начале 60х годов XX века выступила с мнением, что, несмотря на сложности передачи славянской речи посредством слоговой письменности, ничего принципиально невозможного в этом нет. Пользовались же греки во II тыс. до н. э. на Крите и Кипре силлабариями минойцев для записи своего флективного языка. Н. А. Константинов даже выводил славянский силлабарий от греческого кипрского.
В 80 — 90х годах прошлого столетия идею слоговой письменности у славян восприняли и весьма успешно развили двое российских учёных — Г. С. Гриневич и В. А. Чудинов. Оба реконструировали славянские силлабарии, оба дешифруют на их основе тексты. Причём Г. С. Гриневичем подведена под свои лингвистические и эпиграфические изыскания научная теория, касающаяся древней истории наших предков. По его мнению, праславянские племена населяли значительные территории в Европе и Азии задолго до нашей эры. Они непосредственно создали или принимали участие в создании таких древних цивилизаций, как минойская, этрусская, цивилизации Хараппы и Мохенджо-Даро. Историческая ли концепция послужила Г. С. Гриневичу своеобразным указателем направления действий в области дешифровки древних текстов или, что более вероятно, увенчавшиеся успехом дешифровки письменных памятников различных цивилизаций древности на основе славянского силлабария дали основания для построения новой концепции истории русов-славян, нам не известно. Но факт остаётся фактом: и критское линейное письмо А, и Фестский диск, и надписи древнейших цивилизаций Индии, и тексты этрусков расшифровываются этим учёным на основе славянского языка. Тип письма всех этих памятников, по мнению исследователя, — слоговый.
В. А. Чудинов, являясь во многом научным оппонентом Г. С. Гриневича, не производит сенсационных научных построений, касающихся истории славян (праславян, протославян, русов), но зато великолепно обосновывает возможность существования слоговой письменности у наших предков. Как считает В. А. Чудинов, за то, что такая письменность у славян была, говорят как памятники, хотя это и странно звучит, буквенного письма, содержащие элементы письма слогового, так и живые остатки слоговой письменности в современных славянских языках, в частности в русском. К первой группе относятся кириллические надписи с пропусками гласных. Большое количество таких надписей не позволяет видеть в них простые ошибки писавших. Данная «консонантность» выглядит как определённое правило. И суть этого правила в том, что пропуски гласных в словах кириллических текстов и надписей — это не простые ошибки писавших и не сокращения слов. Это реликты слогового письма. В случае если слоговый знак совпадал по начертанию с согласной буквой кириллической азбуки, то долгое время славяне просто не ощущали потребности в написании после согласной буквы гласной, ибо гласная, по их мнению, передавалась уже фактом начертания согласной.
Живыми остатками слоговой письменности в современном русском языке В. А. Чудинов считает существующие правила переноса (нельзя переносить или оставлять на строке одну букву, а слоги желательно оставлять открытые), слоговую организацию современного русского письма (в нашей азбуке до сих пор сохранились чисто слоговые знаки, каковыми являются, по существу, йотированные буквы (Я, Ю, Е, Ё) и диакритические знаки (Ъ и Ь, которые много веков назад обозначали сверхкраткие гласные и в сочетании с согласными буквами давали слог)), слоговую организацию чтения (чтение по «складам», т. е. слогам, общеизвестно).
И Г. С. Гриневич, и В. А. Чудинов считают, что славянский силлабарий послужил определённой базой для буквенных письменных систем славян — протокириллицы и протоглаголицы. Причём если, по мнению Г. С. Гриневича, обе азбуки заимствовали из силлабария лишь несколько графем, то, по В. А. Чудинову, слоговое славянское письмо — главный источник протоглаголицы. От себя добавим, что, на наш взгляд, именно оно, наряду со славянскими рунами, стало источником и для протокириллических азбук (во всяком случае, для некоторых из них).
Существование рун у славян ставится учёными-ортодоксами под сомнение не в меньшей степени, чем существование у славян слоговой письменности. И свою роль тут играет не только убеждение в позднем появлении письменности у наших предков, но и обстоятельства исследования славянских рун. Скандал, разразившийся в связи с выяснением поддельного характера ряда ретринских древностей (коллекция Потоцкого), поставил под сомнение подлинность всех находок, содержащих руны славян (коллекцию ретринских древностей Готлиба Маша, мекленбургские камешки, краковский медальон, микоржинские камни и ряд других). В конце концов о славянских рунах к началу XX века в научных кругах предпочли забыть. И только в наши дни группа российских учёных подошла к этому вопросу по-иному. А. Платов, Г. С. Гриневич, В. А. Чудинов, А. И. Асов считают проблему отнюдь не решённой. Более того, они склоняются к тому, что если не все, то некоторые памятники, содержащие славянские рунические знаки, безусловно, подлинны. В частности, подлинными, по их мнению, являются руны Древней Ретры.
Как полагает А. И. Асов, славянская руника имеет две разновидности: северную и южную. Северные руны славян схожи с германскими, что говорит о возможности заимствования славянами этих рун у германцев. Но это всего лишь возможность. Данная письменность и у германцев, и у славян могла происходить из общего источника. Мог иметь место и обратный процесс заимствования. Во всяком случае, «руны» — слово славянское.
Южные славянские руны происходят от пеласгийской письменности, так называемой пеласго-фракийской руники. Были ли пеласги непосредственными предками славян или нет, но позаимствовать их письменность через фракийцев, с которыми тесно общались, славяне могли.
Пеласгийское письмо послужило, по нашему глубокому убеждению, основой письменности этрусков, которые были ветвью пеласгов, и письменности греков. От письменности пеласгов ведёт своё начало и финикийский консонантный алфавит.
Позволим себе выдвинуть гипотезу: истоки северной и южной славянской руники едины. Это именно пеласгийское письмо. Древние реты, жившие в Альпах и к северу от них, отличные от кельтов и италиков, но родственные этрускам, были праславянами (протославянами). Они имели письменность, схожую с этрусской и, видимо, представляющую вместе с последней разновидности пеласгийского письма. С течением времени реты продвинулись на север, вышли к побережью Балтийского моря, где ими был основан город Ретра. У ретов-славян ещё в античную эпоху заимствовали свои руны германцы. Постепенное изменение самостоятельно развивавшейся в прибалтийских землях Европы письменности ретов привело к накоплению комплекса тех отличий, которые позволяют современным исследователям говорить о южной и северной разновидности славянской руники.
В свете выдвигаемой гипотезы становится понятной схожесть письменности этрусков, пеласгов, финикийцев, рун германцев и славян. У них единый исток — письмо пеласгов.
Есть основания полагать, что пеласгийская письменность первоначально носила слоговый характер. Во всяком случае, знаки теоретически разработанных славянских силлабариев также схожи с пеласгийским письмом. Распространяющееся на больших территориях благодаря расселению праславян-пеласгов, перенимаемое различными народами, оно развивалось у тех или иных народов по-разному. Менялся не только вид графем, добавлялись новые, исчезали старые, вводились иные их названия, но менялся сам тип письма. У финикийцев оно эволюционировало в консонантный алфавит, у греков и этрусков — в буквенно-звуковой. У германцев и части славян пеласгийская письменность трансформировалась в руны, представляющие на конечном этапе своего развития звуковое письмо. Другая часть славянских племён долгое время сохраняла слоговую письменность. Последняя постепенно сдавала свои позиции протокириллице и протоглаголице ещё в языческий период, будучи окончательно вытесненной кириллицей и глаголицей уже после утверждения христианства.
Сейчас известен любопытный памятник славянского письма. Он написан руникой, сочетающей черты северной и южной. Это «Боянов гимн». Правда, большинство исследователей считают его подделкой. Называется и имя фальсификатора — А. И. Сулакадзев, в книжном собрании которого «Боянов гимн» находился. Однако беспристрастный подход к вопросу позволяет выяснить следующее. Во-первых, все возможные мотивы, которые могли побуждать к фальсификаторской деятельности, в случае с А. И. Сулакадзевым не действовали. Его увлечение не приносило ему ни денег, ни славы. Как раз наоборот — материальные расходы и хулу. Незаметно по обстоятельствам жизни А. И. Сулакадзева, что он стремился пропагандировать какую-то новую концепцию отечественной истории, основанную на создаваемых им подделках: в его активе нет ни одного опубликованного произведения. И если уж применять к Александру Ивановичу термин «фальсификатор», то лично у нас возникает желание употребить вместе с этим термином определение «безмотивный».
Во-вторых, репутация А. И. Сулакадзева как «Хлестакова отечественной археологии» сложилась в основном благодаря высказываниям людей, по-настоящему не знакомившихся с его коллекцией, испытывавших к Александру Ивановичу буквально личную неприязнь. Кроме того, уровень профессионализма этих людей оставлял желать лучшего. Мы имеем в виду А. Н. Оленина и А. Х. Востокова.
В-третьих, не вызывает сомнения, что какие-то памятники, содержащие сфальсифицированные приписки, в коллекции А. И. Сулакадзева были. Но возникает вопрос: был ли он сам автором этих приписок, или рукописи в таком виде уже попадали в его собрание? Однако сам факт наличия в книжном собрании А. И. Сулакадзева нескольких письменных памятников, испорченных фальшивыми приписками, не обесценивает коллекции полностью. Во всяком случае, те осколки от неё, которые известны в наше время, представляют немалую ценность. Также известно, что какая-то часть коллекции была приобретена царской фамилией. Вряд ли русские цари стали бы приобретать ничего не стоящие подделки.
В-четвёртых, становится ясным, откуда в собрание Александра Ивановича попали рукописи с такой сенсационной датировкой — от I до Х века н. э. Источником получения этих памятников могла стать коллекция русского дипломата П. П. Дубровского, который в период Великой французской революции вывез из Франции множество ценнейших книг, фактически спася их от уничтожения. Среди них, между прочим, была библиотека Анны Ярославны, русской княжны и французской королевы. Часть рукописей библиотеки Ярославны и перешла из коллекции П. П. Дубровского в коллекцию А. И. Сулакадзева. «Боянов гимн» был в их числе.
Данный памятник относится к IV веку н. э. Повествует о борьбе славян с готами. Именуется «Бояновым гимном» по той причине, что сложен древним русским песнопевцем Бояном, о чём имеется упоминание в самом тексте памятника.
Количество рун бояновицы равно тридцати. Двенадцать из них схожи по написанию и при этом практически совпадают по звуковому значению с ретринскими рунами. Это даёт возможность говорить о родственности бояновицы и ретринской руники. В то же время, по мнению А. И. Асова, руны «Боянова гимна» схожи с пеласго-фракийским руническим письмом. Поэтому А. И. Асов делает вывод о промежуточном положении, которое занимает бояновица между северным и южным типом славянской руники.
Подобная степень сходства бояновских рун и рун Ретры (около 40 %, если считать от количества знаков бояновицы) также является, как нам представляется, одним из доказательств подлинности «Боянова гимна». В первом десятилетии XIX века, когда А. И. Сулакадзев, как утверждают его критики, изготавливал эту подделку, исследования славянской руники, толчком для которых послужило в конце XVIII столетия обнародование данных о находках прильвицких идолов, были на подъёме. Господствующим было мнение о подлинности как ретринских рун, так и других памятников, содержащих славянские рунические знаки. Логично предположить, что в таких условиях А. И. Сулакадзев должен был стремиться к достижению большего сходства графем своей подделки с рунами Ретры. Однако этого не произошло: если отталкиваться от количества ретринских рун (их 23), то степень совпадения всего около 50 %.
Доказательствами подлинности «Гимна» являются также особенности орфографии (например, широкое использование сокращений слов, взаимозаменяемость ряда рун, слияние двух одинаковых рун, стоящих рядом) и грамматики этого памятника, согласующиеся с особенностями более поздних славянских рукописей, в аутентичности которых никто не сомневается.
Лексика «Боянова гимна» хоть и отлична от лексики памятников старославянского, древнерусского и прочих древних славянских языков, но тем не менее слова «Гимна» имеют славянские корни. И это ещё один аргумент в пользу его несфальсифицированности. «Дикость» же звучания и «псевдоархаизм» слов «Боянова гимна» находят вполне логичное объяснение, если принять во внимание то обстоятельство, что современная наука практически не имеет представления о славянских диалектах первых веков нашей эры.
Учитывая всё вышеизложенное, мы стоим на позициях подлинности «Боянова гимна».
Не менее жаркие научные дискуссии ведутся вокруг «Велесовой книги».
Найденная в 1919 году в одной из заброшенных усадеб под Харьковом полковником Белой армии Ф. А. Изенбеком, она была им же вывезена за границу (в Бельгию). Там с ней познакомился другой русский эмигрант, также бывший белый офицер Ю. П. Миролюбов. Он изучал и копировал памятник на протяжении примерно полутора десятков лет. В годы Второй мировой войны «Книга», представлявшая собой деревянные дощечки, на которых острым предметом с обеих сторон был процарапан текст, бесследно исчезла.
Первые сообщения о памятнике в печати появились только в конце 1953 года (в эмигрантском журнале «Жар-птица», выходившем в Америке). Публикация статей о нём началась в январе 1954 года. В этих статьях иногда помещались участки текста некоторых дощечек, воспроизводимые письмом «Книги», а в номере за февраль 1955 года была опубликована фотография аверса дощечки 16. Публикация текстов дощечек (с переводами) в «Жар-птице» стала осуществляться с 1957 года и велась по 1959 год включительно. При этом памятник был издан далеко не полностью.
Надо признать, что у противников подлинности «Книги Велеса» есть все основания начинать свою критику уже с момента её находки и с обстоятельств ввода её в научный оборот. Однако при подробном разборе всех этих обстоятельств становится понятным, что однозначно о поддельности памятника они не свидетельствуют. Более того, как раз наоборот: подробный разбор убеждает, что дощечки подлинны. В частности, снимаются обвинения в фальсификации с А. И. Сулакадзева, а во многом и с Ю. П. Миролюбова. То, что памятник видели за несколько лет до того, как с ним познакомился Юрий Петрович, говорит само за себя.
Да, конечно, то, что «Дощечки Изенбека» не сохранились, даёт большой повод сомневаться, что они вообще когда-то существовали. Но разве «Велесова книга» — единственный памятник, исчезнувший уже после находки, можно сказать, потерянный для исторической науки во второй раз. Таких случаев, к сожалению, множество. Такая судьба постигла, например, знаменитое «Слово о полку Игореве».
Так что «Велесова книга» в этом отношении не представляет собой чего-то исключительного.
Что же смущает скептиков помимо обстоятельств находки дощечек? Оказывается, всё остальное, начиная с материала, на котором была зафиксирована «Книга», и заканчивая её алфавитом, языком и содержанием.
Заявление о том, что дерево не могло использоваться как писчий материал, иначе как вздорными претензиями не назовёшь. Истории хорошо известны факты использования дерева для целей письма многими народами (хеттами, иранцами, фракийцами, германцами и многими другими). Чем хуже в этом отношении славяне, нам совершенно непонятно. Тем более что существует свидетельство эль-Недима, прямо говорящее о том, что русы (а они, по нашему глубокому убеждению, — славяне) писали тексты на дереве, а не так давно, в 2000 году, в Новгороде была даже найдена деревянная книга (так называемая «Новгородская Псалтырь»).
Более обоснованным может показаться утверждение, что за 11 веков (с IX по XX век) дерево дощечек «Книги Велеса» просто разрушилось бы. И оно вполне могло разрушиться. Но, видимо, на протяжении многих столетий памятник хранился в надлежащих условиях. Кроме того, технология изготовления страниц деревянной книги (с применением горячего вощения или олифения) способствовала значительному повышению их устойчивости к внешним воздействиям.
Алфавит «Велесовой книги» включает 27 простых букв и семь диграфов. Итого — 34 буквы. Такой состав алфавита реконструируется на основе анализа фотографии дощечки 16А. По мнению Н. В. Слатина, миролюбовские транслитерации текстов памятника дают основание включить в азбуку «Книги» и букву, передающую звук «ф», придав ей привычный для нас вид: Ф. Кроме того, сохранившиеся рукописные копии-прориси трёх дощечек, а также опубликованные в статьях А. А. Куренкова участки текстов, воспроизведённые письменными знаками памятника, позволяют добавить к алфавиту «Велесовой книги» ещё четыре буквы
Однозначно определить звуковую нагрузку последних графем мы затрудняемся.
Итак, азбука «Дощечек Изенбека» может включать от 27 до 39 букв. При этом она представляет собой типичную протокириллицу. Но применять к ней стандартное положение о происхождении от византийского унициала, на наш взгляд, совершенно необоснованно. Даже если принять количество букв велесовицы равным 27, то соотношение заимствованных букв к собственно славянским составляет 16 к 11, т. е., в процентах, — 60 к 40. Это значительно и примерно равно подобному соотношению в кириллице. Но если считать входящими в алфавит памятника диграфы, а также повнимательней проанализировать так называемые «греческие» буквы велесовицы, то отношение станет обратным: 23 графемы будут славянскими и только 11 можно считать заимствованными у греков (исходя из того, что количество букв в велесовице равно 34). Из ряда «греческих» мы исключаем буквы
(звуковые значения «а», «с», «о, у, ъ», «н», «т») соответственно. То есть если византийский устав и использовался при изобретении алфавита «Книги Велеса», то он играл только вспомогательную роль, но никак не основную. И это наилучший для «греческого прародителя» вариант, который мы можем допустить.
Подлинным источником велесовицы послужили более ранние славянские системы письма — руны и слоговое письмо. Во всяком случае, именно из них можно объяснить происхождение некоторых особенностей начертания графем велесовицы, которые наиболее рьяными критиками объявляются явно указывающими на фальсификацию «Велесовой книги», т. к. они (т. е. особенности) якобы имеют гораздо более позднее происхождение. В частности, «н» с прямой перекладиной известна как силлабограмма слогового славянского письма, обозначающая в нём слог «нъ».
Зато почему-то зачастую молчат критики о тех признаках букв велесовицы, которые бесспорно свидетельствуют о подлинности памятника, ибо эти признаки свойственны графемам древнейших кириллических текстов и некоторые из них не были известны не только А. И. Сулакадзеву, но и Ю. П. Миролюбову. Например, написание буквы «ы» как ОI встречается в наиболее старых новгородских берестяных грамотах. Оно же есть и в «Велесовой книге»:
Но ни Ю. П. Миролюбов, ни уж тем более А. И. Сулакадзев о подобной особенности письма берестяных грамот просто не знали (А. И. Сулакадзев даже не знал, что грамоты существовали). Поэтому-то известный советский археолог А. В. Арциховский считал «Дощечки Изенбека» подлинными.
Кривят душой скептики, заявляя, что против аутентичности памятника говорит уникальность его алфавита. Сама по себе эта уникальность не может говорить ни о чём, т. к. ни один из известных памятников протокириллического письма в плане своего алфавита не дублируется. И даже такая особенность текстов дощечек, как написание букв не на линии строки, а под ней, против подлинности «Книги Велеса» свидетельствовать не может: ведь что с того, что подобное расположение графем свойственно индийскому письму деванагари?
Язык «Книги Велеса» является чуть ли не главным козырем в числе аргументов противников её подлинности. По их мнению, это искусственно сконструированный язык. Причём сконструированный абсолютно безграмотно, без учёта правил и законов развития какого бы то ни было славянского языка. При этом упор скептики делают на том моменте, что язык памятника обязательно должен быть древнерусским. Почему? Оказывается, потому что кругозор автора «Книги» ограничивается территорией расселения восточных славян. А в IX веке н. э. (наиболее вероятная дата создания памятника, по мнению многих исследователей) единственным восточнославянским языком был древнерусский. И правила этого языка, его законы (фонетические, грамматические, словарный состав) нарушаются в текстах дощечек сплошь и рядом. В частности, в памятнике IX века зафиксированы такие языковые явления, которые учёными относятся к гораздо более поздним периодам: смешение «е» с «ь» (принято считать, что стало иметь место не ранее XIII века), падение редуцированных (началось не ранее XII — XIII веков). Все эти ошибки, как считают критики, однозначно говорят о том, что «Книга Велеса» — это фальсификат.
Что можно противопоставить подобным аргументам?
Прежде всего то, что говорить о «Книге Велеса» как о памятнике только IX века, на наш взгляд, несправедливо. Да, в IX веке, безусловно, могли быть созданы все дощечки. Но часть из них, как представляется, была переписана с более древних текстов. И только некоторая часть сочинялась в прямом смысле этого слова. Иначе говоря, если физические носители текста, т. е. дощечки, и не были старше IX века, то о самих текстах этого не скажешь. «Велесова книга» — это сложный, многослойный памятник; это свод. Поэтому и язык её неоднороден. Н. В. Слатин выделяет в ней три диалекта.
Далее. Учёные, отнюдь не отстаивающие аутентичности «Книги Велеса», отмечают, что даже в Х веке русский язык не представлял собой чего-то однородного. Существовали диалекты, очень близкие к племенным диалектам дофеодального периода. А вот об этих последних науке практически ничего не известно. Во всяком случае, у нас не вызывает сомнения, что те законы и правила древнерусского языка, которые выведены учёными, основываясь на памятниках письма, датируемых не ранее чем XI веком, могут по отношению к славянским племенным диалектам и не срабатывать. Ведь даже в новгородских берестяных грамотах (а самые древние из найденных относятся всего лишь к XI веку) фиксируются отклонения от академических правил древнерусского языка. Так, например, судя по грамотам, на Новгородчине падение редуцированных началось ранее XII века и закончилось не в XIII, а позже. И если уж отклонения есть в памятниках письма XI века, то что говорить про более ранние эпохи.
Не учитывается критиками и сложность языковой ситуации на территориях, заселённых славянскими племенами, которые позже стали именовать «восточнославянскими». Довольно сильные передвижения славянских и неславянских племён происходили и в IX столетии, и в более ранние эпохи. Контакты между носителями разных диалектов и языков, естественно, могли повлечь за собой как появление новых черт в уже существовавших диалектах и языках, так даже и появление новых диалектов. Сами славяне «не разошлись» по трём группам уже в VI веке да так и «зафиксировались». Нет, отдельные племена ещё очень долго перемещались с территорий расселения славян одной группы на территории расселения славян других групп. Достаточно сказать, что хорваты, находившиеся на Балканах с VI века, ещё в XI веке известны и в ареале расселения восточных славян (под именем «белые хорваты»).
Как нам кажется, «полонизмы», «украинизмы», «болгаризмы» и прочие «-измы» «Велесовой книги», а также все отклонения от академического древнерусского языка можно объяснить, если учитывать все вышеназванные нами аргументы. И, кстати, ещё сохраняющиеся в восточнославянских языках диалекты (украинском, русском) прекрасно демонстрируют, что «ошибки» и «-измы» «Книги Велеса» до сих пор присущи живой разговорной речи части восточных славян, а потому ошибками фальсификаторов быть никак не могут.
Не менее языка «Велесовой книги» пугает учёных-ортодоксов её содержание. Как же?! Согласно ей, славянская история началась не с VI века нашей эры, а более или менее цивилизованная жизнь не с прихода варягов в IX. Да, именно так. История славян насчитывает не одну тысячу лет. Гораздо сложнее, чем принято было думать, и дохристианская религия славян. Это не примитивное язычество, ограничивающееся поклонением нескольким деревянным идолам. Славянская дохристианская религия, по «Книге Велеса», — сложный комплекс натурфилософских и морально-этических воззрений.
Всё это трудно допустить тем, кто по сей день является сторонником теории «лесов и болот», в которых сидели славяне до начала цивилизаторской миссии скандинавов и прочих германцев.
Однако ничего из ряда вон выходящего в той картине прошлого славянских племён, которая реконструируется по «Книге Велеса», на наш взгляд, нет. Лингвисты давно говорят, что существование славян как языковой общности задолго до нашей эры — факт несомненный. И это нередко подтверждается археологическим материалом (например, теми же раскопками Бельского городища). Неясно, что в принципе невозможного находят учёные мужи в том, что наши предки могли помнить в IX веке н. э. события многотысячелетней давности, касающиеся переселений по просторам Евразийского континента. Ведь переселения индоевропейцев имели место. И никто вроде бы не отрицает, что славяне — индоевропейское племя. Другой вопрос, что сам этноним «славяне» — довольно позднего происхождения, и есть какие-то более ранние племенные наименования тех народов, которые позже стали именоваться «славянами». «Книга Велеса» приводит нам ряд таких названий: «арии», «русы» («русичи»), «борусы», «венеды», «скифы», «киммеры», «русколане».
Но если наши предки, жившие в эпоху Киевской Руси, звались русичами, а также полянами, древлянами, дреговичами, радимичами и прочее, а мы зовёмся русскими, разве перестали они от этого быть нашими предками. И разве перестали мы, их далёкие потомки, ощущать, что мы есть плоть от плоти их, кровь от крови. Может, кто и перестал. Тот, у кого нет памяти.
Так вот, ничто не мешало предку того, кто в IX веке назывался славянином, во втором тысячелетии до н. э. носить имя «арий», а в первых веках нашей эры называться русом или русколанином. Разность племенного наименования первого и последнего не делала их этнически чуждыми.
Аксиома об изначальном и исключительном земледельческом характере хозяйствования славян, строго говоря, аксиомой вовсе не является. Это, выражаясь математическим языком, теорема. А всякая теорема требует доказательства. И у данной конкретной теоремы доказательств явно недостаточно. Подобное заключение делается на основе изучения славянских археологических культур рубежа и первых веков нашей эры (пшеворской, зарубинецкой, черняховской и некоторых других). Но надо признать, что возможности археологии в плане этнической идентификации памятников материальной культуры очень ограничены. Что может помочь археологу в выяснении того, к какому роду-племени принадлежали люди той или иной изучаемой им археологической культуры? Во-первых, конечно, письменные источники, сообщения которых, относящиеся к периоду существования археологической культуры, позволяют отождествить создателей этой культуры с тем или иным народом. Во-вторых, так называемый ретроспективный метод. Суть его в том, что в археологической культуре или группе родственных культур, проблем с определением этнической принадлежности которых не возникает (т. е. она известна), выделяется набор определённых признаков: вид погребального обряда, тип керамики, тип орнамента на керамике и некоторые другие. Если впоследствии во вновь открытом археологическом материале ряд этих признаков будет присутствовать, то у археолога появляется возможность сделать вывод об этнической принадлежности этого материала. Таким образом, можно выявлять, какому народу принадлежали археологические памятники, удаляясь по шкале времени во всё большую древность.
Но письменных свидетельств, относящихся к определённой эпохе и той или иной территории, может и не быть (в подавляющем большинстве случаев так оно и есть), или они могут быть недостоверны и туманны (тоже нередкая ситуация). Погребальный обряд может измениться с течением времени. Та же участь может постичь и типы керамики, орнамента, форму жилищ. И что тогда? Ниточка, ведущая к выяснению вопроса племенной идентификации, теряется? Да, теряется. Поэтому-то ряд историков (в частности, Л. Н. Гумилёв, Ю. Д. Петухов) отмечают, что археология имеет дело лишь с мёртвыми вещами, что она зачастую ничего не может сказать ни о языке, ни о духовной культуре их бывших хозяев и создателей. Надо признать справедливость подобного утверждения. В случае со славянами письменные источники упоминают их только с V–VI веков н. э. (во всяком случае, под таким именем). Археология позволяет продлить их историю, по устоявшемуся мнению, примерно до рубежа эр. Но вот вопрос: а что же дальше? Вернее — раньше?
С другой стороны, археологи ищут славян на вполне конкретных территориях. Если говорить об ареале их первоначального расселения, то это земли по рекам Висла и Днепр. И ранее V века крупных передвижений славянских племён никак не предполагается. Да, в IV веке часть славян была вовлечена в поток гуннского вторжения, но эти славянские группы либо погибли, либо вернулись на свои исконные земли, ибо не оставили после себя каких-то археологических культур. По крайней мере, такие на данный момент не известны. Не известны на запад от первоначального ареала расселения славян. А на восток?
И вот здесь нам хочется рассказать довольно поучительную историю. Касается она так называемой именьковской археологической культуры в Среднем Поволжье (IV–VII века н. э.). Культура эта была известна довольно давно. Но происхождение именьковцев долгое время было предметом острых дискуссий: предполагали финно-угорское, сибирское, тюркское, мадьярское происхождение. Но ни одна из версий так и не подкрепилась археологическим материалом (II, 22; 313–314). И только буквально в наши дни археолог Г. И. Матвеева доказала, что именьковская культура была создана славянами (II, 22; 314). Но кто бы мог такое предположить?! Славяне на Волге в IV веке н. э., в этой, как принято считать, «вотчине» финно-угорских и тюркских племён. Полагали, что славяне появились в этом регионе не раньше IX, а то и Х века. Заметьте, археологический материал у учёных был, так сказать, под рукой. Но верные выводы на основании данного материала были сделаны ой как не скоро. Почему? Да потому, что невозможно заметить, если не хочешь видеть.
Для чего мы всё это рассказываем? Для того, чтобы показать, что масштаб поисков славян археологами явно недостаточен. Славянские племена никто не ищет там, где их присутствие не предполагается.
По всем этим причинам, которые можно обобщённо назвать недостаточностью средств археологической науки, на основе данных археологии, полученных в результате изучения известных ныне славянских археологических культур, выносить окончательный вердикт об исключительном земледельческом характере хозяйства славян просто нельзя.
Но та же археология свидетельствует о кочевничестве индоевропейских племён. Поэтому нет ничего не возможного в том, что часть славян сохраняла кочевой быт своих предков ещё в I тысячелетии н. э. Такой вывод позволяют сделать и некоторые античные письменные источники. И объявлять «Велесову книгу» подделкой за сообщение о кочевом или полукочевом образе хозяйствования части славян-русов неправомерно.
А потому на вопрос: «Могли ли славяне находиться в составе киммерийских и скифских союзов племён, как о том повествует «Книга Велеса?» — мы ответим утвердительно: «Да. Могли».
И именно этим объясняет ряд учёных бытование в Закавказье, Малой Азии и Месопотамии топонимов, которые звучат вполне по-славянски.
О киммерийцах вообще известно очень мало. Но лингвисты утверждают, что сохранившиеся от них имена и названия во многих случаях сходны со славянскими. Полагаем, что киммерийцы (киммеры «Велесовой книги») не только имели в составе своих орд какие-то группы славян, но в основе славянами и были.
Предполагать, что непосредственные предки славян контактировали со скифами в период их господства в Северном Причерноморье, дал основание ещё «отец истории» Геродот. Современная археология (в частности, раскопки Бельского городища), а также сравнительное изучение иранской и славянской мифологий подтверждают это предположение. Позволим себе утверждать, что первоначально скифы были именно славянами (русами, по терминологии «Дощечек»). Эти скифы (их можно назвать «белыми») в течение долгого времени противостояли наплыву в Северное Причерноморье скифов жёлтых, как их называет «Велесова книга». В конечном итоге, проиграв последним, белые скифы были потеснены ими, уступив Причерноморские степи. Часть русов-славян оказалась в подчинении у скифов-индоиранцев, оставшись на своих прежних территориях в качестве данников и/или младших союзников. И такое положение застал Геродот в V веке до н. э., писавший о скифах-пахарях и народах, живущих рядом со скифами, во многом с ними схожих, но говорящих на другом языке. Но скифы-индоиранцы переняли у скифов-русов, с которыми они, возможно, первоначально мирно соседствовали, ряд элементов духовной культуры, в частности мифологические мотивы, и, может быть, сам этноним «скифы». Разумеется, процесс заимствований носил взаимный характер, как это обычно бывает: что-то от жёлтых скифов перенимали и белые скифы.
Появление сарматов, а точнее — русколан, в Причерноморье явилось для славян освобождением, а не сменой завоевателей, ибо с востока пришли свои, русы. Упорное причисление некоторыми средневековыми авторами и учёными нового времени сарматов к славянам не было ошибкой. Частично правы и те современные исследователи, которые связывают Русь и роксолан античных источников. Однако здесь необходимо сделать существенную оговорку: этноним «рус», «русь» действительно входил составной частью в наименование этого племенного образования (римляне исказили имя племени; правильнее в «Велесовой книге» — русколане), но русколанское объединение не было индоиранским. Оно было преимущественно славянским, русским. Хотя индоиранские элементы в него тоже могли входить, и наверняка входили. Сам же этноним «русь» древнее этнонима «русколане». Не первый произошёл от второго, а наоборот.
«Велесова книга» не одинока в отождествлении русколан (роксолан) со славянами и в утверждении о связи их с Русью. Основания для этого, прямо скажем, есть, даже если не считать «Велесову книгу» подлинным источником. Но потому-то наличие в ней подобной информации ни в коем случае не позволяет объявлять её фальсификатом.
Повествования дощечек о взаимоотношениях славян-русов с кельтами, римлянами, греками-византийцами, гуннами, готами, болгарами, хазарами и, наконец, варягами особых «громов и молний» со стороны критиков не вызывают. Это и понятно: существование данных взаимоотношений либо подтверждается данными археологии (как скажем, славянско-кельтские контакты) и письменных источников (в том числе и русских летописей), либо что-то подобное учёными с большой долей вероятности предполагалось, хотя ни археология, ни письменные памятники на это прямо не указывают. Так, например, войны славян с римлянами, о которых рассказывается в «Велесовой книге», наверняка имели место, раз уж с конца I века н. э. римляне проникли в Карпаты. Проникнув в этот регион, они вплотную подходили к области расселения славянских племён. И мы знаем, что столь удалённые от города Рима путешествия его граждане предпринимали отнюдь не с целью наслаждаться красотами природы.
Другое дело, что некоторые события, казалось бы известные, «Велесова книга» трактует по-другому. Например, говорит о поражении легионов Траяна к северу от Карпат, о чём по римским источникам не известно. Или совсем отлично от русских летописей трактует взаимоотношения киевских князей Аскольда и Дира: Дирос (так его имя звучит в дощечках) вовсе не друг Аскольда, хотя какое-то время — его соправитель; он — ставленник Византии. В конечном итоге Дир погибает от руки Аскольда, а вовсе не Олега, как рассказывает нам «Повесть временных лет». Есть масса других примеров.
Но данные трактовки, отличные от общеизвестных, на наш взгляд, говорят как раз о подлинности памятника. В конце концов, различное изложение одного и того же события разными письменными источниками — не такое уж редкое явление. Как говорится, с «чьей колокольни смотреть». Да учтём ещё, насколько эти «колокольни» удалены от события территориально и временно.
Вот и в случае с поражением римлян при Траяне в Восточной Европе вполне можно допустить, что придворные историки римского императора, прославленного своими победами над даками, просто «забыли» эту не очень славную страницу жизни своего патрона. Произведение же, относящееся к периоду после траянова правления, довольно объективное и беспристрастное, до нас могло попросту не дойти.
А наш Нестор-летописец, составлявший свою летопись в начале XII века, т. е. два с половиной века спустя после правления Аскольда и Дира, был весьма удалён от времени князей-соправителей. Сведения, дошедшие до него, могли быть искажены именно по причине хронологической удалённости от самих событий. Скорее всего, это вообще было устное предание.
Представляется, что если бы «Велесова книга» была подделкой, то фальсификатор избегал бы трактовок исторических событий, отличающихся от трактовок этих же событий, известных по другим источникам. Во всяком случае, там, где это никоим образом не влияло на «протаскиваемую» им концепцию славянской истории. А ведь очень многие расхождения именно такого характера. В частности, и те, о которых мы только что говорили. Возникает естественный вопрос: зачем фальсификатор «дразнил гусей»?
Этот вопрос можно отнести и к ещё одному пункту, по которому критикуют историческое содержание «Книги Велеса», — к её хронологии. Она запутанна, сложна, противоречива. В ней нет единой точки отсчёта дат истории славян-русов: то года отсчитываются назад от IX века н. э. (времени Аскольда и Дира), то даётся промежуток времени между какими-то событиями прошлого. Года указываются округлённо, с точностью до ста лет. Есть, правда, в «Книге» событие, которое часто используется для хронологических выкладок — Карпатский исход славян. Но опять-таки всего единожды, хотя и довольно точно, в текстах использован подсчёт лет от него по принципу начала отсчёта (1003 год от Карпатского исхода — победа боярина Гордыни над готами). В остальных случаях Карпатский исход — лишь один из концов оговариваемого временного отрезка (от Исхода до князя Дира 1500 лет и т. п.). Причём локализовать Исход во времени трудно: указания «Книги Велеса» дают основания для трёх дат: V, IV и II века до н. э. Как видим, разброс существенный.
Но именно сложность и противоречивость хронологии «Дощечек Изенбека» говорит об их подлинности. Это живой, многослойный памятник, а не упрощённая схема-подделка. В него вошли записи, делавшиеся на протяжении многих лет, а может быть и нескольких веков, разными людьми. Фальсификатор же, как бы умён, образован и хитёр он ни был, не смог бы создать подобную хронологическую путаницу. Да и вряд ли бы стремился к этому. Для него было предпочтительней либо создать такую хронологию, которая бы не противоречила установленным исторической наукой датам, либо не создавать хронологию вообще.
Итак, рассмотрение обстоятельств находки и введения «Книги Велеса» в научный оборот, её алфавита, языка и излагаемого в ней материала приводит нас к убеждению, что перед нами не подделка, а подлинный исторический источник, который необходимо самым внимательнейшим образом изучать. История и славянское языкознание действительно обогатятся полученными в результате этого изучения данными.
* * *
Завершая наше изложение, мы хотим сделать главный вывод: славянская письменность гораздо старше, чем принято обычно думать. Она имеет многотысячелетнюю историю. Только в наши дни началось изучение этой богатой и сложной истории. И она ещё ждёт своих исследователей.
I. Первоисточники
1. Боянов гимн (перевод А. И. Асова) // Асов А. И. Славянские руны и «Боянов гимн». — М., 2000. — С.18–26.
2. Боянов гимн Славену (перевод А. И. Сулакадзева) // Дудко Д. М. Велесова книга. Славянские Веды. — М., 2002. — С. 323–325.
3. Веда славян (отрывки) (перевод А. И. Асова) // Асов А. И. Тайны «Книги Велеса». — М., 2003. — С. 383–541.
4. Влескнига (перевод Н. В. Слатина) // Слатин Н. В. Влесова книга, русский язык и русская история. — Омск, 2000. — С. 3—84.
5. Велесова книга (перевод Д. М. Дудко) // Дудко Д. М. Велесова книга. Славянские Веды. — М., 2002. — С. 25—124.
6. Книга Велеса (перевод А. И. Асова) // Асов А. И. Славянские боги и рождение Руси. — М., 2000. — С. 293–393.
7. «О письменах» черноризца Храбра (перевод Б. Н. Флори) // Чудинов В. А. Загадки славянской письменности. — М., 2002. — С. 48–60.
II. Литература
1. Агглютинация // Большая советская энциклопедия. — М., 1968. — Т. 1. — С.177.
2. Агглютинативные языки // Большая советская энциклопедия. — М., 1968. — Т. 1. — C. 176–177.
3. Акишев К. А. Курган Иссык. — М.: Искусство, 1978.
4. Асов А. И. «Дощьки» Велеса: возвращение к людям? // Наука и религия. — 2001. — № 9. — C. 27–31.
5. Асов А. И. Ещё раз о тайнах «Книги Велеса» // Наука и религия. — 2000. — № 5. — C. 54–57.
6. Асов А. И. «Зиждители» России // Наука и религия. — 2001. — № 2. — С. 6–9.
7. Асов А. И. Путь в волшебную Русь // Оракул. — 1997. — 17 июля.
8. Асов А. И. Свидетельствует «Веда славян» // Наука и религия. — 2001. — № 2. — С. 14–15.
9. Асов А. И. Славянские руны и «Боянов гимн». — М.: Вече, 2000.
10. Асов А. И. Славянские боги и рождение Руси. — М.: Вече, 2000.
11. Асов А. И. Тайны «Книги Велеса». — М.: АиФ Принт, 2003.
12. Асов А. И. Творец «Книги Велеса» // Наука и религия. — 2000. — № 9. — С. 40–43.
13. Аффиксы // Большая советская энциклопедия. — М., 1968. — Т. 2. — С. 456.
14. Балабуха А. Творцы небывалого и небываемого // Аномальные новости. — 2001. — 15 октября.
15. Булычёв К. Тайны Руси. — М.: Дрофа, 2003.
16. Буганов В. И., Жуковская Л. П., Рыбаков Б. А. Мнимая «Древнейшая летопись» // Вопросы истории. — 1977. — № 6. — С. 202–205.
17. Бычков А. А. Энциклопедия языческих богов. Мифы древних славян. — М.: Вече, 2001.
18. Бычков А. А., Низовский А. Ю., Черносвитов П. Ю. Загадки Древней Руси. — М.: Вече, 2000.
19. Вернадский Г. В. Древняя Русь. — М.: Аграф, 2000.
20. Вилинбахов В. Необходим научный анализ // Тайны веков. — М., 1986. — С. 33–36.
21. Всемирная история: В 24 т. /А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др. // Т. 3. Век железа. — Минск: Литература, 1996. — 512 с.
22. Галкина Е. С. Тайны русского каганата. — М.: Вече, 2002.
23. Глаголица // Большая советская энциклопедия. — М., 1971. — Т. 6. — С. 576–577.
24. Гриневич Г. С. Загадки минойской цивилизации // История. — 1997. — № 1. — С. 53–56.
25. Грицков В. Тайна «Велесовой книги» // Наука и религия. — 1993. — № 7. — С. 32–36.
26. Гудзь-Марков А. В. Индоевропейцы Евразии и славяне. — М.: Вече, 2004.
27. Драчук В. С. Дорогами тысячелетий. О чём поведали письмена. — М.: Молодая гвардия, 1977.
28. Дудко Д. М. Велесова книга. Славянские Веды. — М.: Эксмо, 2002.
29. Изолирующие языки // Большая советская энциклопедия. — М., 1972. — Т. 10. — С. 92.
30. Иловайский Д. И. Начало Руси. — М.: Алгоритм, Чарли, 1996.
31. Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки. — М.: Наука, 1988.
32. Кириллица // Большая советская энциклопедия. — М., 1973. — Т. 12. — С. 180–181.
33. Кириллица // Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990. — С. 222.
34. Козлов В. П. Тайны фальсификации. — М.: Аспект Пресс, 1996.
35. Лазарев Е. «Свитки» Северного моря // Наука и религия. — 2001. — № 2. — С. 13.
36. Лихачёв Д. С. Героический пролог русской литературы («Слово о полку Игореве») // Слово о полку Игореве. — М., 1984. — С. 3—33.
37. Ляшевский С. Русь доисторическая: Историко-археологическое исследование. — М.: Фаир-Пресс, 2003.
38. Михайлов Ю. Послание из Феста // Загадки истории. — 2005. — № 2. — С. 11–13.
39. Молчанов А. А. Ещё раз о пеласгах // История. — 1997. — № 1. — С. 47–52.
40. Молчанов А. А. Таинственные письмена первых европейцев. — М.: Наука, 1980.
41. Наумов В. Наши предки с берегов Дуная? (интервью с Г. С. Гриневичем) // Рудный Алтай. — 1999. — 25 декабря.
42. Осетров Е. И. Аз — свет миру. — М.: Молодая гвардия, 1989.
43. Осипов Б. И. Отзыв о работе Н. Слатина «Влескнига» // Слатин Н. В. Влескнига, русский язык и русская история. — Омск, 2000. — С. 222–224.
44. Петухов Ю. Д. Русы Древнего Востока. — М.: Вече, 2003.
45. Петухов Ю. Д. Тайны древних русов. — М.: Вече, 2001.
46. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. — М.: София, Гелиос, 2002.
47. Рыбаков Б. А. Язычество и Древняя Русь // Новое в науке. — М., 1989. — С. 37–59.
48. Свентовит // Энциклопедия «Мифы народов мира». — М., 1992. — Т. 2. — С. 420–421.
49. Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий // Православный вестник. — 2005. — 5 мая.
50. Скурлатова О. Загадки «Влесовой книги» // Тайны веков. — М., 1986. — С. 26–33.
51. Славянская мифология // Энциклопедия «Мифы народов мира». — М., 1992. — Т. 2. — С. 450–456.
52. Слатин Н. В. Влескнига, русский язык и русская история. — Омск: Омская областная типография, 2000.
53. Флексия // Большая советская энциклопедия. — М., 1975. — Т. 27. — С. 490.
54. Флективные языки // Большая советская энциклопедия. — М., 1975. — Т. 27. — С. 490.
55. Хабургаев Г. А. Становление русского языка. — М.: Высшая школа, 1980.
56. Хабургаев Г. А. Старославянский язык. — М.: Просвещение, 1986.
57. Чертков А. Д. О языке пелазгов, населивших Италию (отрывки) // Асов А. И. Славянские руны и «Боянов гимн». — М., 2000. — С. 238–243.
58. Чудинов В. А. Загадки славянской письменности. — М.: Вече, 2002.
Примечания
1
По всей книге в круглых скобках первое число указывает параграф в разделе «Источники», второе число — номер источника, третье число — номер страницы. — Примеч. ред.
(обратно)

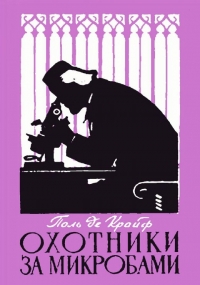
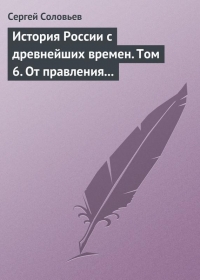


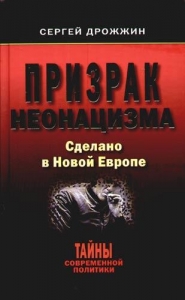
Комментарии к книге «Истоки славянской письменности», Игорь Юрьевич Додонов
Всего 0 комментариев