Сергей Богатко Особая группа НКВД
Вставал рассвет…
Утром радист должен был умереть. Как и все бойцы группы, попавшей в засаду, он понимал, что с восходом солнца ни одному из них не удастся вырваться из окружения. Но умереть решил не от вражеской пули в последнем отчаянном броске, а здесь, под кряжистым вязом. Круглая теплая граната Ф-1 висела у него на поясе под курткой всегда — и днем, и ночью. Радист не мог допустить риска попасть в руки фашистов раненым или контуженным, ибо знал, какие нечеловеческие муки уготованы ему — начальнику связи партизанского объединения, инструктору спецшколы Центра. Когда каратели пойдут прочесывать лес и начнется последний бой, он прижмется лицом к земле и выдернет чеку… Товарищи не осудят его. Так поступали многие радисты. Из Ленинграда сообщили, что в отряде тов. Родина радист Пушкарев, окруженный карателями, подорвал себя гранатой, уничтожив и рацию. Выпускница Московской спецшколы, радистка отряда имени Чапаева Вера Бирюкова отстреливалась до последнего патрона и взорвала себя гранатой. В Прибалтике тяжело раненные Валентина Калван и Николай Покидов последней гранатой взорвали себя и радиостанцию. Мученическую смерть приняла радистка Антонина Чередниченко из соединения Сабурова, схваченная при переходе в дальний отряд. Ее изуродованный труп обнаружили у села Боровичи. Пришел черед инструктору последовать за своими учениками.
Тихо было в брянском лесу. Лишь изредка в чашу доносился перестук крупнокалиберных пулеметов да молодая листва на верхушках деревьев озарялась ядовито-ярким светом немецких ракет. И с тоской думал радист о том, что не довелось ему дожить и до тридцати лет, что окружает их всего лишь европейский лес, а не забайкальская тайга — глухая, бескрайняя, непролазная. Там, на изысканиях трассы Байкало-Амурской магистрали, в аэрофотосъемочной группе НКВД радист Виктор Ломанович работал накануне войны. Тайга укрыла бы их всех. А здесь, загнанные в зеленый квадрат, они обречены на верную гибель.
Гитлеровцы тоже понимали это и действовали не спеша, методически. Да и куда им было торопиться?.. Лесной массив ограничен с трех сторон широкими просеками. По углам выставлены танки и бронемашины, пронизывающие пулеметным огнем три направления так, что и зайцу не проскочить. Патроны у партизан на исходе. С четвертой стороны простирается болото, ровное и открытое. Людей, преодолевающих трясину, можно будет расстрел и мать на выбор, как в тире.
Еще недавно лесная зона Брянщины была обширным партизанским краем. Объединение полковника госбезопасности Дмитрия Емлютина насчитывало более 23 тысяч бойцов. На сотнях квадратных километров располагались базы партизан с аэродромами, радиосетью и мощным узлом связи, были свои передвижные киноустановки, типография. По ночам нередко прилетали к ним самолеты полка Гризодубовой, и даже одно время в их распоряжении находилось звено По-2 для оперативной работы с отдаленными отрядами. В сентябре 1942 года немцы попытались ликвидировать партизанский край. В операции приняли участие несколько пехотных полков, батальон СС, зондеркоманды. Предупрежденные своей агентурой партизаны оказали жестокий отпор. Каратели потеряли в боях сотни солдат и отступили. Емлютина вызвали в Кремль, откуда он вскоре прилетел с «Золотой Звездой» Героя на груди. Но незадолго до начала битвы на Орловско-Курской дуге фашисты всерьез взялись вычищать свой тыл. На разгром объединения Емлютина они бросили полнокровные фронтовые дивизии — с танками, самолетами, артиллерией. Лесная оборона вскоре оказалась сломленной, и по законам партизанской войны отряды, рассредоточившись, стали с боями пробиваться из окружения. Каратели шли со всех сторон. Они врезались в леса, вырубали широкие просеки. Обломками разрушенных домов отсыпали дороги, чтобы подтянуть тяжелую военную технику; устраивали засады и облавы, артиллерийские налеты, бомбардировки с воздуха; минировали лесные тропы, засылали в отряды агентуру…
Выбитые со своих баз партизаны уходили из-под ударов мелкими группами, нащупывая слабые звенья в огненном кольце. Тяжелое снаряжение, орудия, радиостанции, типографии закапывали в тайниках. С собой брали только то, что могли унести. Но все больше становилось раненых на руках, все меньше оставалось боеприпасов. Вырваться удавалось далеко не всем.
Штабная группа численностью около пятидесяти человек, в которой находился начальник связи объединения Ломанович (позывной «Вал»), попала в безвыходное положение. К вечеру это стало ясно не только начальнику штаба Гоголюку и комиссару Бондаренко, но и самым молодым партизанам из взвода охраны. Связаться с Центром, чтобы вызвать бомбардировщиков и под огнем попытаться прорваться, они не могли. Шифровальщик вместе с кодами пропал бесследно; возможно, был убит или бродил где-то по лесам с другой группой. Помощи ждать было неоткуда, под утро их ждали на просеках пулеметы…
В последний раз Виктор Ломанович развернул среди деревьев антенну, включил «Северок» на прием. Среди океана звуков, наполнявших эфир, бывалый радист вскоре различил знакомый телеграфный «почерк» старого друга по бамовским изысканиям. Это был Василий Завидонов, который теперь служил в Центральном штабе партизанского движения вместе с другими бамовцами — радистом Филипповым и начальником связи, опытнейшим асом-коротковолновиком Ярославцевым.
Василий вел обычный ночной радиосеанс с одним из более счастливых партизанских отрядов. По мелодии «морзянки» Ломанович безошибочно распознал руку друга, работающего на ключе. И тут в первый и последний раз в своей жизни Вал нарушил святое правило партизанских радистов — вышел на связь открытым текстом. Не называя ни Завидонова, ни себя, надеясь только, что друг все поймет, он передал в эфир серии сигналов, обозначающих примерно следующее:
«Узнаешь меня?..»
«Узнаю», — немедленно отозвался Завидонов и замер.
«Передай нашим, чтобы не ждали, — телеграфировал Ломанович. — Прощай. Станция сворачивается.»
Условная фраза «Станция сворачивается» означала, что с данной минуты позывного «Вал» больше не существует, и если Вал вновь появится в эфире, то это будет уже не он, а оборотень, работающий под диктовку гестапо.
«Понял тебя. Прощай», — отстучал Завидонов и продолжал напряженно вслушиваться в эфир, отчетливо понимая, что ждет он теперь напрасно.
В темноте, ощупью, Ломанович смотал на рогатульку провода антенны, отключил батареи питания. Майская короткая ночь кончалась, небо на востоке начинало светлеть. Оставалось последнее: испортить рацию, раздавить пассатижами ее маленькое кристаллическое сердце — кварц, настроенный на волну Центра, а затем уничтожить себя и вместе с собой все, что знает о товарищах, работающих во вражеском тылу.
А на рассвете от болот начал подниматься туман. Туман вставал такой густоты, что в двух шагах нельзя было различить человека. Точно сама брянская земля вздумала воспротивиться происходящему, не желая отдавать чужеземцам своих сыновей.
Гитлеровцы забеспокоились, стали пускать ракеты, открыли беспорядочный огонь. Но ни шальная стрельба в «молоко», ни ракеты им не помогали. Потом каратели разом прекратили пальбу, принялись вслушиваться, надеясь хотя бы на слух определить, где идут партизаны. А те под покровом седого тумана двигались через болото бесшумно, как призраки.
Когда окружение было уже далеко позади, комиссар Бондаренко, чуть подотстав, на ходу дружески подмигнул Виктору Ломановичу:
— Выходит, Витя, рано попрощались…
Вал, измученный своими увесистыми сумками с аппаратурой, батареями питания, смотанной антенной, остановился и шапкой вытер мокрое от пота лицо.
Комиссар тоже остановился и пристально, словно не узнавая, смотрел на радиста.
— А ведь ты, парень, седой, — тихо проговорил он. И, насупившись, спросил жестко:
— Рация цела? Нужна связь с Центром.
— «Северок» работает, да что толку? Шифров-то нет.
— Знаю. Но сейчас — кровь из носу, а чтобы связь была. Думай, чекист, — не мне тебя учить, как без ключа замки открывают. Ты ведь из особой авиагруппы НКВД. Может быть, тебе поверят.
— Там никому не поверят.
— А ты думай, думай!..
Бондаренко вновь тяжело зашагал, догоняя ушедшего вперед начальника штаба. Группа вырвалась из кольца. И надо было надеяться, что не они одни остались в брянских лесах; наверняка кто-то еще уцелел. Значит, это не разгром. Значит, надо вновь собирать силы в кулак, надо действовать.
Ас-коротковолновик Виктор Александрович Ломанович
Тощий курсант из города мечтателей
Это диковинное дерево стояло на окраине Калуги. Оно выросло посреди поля, и, как это бывает с одиноко стоящими деревьями, у макушки ветви завернулись к центру. Получилось кресло, в котором можно было полулежать, раскинув руки и ноги. В безоблачный полдень лета 1930 года там расположился мальчишка-оборванец и неотрывно смотрел в небо. Проходившие внизу по тропинке горожане вряд ли замечали худющего подростка, угнездившегося высоко над землей.
Для мальчика — Феди Румянцева — это было не кресло, а кабина астронавта. Отсюда интересно было по вечерам следить сквозь сетку черных ветвей за ходом планет, за перемещением нем звездного купола. Старик Циолковский, живший в их городе, упорно всем доказывал, что уже скоро начнутся полеты к ближайшим планетам. Этого необыкновенного человека иногда видели на улицах — седого, косматого, в шляпе и плаще-крылатке, озабоченного решением какой-то трудной задачи и всегда спешащего. Редко кто решался подойти и спросить о чем-нибудь. Какие-то важные люди иногда приезжали на автомобилях к Циолковскому и тоже заметно робели, когда входили в его дом.
Федя Румянцев верил в межзвездные полеты и страстно желал поскорее увидеть, как это будет происходить: сначала дирижабли, потом аэропланы и наконец, ракетопланы…
В тот безоблачный полдень 1930 года мальчик услышал необычный гул, нараставший откуда-то с высоты. Гул похожий на шмелиный, но высокого тона и очень настойчивый. И наконец Федя увидел: в синеве неба медленно двигался аэроплан. Это был одномоторный, но довольно большой самолет-моноплан. Мальчик еще два года назад на газетных фотографиях видел его и узнал сразу по характерному эллиптическому очертанию крыльев и заостренному носу. Это был К-4 — самолет конструкции Константина Калинина. На таком аэроплане в августе 1928 года пилот Снегирев и штурман Спирин совершили рекордный перелет по маршруту Харьков-Москва-Иркутск-Москва-Харьков. Самолет у них был особый, именной, назывался он «Червона Украина».
Аппарат шел стороной и очень высоко. Вот только странно вел себя летчик. Двигался по направлению к Калуге, потом развернулся. Значит, рейс не пассажирский. Катает любителей острых ощущений? Но вместо того чтобы с жужжанием промчаться над городом, полюбоваться своим отражением в речном зеркале Оки, заглянуть в жерло дымящей заводской трубы, летчик вел аэроплан только прямо, над совсем неинтересными холмами, перелесками, затем круто разворачивал машину и так же прямо, на той же высоте, хотя и поодаль, двигался в противоположную сторону. Так пашет трактор в поле. «Наверное, ищет что-то или учится летать, — объяснял себе мальчик поведение пилота, — отрабатывает какой-то строгий урок. Должно быть, ему задано расчертить небесный купол над Калугой прямыми параллельными трассами. А может быть, выполняет упражнение на точность курса?» вдруг при развороте острый солнечный зайчик сверкнул на миг в днище аэроплана. Стекло!.. Но зачем летчику хрупкое стекло под ногами, когда он может выглянуть и даже свеситься из кабины? И тогда Федя догадался: был объектив фотоаппарата. Летчик ведет машину так ровно, потому что снимает всю местность подряд, чтобы потом из фотографий получилась карта, на которой запечатлено все как есть: и город, и пойма, и река, и дерево на окраине… Это разведчик, это летающий глаз, который внимательно, ничего не пропуская, рассматривает территорию, чтобы потом по снимкам начертить карту, построить завод, или дорогу, или мост. Око летящее… Вскоре с южной стороны стали наползать облака. Аэроплан резко взял в сторону и, сверкнув на прощанье стеклянным своим «глазом», быстро удалился.
К-4 — пассажирский, санитарный, аэрофотосъемочный
Самолет конструкции Константина Калинина отличался простотой и экономичностью. Один мотор мощностью около 300 лошадиных сил. К-4 был выпущен в 1928 году сразу в трех модификациях: пассажирский, санитарный и аэрофотосъемочный. Пассажирский мог взять четырех пассажиров, багаж и почту, — по весу 410 килограммов полезного груза. Съемку вели через специальный люк в полу кабины. Аппаратуру обслуживали два оператора. Всего было построено двадцать два экземпляра К-4. Наиболее успешно применялся в аэрофотосъемке.
Летчик М. А. Снегирев, установивший в 1928 году на К-4 рекорд дальности, позднее — 21 ноября 1933 года — погиб при испытаниях самолета-гиганта семимоторного (по 750 л. с. каждый) тяжелого бомбардировщика К-7. Катастрофа произошла из-за разрушения хвостовой балки.
Назавтра мальчик не смог вернуться в свою «навигаторскую кабину» — много было работы по дому, а потом аэросъемочный самолет уже больше не появлялся над Калугой. Но тот день остался в памяти на всю жизнь.
Федя Румянцев и раньше видел аэропланы, знал, как они устроены: в маленькой школьной библиотеке были журналы с подробным описанием самых разных летательных аппаратов. А позапрошлым летом ему посчастливилось совсем близко подойти к настоящим самолетам, потрогать их и даже, подпрыгнув, заглянуть в открытую кабину. В Калугу тогда прилетели сразу две крылатые машины. Правда без фотокамеры и поменьше в размерах… Жужжа моторами, они дол го кружили восьмерками., словно созывая публику потом одна за другой опустились на лужайку неподалеку от дома Румянцевых.
К месту их посадки со всех улиц стекались люди. Аэропланы еще катились но траве, а табуны ребятишек, сверкая пятками, уже мчались по лугу, обгоняя и окружая неуклюже выруливающие крылатые машины. Да что дети казалось, все население города, способное двигаться высыпало на окраину — смотреть летательные аппараты! На мальчишек летчики произвели неотразимое впечатление В шлемах с очками-«консервами», в кожаных костюмах ботинках с крагами, в перчатках с раструбом и с планшетами на ремнях через плечо, они казались небожителями, случайно спустившимися на землю. Их лица были мужественны и веселы.
Самолеты сухопутного базирования конструкции Константина Калинина, успешно применявшиеся на аэрофотосъемке в 1930-е годы.
Использование самолетов К-4 (лучших в то время для выполнения картографических работ) в Арктике и на трассе БАМа было невозможно из-за отсутствия там аэродромов.
С того дня, как Федя Румянцев заглянул и кабину настоящего аэроплана, мечта о полетах, в которой он долго стеснялся признаться кому-либо, превратилась в реальную цель. Правда, он опасался насмешек. Скажут еще: куда тебе, заморышу?.. И в самом деле, Федор был не очень крепок с виду. Семья жила в крайней нужде; чувство голода было хорошо знакомо всем в доме Румянцевых. Но не унывали, держались дружно, помогали друг другу, чем только могли.
Самыми счастливыми были часы, когда после скудного ужина семья Румянцевых собиралась у керосиновой лампы. Кто-нибудь из тех, что повзрослей, усаживался поближе к свету и раскрывал книгу. Чтецом чаше других был брат Сережа — хромой от рождения, добрейший по натуре человек и всеобщий любимец в доме. Иногда на подмену ему садились к огню строгая старшая сестра или кто-то из квартирантов. В благоговейной тишине начиналось чтение Пушкина, Некрасова, Лермонтова или старинных трагедий из растрепанного сборника со странным названием «Златоцвет».
Федору особенно нравились стихи о полетах, и он любил повторять их наизусть по дороге, когда случалось идти одному куда-нибудь далеко:
По небу полночному ангел летел. И тихую песню он пел.Стихи сокращали путь даже если не всегда попадали под размеренный шаг. А лермонтовские просто завораживали неземной своей силой, и мальчику грезились яркие звезды над головой, проплывавшие внизу призрачные облака, затягивающие землю, и грозное пение ветра в растяжках-тросах, удерживающих несущие плоскости самолета.
Это было время, когда авиаторы еще только осваивали ночные полеты. Возможно, именно в тот ясный полдень, когда Федя Румянцев впервые увидел самолет аэросъёмки, на другой стороне планеты в темноте ночи где-то над Андами тщетно искал спасения молодой французский летчик Гийоме. Его товарищ Антуан де Сент-Экзюпери, участвовавший в спасательной операции напишет повесть «Ночной полет», и, может быть, самые сильные страницы этой книги — о том, какое чувство безысходности охватывает человека, когда он в полете теряет землю из виду.
Искусством слепых полетов в те годы упорно овладевали русские летчики Стерлигов, Спирин, Ноздревский. Учились они днем, но в закрытых кабинах, пытаясь вести машину только по показаниям аэронавигационных приборов. Для подстраховки во второй кабине контролировал ситуацию инструктор. Учились летать и над морскими просторами с помощью компасов и астрономического ориентирования. Жертв среди смельчаков было немало. Им на смену за штурвалы садились новые добровольцы. А где-то за партами чертили на полях школьных тетрадей профиля летательных аппаратов совсем юные романтики, грезившие наяву видениями сонных дирижаблей, жаждущие «переступить черту» земного притяжения, бросить вызов «холоду пропастей бездонных».
Проникновение бескрылого существа в «пятый океан», особенно на аппаратах тяжелее воздуха, противоречило всему многовековому опыту обитания человека на земле. И эта новая, неземная среда была одновременно и притягательной, и пугающей.
Победы инженеров не решали всех проблем. Росло понимание, что человек в небе — совсем другой человек.
Чтобы стать настоящим летчиком — профессионалом, то есть тем, кто умеет летать и жить в полетах, человек должен измениться, должен многое преодолеть в себе — не только естественный страх высоты. Разумеется, нужна смелость. Но одной природной отваги недостаточно, более того ока может оказаться губительной. Необходимо научиться противостоять опасным иллюзиям пространственного положения, возникающим у земного человека на высоте под воздействием скорости, агрессивной среды, при отказах техники.
Поначалу наибольшие неприятности приносили отказы техники. Но к концу XX века, когда авиатехника станет гораздо надежней, специалисты по безопасности полетов придут к выводу, что машина подводит человека лишь в десяти-пятнадцати процентах случаев, а человек сам себя — в шестидесяти-восьмидесяти.
Далекие от техники поэты первой четверти XX века пытались по-своему исследовать это новое, загадочное, необычайно волнующее психологическое состояние человека — человека летящего. И Федя Румянцев старательно записывал, по обычаю тех лет, в девичий дневник-альбом сестры свое любимое — из Валерия Брюсова:
Над поколением пропела Свой вызов пламенная медь. Давая знать, что косность тела Нам должно волей одолеть,и из Александра Блока:
Ты нам грозишь последним часом Из синей вечности, звезда… Но гибель не страшна герою. Пока безумствует мечта!Сестра поблагодарила, но вздохнула — ей больше нравились лирические, теплые стихотворения. И без того жизнь была скудной и неласковой. У старших свежи были в памяти ужасы гражданской войны. Беда еще бродила где-то рядом. Отголосками грозы доносились вести о том, что в соседних краях людям живется гораздо хуже. Говорили шепотом об эпидемиях, голоде, о вымирающих деревнях. Иногда в городе появлялись и куда-то сразу исчезали беженцы. И то, его семья Румянцевых держалась, казалось счастьем, которое надо было обязательно сберечь. На вечерних посиделках обычно просили почитать что-нибудь «чувствительное».
И слушали, затаив дыхание, в глубокой тишине; разве что кто-нибудь всхлипнет, бывало, в полутьме.
Федя слезливостью не отличался; телесную боль и всякие ушибы-порезы переносил стойко. Однако из всей семьи он был, пожалуй, самым мягкосердечным, порой до сентиментальности. Для подкрепления стола в доме держали кроликов. Федя очень любил с ними возиться, приносить им травку повкуснее. Ему в радость было заботиться об этих беззащитных созданиях. И он очень горевал, когда наступало время забоя. На весь день тогда Федя убегал из дома — куда-нибудь подальше, только бы не видеть и не слышать происходящего. И хотя частенько жили впроголодь, он не мог себя пересилить — ни разу даже не попробовал крольчатины.
Когда старший брат Сергей узнал, что Федя мечтает стать летчиком, он очень удивился и грустно покачал головой:
— Ты у нас такой жалостливый — и в летчики?!.. Ой, не ошибись, Федя, подумай еще хорошенько. Туда, братец ты мой, таких ли бойцов подбирают, соколов-ястребов! А ты прямой, не очень увертливый, злости в тебе вовсе нет, да и крови боишься…
Старший брат обладал какими-то особенными душевными свойствами. Почему-то только ему — единственному в семье — все поверяли свои тайны. И Сергей всерьез встревожился за младшенького. Профессия летчика в те годы была в чем-то сродни цирковому искусству: смертельный номер… под куполом… без сетки! На городских кладбищах обычными стали надгробия с прибитыми к постаменту пропеллерами — такой утвердился обычай у «летунов». И все они погибали молодыми. Но разве похож был Федя на дерзкого, бесстрашного воздушного акробата? Сердце сжималось: убьется ведь — такой он неуклюжий…
Правда, Федя сказал, что хочет быть не пилотом, а навигатором, воздушным наблюдателем.
— А кто это — наблюдатель? — спросил Сергей братишку. — Подумай, прошу тебя… Еще подумай!
Федор и сам понимал, что по многим статьям уступает своим бойким, отчаянным сверстникам, но мечта о полетах не отпускала его ни во сне, ни наяву: «Был радостен сердцу железный обман…» Грамоте Федя обучился рано, играючи, сам даже не заметил как — она перешла к нему от брата и Пестры. В школе его определили сразу во второй класс — семье на радость и облегчение. Занятия давались легко, уроки обычно успевал приготовить еще в классе или у товарищей, поскольку своих учебников у него не было. Более того, помогал одноклассникам разобраться в задачках по физике, по математике.
Очень любил Федя рисовать. Чаще всего изображал он парящих птиц или что-нибудь на библейские темы — крылатые человеческие фигуры в свободном полете среди звезд и облаков. И еще — глаз, взирающий с высоты на землю: око летящее. Мать была верующей, и хранила у себя подобранные ею в каком-то разоренном церковном подворье книги без обложек, но с прекрасными гравюрами Гюстава Доре. Впрочем, смысл рисунков Феди вполне отвечал настроению времени — уверенности во всемогуществе человеческого разума. «Люди станут боги, или их громом пришибет…»
Затем Федю увлекло другое чудо XX века — радиотехника. Когда в гости к Циолковскому приехал изобретатель радио Попов, вся Калуга заговорила о встрече этих двух великих людей. Федор сделался самым ярым активистом городского Общества друзей радио. Даже участвовал в кампании радиофикации Калужского района. На призыв: «Радио — в массы!», добровольцев откликнулось множество. Крылатка Циолковского незримо витала над городом, будоража молодые умы.
Все лето энтузиасты лазали по столбам, вкручивая изоляторы, подвешивая провода. Эти оборванцы-мальчишки ходили по домам и терпеливо растолковывали старикам, как надо пользоваться репродукторами. Но Феде этого было мало. Поскольку столбов и проводов не хватало, «друзья радио» решили наладить производство детекторных приемников. Разумеется, это были примитивные самоделки, потому что достать какие-либо радиодетали было практически невозможно, да и денег у мальчишек не было. Делали своими руками все, вплоть до кристаллов. Технология, в общем-то, нехитрая: лезвием ножа скоблили свинец, цинк, затем эту стружку перемешивали, засыпали в пробирку и плавили на огне школьной спиртовки. Пробирку потом разбивали, извлекали кристалл и приступали к испытаниям его детекторных свойств. Подсоединяй кристалл к антенне разными гранями, ловили в эфире шорохи и трески. И сколько восторга было, когда удавалось уловить в наушнике человеческую речь или музыку! Сами делали даже микрофоны, затачивая угольные стержни. Сами наматывали проводки на кольца, стараясь не сбиться при подсчете витков. Каких только хитростей не придумывали, чтобы из ничего получалось радио!
Однажды в магазине продавщица обратила внимание на долговязого подростка, который заворожено следил за работой кассы. Вскоре кассирше сделалось не по себе от его упорного взгляда. Нахмурившись, она закрыла отделение с деньгами на ключ и строго спросила:
— Что тебе нужно, мальчик?
Подросток вспыхнул, смутился, но потом, набравшись храбрости, признался, что ему нужен моток бумажной ленты, которой заряжают кассовый аппарат. Кассирша удивилась: таких мотков было полно, даже с избытком. Делалась лента из грубой, дешевой бумаги, и ни на что другое она не годилась. «Возьми, пожалуйста. Полдюжины мотков тебе хватит?» Подросток выскочил из магазина совершенно счастливый.
А дело заключалось в том, что «друзья радио» взялись пристраивать к наушникам рупоры-резонаторы из плотной бумаги. И кто-то додумался моток бумаги, предназначенный для магазинного кассового аппарата, выдавливать по центру рупора. Если потом его обмазать столярным клеем и прикрепить к наушнику, то получается прекрасный, просто-таки превосходный репродуктор, ничуть не хуже фабричного. Так что радиопередачу можно было слушать уже не одному, а сразу втроем — вчетвером.
В предвкушении грядущей Эры межзвездных сообщений или, как минимум, победы Интернационала и установления всемирных свободных контактов юные единомышленники Циолковского изучали зарождавшийся международный язык эсперанто. Федя Румянцев неустанно тренировал руку на ключе, надеясь стать если не навигатором, то хотя бы радистом воздушного корабля. Ему удалось смастерить даже собственный радиопередатчик. Однако разрешения на выход в эфир ему не дали ввиду незрелого возраста. А ждать было невыносимо.
Едва переболев радиолихорадкой, Федя Румянцев со страстью погрузился в астрономию. Он раздобыл и перечертил схемы звездного неба, переписал таблицы и очень скоро научился не только с первого взгляда различать созвездия, но и производить кое-какие несложные расчеты движения планет, определять время по звездам, по Луне и компасу. По вечерам на лавочке, окруженный табунком таких же голоштанных подростков, он им пересказывал прочитанные в книгах удивительные истории о происхождении звезд и Вселенной.
За лето Федор сильно прибавил в росте, и сверстники поневоле смотрели на него снизу вверх. Размахивая длинными руками, покрытыми цыпками, подросток рассказывал «друзьям радио» о том, что случилось с кольцами Сатурна. В тот год желтоватая планета-гигант вступила в фазу, когда кольца, состоящие из глыб льда, становятся ребром по отношению к земному наблюдателю. Как гласит мрачная легенда, каждые тридцать лет свирепый Сатурн пожирает своих детей, чтобы не делиться с ними властью. Для астрономов «исчезновение» колец давно известно, оно происходит по графику, с циклом в 29,5 лет. И они уже привыкли к тому, что всякий раз среди обывателей, обладающих острым зрением, прокатывается волна панических слухов.
Осенью опрятно одетый, отутюженный Федор Румянцев возвратился в школу, где его, семиклассника, ожидали не только занятия, но и важные общественные поручения — он был еще и редактором стенгазеты «Наши мысли». Название этой газеты было навеяно незадолго до того изданной в Калуге брошюрой Циолковского «Ум и страсти».
Между тем жить становилось все трудней. Положение семьи ухудшилось. Отец — бывший батрак и чернорабочий — заболел. Его пенсии не хватало даже на самое необходимое, а у матери теперь уже недоставало сил брать бельё в стирку, как это она делала раньше. Старший брат Серёжа женился — разумеется, по любви, а не по расчету, — и хоть казался счастливым, исхудал совсем: на его руках сразу оказалось многочисленное семейство жены. Старшая сестра — в невестах, ей хотя бы туфельки, платьице — меньшие сестры подрастали, и тоже нуждались в помощи.
До зимы Федя еще кое-как перебивался, а когда ударили морозы, начал пропускать занятия — не было обуви. Иногда по ночам он просыпался и слышал, как мать плачет и молится, прося у Бога сил, чтобы поставить детей на ноги. Надумал было идти на местный завод, но кто решится взять хотя и рослого, но 14-летнего мальчишку?..
В школе никто не догадывался об отчаянно бедственном положении семьи. Здесь все — от истопника до директора — привыкли, что Румянцевы приходят в классы чистенькими, в аккуратно починенной одежде, в бодром расположении духа, они никогда не жаловались и не обращались за материальной помощью. Многие учителя даже считали эту семью более или менее зажиточной. Классный руководитель сам пришел в дом к Румянцевым по поводу пропущенных Федором занятий. Увидев, каково истинное положение дел, он растерялся, а потом принялся горячо убеждать мать Федора, что у мальчика несомненные способности к наукам и что ему обязательно нужно закончить хотя бы семилетку.
Через несколько дней у Федора появились валенки и пальто — вещи по тем временам бесценные. Приобретали их на средства из скудного школьного фонда, но это лишь частично, а в основном — на деньги, собранные среди учителей. Обо всем этом мальчик узнал много позже. Учителя изобрели такую деликатную форму, что о передаче вещей почти год не знал никто, кроме самих дарителей и матери.
И вот настал решающий день. Румянцев Федор Селиверстович — 1916 года рождения, русский, комсомолец, образование семь классов — стоит навытяжку перед комиссией Московского техникума специальных служб Гражданского воздушного флота.
«Из Калуги? — строго переспросил начальник техникума Добровольский и протянул загадочно: — По-нят-но».
Характеристики у юноши прекрасные. Личные увлечения похвальные: астрономия, радиотехнике, рисование… Рост гренадерский. Хотя с виду и худощав, но здоровья отменного. Федя слышал, как во время медицинского осмотра один врач сказал другому, продолжая какой-то свои профессиональный разговор: «А самый крепкий из нынешних курсантов — вон тот, калужанин тощий». И бесцеремонно указал пальцем на Румянцева, стыдливо прятавшеюся за спины других голых новобранцев: «Точно говорю: двужильным родился. Экая, право, жердина!»
На комиссию семья снарядила Федю очень прилично. Ради такого случая брат Сергей одолжил пиджак, а муж сестры (она только что вышла замуж) — свои брюки. Правда, шурин был среднего росточка, так что брюки оказались коротковаты, поэтому Румянцев подошел к столу, за которым сидела комиссия, на шаг ближе, чем полагалось. Все шло благополучно, комиссия одобрительно кивала головами, как вдруг один из сидевших за столом замер, вскинув брови, и прижал пальнем анкету, будто какую букашку придавил. Не отрывая своего пальца от бумаги, он передвинул анкету по столу своему соседу. Тот глянул в строку, ахнул и передвинул анкету дальше. Это была катастрофа. Прозвучал приговор: принять не можем — по возрасту. «Тебе, Румянцев, еще и шестнадцати не исполнилось. Приезжай на следующий год.»
Федору показалось, что жизнь его кончилась на пороге осуществления мечты. Целый год ожидания! Он не представлял себе, как сможет пережить этот год. Не помня себя, повернулся, пошел к двери. И тут услышал резкий голос Добровольского: «Румянцев! Подожди в коридоре».
Ждать пришлось долго. В чал, где заседала комиссия, входили все новые претенденты и потом выходили — одни с видом победителя, другие понурив головы. Вот уже и последний вышел, а комиссия все совещалась.
Начальник техникума оказался в очень трудном положении, но комиссия ничем не могла ему помочь. Не только Добровольскому — всем понравился этот долговязый калужанин с добрым лицом и умными глазами. Да, слишком молод, но грамотен, серьезен, начитан, да и собственная «соображаловка», как видно из его ответов, неплохо работает. Но, случись что, немедленно поднимут бумаги: пятнадцать лет. Вы что! Кто вам позволил детишек гробить?! Ведь голову оторвут.
Выслушивая эти справедливые опасения, Добровольский морщился, как от зубной боли. Дело в том, что у прочих, более счастливых соискателей курсантских мест, не только с грамотешкой были нелады, но и общая подготовка была гораздо хуже. А предметы надо осваивать непростые: математика, физика, геодезия, астрономия… Контингент подобрался по этой части весьма слабый. Жаль упускать такого толкового парня. Но кто возьмет грех на душу? И старый службист, не о себе, лишь о службе одной радея, решился на хитрый подлог.
После получасового спора за плотно закрытой дверью взъерошенный Добровольский вышел в коридор и, отведя калужанина в сторону, сказал:
— Ты, вот что, Румянцев. На, держи твое заявление. Сейчас садись за тот стол и перепиши заново. Все перепиши, как было, только укажи в заявлении не год твоего рождения, как ты тут поставил — «1916», а просто «16 лет». А дату внизу не ставь. Понял?..
Румянцев Ф. С. Штурман, аэросъемщик, впоследствии Герой Советского Союза, в Витимской экспедиции 1938 г.
И начальник техникума не ошибся. Румянцев — самый молодой из его курсантов — вскоре стал одним из лучших. Он же помогал подтягиваться отстающим в учебе «старичкам», самому старшему из которых было уже полных 38 лет, да и многие однокурсники, по крайней мере теоретически, годились Федору в отцы.
К слову сказать, похожих решений — импульсивных, связанных порой с грубейшими нарушениями инструкций и правил приема, — в истории нашей авиации было немало. Нечто подобное на закате дней рассказывали о своих уловках, притом ничуть в этом не раскаиваясь, многие прославленные летчики, — такие, например, как дважды Герой Советского Союза Алексей Молодчий, трижды Герой Александр Покрышкин. Правда, то были пилоты, и проявление ими острых граней характера, силы воли, находчивости, напора, хитрости было своеобразным тестом, экзаменом. Федя Румянцев, конечно, сам бы не прорвался, ибо родился не пилотом, а именно воздушным наблюдателем, навигатором. И только Добровольский раньше других понял это.
Ворошиловские завтраки
Учителями курсантов были опытные летчики — участники гражданской войны, а также инженеры и техники старой школы. Конкурс в техникум был большой, поскольку звание авиатора считалось почетным. Все знали, что летчикам покровительствует сам Сталин. Газеты много писали о «Добролете», превратившемся позднее в Аэрофлот, об ОСОАВИАХИМе. В отчете за 1931 год указывалось: «Собрано около 10 млн. руб., из которых 8 млн. руб. переданы на строительство военно-воздушных сил Военведа, а остальные — на постройку самолетов». Это была новая мощная волна энтузиазма и деятельного нетерпения. Много было самолетов именных: «Искра», «Пролетарий», «Красная звезда», «Наш ответ», «Правда», «Гудок», «Крокодил»…
Кампания по созданию воздушного флота была действительно добровольной и приняла характер эпидемии. Отчасти это был косвенный эффект ликбеза — массовой ликвидации безграмотности населения России. Грамотность резко раздвинула горизонты мира перед миллионами людей, знавших до этого только свою деревню, свой поселок. Радио, газеты, пропагандисты-учителя каждый день объясняли, как огромен мир и что революция, свет знания, сделали его доступным каждому. Культ «сталинских соколов», полеты агитационных дирижаблей и аэропланов наглядно показывали: «нам нет преград ни в море, ни на суше…» Полярные экспедиции, восхождения на горные вершины, штурм стратосферы, открытия науки, достижения техники, метрополитен — все подтверждало реальность успеха. Тысячи добровольцев бредили идеей покорения просторов, страстно желали упорядочить открывшиеся перед ними сказочные пространства. И, разумеется, наиболее ярким воплощением идеи покорения бескрайних просторов, неизведанных полярных горизонтов была авиация. Героями времени стали летчики.
Тушино 1931 года представляло собой неказистый, изрытый вдоль и поперек поселок, только что вылупившийся из пригородной деревеньки. Рядом — железнодорожная платформа среди болотистой местности. Но чувствовалось — перемены наступают серьезные. Рядами поднимались бараки, в которые тут же селились строительные рабочие. А чуть подальше обозначались и сами объекты: корпуса авиационного завода, здания техникума, дирижаблестроительного учебного комбината… На все это требовались огромные средства и время.
Газеты сообщали о закупках летательных аппаратов за границей. Это были аэропланы самых разных фирм, и самолетный парк в стране образовался чрезвычайно пестрый. Особенно много было немецких самолетов: «Фоккеров», «Юнкерсов», «Дорнье». Кроме них были итальянские «Ансальдо» английские истребители «Мартинсайд» с двигателями «Испано-Сюиза» в триста лошадиных сил, «Бристоль-Файтер», «Виккерс-Викинг», французские «Анрио» и «Фарман-Голиаф». Всего после гражданской войны было приобретено свыше 700 самолетов. При таком обилии систем квалификация наших механиков и конструкторов поневоле росла очень быстро; однако эксплуатировать столь разношерстный парк было исключительно трудно. Поэтому уже к 1927 году закупки готовых самолетов за рубежом были резко сокращены; исключение делали лишь для летающих лодок, да и то пока не появились свои удачные конструкции. Впрочем, «деревянный век» авиации еще не закончился, и летчиков учили азам не только слесарного, но и столярного дела. Основой были деревянные лонжероны, а также шпангоуты, поперечины, а обшивка делалась в основном фанерная, если не тканевая. В этом имелись свои преимущества. Например, для учебной рулежки с крыльев снимали часть тканевой обшивки, чтобы курсант случайно не взлетел — сажать-то самолет он еще не научился…
Добровольский был прав, курсантам приходилось трудно, потому что подготовка большинства оказалась очень слабой, многих пришлось даже отчислить. Однако те, кто остался, с какой-то отчаянной решимостью впитывали знания. Загрузка занятиями оказалась такая плотная, что нечего было и думать о возможности подзаработать где-нибудь на пропитание. Многие курсанты жили впроголодь. И страна, и люди жили надеждой на светлое завтра.
Федор Румянцев из своей стипендии в 37 рублей по пятерке-десятке в месяц отправлял матери. Постоянное чувство голода изнуряло его, и однажды он сделал удивительное открытие — снетки. Эта мелкая сушеная рыбешка стоила копейки, но если с утра пожевать снетков, то после такого завтрака потом только водичкой запивай, и — никакого аппетита, ощущение сытости обеспечено на весь день. Завтраки со снетками продолжались неделю или чуть больше, пока не грянула беда.
Поздним вечером курсант Румянцев возвращался из города с тяжелой связкой книг в руке. Шел мимо ресторана, откуда всегда доносились звон посуды, веселые голоса пирующих людей, но на этот раз и запахи из кухни не дразнили аппетит, — снетки действовали безотказно. Обойдя ресторан, Румянцев свернул в темный переулок, чтобы спрямить дорогу к вокзалу, и вдруг замер в ужасе: все окружающее стало меркнуть, растворяясь в мутной пелене. Федор понял, что слепнет: он мог различить лишь пятна электрических фонарей.
Курсант шел, как в густом тумане, по памяти, почти ощупью. Он едва владел собой, чтобы не разрыдаться на улице. Но не стал никого звать на помощь, самостоятельно добрался до общежития.
Ночью, когда товарищи уснули, он несколько раз тихонько вставал, выходил в коридор, смотрел на электрическую лампочку, зажигал спички. Зрение то прояснялось, то вновь угасало. Сомнении не оставалось: подступала слепота, и надежды стать летчиком рушились. Жизнь была кончена — протайте, звездные миры и земные пространства под крылом… Только под утро Федор забылся тяжелым сном. На занятия не пошел; во время обычной суматохи общего подъема лежал, закрывшись с головой одеялом. Только когда остался один в комнате, заставил себя подняться и, как на смертную казнь, потащился к врачу.
— Ге-ме-ра-ло-пия! — по складам произнес доктор, пристально глядя на сидевшего перед ним с видом полной обреченности тощего долговязого курсанта, и в тоне, каким произносился приговор, не было ни малейшего снисхождения.
Услышав загадочное и потому особенно страшное слово, Федор онемевшими губами произнес: «Что это?» С утра он видел лучше, но потрясение от внезапной вчерашней слепоты, которая обрушилась неумолимо, как рок, все ещё жило в нем.
— Гемералопия. — повторил доктор. — Куриная слепота у тебя, соколик.
Голос у врача грубый, и тон какой-то едкий, сатанински насмешливый:
— А еще на летчика учишься, цыпленок пареный. Вон — щеки бумажные, глаза кроличьи. Она, матушка, — классическая гемералопия. Ну-ка, говори, что ешь, что пьешь. Да не ври, не то худо будет — совсем зрение потеряешь.
Федору показалось странным, почему грозный доктор спрашивает про еду, тогда как беда случилась с тазами, но рассказал без утайки все, что было, — и про воду, и про фокус со снетками.
— Цыган совсем было, приучил свою лошадь овса не есть — проворчал доктор. — Одного дня не хватило — околела.
Он взял в руки перо и, обмакнув его в чернильницу, стая писать рецепт, потом диету: витамины, рыбий жир, бульон куриный… На слове «куриный» запнулся и бросил перо — где курсанту купить все это?! — а летать, небось, охота до смерти? Федор торопливо кивнул. В голосе врача ему почудился какой-то проблеск надежды.
Доктор скомкал обе бумажки, словно лепил снежок, и через весь кабинет метнул в угол, где стояла корзина. Попал и почему-то снова рассердился:
— Ну, скажи, долго вы меня еще мучить будете?!.. Ох, горе мне с вами. Ох, чует сердце, попаду я из-за вас, чертей, отсюда прямым ходом в Бутырки.
Он встал и на короткое время вышел из комнаты, потом вернулся, держа какую-то бумагу:
— Вот, бери. И делай, что велят. А главное, помалкивай. Если спросят — отвечай: ничего не знаю, ничего не понимаю, — вот, мол, бумага и в ней все прописано.
С этой бумагой Федора стали гонять из кабинета в кабинет, от врача к врачу, где его крутили, мяли, простукивали. И уж, как водится, кто ищет, тот всегда найдет — нащупали у него в подбрюшье небольшую грыжу. А коли обнаружили — назначили операцию, поставили на казенный кошт.
Операция пустяковая, но готовили к ней долго, не спеша. Вначале хирургу все было некогда, да и после выписывать не торопились. Впервые за последние годы Федор отъелся, окреп и повеселел: куриная слепота пропала бесследно. Грозный доктор только раз появился в дверях палаты, увидел улыбающегося во весь рот счастливого курсанта, даже подходить не стал — подмигнул заговорщицки и исчез.
А когда Федор вернулся в техникум, его ждала там радостная новость. Для курсантов ввези бесплатные, «ворошиловские», как их тогда называли, завтрак.
Вся эта скудость происходящей жизни казалась Румянцеву и его товарищам несущественной по сравнению с тем сказочно замечательным, что должно было открыться в ближайшем будущем. Газеты писали о коллективизации и ликбезе, о Днепрогэсе и Магнитке», о Турксибе и московском метро, о тысячах новых тракторов и самолетов. И все эти реальные чудеса должны были уже вскоре совершенно изменить жизнь. Миллионы людей жили этим «завтра». Курсанты учились по бригадному метолу, бегали в стрелковый кружок и в тир, сдавали зачеты на значки ГТО — «Готов к труду и обороне», «Ворошиловский стрелок». «Красный Крест», а по вечерам, также бригадами, не жался сил, с воодушевлением работали на строительстве нового здания техникума, повторяя стихи Маяковского: «Через четыре года здесь будет город-сад»…
Так или иначе, учеба Феди Румянцева продвигалась. Через год сильно поредевший отряд молодых летчиков-наблюдателей и аэрофотосъемщиков повезли на практику за Урал. И там, на аэродроме города Туринска, произошла поистине удивительная встреча. Когда курсант Румянцев познакомился со своими новыми наставниками, оказалось, что именно они, летчик Станислав Калан и штурман Яков Свиридович, тогда, в 1930 году «пахали небо» — производили аэрофотосъемку Калужского района. Это на их самолет смотрел с ветки старою дерева мальчишка-оборвыш А теперь в одной машине с опытными «небожителями» он поднимался расчерчивать небесный купол. Забот много: расчет курса, высоты, скорости полета и режима съемки. Стеклянный глаз аппарата под хруст шторок затвора бесстрастно запечатлевал поверхность земли, и воробьиные стаи подростков с восторгом наблюдали за их орлиным парением.
Но узнал Румянцев еще и другое. Оказалось, что летчик Калан пережил тяжелую драму. 24 августа 1929 года он вел К-4 пассажирским рейсом по маршруту Сочи — Тбилиси. Близ Сочи отказал двигатель, и самолет упал в море. Погибли пассажиры, в том числе рослый 48-летний усатый латыш с четырьмя боевыми орденами Красного Знамени на груди. Это был возвратившийся после лечения в сочинском санатории бывший политкаторжанин, ветеран Первой мировой, герой гражданской войны, помощник командующего Кавказской армией, член ЦК ВКП(б) Ян Фабрициус.
Вот что рассказывает писатель Николай Кондратьев, исследовавший историю жизни и обстоятельства гибели Фабрициуса. «Ян Фрицевич сидел у тяжелого чемодана с подарками для малышей и смотрел в окно. Самолет миновал Ривьерский мост, неожиданно закачался и стал резко снижаться. Кто-то из пассажиров громко вскрикнул. Испугалась и заплакала маленькая дочка инженера Андреева Инночка.
— Тихо, тихо! — воскликнул Фабрициус. — Мы опускаемся на воду у самого берега, — и стал торопливо развязывать ремни, которыми был пристегнут к сиденью. Понял — пилот Калан не может посадить самолет на пляж: на нем очень много отдыхающих…
Пропеллер врезался в воду. От сильного толчка груз свалился на пассажиров. Летчика и бортмеханика выбросило в море. Инженер Иванов потерял сознание. Фабрициус помог его жене отстегнуть ремни. К окну кабины подплыл Калан, крикнул:
— Товарищ Фабрициус, выходите! Скорее выходите!
Фабрициус попросил:
— Вначале помогите женщине с ребенком.
И успел протолкнуть их в окно кабины, а когда стал вылезать сам хлынула темная тяжелая вола, и перегруженный самолет пошел на дно.
Спасательной станции поблизости не было. Утонувший самолет вытащили на канате многочисленные отдыхающие, загоравшие на пляже. Помощь опоздала…»
Комиссия, расследовавшая катастрофу, признала, что вины летчика в аварии нет, он сделал все, что было возможно сделать в той ситуации. Тем не менее, Станислав Гаврилович Калан горько переживал случившееся.
Румянцев выслушал эту историю, не проронив ни слова. Мысленно он представлял себя, свои действия на месте летчика, желая в душе, чтобы судьба послала ему такое испытание, которое он смог бы выдержать с честью. Молодость не боится смерти.
Триста орлов, шестьдесят соколов
Если калужанин Федор Румянцев возмечтал о полетах с раннего отрочества, то жизнь его друга Михаила Кириллова круто повернула в заоблачные выси из-за случайной встречи. Судьба уверенно катила Мишу, сына кадрового железнодорожника, по колее точной механики. На радость родителям, мальчик с ранних лет увлекался моделированием паровозов, успешно учился в школе где заметно опережал сверстников, особенно по математике, потом легко поступил в машиностроительный техникум. Но случилась все та же беда, что и в семье Феди Румянцева: внезапно заболел отец, учебу пришлось бросить — надо было добывать пропитание.
Москва 1928 года была неласкова к тем, кто оказался не при деле, и к тому же не обладал проворством по торговой части. Нэп, безработица, дороговизна… Мир словно перевернулся. Старые заслуги отца на поприще транспортного дела шли не в счет, скорей даже ставились ему в упрек. Миша зачастил в Орликов переулок, на биржу труда и отстаивал там долгие очереди в надежде, что его руки кому-нибудь понадобятся. Но даже те, кто владел ремеслом, не всегда устраивались на работу. В конце концов, смышленого шестнадцатилетнего юношу взяли нормировщиком на завод. Вот тогда-то и произошла его встреча с неугомонным романтиком Иваном Рощиным.
Это был несколько странный человек, уже немолодой, бывший авиатор. Рощин был тяжело ранен на гражданской войне в воздушном поединке где-то в Крыму. Его самолет с пробитым мотором рухнул на землю. Сам он при падении чудом остался жив, но сильно покалечился. Рощин заметно хромал и, вероятно, тяжело переживал свое отлучение от неба. Однако говорун и спорщик был до того азартный, что окружающие воспринимали его не слишком всерьез. Женщины говорили, смеясь, что в минуты, когда Ваня Рощин распаляется в споре, он делается похожим на падшего ангела: сердито клохчет, копытом бьет, в глазах молнии сверкают и полы черного пиджака топорщатся, как крылья — сейчас взовьется… И все, кто знал его, — мужчины и женщины, независимо от возраста, и за глаза непрямом разговоре обращались к нему одинаково: «Ваня Рощин, скажи, пожалуйста…», будто это было его единое и неразделимое имя.
Иван Рощин форме обращения не придавал решительно никакого значения и сам себя тоже называл Ваней Рощиным, причем в третьем лице. Зато обо всем, что касалось авиации, судил чрезвычайно строго и безапелляционно. Зная эту его черту, с ним старались поменьше связываться. Но Ваня Рощин умел любой разговор очень ловко поворачивать к аэропланам, затем подлавливал собеседника на неточности и уж тут, не давая опомниться, начинал страстно спорить с ним, доводя невольного оппонента до полного изнеможения.
При первом же появлении Миши Кириллова в цехе бывший летчик немедленно подковылял к нему и начал расспрашивать, где новый нормировщик учился, чем раньше занимался. Узнав, что юноша кое-что смыслит в технике. Ваня Рощин рассмеялся от радости. И они вскоре подружились, эти два, казалось бы, совершенно несхожих человека: чудаковатый балагур, известный всем как несносный спорщик, и спокойный, рассудительный, немногословный юноша Все в цехе удивлялись тому, как терпеливо внимает молодой человек фантазиям Вани Рощина.
— Был бы я на новом аппарате, шиш бы он тогда срезал Ваню Рощина, — запальчиво доказывал бывший воздушный боец своему новому приятелю за миской каши в заводской столовке. И, не встретив возражения, вдруг загрустил. — С Антантой нам, конечно, тягаться было тяжело. Техника у них богатая; аэропланы все новенькие. И пилоты, между нами говоря, тоже все классные, опытные. Элита! Свой молодняк берегли, постепенно вводили в работу. Летали они грамотно и дерзко. С шиком даже. Поначалу, в восемнадцатом году, они так нас прижали на Волге, что мы только по ночам осмеливались взлетать. Представляешь — летали без приборов, при луне. Но и мы дрались от души, и наша взяла, потому что наше дело было правое. А их дело было битое. Как сказал Виктор Гюго, «нельзя быть героем, сражаясь против своего Отечества». Читал, Миша, «Девяносто третий год»?..
— Помню, — серьезно кивал Кириллов. — Еще в школе читал.
— Так вот, — продолжал Ваня Рошин, и в глазах его светилась тоска. — Офицеры были бравые. Еще до начала империалистической войны собиралась команда летунов идти к Северному полюсу на самолете Игоря Сикорского, на «Илье Муромце» — на самом мощном тогда в мире аэроплане. А что? Риск безумный, конечно, но шансы на успех были. У «Муромца» полезная нагрузка до двух тонн. Вместо полюса пошли на войну, сначала на одну, потом на другую… По шести пулеметов на «Муромец» ставили, чтобы пехоту косить, да еще бомбы… Крепость! Ну, с немцами повоевали и разошлись: они к себе, мы к себе. А тогда поднялись с железом брат на брата, сын на отца… И уходить некуда — только убить или самому умереть. Страшное дело, Миша. Потому-то изо всех войн самые жестокие — гражданские.
Особенно любил Ваня Рощин рассказывать про Крымские воздушные бои?
— В Крыму, Миша, у Врангеля летчиками командовал генерал Ткачев. У-у, матерый вояка, — что тебе тактик, что стратег. Принципы воздушного боя у него были просты по-суворовски; глазомер, быстрота и натиск. Обычно он атаковал внезапно, со стороны солнца, с большой высоты.
Летом двадцатого на освобождение Крыма от Врангеля двинулся кавалерийский корпус — восемь тысяч сабель, да еще с броневиками и бронепоездами. Командовал корпусом Дмитрий Жлоба — боец неслабый и командир опытный, и, кстати, тоже летную школу окончил. Так вот, Ткачев кавалеристов в пух и прах разнес и по степи разогнал в панике — не столько пулеметами, сколько рёвом моторов на бреющем. Неделю штурмовал, пока не раздолбал совершенно. А было у Ткачева всего полсотни самолетов. Для куража, для авторитета генерал иногда лично выходил на воздушный поединок. Дрался классно. Одно слово — орел!
— Почему же красные сумели их разбить?
— Эх, Миша, когда с гор лавина идет, как ты ее остановишь? — покачал головой Рощин и вдруг ухмыльнулся. — А разве тебе не об этом наш парткомыч на прошлом политзанятии лекцию читал? Ладно, не сердись… Так вот если отбросить бантики и разные красивые слова, то парткомыч прав в основном — слишком много в той жизни накопилось несправедливости, жадности и просто дурости. Такой дурости, что человеку с понятием вынести все это было никак невозможно. Ну, скажем, весна пришла. У крестьянина душа болит — пахать не на чем, а барин в это время или по парижам гуляет или арабского скакуна чистопородного выписывает за золото. Да ты сегодня помоги пахарю тяглом, завтра прибыли на целый табун получишь — а ему плевать. Гордый. И все в таком духе. А народишко чуток грамоты понабрался, вот оно и прорвалось, я понеслась лавина…
Они, Миша, и в армии так же себя вели. В военном деле толк знали, дрались умело и геройски, но с солдатами, с механиками, со всей прочей «черной костью» привыкли через губу разговаривать. Короче, каста: «Милостивые государи, благородные пилоты!» Гордость фраеров и сгубила…
Нет, Миша, дело не в дисциплине — без нее в армии нельзя; тут другое. Служба службой, но лакей не воин… А дворянин, как привык у себя в поместье конюха за полчеловека считать, так и здесь к механику: дай-подай, принеси, да еще презрением обольет… Ну а механик поглядит-поглядит на офицеров, вечерком агитаторов-шептунов послушает — про свободу, про равенство от рождения, да и церкви батюшка про братство во Христе пропоет, — потом брошюрки большевистские да эсеровские почитает — откуда взялись богатые и бедные, и начинает соображать: а чем вы, господа хорошие, лучше меня? В результате революции все стали равными. Так неужели же я, думает, вот этими собственными руками буду вам власть возвращать, чтобы вы меня потом что, «пшел на место»?! Короче, многие при первой возможности перебегали в Красную гвардию. Еще при Керенском, перед самым Октябрем семьдесят летунов-офицеров решили устроить на Смольный налет. Раздолбали бы в пух и прах весь штаб восстания, да механики не позволили. И бронеотряд они же, механцы, сахарком застопорили, не дали машинам ходу.
Еще рассказывая Рощин про бывших царских офицеров-летчиков, которых комиссары выпускали в полет, а их товарищей на это время сажали под замок как заложников.
— Не приведи господь, если собьют или авария — расстреляют людей ни за что. А самолеты были сплошь латаные-перелатаные. Бог мой, как вспомнишь, на чем вылетать приходилось!.. Это просто чудо из какого утильсырья механики красную авиацию сотворяли. Всю душу в эти железки вкладывали. А чем аппараты заправляли!.. Знаешь, что такое «казанская смесь»? Это эфир из аптеки, газолин, спирт или скипидар и чуть-чуть бензина. Вонь от этой смеси поднималась ужасная; бывало, при заправке от угара люди сознание теряли. Главное было — взлететь, от земли оторваться. Это такой момент…
Когда Ваня Рощин рассказывал о взлете, он весь преображался. Взгляд становился быстрым и острым, все тело пружинило, как у циркового акробата, а руки и ноги при этом совершали манипуляции невидимыми рычагами.
— Представляешь. Миша, аэроплан бежит по земле. Вначале неуклюжий, как гусак какой-нибудь. Трясет его, бьет по кочкам, расчалки на плоскостях дергаются, вот-вот лопнут. Мотор ревет, аж на визг свинячий переходит. Сейчас, думаешь, его от натуги разорвет к чертям — только гайки брызнут в разные стороны. А самолетик бежит все быстрей, вот уж хвост поднял, ровней — ровней: больше газу — меньше ям. И вот — легче, легче, и зависли колеса. Уже не бьет машину земля, а только ветер в лицо. Но тут, Миша, замри, не дыши — держи машину, чтобы горизонт был ровный. Дернешься — смерть. В этот момент аэроплан сам тебя поднимает, только не мешай ему… И — взлетает. А уж когда у тебя высота в запасе — тут опять ты король… Владей — машина в полном твоем подчинении. Пехотинцы в окопах, как увидят звезды на крыльях, шапками машут. Ты им крыльями покачаешь, они — «ур-ря!» — хоть сейчас в атаку. Такое, Миша, настроение сразу…
Рощин жгуче интересовался авиационными делами. Еще в 1923 году советское правительство выдало фирме «Юнкерс» концессию на организацию завода по производству самолетов. Вскоре под Москвой в Филях началась сборка аппаратов «Юнкерс-21» (Ju-21). Это были первые цельнометаллические с обшивкой из гофрированного листа самолеты свободнонесущей монопланной системы. В сентябре 1924 года летчик Чухновский на «Юнкерсе» совершил одиннадцать полетов на Новую Землю и привез первые данные для ледового аэродрома. Выяснилось, что требуемая толщина льда на пресноводных водоемах при температуре -10 °C и ниже для самолетов массой до 2,5 тонны — 25 см. до 10 тонн — 50 см, до 100 тонн — 150 см. Если же вода соленая, то толщина льда должна быть больше на 15–25 %.
Освоив особенности работы с легким металлом дюралюминием (дюралем), в 1927 году завод наладил серийное производство своих цельнометаллических самолетов Р-3 (АНТ-3), ТБ-1 (АНТ-4) и ТБ-3 (АНТ-6). Их автор Туполев освоил отечественный металл, так называемый кольчугалюминий, в расчете на днепропетровский и волховский алюминий. Более легкие машины строились из дерева, стальных труб и проволоки, а обшивались полотном и фанерой.
Советские конструкторы вводили в строй все новые отечественные самолеты и дирижабли. Их было много, и Ваня Рощин, старый воздушный боец, ликовал при каждой удаче, и даже услышав об очередной аварии — а их тогда было больше, чем рекордов, — печалился лишь об одном: о невозможности лично во всем этом участвовать. Уж он-то сумел бы правильно разобраться в ситуации и эвакуировать с парашютами весь экипаж сгоревшего в небе воздушного корабля…
Встречай в цехе Мишу Кириллова, он всякий раз, прихрамывая, увязывался за ним и, хватая за локоть, горячо нашептывал:
— Ты, такой здоровый, с бумажками ходишь?! Я бы на твоем месте… Летать! Тебе летать надо. Летать круглый год: триста орлов, шестьдесят соколов, дерево сухое — верх золотой!..
Иногда Кириллову казалось, что разбитый пилот просто бредит, заговаривается. Еще бы: грохнуться с такой высоты. И ведь убедил, завербовал!.. Достучался до сердца хромой летун, пламенный и бескорыстный энтузиаст авиации. Улучив минуту, подсунул объявление, где было сказано, что идет набор на курсы аэрофотосъемщиков. Кириллов туда и отправился.
Учеба велась довольно сумбурно. Требования предъявлялись строгие, подчас противоречивые, и отсев был большой. Вопреки ожиданиям, очень долго курсантов к самолетам и близко не подпускали. Зато вдоволь было занятий по математике, физике, геодезии, картографии, астронавигации. Что касается аэрофотосъемки, тут, чувствовалось, не все обстояло гладко. Дело новое; неудач, ошибок, всяческих накладок возникало столько, что старые геодезисты и топографы относились к аэрофотосъемке с недоверием. Фотоматериалы поставлялись низкого качества, и данные, полученные пешими изыскателями, были гораздо надежнее.
Штурман Михаил Кириллов — аэрофотосъемщик, участник создания первых детальных карт Арктики и Антарктиды.
Впрочем, о том, что авиация незаменима при рекогносцировке, разведке, корректировке артиллерийского огня, никто не спорил. Штурманов так обычно и называли: летчиками-наблюдателями, летнабами, навигаторами. А вот сомнения насчет картографической съемки могла рассеять только практика.
Наконец в один прекрасный весенний вечер курсантам объявили: «Завтра — летный день». Будущие летнабы заволновались: никто из них еще ни разу в жизни не поднимался в воздух на аэроплане. У преподавателей настроение было приподнятое: завтра птенцы начнут становиться на крыло. Режим дня объявили необычный: отбой ко сну — ранний, как у детей, подъем на рассвете, усиленный завтрак. У подъезда стояла грузовая машина со скамейками в кузове, ждала их, как настоящих летчиков. Курсантов привезли на Центральный аэродром, где выстроились в ряд специально для них приготовленные новенькие самолеты. Это были тогда еще малоизвестные У-2.
Курсанты не знали, что конструктор самолета Николай Николаевич Поликарпов работал в это время за решеткой. Осужденный к высшей мере наказания «за участие в контрреволюционной вредительской организации», он, после двух месяцев ожидания расстрела, был переведен в «Особое конструкторское бюро» (ЦКБ-39 ОПТУ), организованное при Бутырской тюрьме. Только в июле 1931 года, после показа Сталину истребителя И-5 (пилотировали летчики Чкалов и Анисимов), создатель чудо-машины Поликарпов был амнистирован.
У-2 — лучший самолет первичной подготовки пилотов
Учебный самолет У-2 — «летающая парта»; он же — разведчик, посыльный, санитарный; он же — проклятый солдатами вермахта легкий ночной бомбардировщик «рус-фанер». Этот уникальный в своем роде летательный аппарат был создан Поликарповым в 1927 году. По простоте изготовления и гармоничности его можно было бы признать достойным уровня Леонардо да Винчи. Аэродинамические качества машины оказались просто поразительные. В первом варианте мощность мотора составляла всего лишь 100 лошадиных сил. Самолет снисходительно «прощал» даже грубые ошибки первичного пилотирования.
Каркас — из сосновых реек, расчаленный проволокой и обтянутый волокном. Верхняя и нижняя консоли одинаковые — это проще в производстве. Большое оперение. Самолет не входил в штопор, а при принудительном вводе сам выходил из него после переведения ручки в нейтральное положение. При излишне большом угле атаки и потере скорости машина сама опускала нос и вновь набирала скорость. Скорость снижения с выключенным мотором была меньше, чем у парашютиста. Нехитрая приборная доска состояла из 4–5 приборов, причем тахометр (счетчик оборотов) был вынесен из кабины наружу на стойку центральной части верхнего крыла. У-2 был испытан Михаилом Громовым и эксплуатировался тридцать лет. Максимальная скорость — 150 км/час, посадочная — 70 км/час, длина разбега и пробега — 100 метров. Вес машины около тонны (кроме варианта с вооружением). В качестве «ночного бомбардировщика» У-2 мог поднимать до 300 кг бомб. Шумопламяглушитель давал возможность подкрадываться к линии окопов. У-2 служил также ночным артиллерийским корректировщиком и радиоагитатором. Всего было выпущено не менее 33 тысяч машин.
Во время одного из праздников на Тушинском аэродроме летчик высокого класса Алексеев показывал авиашарж: — Первый самостоятельный полет ученика на самолете У-2. Нарочито неуклюжие эволюции, прыжки и «козлы» выглядели настолько натурально и нелепо, что тысячи зрителей, в том числе Сталин и Ворошилов, хохотали до слез.
Однако судьба не баловала конструктора, хотя им, участвовавшим в свое время в создании «Ильи Муромца», было разработано еще много других машин разных типов (свыше восьмидесяти) в том числе разведчики Р-1 и Р-5 (последний был также причастен к изысканиям на трассе БАМа) истребители И-15, И-16, отлично показавшие себя в воздушных боях в Китае и Испании, и И-153 — гроза самураев в небе над Монголией.
Но уже появился в Германии сильный истребитель «Мессершмитт». А в работе Поликарпова началась полоса трагических неудач. В декабре 1938 года на весьма перспективной поликарповской машина И-180 разбился любимец Сталина Валерий Чкалов. На этом же И-180 разбился летчик Томас Сузи. Из третьей машины, внезапно вошедшей в штопор, едва удалось выпрыгнуть с парашютом Афанасию Прошакову. Тем не менее в 1940 году Поликарпову присвоили звание Героя Социалистического Труда, но в том же году разбились два его скоростных бомбардировщика. Погибли экипажи, в том числе Герой Советского Союза летчик-испытатель Петр Головин. Причины катастроф были разные, в том числе ненадежность двигателя на И-180. Имели место и ошибки пилотирования.
Умер конструктор от сердечного приступа в 1944-м. В его честь У-2 переименовали в По-2, улицу в столице назвали именем Поликарпова. Про страшное обвинение вроде забыли, но официально судимость сняли лишь в 1956-м. А По-2 выпускали вплоть до 1959 года. Более ста тысяч летчиков начинали свой путь в авиацию с этой «парты».
Учебный самолет У-2 (По-2)
Схема самолета У-2.
Но вернемся к первому полету будущих навигаторов. Как потом поняли курсанты» тот полет был самый простой, ознакомительный, подобный обычным катанием публики, жаждущей ярких впечатлений, что часто устраивались на аэродромах по выходным и авиационным праздникам в довоенные годы. Кстати, традиция эта пошла еще от Игоря Сикорского, который на своем «Илье Муромце» в 1914 году поднимал в воздух любопытствующих высокопоставленных пассажиров, в том числе пятерых депутатов Государственной Думы.
От курсантов ничего особенного не требовалось. Задание казалось странным: сидеть и наблюдать за всем, что происходит вокруг, привыкать к машине, вырабатывать в себе чувство высоты, пространства, скорости. Это казалось увлекательным аттракционом. И порой юноши с недоумением ловили на себе испытующие взгляды инструкторов. Удивляли настойчивые расспросы: что успели увидеть с высоты, какие повороты, эволюции совершал аэроплан, что почувствовали?..
К этому времени авиационным специалистам уже стало ясно, что далеко не каждый физически здоровый и смелый человек способен управлять летательным аппаратом или быть навигатором воздушного корабля. Профессия эта, прежде нигде не имевшая аналогов, требовала сосредоточенного внимания, согласованности всех движений, находчивости, хладнокровия, осмотрительности, самообладания и еще ряда каких-то особых, не имеющих названия, свойств, которые обозначали по-разному, в том числе и «птичьим чувством».
«В воздухе везде опора», — повторяли новичкам инструкторы вслед за бесстрашным летчиком Нестеровым, автором «мертвой петли». Но эта опора возникает как сопротивление движению. Чем стремительнее движение, тем тверже опора. Падает скорость, исчезает и опора. Полет — игра с невидимой опорой — состояние особое. Все в скорости — и беда, и спасение.
Особенно трудно оказалось совместить бесстрашие с отчетливым контролем над обстановкой — реальной, непрерывно и быстро меняющейся, чреватой опасностями. Далеко не всем курсантам удавалось развить в себе глубинный глазомер, умение распределять внимание. Пилотов тогда учили глазомеру на особом «тренажере». Человека привязывали к длинной жерди типа колодезного журавля с противовесом, поднимали над землей, и он должен был определять высоту. Инструктор проверял по рейке с разметкой. Применялись и другие, не менее остроумные приспособления.
От глазомера пилота при посадке зависела судьба экипажа и машины, от способности штурмана ориентироваться в пространстве — успех полета. Постепенно выявлялась принципиальная психологическая разница между пилотом и штурманом. У пилота взгляд прямой, направленный изнутри как бы прожекторным лучом, пронзающим стремительно летящую ему навстречу неизвестность: у штурмана — взгляд философский, критический — обзор всего пространства, в том числе и себя самого, заключенного в движущемся объекте. Отсев курсантов был большой, зачастую, по мнению Михаила, бестолковый и несправедливый.
Кириллов на курсах удержался, более того, окончил их успешно. Ив 1931 году ему доверили провести первую в его жизни самостоятельную аэрофотосъемку. В Казахстане, на Карагандинском угольном бассейне начиналась большая стройка, и срочно требовались карты. Там аэросъемщики работали на самолете Ю-21 фирмы «Юнкерс». На этих машинах летали — кто больше, кто меньше — почти все наши будущие асы, в том числе Валерий Чкалов…
«Юнкерс» Ю-21 — разведчик, аэросъемщик
Десятки самолетов, причем нескольких типов, фирмы «Юнкерс» применялись у нас в 1920-х годах преимущественно в гражданской авиации. Машины были монопланами из гофрированного дюраля (у нас такие сплавы называли тогда «кольчугалюминием» или «летной сталью»). На самолете «Юнкерс» Ю-20 летчик Борис Чухновский выполнял первые советские полеты в Арктике: в частности, в сентябре 1924 года совершил одиннадцать полетов на Новую Землю. Другой популярный «Юнкерс» — Ю-13 — мог везти четырех пассажиров (кроме двух летчиков). Эта модель и другие, еще более крупные, использовались на самых разных авиалиниях «Добролета». Именно на тихоходном Ю-13, вызволенный из тюрьмы и прощенный «всесоюзным старостой» Михаилом Калининым воздушный хулиган Валерий Чкалов катал пассажиров, одним из которых оказался мальчик Олег Антонов — будущий выдающийся авиаконструктор.
Ю-21 — Двухместный разведчик, парасоль (крыло приподнято над фюзеляжем). Как военный самолет он себя не оправдал, в РККА использовался главным образом в Туркестане в операциях против басмачей. Интересной особенностью машины было то, что бензобаки крепились по бортам фюзеляжа и могли сбрасываться. На аэросъемке Ю-21 применялся успешно.
Справился со своим заданием и Кириллов. С окончанием сезона его неожиданно откомандировали в Астрахань — срочно доучиваться и тренироваться на новой фотоаппаратуре.
1931 год ознаменовался пролетом с разрешения советских властей германского дирижабля LZ-127 «Граф Цеппелин», производившего аэрофотосъемку Новой Земли, полуострова Таймыр и архипелага Северная Земля в Карском море. Воздушную экспедицию возглавил немецкий ученый доктор Гуго Эккенер. Маршрут полета: Берлин — Ленинград — Архангельск — Баренцево море — Земля Франца-Иосифа — Северная земля — Таймыр — Новая Земля — Архангельск Ленинград — Берлин. В экспедиции участвовали лучшие специалисты аэрофотосъемки, оснащенные самой совершенной для того времени аппаратурой «Карл Цейс». Однако обещанных копий снимков СССР не получил — под предлогом засветки всех пленок. Чекисты в немецкую сказку, конечно, не поверили, и после этого случая все аэросъемочные материалы были объявлены строго секретными. И действительно, снимки с германского дирижабля-шпиона проявились в августе 1942 года — в виде карт, которыми были оснащены участники пиратской операции «Wunderland» («Страна чудес»).
Самолеты фирмы «Юнкерс», приобретенные в Германии в 1920-х годах.
О полете дирижабля LZ-127, о преимуществах и недостатках новых методов создания карт молодые навигаторы по вечерам спорили много и горячо. Дело в том, что в массовом порядке аэросъемку еще не применяли, хотя некоторый опыт оперативной картографии уже был. Аэросъемка применялась в конце двадцатых — начале тридцатых годов на строительстве Турксиба и других важнейших железнодорожных линий. Однако при расшифровке снимков горной местности с большими перепадами высот возникали сложности, которые ставили под сомнение эффективность плановых съемок.
Первоначальный энтузиазм, вызванный возможностью единым взглядом с высоты, одним нажатием кнопки фотоаппарата зафиксировать подлинную картину ландшафта, оказался преувеличенным. А заносчивые высказывания некоторых картографов о том, что теперь, когда есть летательные аппараты, наземные геодезические изыскания можно сократить, оказали медвежью услугу новорожденной аэрофотосъемке. Чудес на свете не бывает. Полученная с аэрофотоснимков картина содержала массу искажений и «темных» мест. После скандальных неувязок приходилось возвращать пеших геодезистов, чтобы расхлебывать невообразимую фотографическую кашу. И только значительно позже удалось найти верное сочетание методов, отработать четкую систему расшифровки, привязки к местности. Чуда не произошло, но прогресс был несомненный. И разумеется, первым пришлось труднее всех.
Как ни странно, история повторилась много лет спустя, в 1980-х годах, когда начала внедряться космическая фотосъемка. Вновь последовали заявления о всесилии и безупречности космического фотоматериала. Затем получился не менее громкий скандал. И как реакция — испуганное шараханье, вплоть до отрицания возможности использования космоса для инженерных изысканий. Истина, как всегда, отыскалась в «золотой середине». В конце концов, к 1998-м годам практически для всех проектируемых железных дорог стала использоваться информация, полученная с космических аппаратов, в том числе на трассе железной дороги Беркакит — Гоммот, автомобильной трассе Таксимо — Бодайбо, да и других проектируемых транспортных объектах сколько-нибудь значительной протяженности. Новые методы позволили быстрее и точнее исследовать инженерно-геологические условия, в том числе прогнозировать образование лавин и наледей. Но мы забежали на полвека вперед, а в 1931 году даже метод стереоскопической расшифровки плановой аэросъемки воспринимался как сомнительная новинка. Пока ясно было только одно: метод требовал двойного-тройного расхода фотоматериала — дорогого галоидного серебра.
Весной 1932 гола Кириллов сдал свой последний экзамен, как всегда, на «отлично», и тут среди молодых летнабов пролетел слушок о том, что организация под названием «Востизжелдор» подбирает навигаторов для работы в экспедиции где-то у черта на рогах — на Дальнем Востоке
Экспедиция приглашает навигаторов
До города Свободного (бывшего Алексеевска) летнаб Кириллов добирался поездом. По тем временам это было делом обычным и более надежным, чем самолетом. Да и самолеты на Дальний Восток также преимущественно везли по железной вороге в разобранном виде, в ящиках или на платформах, со сложенными крыльями, — моторесурс берегли, летали только по делу.
Кириллов вышел на станции и, поднявшись на виадук, остановился, наблюдая, как движутся эшелоны на запад и на восток по Великой Транссибирской магистрали. Здесь, в захолустном Свободном, ему предписывалось дождаться ледохода и открытия навигации, чтобы с первым же пароходом прибыть в поселок Норский Склад, расположенный у впадения в Зею, самого крупного притока реки Селемджи.
На виадуке стоять не положено: к приезжему тотчас пожилой милиционер. Проверил документы и подобрел: летчик!
— У нас тоже летают — охотно сообщил представитель местной власти — Я даже помню, как по железной дороге на Хабаровск везли самолет. Его общество «Добролет» в Германии закупило. А теперь и у нас часто летают. Два года назад — как раз в годовщину Кровавого воскресенья, 9 января — Михаил Водопьянов открыл прямую линию из Хабаровска на Северный Сахалин. Здоровенный мужчина, настоящий богатырь: я таких великанов только в цирке видел. Больше года Водопьянов возил народ через пролив. Сам он раньше шофером работал, и если в аэроплане что ломалось, садился, сам чинил и дальше летел.
Эту историю, изрядно обросшую легендами, Кириллов слышал еще по дороге от вагонных попутчиков — авиамехаников. Рассказывали, что 1 декабря 1929 года заместитель директора «Добролета» Андерс вызвал Водопьянова: «Есть задание. Вы командируетесь на Дальний Восток линейным летчиком. Задача — открыть пассажирскую линию на Сахалин…»
И уже 9 января 1930 года Михаил Водопьянов совершил первый рейс Хабаровск — остров Сахалин (Северный). В день вылета было морозно, масло разогревали на печке в ведрах, а запускали мотор двенадцать человек. Надо было прокрутить винт несколько раз и шприцем через клапаны залить бензин. Для удобства на концы огромного винта нацепили старые валенки с оттяжками-амортизаторами.
— Контакт! — кричат, ухватившись руками кто за растяжки, кто за конец лопасти винта.
— Есть контакт. От винта! — отвечает летчик из кабины самолета, включая контакт и крутя магнето.
Толпа помощников шарахается в стороны. Винт проворачивается на полоборота. Опять «контакт» и «есть контакт», наконец мотор фыркнет, чихнет белым дымом и после прогрева на малых оборотах на патрубках затанцуют синеватые язычки пламени.
Четыре пассажира в кабине. Первая посадка в Верхнетамбовске. Тамошний народ вышел к самолету Водопьянова с флагами, как на демонстрацию. Пока летчик отогревал ноги — унты оказались тесноваты, бортмеханик не глушил мотор, только доливал бензин. Над селом Пермское пролетели без посадки. Радио на самолете, естественно, не было… До полетов Водопьянова летом на Сахалин можно было добираться неделю — десять дней. Воздушное же путешествие занимало шесть часов.
— А раньше на Сахалин попадали только пароходом? — спросил Кириллов милиционера. — Зимой что, связи с материком не было?
— Нет, почему же, связь была, — отвечал старожил. — Если кому уж очень надо было, ехали. Зимой на поездку на Сахалин тратилось тридцать суток. На дорожные расходы выдавались две тысячи рублей: одна тысяча — на покупку меховой одежды, вторая — на продовольствие, наем лошадей и собак… За месяц на собачьих упряжках на Сахалин добирались. Да и то если вожак надежный, команды понимает. Ходил и я по Амуру зимой на собачках. Лихое дело: «Табор — чагёй!» («вправо — влево»). Только, если с нарт свалишься, убегут собаки, не остановятся… А теперь день-два — и ты на месте. Билет стоит 350 рублей. Разница!.. Раньше-то и летом на остров было попасть непросто: такие штормы случаются в Татарском проливе — пароходы на берег выбрасывает.
Еще рассказал бывалый милиционер, что вместо Водопьянова перевоз на Сахалин держит теперь другой молодой летчик — Илья Мазурук.
— Он сюда из Средней Азии направлен. Там, говорят, басмачей здорово гонял по пустыне. Да тут молодые все летчики — Капридов, Ленкас — тридцати нет. Уже и на Камчатку, на Чукотку забрались. Я почему знаю, — продолжал словоохотливый милиционер, — у меня племянник уехал в Хабаровскую школу пилотов поступать. Он сам из Благовещенска, и как к нам, бывало, парнишка заедет, так только про самолеты и разговоры. Упорный. Уж не знаю, примут его — не примут. Не возьмут — вернется: теперь и в Благовещенске аэроклуб открывают. И в Уссурийске, и во Владивостоке — по всем городам агитация: идите, хлопцы, летайте…
Летчик с милиционером уже долго стояли в неположенном месте, пока страж порядка не спохватился, что человек с дороги, а ему еще надо устраиваться. Кириллов поднял свой чемоданчик и отправился искать гостиницу, размышляя по дороге о том, что, видимо, не такой уж необъятный Дальний Восток, если первый встречный знает тут чуть ли не всех авиаторов поименно.
Он не прошел и двухсот метров по деревянному тротуару, как услышал позади себя гулкие торопливые шаги. Это милиционер отпросился с поста, чтобы проводить Кириллова до гостиницы. Гостиница располагалась в двухэтажном доме, сложенном из добротных, хотя и потемневших от дождей бревен. Только убедившись, что летчик устроен, как положено, милиционер попрощался, высказав надежду еще встретиться.
Кириллов, наслышавшийся в поезде от попутчиков о суровости и угрюмой недоверчивости местных жителей, не уставал удивляться проявляемой к нему заботе. Уже на второй день чуть ли не каждый встречный приветливо ему улыбался. Поначалу Кириллов воспринял это как любопытство глухой провинции к жителю столицы. Но вскоре понял, что интерес к нему и доверие имели прямую практическую основу, — его приняли за своего, потому что он был участником общего дела, имевшего исключительное значение для жизни русского Приамурья. Человек приехал карту делать. И на него надеялись, потому что точные карты здесь нужны были всем.
Линейный летчик Илья Мазурук, о котором Кириллов услышал от первого встречного в городе Свободном, тут был личностью полулегендарной. Рассказывали, что он застал на хабаровском аэродроме три поношенных «Юнкерса» и уже назавтра на одном из них вылетел в пробный рейс, а затем без промедления включился в работу. Трасса Мазуруку досталась тяжелейшая: от Хабаровска вдоль Амура, через Сихотэ-Алиньский хребет, через Татарский пролив на Северный Сахалин. Впрочем, ему приходилось то и дело отклоняться по разным срочным и неотложным поручениям. При очередном наводнении Мазурук на гидросамолете совершал посадки чуть ли не на деревенские улицы и спас многих. В одном из поселков, на реке Хор, благодарные жители в честь отважного летчика при жизни воздвигли ему памятник-монумент. Доводилось Мазуруку забираться и в глубь бамовской территории. Однажды он доставил продовольствие группе изыскателей, буквально погибавших от голода в районе прииска Незаметного (ныне город Алдан). Неудивительно, что Мазурук пользовался огромной популярностью.
Между тем на Зее заканчивался ледоход. Река очищалась. К этому времени подоспели московские газеты с описанием Первомайского праздника. В тот год впервые над Красной площадью прошла армада самолетов отечественного производства — до 300 истребителей, штурмовиков и тяжелых бомбардировщиков. Такого воздушного парада Москва еще не видела.
От речного затона доносился запах свежей краски. Экипажи наводили марафет на свои суденышки, готовили причалы, дебаркадеры. Навигация на Зее короткая, особенно в северных районах, но на участке от Свободного до устья Селемджи судоходство продолжалось в среднем не менее 150–160 дней в году. Весь состав пароходства с нетерпением считал дни до «чистой воды», чтобы грузы, скопившиеся в железнодорожных пакгаузах, успеть развезти по самым отдаленным золотым приискам. Пути их ожидали нелегкие. Опасность представляли и наводнения, и труднопроходимые перекаты.
По берегам Зеи повсюду были заметны огромные вымоины, не успевшие зарасти кустарником, завалы из сухой древесины и остатков разрушенных строений — следы катастрофического наводнения, происшедшего в 1928 году. Тот паводок продолжался около двух месяцев. Урон нанесен был огромный. Были затоплены сто тридцать семь населенных пунктов, в том числе города Свободный, Благовещенск, Зея. Одиннадцать населенных пунктов, находившиеся в поймах, были попросту стерты с лица земли. Погиб не только урожай, тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий были размыты и требовали проведения рекультивации. Была прервана связь, разрушены мосты и даже отдельные участки Транссибирской магистрали.
Некоторые вещи, о которых спокойно рассказывали местные жители, Кириллову трудно было даже представить себе. Например, как пароход «Юный пионер», действовавший в районе Свободного, заходил в село Новгородка, где на колокольне старой церкви трое суток спасались шестьдесят восемь человек. Пароход шел к ним прямо по затопленным улицам, ориентируясь по крышам каменных домов — деревянные были все уже подмыты и унесены в Амур. На некоторое время было прервано и движение по Транссибу, хотя железнодорожники защищали магистраль героически. Полотно дороги обрушивалось буквально под колесами ремонтных поездов.
Опустошение, нанесенное рекой в 1928 году, истощило терпение, и все настойчивей пошли разговоры о строительстве системы защитных плотин, в том числе в ущелье с названием Зейские Ворота. Стало совершенно очевидно, что нет никакого смысла развивать хозяйство «на птичьих правах», когда в любой год муссонные дожди могут вновь поднять волну наводнения и разрушить все до основания. Нужна плотина, которая срезала бы наиболее опасный гребень паводка. О гидроэлектрической станции речь тогда не шла: во-первых, это слишком дорогое удовольствие, а главное — не было поблизости достаточно крупных потребителей электроэнергии. Мечтали о малом — как-нибудь защититься от бешеной воды.
Разговоры разговорами, а для того, чтобы строить реальные планы, требовались точные данные, и прежде всего карты — топографические, геологические, гидрографические, гидрогеологические, геоморфологические… Но сколько-нибудь подробные научные исследования здесь не проводились, и кроме дореволюционных, весьма приблизительных, карт и словесных описаний, ничего не было.
Весной 1932 года население Приамурья взбодрилось. Сюда, в бассейн Амура и особенно буйных его притоков, Зеи и Бурей, стали съезжаться специалисты из Москвы и Ленинграда для разрешения крайне болезненной проблемы защиты от наводнений. Вначале исследовали верховья Зеи, затем приступили к Селемдже, к Бурее. На основании полевых рекогносцировочных исследований «Ленгидроэнергопроект» составил гипотезу регулирования и использования стоков. Наибольшее внимание уделялось реке Зее, поскольку от нее происходили основные неприятности. Было установлено, что в наводнении 1928 года опустошительный вал, прокатившийся по долине Среднего Амура, почти на три четверти состоял из зейской воды. Значит, с укрощения Зеи-разбойницы и следовало начинать.
Чем больше Кириллов узнавал о жизни Приамурья, тем нетерпеливее становился. Он чувствовал, что попал в совсем другую страну, с другим укладом, другими людьми. Они даже внешне отличались от привычных ему. Обычно после зимы жители центральной России, особенно горожане, выглядят бледновато. Здесь же весна только началась, а лица у всех — и у крестьян, и у конторских служащих — были обветренные, с бронзоватым отливом, характерным больше для зоны субтропиков. И однажды Кириллов не удержался, спросил об этом.
Переправа геодезического отряда на плоту через реку Зею на изысканиях трассы БАМа.
Наводнение на реке Зее у Зейских ворот.
— А мы тут все копченые, смоленые, — смеясь, объяснила ему официантка столовой Михайло-Чесноковской пристани. — У нас в Приамурье солнце и зимой светит ярче, чем в Крыму. А летом даже соя вызревает. Райская земля. Эх, кабы не наводнения, да не соседи беспокойные…
Наконец речное пароходное начальство объявило: навигация открывается! Старый, постройки XIX века, но свежевыкрашенный пароход с машиной в 120 лошадиных сил, дымя трубой, отдуваясь паром, бодро отчалил от пристани и, преодолевая течение, медленно, но упорно пополз вверх по Зее. По случаю отличной погоды почти все пассажиры высыпали на верхнюю палубу. Кириллову показали береговой откос, с которого японцы расстреляли из орудий караван судов с беженцами. Это произошло вблизи железнодорожного моста. Под мерное шлепанье плиц и журчанье воды летчик слушал удивительные рассказы о боях приамурских партизан с интервентами, белогвардейцами и хунхузами — маньчжурскими разбойниками.
В конце января 1918 года белоказаки Семенова, Унгерна и Хорвата захватили КВЖД — Китайско-Восточную железную дорогу. В Приморье коалиционное «правительство автономной Сибири», возглавляемое Дербером, обратилось к США с предложением заключить договор, по которому Америка должна была признать Восточную Сибирь автономной территорией. Сибирская железная дорога от Владивостока до Иркутска и КВЖД передавались на время военных действий под контроль США. Интервенты высадились во Владивостоке, японские суда вошли также в устье Амура к Николаевску-на-Амуре.
Особое нетерпение проявляли японцы. Поначалу они вместе с частями белого движения легко прошли сквозь охваченную смутой и распрями территорию, без особых усилий преодолевая сопротивление местных властей и отрядов самообороны. Во многих городах и селах их встречали колокольным звоном и хлебом-солью. Советы были разогнаны. Интервенты устраивались основательно, с комфортом — везли с собой персональные ванны-грелки, публичные заведения с японками.
Но уже вскоре стало ясно, что новая власть пришлась не ко двору. Попытки интервентов навязать свои порядки вызывали глухое недовольство местного населения. Народ здесь всегда был закаленный, самостоятельный и упрямый. К тому же охотничье оружие имелось в каждом доме, а нарезное — берданы и трехлинейки — обычно припрятывали в таежных тайниках. И когда оккупанты попробовали силой переломить ситуацию, запугать население жестокостями — пытками и мучительными казнями, — это вызвало такое противодействие, что, подобно наполеоновской армии, занявшей Москву, воинские части интервентов оказались в ловушке.
В конце 1918 года на перегоне у разъезда Исполинный путейцы спустили под откос и расшибли вдребезги эшелон интервентов. Связисты вывели из строя телеграф на линии Чита — Благовещенск — Хабаровск, полностью прекратилось движение на участке Ксеньевская — Амазар. Железнодорожники узла Зилово четыре месяца держали оборону. Расправу над ними учинили жестокую — более шестидесяти человек были казнены. По Транссибу курсировали бронепоезда и поезда-застенки. Семеновцы, сберегая патроны, рубили пленных шашками, топили в прорубях, закапывали живьем в землю, бросали на съедение волкам. Но эти жестокости порождали у населения не страх и смирение, а напротив, все более яростное озлобление.
Рассеянные по горной тайге и другим труднодоступным местам партизаны, поддерживаемые местными жителями, постепенно оказались полными хозяевами положения. По всему Приамурью и Забайкалью разгоралась «неправильная» война. Особенно трудно приходилось гарнизонам интервентов зимой. Как говорилось в популярной песне 1930-х годов, «партизанские отряды занимали города». Напев геройский, и слова правдивые. Хотя на деле все это часто выглядело гораздо прозаичней.
Зимой в Приамурье всецело господствует могучий Азиатский (Сибирский) антициклон. Небо ясное, как льдина голубая. День короткий, низкое солнце слепит прожектором, но не греет. Воздух весь прокален морозом. Дышать лучше через холстину, иначе можно легкие обжечь. По ночам звезды кажутся громадными. Тишина мертвая, только волки воют. И лишь откуда-то, за много километров, доносится скрип шагов по снегу или визг полозьев. Это уж если какому-то бедолаге по крайней надобности приспичило в дорогу. В такие ночи народ предпочитает сидеть по домам, коротать вечера за починкой упряжи, рыболовецких снастей, и над трубами белыми столбами прямо в глубины космоса вытягиваются дымки.
Для японских воинов, выросших в мягком климате, — испытание суровое. Носа на улицу не хочется высунуть. Вдруг среди ночи начинается оружейная пальба. Слышатся пулеметные очереди, крики, взрывы и отдельные пушечные выстрелы. Со стороны тайги шумно атакуют партизаны. Японцы — солдаты дисциплинированные, хорошо обученные, воспитанные в героическом духе бусидо, экипированные в меховые комбинезоны, — немедленно занимают заранее подготовленные огневые позиции, чтобы дать отпор.
Однако выманив оккупантов из тепла, партизаны в темноте отползают в лес, там усаживаются в дожидающиеся их сани и под шумок незаметно возвращаются на свои таежные базы. Увозят на полозьях и самодельную пушку, из которой можно выплюнуть снаряд в сторону противника шагов на пятьсот, наделать грохоту, но попасть в цель практически невозможно. На позиции оставляют на какое-то время прикрытие, изображающее подготовку к штурму городка с помощью «пулеметов»-трещоток и для пущей достоверности постреливающее из берданок по брустверам.
Главной целью таких налетов было вытянуть японцев из тепла и продержать в окопах до рассвета. Утром самураи по всем правилам предпринимают контрнаступление — с фланговым охватом, с четко организованным огневым прикрытием и… застают пустые лежбища да какие-нибудь оскорбительные послания. Впрочем, поднимались в атаку далеко не все. Несмотря на калорийное питание и продуманную меховую экипировку, за каждую ночь, проведенную в окопе при сорока-пятидесятиградусном морозе, японские гарнизоны теряли обмороженными не менее десятка солдат. «Комиссара-партизана! Барсука (большевик) краснозопа!..» — бранились японские офицеры.
Лакомой добычей партизан были обозы с провиантом и фуражом. Поэтому вся война для оккупантов теперь заключалась в охране собственных гарнизонов и сопровождении обозов. Потери, в основном бескровные — больными и обмороженными, — росли, а перспектива вырисовывалась все более безнадежная. Армия разлагалась. Пошло повальное пьянство, грабежи. В Чите на базаре при расчетах рубили шашками золотые слитки. Некоторые колчаковские гарнизоны стали переходить на сторону «советчиков». О каждой карательной операции партизанам становилось известно еще на стадии штабной разработки. Дошло до того, что в городе Зее, например, интервентам для выживания пришлось создать временный исполком, в который помимо командира японского батальона майора Нооно входили официальные представители городского подполья, партизанского «таежного исполкома» и профсоюза горнорабочих. Там спорили до хрипоты — на каких условиях партизаны пропустят или не пропустят очередной японский обоз.
Только вдоль Транссиба интервенты удерживали относительный контроль над территорией. Там крейсировали бронепоезда, в том числе американские, и на каждую диверсию отвечали или яростной вылазкой с преследованием или жестоким артиллерийским расстрелом близлежащего поселка. Чтобы не подставлять под удары карателей местное население, в конце августа 1919 года партизаны договорились и провели одновременную операцию, которая вошла в историю под саркастическим названием «Капитальный ремонт Амурской железной дороги».
Казалось бы давно разбитые и рассеянные по тайге партизаны разом вышли на линию и разрушили рельсовый путь на сотнях километров Транссиба, уничтожили десятки мостов и других инженерных сооружений, парализовав действия интервентов. А в апреле 1920 года были взорваны два пролета тщательно охраняемого железнодорожного моста через Амур. Бесплодно и бесславно промучившись здесь несколько лет, оккупанты окончательно убрались восвояси, преследуемые по пятам нарастающей лавиной наступления.
19 октября 1922 года советские войска заняли железнодорожную станцию Океанскую на окраинах Владивостока. Начались переговоры. Японцы за это время взорвали часть фортов и других укреплений Владивостокской морской крепости, разграбили склады и пакгаузы, захватили суда Добровольческого флота. Наконец 24 октября японцы подписали соглашение о выводе своих войск из Владивостока. На следующий день японская эскадра подняла якоря и ушла из бухты Золотой Рог.
А по всему Транссибу с песней «По долинам и по взгорьям» вчерашние партизаны принялись восстанавливать то, что недавно своими же руками разрушали. Амурский мост был восстановлен весной 1925 года.
Впрочем, граница постоянно напоминала о себе. Только летом 1929 года на берегах Амура и притоков — Аргуни и Уссури — было зарегистрировано сто шестнадцать обстрелов, сорок два нападения китайских войск, сорок шесть налетов белых банд и разорено восемнадцать селений. Потом разгорелся конфликт на КВЖД. 12 октября 1929 года наши военные нанесли жесткий отрезвляющий удар по чанкайшистским войскам. На границе стало чуть спокойней.
Но затишье продолжалось недолго. 19 сентября 1931 года разразился «Маньчжурский инцидент». Обвинив китайцев в диверсии — разрушении железнодорожного полотна Южно-Маньчжурской железной дороги, арендованной у Китая, — японские войска начали захват китайских городов и разоружение китайских гарнизонов. Было ясно, что создание марионеточного государства Маньчжоу-Го — только начало агрессии.
Летом 1931 года на Дальний Восток приехал обеспокоенный нарком по военным и морским делам Климентий Ворошилов. Он побывал в Благовещенске, Хабаровске. Решался вопрос о выборе места для строительства Комсомольска, портов Ванино и Находка. В конце июля на сторожевом корабле «Боровский» Ворошилов из порта Ванино проследовал во Владивосток. Самые неблагоприятные предположения оправдывались. К началу 1932 года японская Квантунская армия оккупировала всю Маньчжурию. Эти новые соседи вели себя гораздо агрессивней старых.
Но на лицах жителей Приамурья Кириллов не замечал тревоги. Рассуждали они спокойно как о прошлых боях, так и о возможных будущих. С откровенным удовольствием вспоминали более давние, дореволюционные истории. Здесь, на Зее-реке, не выветрился терпкий дух «золотой лихорадки». Смакуя подробности, попутчики рассказывали летчику Кириллову о буйных загулах фартовых старателей, выездных борделях, схватках с хунхузами — китайскими бандитами, грабившими спиртоносов и золотоискателей. Золото текло из тайги рекой — пудами и тоннами. В старательские артели народ подбирался лихой; нравы господствовали жестокие, под стать суровой природе. Порой доходили слухи о гибели от голода заблудившихся групп и случаях людоедства. Зато удачливые золотоискатели откупали в городе Зее рестораны и угощали бесплатно всех бродяг или нанимали пароходы для увеселительных поездок — с шампанским и фейерверками.
За разговорами плавание проходило незаметно. Фарватер Зеи — главной транспортной артерии золотоносного района — был хорошо оборудован навигационными створными знаками, бакены по вечерам исправно зажигались. Но шкипер, казалось, мало обращал на них внимания — вода держалась на высоком уровне, — и он смело обрезал путь на излучинах. На удивление точно по расписанию пароход достиг устья Селемджи, где находился бывший поселок приисковиков — Норский Склад, а теперь расположилась база проектировщиков новой железной дороги.
На призывные гудки парохода все население поселка от мала до велика высыпало из домов. Мальчишки с восторгом наблюдали, как, пыхтя, разворачивалось судно, как матросы вставали на места у кнехтов, готовясь к швартовке, как открылась дверь, украшенная старинной бронзовой табличкой «Командиръ», и на мостик в белом кителе и фуражке с белым верхом, с рупором в руке вышел капитан, чтобы лично руководить процедурой причаливания. Открытие навигации в Приамурье — большой праздник.
Партия ВОЛКа в сопровождении трех «гитар»
Летнаба Кириллова на базе ждали, хотя летать пока было не на чем. Близ Норского Склада формировалась одна из главных опорных баз изыскателей Байкало-Амурской магистрали. Ранней весной сюда еще по ледяной дороге съехались инженеры, техники, радисты, рабочие. Особое подразделение создавалось для аэрофотосъемки.
Экспедиция Востизжелдора должна была организовать летом 1932 года, как только сойдет снежный покров, воздушную разведку трассы БАМа на участке Зея — Бурея. Однако стало известно, что в апреле было принято новое, несколько иное постановление ЦК ВКП(б) и СНК о строительстве железной дороги от станции Уруша до села Пермского (будущего города Комсомольска-на-Амуре), для чего требовалось срочно провести проектно-изыскательские работы и выдать строителям продольный профиль трассы. Строительство планировали завершить за пять лет. Предстояло провести аэросъемку подступов к городу Комсомольску и предгорий Сихотэ-Алиня на арендованных у Севморпути гидросамолетах «Савойя» С-62 бис. Для рекогносцировки применялись военные разведчики Р-5 и амфибии Ш-2. Экспедиционный народ был в недоумении: означает ли это, что надо бросать Зею — Бурею и срочно перебазироваться на Нижний Амур?
Гадать пришлось недолго. Из Владивостока поступила радиограмма: «До особого распоряжения форсируйте участок трассы Зея — Бурея; к вам в Норский идут гидросамолеты с полными экипажами; их ведут летчики Федор Кузнецов и Сергей Макаров».
Действительно, вскоре прилетели и, покружившись, сели на плесе две белоснежные, как чайки, летающие лодки «Савойя» С-62 бис. Машины были недавно закуплены в Италии. Руководил первыми аэросъемочными работами Василий Константинович Лебедев — опытнейший навигатор, бывший офицер и дворянин. Он же принимал самолеты «Савойя» на станции Океанская (бывшая станция Хилково) близ Владивостока. Лебедев был и флаг-штурманом при перегонке лодок.
Летающая падка. «Савойя» С-62 бис — ближний морской разведчик по прозвищу «гитара»
«Савойя» — машина интересная. Она отличалась удивительно мелодичным «голосом». Летчики так ее и звали — «гитара». Двигатель «Ассо» фирмы «Изотта-Фраскини» как бы пел в воздухе с каким-то особым звоном. По своему назначению трехместная летающая лодка-биплан была морским разведчиком ближнего действия. Впрочем, дальность полета «Савойи» составляла 920 километров — немало по тем временам.
Особенно хороша была сама лодка машины. Обшитая фанерой и обклеенная полотном, свежеокрашенная, она выглядела легкой, праздничной; однако и прочностью обладала изрядной. Итальянцы — опытные мореходы — лодку понизу обивали досками толщиной в четыре миллиметра, причем по бортам пускали доски сосновые, по днищу тополевые — мягкие и легкие, и еще тиковые — особо стойкие против гниения. Между слоями прокладывалось просмоленное полотно, и все скреплялось аккуратными медными заклепочками.
На Черном море был случай, когда «Савойя» С-16, потерпев аварию в воздухе, села на воду и выдержала девять суток дрейфа, в том числе три штормовых дня. Все экипажи знали про тот случай и в полете чувствовали себя уверенно — лишь бы внизу блестела какая-нибудь водица. Днище «Савойи» С-62 бис оказалось еще крепче. Случалось, лодка задевала с разгона речную отмель, и только, бывало, камешки зашуршат, — проскакивала невредимой…
Двигатель на С-62 бис — «Ассо», 750 лошадиных сил. Винт — толкающий четырехлопастной. Но что более всего изумляло тогдашних механиков — пломба на моторе и предупреждающая надпись: «200 часов гарантии. Не открывать!».
И еще несколько любопытных характеристик. Масса пустого самолета — 2640 килограммов, полетная — 4100; максимальная скорость 225 километров в час, крейсерская — 180, посадочная — 90. «Потолок», правда, невысокий — 4600 метров, продолжительность полета — четыре часа. Были у лодки и серьезные недостатки. Так, при взлете и посадке она «барсила», т. е. выпрыгивала из воды, билась днищем, особенно при большой волне. В целом гидросамолет считался передовым; у нас в Таганроге были построены десятки подобных машин — по числу закупленных в Италии двигателей «Ассо».
Кириллову гидросамолеты «Савойя» нравились: он был знаком с ними еще по модели С-16 бис.
На этих «гитарах» почти все лето Кириллов в паре с Лебедевым занимались контурной аэросъемкой и авиарекогносцировкой верховьев реки Селемджи. Торопились помочь изыскателям участка восточнее Тынды, а также линии Известковая — Ургал, ведущей к угольным месторождениям.
Ближе к осени большая часть партии на «гитарах» перелетела на Амур, в район села Пермского. Там назревали важные события — готовился мощный штурм, формировалось строительство линии Волочаевка — Комсомольск, сокращенно — ВОЛК. В районе Пермского должна была работать третья «Савойя» С-62 бис. Но ее экипажу не повезло: неудачно сели на крутую амурскую волну и поломали лодку — едва сами живы остались. Надо было помогать товарищам.
Пока осваивалась аэросъемка на белых «гитарах», основную тяжесть работ несли наземные, пешие изыскатели. Надо было открывать строителям фронт работ. И совершенно незаметно проскользнул в громкой истории БАМа будничный, но поистине эпохальный эпизод. Вот как рассказывал об этом В. В. Слободский — техник головной партии:
«Наша группа во главе с начальником партии тов. Г. М. Зборовским отправилась в рекогносцировочный поход для выбора места примыкания БАМа к Транссибу. Обследовали участки Улягир — Ольдой — Тахтамыгда и на восток от нее два перегона. В районе этих пунктов и на перегонах между ними условия примыкания БАМа оказались неприемлемыми.
17 июня 1932 года выбрали место примыкания у разъезда Тахтамыгда. 18 июня с утра отошли от входной стрелки разъезда на запад 250 метров и поставили нулевой пикет. Долго красным карандашом (краски у нас не было) выводил я на шейке рельса вертикальную черту и знак пикета «№ 0». После этого пошли пикетажем и нивелировкой по главному ходу на восток, мимо пассажирского здания разъезда. В 1300 метрах от оси пассажирского здания сделали поворот на 36 градусов».
От этого пункта, получившего название «станция Бам», в январе 1933 года строители начали сооружать железнодорожную линию к разъезду № 1 и далее двинулись к Тынде. Работы начались при крайне слабой изученности трассы. Изыскатели катастрофически опаздывали — слишком мало было сил для такого размаха.
Десять ленинградских партий работали летом 1932 года на изысканиях восточного участка. Они должны были обследовать зону от слияния Левой и Правой Бурей, найти выход трассы к перевалу, выбрать место пересечения хребта Дуссе-Алинь и сделать ход по долине реки Амгунь в сторону Комсомольска.
Топографическая карта верховьев Бурей, как, впрочем, и большинства других районов БАМа, представляла собой сплошное белое пятно с редкими условными ориентирами на карте-«миллионнике» (в 1 сантиметре карты концентрировался 1 000 000 сантиметров, или 10 километров, реального пространства — карты такого масштаба называются обзорно-топографическими).
«Миллионники» для проектирования трассы совершенно непригодны. С таким путеводителем рискованно было даже выходить в отдаленный маршрут по бездорожью на оленях или лошадях. Более того, на многих листах «миллионника» во избежание трагических недоразумений откровенно указывалось: «Составлено по опросу местных жителей». А сколько тут их, жителей? Тысячу верст можно пройти по этим бесконечным пространствам, не встретив ни души… Карты сулили очень дальнюю дорогу. Заблудиться было просто, поскольку с достаточной степенью достоверности на карте были обозначены лишь места впадения в Бурею ее притоков да отдельные точки-высотки. Опорная геодезическая сеть еще только создавалась. А без привязки к местности аэроснимок терял свою ценность. Особенно тяжело приходилось в конце сезона, при вхождении в зиму, когда водные пути перекрывались осенней шугой. В тайге погибали люди.
Летчики помогали изыскателям всем, чем только могли. Хотя на первых порах у них самих проблем хватало: ни связи, ни метеослужбы, ни мало-мальски надежных карт.
Бывало, вновь прибывший летчик спрашивал:
— Как же здесь летать? Горы кругом, а неизвестны даже отметки перевалов.
И слышал в ответ:
— Вот вы и определяйте…
Определяли так. Летающую лодку пускали по долине на бреющем полете, ставили бортовой барограф на ноль, затем поднимали машину, выводили ее вровень с седловиной перевала. Штурман прицеливался и фиксировал отметку по шкале барометрического высотомера. Потом сравнивали с показаниями барометра на месте посадки. Точность получалась, конечно, относительная, но это было все же лучше, чем «по опросу». Подобными же приемами находили отметки других важнейших точек рельефа. И уж потом, много позже, наземные геодезисты высокого класса вводили поправки. Главное было не останавливаться: вперед и вперед… Стране нужен был второй Транссиб. И, разумеется, особую ценность составляли материалы аэрофотосъемки при определении мест переходов магистрали через большие реки.
Кириллов летал над первыми палатками и бараками будущего города Комсомольска-на-Амуре. До глубокой осени он работал по заданиям ВОЛКа — был занят контурной аэросъемкой железнодорожных подходов к городу.
Суровые уроки были учтены. С января 1933 года в Москве спешно формируются новые полевые партии, все они обеспечиваются радиостанциями. Руководить службой радиосвязи поручается опытному специалисту Ярославскому. На основной базе в Норском Складе устанавливается центральная радиостанция, обеспечивающая прямую связь с отрядами и городом Свободным. В сезон 1933-го на трассе смогли работать уже свыше сорока изыскательских партий и отрядов.
Весной Кириллова послали на новые съемки, уже над хребтом Сихотэ-Алинь, где еще не остыли следы знаменитого путешественника Арсеньева. Потом — полеты над Ханийскими болотами вместе с профессором-дорожником Сазоновым.
В том же 1933 году управление строительством магистрали было передано в ведение НКВД. До этого личный состав Дальжелдорстроя состоял только из вольнонаемных. На стройку стала прибывать партиями подневольная рабочая сила. Управление Бамстроем перевели в город Свободный, и вскоре тихая провинция превратилась в бурлящий котел.
В апреле 1933 года Совет труда и обороны СССР принял дополнительное решение о срочном строительстве автогужевого тракта Волочаевка — Комсомольск и поручил его Дальлагу. Шефом стройки ВОЛК был назначен уполномоченный НКВД Т. Д. Дерибас. Изыскательская экспедиция комплектовалась в основном из специалистов-железнодорожников, находившихся в заключении. Ее начальник И. Н. Пилин был из осужденных, главный геолог — тоже из зэков. В начале мая проект был согласован. В июне 1933 года Дерибасу правительство поручило параллельно организовать проектирование железной дороги на том же направлении. Лежневая дорога уже строилась.
Нередко опытных гражданских летчиков привлекали к специальным работам в интересах Амурской флотилии и пограничников. Садились там, куда прикажут. В экстренных случаях, бывало, приземлялись и на футбольное поле городского стадиона, благо высоких трибун тогда не строили. Однажды Кириллову поручили в качестве лидера провести через Малый Хинган целую эскадрилью бомбардировщиков ТБ-1. Штаб маршала Блюхера дважды выносил благодарность летнабу Кириллову за оказанную помощь. Знакомые военные летчики звали молодого наблюдателя на службу в ВВС, соблазняли перспективами быстрого роста в звании. Но уставные ограничения, в особенности правила субординации, крайне стесняли Кириллова, и он отказывался.
Самолет-разведчик Р-5 — двухместный классический полутораплан конструкции Николая Поликарпова, применялся на рекогносцировке трассы БАМа. Во время войны Р-5 использовался преимущественно для воздушной разведки и транспортных перевозок.
Итальянская летающая лодка Савойя С-62 бис выпускалась в период с 1931 по 1936 год под наименованием МБР-4, позволив накопить необходимый опыт постройки и эксплуатации отечественных летающих лодок.
После Сихотэ-Алиня Кириллов все чаще летал с пилотом Петром Абаниным на Р-5. Был такой полутораплан… Но тут следует сделать одно существенное пояснение. Дело в том, что по прошествии десятилетий создалось превратное представление об авиационной технике 1930-х годов: о трипланах, бипланах, полуторапланах и прочих «этажерках». Сегодня они все кажутся одинаковыми — что Р-5, что По-2, что АН-2… Одно слово — «кукурузник». А ведь разница между ними была огромная. Р-5 — истребитель, штурмовик, разведчик, рекогносцировщик, почтальон, спасатель. Самолет Р-5, на непросвещенный взгляд, внешне мало отличался от У-2, но это была не учебная, а серьезная по тем временам боевая машина, весьма строгая в пилотировании, состоявшая на вооружении в 1928–1933 годах и применявшаяся во всех возможных вариантах — от истребителя до бомбовоза… Но лучше привести объективные данные, опираясь на труды конструктора, историка авиации В. Б. Шаврова.
Итак, Р-5 — двухместный полутораплан конструкции Н. Н. Поликарпова. Многие такие машины, «обутые» в поплавки или лыжи, работали на изысканиях трассы БАМа. Самолет прославился весной 1934 года при спасении челюскинцев, когда летчик Молоков умудрился на двухместном самолете поднять со льдины сразу шестерых зимовщиков (четверых втиснул в кабину и еще двоих — в ящики для запасных парашютов).
Самолет очень добротный, тщательно продуманный и поразительно выносливый. Задуман был как разведчик, но применялся в боевых действиях вначале как истребитель, затем как ночной бомбардировщик и штурмовик вплоть до 1944 года. В изготовлении чрезвычайно прост, и был выпущен большой серией — 4548 единиц, а после окончательного «разжалования» из армии еще долго использовался для санитарных, почтовых и прочих, самых что ни на есть будничных перевозок.
Еще несколько интересных деталей. Конструкция Р-5 была деревянная — из сосны и фанеры; сталь в узлах применялась мягкая. Сборка самолета осуществлялась на казеиновом клее, железных оцинкованных гвоздях и шурупах. Хвостовое оперение использовалось деревянное, однако с дюралевыми обводами. Двигатель ставили 500–650 лошадиных сил (сравните с У-2, где моторчик в пять раз слабее). Пустой этот грозный боевой аппарат весил 2169 килограммов, а загруженный — до 3800. В этот вес могло входить до 400 килограммов бомб. Максимальная скорость невелика — 228 километров в час, посадочная — 95. «Потолок» — 6400 метров, дальность полета — 800 километров; в воздухе мог находиться без запасных баков четыре с половиной часа.
Боевая эффективность бипланов и полуторапланов по тем временам могла быть весьма высокой. Так, в ночь на 12 ноября 1940 года был совершен налет морской авиации Британии на базу итальянских кораблей в порту Таранто. Считавшиеся уже тогда устаревшими «этажерки»-торпедоносцы «Фейри Сводфиш» учинили в Таранто настоящий погром: вывели из строя три линкора и один крейсер, нанесли большой ущерб портовым сооружениям, притом с минимальными потерями — один летчик пропал без вести, трое попали в плен.
По части приборов Р-5 был бедноват: высотомер, тахометр, указатель скорости, компас, часы. Поэтому в облака залетать не следовало.
На Севере, где сухопутных площадок было мало, Р-5 обычно обували в гидропоплавки или ставили на лыжи, от чего технические показатели становились поскромнее. Впрочем, как происходило на практике — можно представить. Разве может летчик оставить человека в беде где-нибудь в таежной глуши? Иной раз так загружали машину, что не могли оторваться от зеркала воды. До десятка попыток предпринимали, пока не удавалось, «оперевшись» на какой-нибудь подоспевший ветерок, зависнуть в воздухе. Впрочем, летала в те годы над тайгой еще более удивительная машина-амфибия — Ш-2, «шаврушка». Но о ней — чуть позже.
Заданий было так много, что и пилоты, и наблюдатели непрерывно были в работе. Распоряжения менялись чуть ли не каждую неделю. То требовалась рекогносцировка местности для прокладки дороги под гужевой транспорт, но еще не успевали отчитаться по соответствующим нормативам, как следовала команда — отставить! Делайте план под шоссе. Потом вдруг сверху поступает директива: готовьте план под «чугунку». И все неотложно, спешно, в первую очередь, вне всякой очереди…
1934 год стал исключительно напряженным. В феврале было принято решение о строительстве меридиональной железнодорожной линии Усть-Ниман — Лондоко, которая должна была соединить бассейн Буреинских углей через Уссурийскую дорогу с металлургическим заводом. Вместе с линиями Бам — Тында и ВОЛК (Волочаевка — Комсомольск) создавалась опорная система для строительства Байкало-Амурской магистрали. И вновь та же проблема — выяснилось, что для этой задачи инженерные обоснования слишком слабы, они во многом носят умозрительный характер. Чтобы не задерживать строителей, требовалось в один сезон провести сразу три стадии изысканий: рекогносцировочную, предварительную и окончательную. То есть по условиям военного времени. С этой целью Востизжелдор сформировал специальную Ургальскую экспедицию, состоящую из шести комплексных партий.
Сил было явно недостаточно, времени на организацию обеспечения не было вовсе. Хуже всего — сезон, когда возможна доставка грузов по замерзшим рекам в район исследований — глухой, малообжитый, находящийся в четырехстах километрах от железной дороги, — был безнадежно упущен. Руководить этой «пожарной» экспедицией поручили одному из крупнейших специалистов по проектированию и строительству железных дорог Петру Константиновичу Татаринцеву.
В таких немыслимых условиях можно было рассчитывать только на самоотверженность людей и на инженерную интуицию. По свидетельству изыскателя Александра Жигана, принимавшего участие в Буреинской эпопее, только в двух партиях погибли рабочие Фоменко и Отченаш; заблудился в тайге и умер хозяйственник Чернов; тяжело заболел в тайге, был с трудом доставлен в больницу и скончался на операционном столе в городе Свободном инженер Илья Тоцкий. И все-таки углевозная линия была построена.
Едва Кириллов отработал на Нижнем Амуре, пришел приказ срочно лететь в Сковородино: оттуда как раз начали тянуть железнодорожную ветку на Тынду и требовалось уточнить ситуацию на подходах к хребту Янкан…
Тайна ледяной шахты
Станция Сковородино, 7035-й километр от Москвы Возможно, когда-нибудь это холодное и неблагоприятное для проживания место с ультраконтинентальным климатом будет отмечено особым знаком или храмом в ознаменование подвига, совершенного здесь, и в память о великом открытии, позволившем человечеству на шаг приблизиться к самой жгучей из тайн — тайне бессмертия.
На эту географическую широту — Сковородино находится южнее Москвы — c севера по глубокой речной долине ледяным языком спускается зона вечной мерзлоты. Первыми поселенцами тут были золотоискатели. Ямщики называли появившееся здесь зимовье Змеиным — тут на увалах (так называют в Забайкалье склоны сопок, обращенные к югу, в отличие от сиверов — северных склонов) хорошо припекало солнышко и водились змеи. При постройке Амурской железной дороги станцию назвали Невер-1 — по имени реки, затем Рухлово — в честь министра путей сообщения Сергея Васильевича Рухлова.
Рухлов был, несомненно, замечательный человек — крестьянский сын, который исключительно благодаря своему таланту и трудолюбию достиг министерского поста. Этот, по отзыву Витте, «умный и дельный» работник много полезного сделал для развития железнодорожного транспорта России. Рухлов был убежденным сторонником казенного ведения железнодорожного хозяйства. Боролся против монополий, был активным сторонником усиления государственного влияния на экономику. В 1915 году в возрасте шестидесяти двух лет отошел от дел, но это его не спасло: в октябре 1918 года Рухлов был расстрелян на Северном Кавказе как «царский сатрап» — представитель «проклятого прошлого».
В 1927 году поселку был присвоен статус города и дано новое название — Сковородино. Говорят, что Афанасий Сковородин, первый председатель поселкового Совета, расстрелянный в 1920 году японскими интервентами, тоже был хороший человек — честный и смелый.
Как раз в те дни, когда штурман Кириллов отрабатывал трассу в направлении от Транссиба на север через таежные дебри, на станцию Сковородино после года мытарств по пересыльным пунктам прибыл заключенный Павел Александрович Флоренский — великий русский ученый, математик, физик, философ, поэт, теолог, которого ученый мир называл «Ломоносовым двадцатого века», «русским Леонардо». Он попал на Дальний Восток в составе не изыскательской, а совсем иной партии — этапной. Как значилось в учетной документации, в карточке № 81446, Флоренский П. А. прибыл 24.09.1933 г. иркутским этапом, осужден тройкой ОГПУ 27.07 того же года на десять лет.
В БАМЛАГе, столица которого разместилась в городе, переименованном по злой иронии судьбы из Алексеевска в Свободный, к Флоренскому, однако, отнеслись со всей возможной в тех обстоятельствах уважительностью и весьма прагматически». Вместе с известным богословом Петром Коптеревым его определили работать на мерзлотную станцию. Эта сковородинская «мерзлотка» была на хорошем счету — там еще с 1927 года впервые в мире стали проводиться исследования вечной мерзлоты на серьезной научной основе. И по-видимому, новая задача по-настоящему увлекла Павла Александровича.
«Начинаю большие работы по изучению физики вечной мерзлоты, — писал Флоренский своей жене Анне Михайловне из Свободного в декабре 1933 года. — Готовлю программу работ, читаю литературу. Примерно месяца через два уеду отсюда на мерзлотную станцию, где можно будет поставить экспериментальные работы… Надеюсь сделать кое-что полезное для экономического развития тех районов, где имеется мерзлота…» Из Сковородино (апрель 1934 года): «Мы тут работаем достаточно — делаем опыты, зарисовки, чертежи, разбиваем лед, снимаем разрезы, пишем. За эти два месяца кроме мелких работ написали две довольно большие и отправили их в Академию наук на мерзлотный съезд… Довольно часто проходят заседания кружка по изучению мерзлоты, где я сделал уже четыре доклада, пишу в каждом номере стенной газеты «Победить мерзлоту». Строим широкие планы…»
Ему разрешали читать лекции заключенным. В конце июля к Флоренскому в Сковородино на свидание приехала жена с младшими детьми. Но чья-то злая воля продолжала преследовать ученого. 17 августа 1934 года его возвратили со сковородинской «мерзлотой» в Свободный и поместили там в изолятор. А 1 сентября отправили со спецконвоем в Соловецкий лагерь, где осенью 1937 года ученый погиб.
Делами «мерзлоты» продолжал заниматься Коптерев, которому и суждено было заявить об открытии, поразившем научный мир. Болотная дафния, пролежавшая в мерзлом грунте многие тысячи лет, ожила и даже начала размножаться Это открытие сделало настоящий переворот в биологии и практической медицине и открыло Коптереву путь домой. В 1940 году в соавторстве с бывшим начальником Сковородинской мерзлотной станции Быковым Коптерев издал книгу «Вечная мерзлота и строительство на ней».
О том что под землей идут исследования, разумеется, не догадывался воздушный разведчик Кириллов, когда пролетал над «Сковородкой», расположенной в узкой и унылой долине. Видел, конечно, как среди серых бараков копошились люди. Под крышей одного из сараев находился вход в холодную шахту, и там, за тщательно изолированными от проникновения летнего тепла тамбурами, несколько людей чудаковатого вида ковырялись в заледенелом болотистом грунте.
Добросовестно выполняя практическую задачу — дать научные рекомендации по строительству железной дороги — ученые надеялись найти нечто гораздо более ценное. Нет, не золото, не платину и не алмазы. Мечтали о раскрытии великой тайны жизни, стремились отыскать ключи к бессмертию человека. Им удалось продвинуться на этом пути намного дальше, чем другим. Они нашли то, что предполагали только фантасты, какая-то ничтожная дафния — водяная блоха, болотный рачок размером чуть больше булавочной головки — после столетий вышла из анабиоза, принесла потомство и… дала толчок развитию криогенной хирургии — лечения с использованием глубокого охлаждения тканей, показала путь к спасению многих тысяч людей.
Впрочем, о великом открытии, которое было сделано в шахте сковородинской «мерзлотки», штурман Кириллов узнал лишь десятилетия спустя в Антарктиде от своих пассажиров и товарищей по экспедиции — специалистов — мерзлотников.
Как стало известно после войны, станция Рухлово (Сковородино) фигурировала и в варианте плана «Кантокуэн» («Особые маневры Квантунской армии»), разработанном в генеральном штабе японской армии, который надлежало осуществить в случае падения Москвы в 1941 году. Планировалось форсировать Амур и развивать наступление на Запад из района Рухлово — Большой Хинган в направлении Байкала…
Фактически от холодной «Сковородки» начинался великий по дальности Неверский тракт — единственная сухопутная линия, связывающая Транссиб с Якутией и золотоносной Колымой, — Амуро-Якутская магистраль, знаменитый АЯМ. По соседству располагался Большой Невер с огромными пакгаузами, резервуарами горючего, автобазами, ремонтными мастерскими. Отсюда караваны тяжелогруженых машин уходили на север в немыслимую даль. И почти половину груза составлял бензин и запасные части для собственного потребления…
Операция «Чет-и-нечет»
На Транссиб летчики выходили довольно часто, чтобы по рельсовому пути точнее сориентироваться на местности. Этот маневр назывался «сверкой маршрута с компасом Кагановича» — наркома путей сообщения. И вот однажды, пролетая над железнодорожной линией, Кириллов увидел внизу необычный поезд. Запряженные цугом два мощных паровоза поднимали на перевал относительно небольшой, но, видно, очень тяжелый состав, как вначале показалось, цистерн. И еще третий паровоз-толкач помогал им сзади, чадя черным дымом. Приглядевшись, Кириллов понял, что это спецплатформы, на которых стоят баки, обернутые брезентом. «Наверное, это оборудование для какого-нибудь химзавода», — решил про себя штурман, и единственное, что его удивило — брезентовое покрытие: химическое оборудование не боится ни кислот, ни щелочей, а тут такие нежности — от дождя укрыли.
Ошибся штурман — под брезентом были детали корпусов подводных лодок, которые везли по Транссибу в порт Владивосток, кстати, к месту будущей службы призывника Михаила Кириллова — краснофлотца-подводника.
Несколько раньше, в морозные дни ноября 1933 года жители Забайкалья с удивлением и тревогой смотрели на медленно проплывавший мимо станций грузовой поезд. В центре состава на длинной, в четыре тележки, восемнадцатиосной платформе громоздилась укутанная брезентом какая-то огромная машина, своими очертаниями похожая на подъемный кран. Но всеобщее беспокойство поезд вызывал не своим необычным видом — на Великом Сибирском пути всякое видали, здесь даже на бронепоезда мальчишки не сбегались глазеть. Настораживало то, что состав двигался на восток в нарушение железного порядка — он шел по «нечетному» (по железнодорожной терминологии), то есть встречному, ведущему с востока пути. А так случалось, когда на Транссибе происходила авария. Если же понадобилось перегонять столь мощный подъемный механизм, значит, на линии произошло какое-то тяжелое крушение, а может быть, даже обрушился мост.
Однако слухи о катастрофе не подтвердились. Железнодорожники успокоили население, объяснив, что производится транспортировка сверхтяжелого груза — неразборного оборудования для нефтехимического завода. А пустили его «против течения», потому что нечетный путь на этом участке Транссиба чаще использовался для пропуска порожняка, поэтому он менее изношен, чем четный. Пропустив тяжеловес, путейцы вышли на линию, чтобы обследовать рельсы, устранили неисправности, и спустя сутки еще два таких же поезда проследовали на восток — и тоже по нечетному.
На самом же деле речь шла об операции военной и строго секретной: из Ленинграда во Владивосток доставлялась батарея из трех железнодорожных артиллерийских транспортеров ТМ-1–14 с пушками особо крупного калибра — 356 миллиметров. Эти монстры метали снаряды весом от 500 до 700 килограммов на расстояние до 52 километров. Предназначались они прежде всего для борьбы с линкорами противника, а поскольку обладали способностью разворачиваться на 180 градусов, то могли поражать и дальние наземные цели.
Груз действительно был неделимым. Установки монтировались в идеальных условиях мастерами знаменитого ЛМЗ — Ленинградского Металлического завода. Подробно об этой уникальной инженерной операции рассказано в книге историка Л. И. Амирханова «Морские пушки на железной дороге».
Пушки были пристреляны на полигоне, и стрельбы показали поразительную точность попаданий снарядов. А главное достоинство береговой батареи «главного калибра» состояло в маневренности. Пушки, смонтированные на специальном транспортере, способны были сменить боевую позицию по железнодорожным путям и довольно быстро для такой махины, через 60 минут, вновь открыть огонь. Механизмы подачи боеприпасов обеспечивали хорошую скорострельность — полторы минуты на выстрел. Корректировка огня производилась с помощью береговой системы наблюдательных пунктов и с самолетов. Единственным серьезным недостатком ТМ-1–14 было то, что выстрел производился только с бетонного основания: обычное железнодорожное полотно не выдерживало нагрузки, и вся эта четырехсоттонная махина могла опрокинуться. Впрочем, учитывая дальнобойность пушек, огневых позиций требовалось подготовить не так уж много; в первую очередь их оборудовали на мысах.
Железнодорожный артиллерийский транспортер ТМ-1–14.
На Дальнем Востоке с нетерпением ждали подкреплений. После жестокого поражения в русско-японской войне, после четырех лет разорительной гражданской войны на Тихом океане у нас военного флота фактически не осталось. В первом морском параде, состоявшемся во Владивостоке в бухте Золотой Рог 7 ноября 1923 года, смог принять участие только учебный отряд в составе устаревшего лидера «Красный вымпел» и двух эсминцев — «Точный» и «Твердый». В памяти жителей Владивостокского порта еще свежа была картина, как нагло, не спрашивая дозволения местных властей, вторглись в бухту Золотой Рог четыре новейших крейсера интервентов — два японских, американский и английский, и все присутствовавшие на параде понимали, насколько жалкое зрелище представляет собой Красный флот. Наши дальневосточные морские границы протяженностью 17 тысяч километров от Берингова пролива до Посьета прикрыть было нечем.
Пользуясь безнаказанностью, японские милитаристы вели себя вызывающе и на суше и, особенно, на море, где чувствовали себя полноправными хозяевами всей акватории Тихого океана. Да и можно ли было принимать в расчет несколько старых пароходов Добровольного флота, переделанных в боевые корабли, экипажи для которых прислали с Балтики и Черного моря?
Приморский край собирал оборону по крохам. В состав морских сил Дальнего Востока были включены переоборудованные в минные заградители старые суда торгового флота — «Эривань», «Томск» и «Ставрополь». Укреплялась береговая оборона, были созданы бригада траления и заграждения, артиллерийская бригада, формировались авиабригады, служба наблюдения и связи и другие подразделения. В Хабаровске на средства населения удалось восстановить низкобортный монитор «Вихрь», который был включен в состав Амурской флотилии. Командующий Особой Дальневосточной армией Василий Блюхер считал, что при таком неравенстве морских сил главной нашей оперой должны стать авиация, подводные лодки и береговая оборона. Но кораблям и самолетам нужны береговые базы, а к ним — надежные коммуникации. Так что вновь все упиралось в строительство дорог.
27 февраля 1932 года Реввоенсовет СССР принял постановление «О состоянии и развитии берегового оборонительного строительства», предусматривающее создание и переброску на Дальний Восток батареи (три пушки) транспортеров ТМ-1–14 и двух батарей транспортеров ТМ-2–12, изготовление которых уже началось.
Перевозку первой железнодорожной батареи ТМ-1–14 было решено осуществлять зимой, когда полотно крепче. Прежде чем отправлять транспортеры в дальний путь, их испытывали на сложных участках — на мостах, на крутых поворотах, разгоняли до 60 километров в час, даже Имитировали аварии, сходы с рельсов. Не надеясь на сводки о состоянии пути, изготовили макет в габаритах транспортера. Этот макет протащили по европейской части — и кое-где посбивали столбы. Весь маршрут проверили, в особенности тоннели и мосты. Произвели тяговые расчеты, определили скорость движения на каждом перегоне. Некоторые мосты оказались слабоваты, и чтобы равномернее распределить нагрузку, четырехсоттонный транспортер сдвинули в середину состава, подальше от паровоза серии «Э», который тоже весил немало — почти 130 тонн.
3 ноября 1933 года в 12 часов 30 минут первый эшелон с транспортером ТМ-1–14 двинулся на Дальний Восток. Второй и третий эшелоны батареи выходили с интервалами в одни сутки. В составе каждого поезда, помимо вагонов с оборудованием, необходимым для деятельности транспортеров, имелись вагон-штаб, вагоны для личного состава и продовольствия и т. д.
Разница в сутки между эшелонами требовалась для осмотра пути и мостов после прохождения первого эшелона. Скорость продвижения не превышала 25 км/час. Серьезные нарекания вызвало состояние почти всех железнодорожных путей, особенно за Уралом. По свидетельству Л. И. Амирханова, транспортеры своими стальными боками все же «отрихтовали» стенки байкальских тоннелей. Было отмечено семь изломов рельсов, однако сходов транспортеров с рельсов не произошло. 17 декабря, через полтора месяца, эшелоны с батареей ТМ-1–14 прибыли на станцию Первая Речка, что в пяти километрах от Владивостока.
В следующем году из транспортеров ТМ-2–12 (с морской пушкой калибра 305 мм) сформировали 7-ю и 8-ю железнодорожные батареи, которые также отправили на Дальний Восток. Операция проходила уверенней, к тому же общий вес транспортера был на сто тонн меньше. Подобную установку в октябре 2001 года привезли в Центральный музей Великой Отечественной войны, что на Поклонной горе в Москве, промучавшись с ее доставкой месяца два.
Вслед за артиллерийскими монстрами для усиления обороны тихоокеанских рубежей во Владивосток были направлены свыше тридцати подводных лодок типа М — «малютка». Вооруженные двумя торпедными аппаратами и 45-миллиметровой пушкой, «малютки» должны были создать своего рода завесу перед Татарским проливом и в устье Амура. По крайней мере, они могли на подходах обнаружить противника и предотвратить внезапность нападения.
Сварные корпуса трех десятков «малюток» были доставлены с завода в городе Николаеве по железной дороге. Через перевалы Транссиба поезда с особо тяжелым секретным грузом проводили кратной тягой — в несколько паровозов. Рубки, рули, гребные валы с винтами, аккумуляторные батареи и килевой балласт были сняты, чтобы вписаться в габариты и уменьшить нагрузку на рельсы. На верфях Владивостока к корпусам приклепывали рубки, ставили орудия и выпускали в плавание.
Перевозка осуществлялась скрытно. Платформы с частями подлодок укрывали брезентом, зашивали досками, маскировали тюками сена, сельхозмашинами. Экипажи ехали в штатской одежде. Впрочем, эти предосторожности оказались тщетными. В Приамурье произошел курьезный эпизод. Японский консул демонстративно подошел к платформам с «малютками» и потребовал, чтобы ему разрешили нанести русским морякам «визит вежливости». Японская разведка работала безотказно и, чувствуя за плечами могучую силу, не стеснялась обнаружить свою компетентность.
Вот в эту военно-морскую стихию и суждено было окунуться штурману Кириллову. Горячка непрерывных полетов была прервана непредвиденным вызовом в военкомат. Это было как авария в воздухе. Не думал, не гадал летнаб, что со своей летающей лодки попадет прямо… на подводную. Его призвали в армию, и вместо ВВС, оказался он на Тихоокеанском флоте. То и не разобрались, а вернее всего, приметив крепкого, технически грамотного призывника, моряки решили пустить его по своему ведомству. И слушать даже не стали, где работал, кем летал… Напустили строгости: экая, скажите, должность — «наблюдатель». У нас на флотах тоже есть что наблюдать, навигаторы нам нужнее…
Дела у тихоокеанских подводников действительно разворачивались нешуточные. И полномочия на отбор любых специалистов для недавно образованного Тихоокеанского флота были предоставлены военкомам практически неограниченные.
С удивлением новобранец-подводник Кириллов узнал, что первые русские субмарины появились на Дальнем Востоке еще задолго до Русско-японской войны. Атмосфера здесь накалялась еще с XIX века. В 1900 году пароходом «Дагмар» во Владивосток были доставлены маленькие подводные лодки с установленными на них торпедными аппаратами. Причем по предложению русского адмирала Вильгельма Витгефта их намеренно везли с демонстративной остановкой в Японии. И когда в апреле 1904 года на подходах к порт-артурскому рейду на минах подорвались броненосцы «Ясима» и «Хацуси», японцы восприняли эти взрывы как атаку подводных лодок и долго метали снаряды в воду. Дабы укрепить японцев в этом заблуждении, командующий эскадрой Витгефт приказал дать в эфир незашифрованную радиограмму, в которой якобы адмирал благодарит экипажи субмарин за удачное дело. С тех пор у капитанов японских броненосцев и крейсеров появилась аллергия на подводные лодки, а миноносцам, сторожевикам и авиации ставилась задача — при обнаружении субмарины противника немедленно атаковать ее, бомбить, таранить…
Возможно, именно эти первые субмарины спасли Владивосток от прямого нападения. 29 апреля 1905 года в район бухты Преображения навстречу отряду японских крейсеров и миноносцев направились три русские подводные лодки: «Дельфин», «Касатка» и «Сом». Они двигались в надводном положении. В семидесяти милях от Владивостока у мыса Поворотный субмарины были обнаружены. Японцы открыли по ним огонь и намеревались таранить. Подлодки погрузились и стали готовить торпедную атаку по крейсерам. Однако сгустившийся туман помешал боевым действиям. Но впечатление на японских моряков субмарины произвели.
На русские подлодки японские корабли постоянно натыкались в Татарском проливе, у мыса Лазарева, в Амурском лимане и реагировали весьма нервно. К концу Русско-японской войны во Владивостоке находилось уже тринадцать подлодок, привезенных по Транссибу.
На заре XX века японские флотоводцы явно переоценивали тогдашние возможности субмарин. Но стратегически мыслили весьма дальновидно. Опередив Россию в модернизации броненосцев, они одержали при Цусиме полную победу. Однако на лаврах не почивали — уже вскоре коренным образом пересмотрели свою военно-морскую доктрину. Теперь авианосцы, а не линкоры становились главной ударной силой Японии. И наибольшую опасность для авианосцев могли представлять подводные лодки, особенно у чужих берегов. «Малютки», имевшие ограниченный радиус действия, вблизи своих баз могли действовать с высокой эффективностью.
И действительно, только в 1941–1942 годах шесть «малюток» нашего Северного флота потопили тридцать пять кораблей противника. Лодка М-172 до своей гибели в октябре 1943 года совершила восемнадцать боевых походов и пустила ко дну десять вражеских кораблей. При обороне Севастополя субмарины совершили семьдесят пять рейсов и доставили осажденным более четырех тысяч тонн боеприпасов, вывезли тысячу триста раненых, женщин и детей. На счету «малютки» М-35 было семь потопленных фашистских кораблей.
Впрочем, наш новорожденный Тихоокеанский флот не ограничивался укреплением береговой обороны, формированием бригад субмарин-«малюток», торпедных катеров, минных заградителей, эскадрилий морской авиации. «Москитный» флот предпринимал отчаянные попытки вырваться на дальние морские просторы. 11 января 1936 года средняя по водоизмещению подводная лодка под командованием Николая Египко прошла из бухты по пробитому во льду фарватеру для определения предельной возможности автономного плавания в зимних условиях. Были значительно превышены все нормативы пребывания под водой на ходу, в том числе без регенерации воздуха. Тот январь был особенно суров — мороз и шторма до 9 баллов. При всплытиях лодка покрывалась льдом до семидесяти сантиметров толщиной, приходилось его непрерывно скалывать, чтобы успеть зарядить аккумуляторы. Все участники похода были награждены орденами. Об этом дальнем подводном плавании сообщалось очень торжественно, но предельно скупо, безо всяких подробностей. Было ясно только, что совершалось плавание на пределе человеческих и технических возможностей.
Штурман Кириллов на флоте проявил себя как отличный специалист, однако военно-морская романтика его так и не увлекла. Особенно тяготила уставная иерархия, всевозможные запреты, ограничения. То есть он признавал необходимость строжайшей воинской дисциплины, но про себя знал точно — он сможет вытерпеть муштру и требования субординации только во время военных действий. В мирное же время добровольно он на службу не пойдет ни за что.
Погрузка торпед на подводную лодку типа М — «малютку».
Отслужив на флоте сколько положено, Кириллов вновь подался в авиацию. Душа не находила покоя без музыки аэродромов, и не было особенной разницы, где, на чем и когда летать — на юге или на севере, летом или зимой. Сбылось-таки пророчество-заклинание отчаянного летуна Вани Рощина про «триста орлов, шестьдесят соколов…»
Поначалу летнаб Кириллов попал в Наркомзем — делать съемки для землеустройства в районах Поволжья, Приуралья, Средней Азии для выдачи колхозам актов на вечное землепользование. А вскоре услышал, что в знакомых местах — на БАМе — организуется изыскательская авиагруппа Бюро аэросъемки Бамтранспроекта. Готовилось решение о форсировании строительства, и трассу требовалось осветить с предельной ясностью, чтобы была полная картина. Чтобы куда перстом ни ткнули, сразу полная расшифровка: здесь такие-то препятствия, а лучший вариант такой-то.
С некоторой робостью переступил Кириллов порог Бюро — в работе с картами действовал режим строжайшей секретности. А «бюрократы» оказались старыми друзьями, которые уже сами начали разыскивать Михаила. Парк самолетов увеличивался вдвое, объем работ — вдесятеро. Требовались штурманы, летчики, бортмеханики, радисты…
Как раз в это время «Союзтранспроект» выдал технический проект подземного перехода под рекой Амур. Сооружение тоннеля («Стройка № 4»), предназначенного на случай разрушения моста у Хабаровска, началось в 1937 году, а первый рабочий поезд проследовал под Амуром через месяц после начала Великой Отечественной войны. Живучесть Транссиба — главной транспортной артерии — значительно возросла. Строительство велось в обстановке секретности. В отечественной прессе о нем заговорили только в 1980-х годах. Впрочем, для местных жителей существование железнодорожного тоннеля близ Хабаровска никогда не было тайной (хотя болтать вслух об этом не полагалось), как, впрочем, не было это секретом и для вражеских разведок. По мнению японских стратегов, перевозки военных грузов по единственной железной дороге не могли обеспечить Красную Армию в полной мере: пропускная способность была недостаточной, а сама магистраль — весьма уязвимой. Начать военные действия планировалось именно с серии крупных диверсий на Транссибе.
Правительство предпринимало все возможные меры для укрепления важнейшей транспортной артерии. Готовили резервные железнодорожные паромы на байкальском море-озере и на крупных реках, в том числе переправу приготовили и на случай разрушения моста через реку Зею.
Кириллову как специалисту, обладающему бесценным опытом, пришлось обучать новичков. Один из них — высокий калужанин, молодой летнаб Федя Румянцев — стал ему верным другом на всю жизнь. Им обоим предстояло пройти суровые испытания.
Крылатые лодки штурмуют перевалы
Пока летнаб Кириллов в царстве подводников томился над военно-морскими уставами, материалы его аэросъемки варианта трассы БАМа на участке Зея — Бурея масштаба 1:25 000 тщательно анализировались специалистами Московского аэрогеодезического треста. Материалы были признаны ценными, однако гораздо больший интерес представлял сам процесс, практика ведения аэросъемки в горной тайге: работа аппаратуры, тип самолета и т. п. В 1935 году НКПС (Народный комиссариат путей сообщения — ныне МПС) как главный заказчик решил приобрести для аэросъемочных и разведочных работ собственные самолеты. Ранее НКПС арендовал машины в управлении Северного морского пути. Однако в связи с огромными масштабами предстоящих работ потребовалась специализированная организация — с постоянными опытными кадрами, со своей техникой, базами. Очень важно было сделать правильный выбор основных аэросъемочных машин.
Первым приобретением НКПС был двухмоторный МР-6 (поплавковая модификация самолета АНТ-7). Аэроплану торжественно присвоили опознавательный знак железнодорожной авиации «Ж-1» и стали присматриваться, какой покажет себя в деле. Из архива БАМтранспроекта:
«Самолет «СССР Ж-1» в сезон 1936 года использовался Центральной экспедицией на аэрофотосъемке и аэровизуальной рекогносцировке северной части озера Байкал и прилегающих хребтов: Байкальского, Верхнеангарского и Северо-Муйского. Общая площадь съемки — 7500 квадратных километров, рекогносцировки протяженностью 3480 километров. Летчик Леонид Густавович Краузе».
«В 1937 г. для изыскательской экспедиции Ленинградского отделения Бамтранспроекта по договору с Аэросъемочной Экспедицией № 2 Новосибирского предприятия ГУКС НКВД была выполнена аэросъемка (аэросъемщик В. А. Кручинин) в масштабе 1:40 000 вариантов трассы БАМа от озера Эворон по отрогам Баджальского хребта, реки Алегуна и части Буреинского хребта на площади 12 000 кв. километров».
17 августа 1937 года было принято решение правительства о строительстве Байкало-Амурской магистрали в границах Тайшет — Советская Гавань, длиною чуть не в полгосударства. Был установлен срок сдачи магистрали в постоянную эксплуатацию — ноябрь 1945 года. В жестоком тридцать седьмом решения принимали без волокиты. Уже через десять дней НКПС создает самостоятельную организацию по изысканиям и проектированию БАМа — Бамтранспроект, одним из подразделений которого стало Бюро аэрофотосъемочных и фототеодолитных работ.
Так появилась структура, которую в обиходе называли просто «бамовской аэросъемкой». Несмотря на довольно успешную работу летчика Краузе и аэросъемщиков, гидросамолет МП-6, первое приобретение НКПС, был признан малоподходящим. И вот почему.
АНТ-7 — самолет воздушного боя
По назначению самолет типа АНТ-7 считался многоцелевым разведчиком, трехместным истребителем дальнего сопровождения, своего рода крейсером для дальних самостоятельных полетов в тыл противника. Он мог также служить бомбардировщиком или торпедоносцем. При двух двигателях по 500 лошадиных сил каждый, АНТ-7 по скорости (230 км/час) не уступал тогдашним одноместным истребителям. Его еще называли «самолетом воздушного боя». Однако уже в 1936 году военные специалисты признали АНТ-7 устаревшим. Поскольку самолет обладал неплохой коммерческой нагрузкой — 700 килограммов, машины передали в Аэрофлот и Севморпуть. Там они под названиями ПС-7 и МП-6 (поплавковый) возили пассажиров и грузы.
На АНТ-7 летчик П. Г. Головин в 1937 году выполнил первый полет над северным полюсом перед посадкой там остальных самолетов полосной экспедиции, положив тем самым начало знаменитой папанинской эпопее. АНТ-7 использовался и ее время войны для перевозок.
То есть сам по себе АНТ-7 — машина неплохая, выпущен он был в количестве 400 штук и просуществовал как тип 15 лет. Однако для бамовской аэросъемки самолет оказался неподходящим. Депо в том, что с поплавками АНТ-7 (МП-6) вел себя гораздо хуже. Уже в ходе испытании погибли три машины. Хотя и говорят, что с хорошими моторами любой забор может летать, это не более чем шутка. Какая-то получалась несоразмерность самолета и поплавков, и при пилотаже требовалось напряженное внимание. Летающие лодки вели себя стабильней и устойчивей, чем поплавковые самолеты АНТ-7. А устойчивость аппарата при фотосъемке исключительно важна. При съемке для топографических планов и карт отклонение оптической оси от вертикали не должно было превышать трех градусов. Позже приходилось отказываться и от комфортабельных машин, если их излишне высокая скорость «смазывала» снимки. Поэтому решено было продолжить опыт Севморпути — опереться на летающие лодки.
Надо еще заметить, что в 30-е годы в авиационном мире гидросамолеты, и прежде всего летающие лодки, занимали ведущее положение. Надежность механической части не была еще достаточно высокой, двигатели нередко отказывали в полете, радионавигационное оснащение оставалось слабым, а сухопутные аэродромы для посадки встречались весьма редко, поэтому летающие лодки над водной поверхностью чувствовали себя гораздо уверенней. Для перелетов через Атлантику создавались специальные летающие корабли.
Самым крупным трансатлантическим крылатым кораблем был почтовый Боинг-314 под названием «Клиппер» — двухпалубный, четырехмоторный. Для того чтобы штурманы могли по звездам определять положение корабля и прокладывать курс, имелся специальный прозрачный купол. Хотя скорость была не более 290 километров в час, все же Атлантику можно было пересечь гораздо быстрее, чем на океанском лайнере. Открытие «Клиппером» почтовой линии через Северную Атлантику состоялось 20 мая 1939 года. Значительно раньше, 25 июля 1929 года, состоялся первый полет самой вместительной (на 150 пассажиров) летающей лодки — немецкой Дорнье Do-X.
Белоснежные крылатые машины привычно покачивались на якорях наравне с кораблями в гаванях Европы и Америки. Для взлета их обычно выводили на простор буксирами. Толпы зевак сбегались на пристани, когда где-нибудь на лазурном берегу юга Франции или в Италии такой крылатый красавец заруливал в бухту. Пассажиры и члены экипажа высаживались из огромного двухпалубного самолета по трапу на катера, которые, как такси, развозили их по отелям, расположенным здесь же, на живописном берегу.
Три немецкие шестимоторные суперлодки-амфибии BV-222, созданные перед войной для трансатлантических пассажирских перевозок, Гитлер планировал использовать для бомбардировки небоскребов Нью-Йорка и других городов США. Были разработаны маршруты перелета через Атлантику, в том числе с дозаправками бензином от подводных лодок-танкеров в условных точках океана.
Поверхность водного аэродрома не требует ремонта, в хорошую погоду она более надежна, чем земная твердь, хотя при большой скорости удар мог быть не менее жестким, чем о бетон. Только после второй мировой войны, когда самолеты стали надежней, а сеть сухопутных аэродромов — в достаточной степени развитой, оказалось, что летающие лодки проигрывают, прежде всего, по экономическим параметрам — из-за особенностей гидроаэродинамики. Эксплуатационные расходы оказались решающими. К тому же зависимость от волнений на море создавала массу неудобств и тяготила пассажиров. Последней большой пассажирской летающей лодкой была шестимоторная «Принцесса» фирмы «Саундерс Ро» с шикарными пассажирскими кабинами. Но эра летающих кораблей уже уходила в прошлое, как ушел в историю парусный флот. Летающие лодки оставались в виде специализированных машин, предназначенных для патрулирования, пожаротушения, спасения экипажей судов, терпящих бедствие на воде.
Однако в тридцатые годы летающие лодки были подлинными королевами неба, тем более на Дальнем Востоке, где сеть сухопутных аэродромов была особенно редка. Основная часть сухопутных самолетов была оснащена поплавками летом и лыжами зимой. Разумеется, это ухудшало аэродинамику, поэтому «чистокровные» летающие лодки выигрывали в летний сезон. Зимой же им, как всем, приходилось становиться на лыжи. Но для аэросъемки интерес представлял именно бесснежный период года.
Очень важно было проложить воздушные трассы на север — к Якутску, Магадану, на Чукотку, к поселкам на побережье Северного Ледовитого океана. Для организации «воздушного моста» между Транссибом и Якутией еще в мае 1925 года была организована изыскательская экспедиция под руководством авиатора-первопроходца С. Я. Корфа. Маршрут был проложен кратчайший: от Рухлово (Сковородино) через Алдан в Якутск. Двигались пешком, с караваном вьючных лошадей. Был пройден путь в 1300 километров. Из двадцати восьми лошадей пали от истощения двадцать пять. Трасса была признана опасной, а места, где возможно оборудование гидропортов и метеостанций, труднодоступными. Воздушная прямая не получилась.
Вторая экспедиция Корфа, теперь уже на гидросамолетах, состоялась три года спустя, в июне 1928 года. Ее маршрут пролегал из Иркутска над реками бассейна Лены. Трасса была выбрана более протяженная — 2076 километров, но и более надежная. Были определены места гидропортов: Жигалово, Усть-Кут, Витим, Бодайбо, Олекминск, Якутск. На этом варианте и решено было остановиться. Авиалиния начала действовать с августа того же года.
В январе 1937 года железнодорожное ведомство — НКПС — выдало заказ Таганрогскому авиационному заводу на пять летающих лодок МП-1бис (модификация МБР-2 — морского ближнего разведчика конструкции Георгия Бериева) с мотором АМ-34 в 750 л. с. Августовским утром того же года с акватории Таганрогского залива Азовского моря одна за другой в небо поднялись пять летающих лодок и взяли курс на восток. Для одномоторных гидросамолетов маршрут предстоял необычайно дальний: Таганрог — Ростов — Сталинград — Саратов — Челябинск — Омск — Новосибирск — Красноярск — Братск — Иркутск — Нижнеангарск. Провожали их всем заводом — с тревогой и надеждой. Основная особенность этих «бисов» заключалась в том, что в днище лодки на уровне стрелка-радиста, за вторым реданом, делался герметизированный люк, который в полете можно было открыть и производить через него аэрофотосъемку. Уже в сентябре машины поступили в распоряжение экспедиции и получили наименования — бортовые знаки от Ж-2 до Ж-6. Позже, в 1939 году, заводом были изготовлены еще две машины такого типа.
Для перевозки грузов авиапарк бамовских изыскателей пополнялся самыми разными типами машин — как легкими, так и тяжелыми, новыми и бывшими в эксплуатации в самых разных организациях: ВВС-РККА, Аэрофлоте, ОСОАВИАХИМе, Севморпути… Однако именно аэросъемочные лодки МП-1 (МБР-2) сыграли решающую роль в успешном создании карт. Случайно или нет, но на одномоторных МБР-2 аварий было меньше, чем на двухмоторных АНТ-4.
Силы концентрировались немалые. И все же создание карты продвигалось недопустимо медленно. Не все ведь зависит от техники пилотирования. В продукции аэросъемки шло слишком много брака. Сказывалось все: низкое качество аппаратуры и фотоматериалов, сложные условия обеспечения полетов и т. п. Вот о чем свидетельствует один из документов того периода:
«Ввиду полного отсутствия наземного обеспечения в необжитых районах базирование самолетов производится за 300–500 километров от участка аэросъемки. Из-за плохой аппаратуры и плохой погоды многие материалы получаются некачественными» (из докладной записки).
Практически дело обстояло так. На трассе БАМа, особенно в горных районах, метеостанций не было, постов наблюдения также не хватало. Почти два часа экипаж вел самолет к месту запланированной съемки в надежде, что погода позволит работать над трассой. Пришли, а там облачность или туман. Что делать? Разворачиваться, и еще два часа пути? А может быть, как раз в это время небо над участком разъясняется? Тратились силы, средства, уходило драгоценное время. А требования по срокам и по качеству становились все жестче.
Первый железнодорожный самолет СССР-Ж-1 на озере Байкал в 1936 г.
Северо-Муйский хребет.
С Лазарем Кагановичем — «железным наркомом» — спорить о сроках выполнения задания никто не осмеливался, тем более, когда речь шла об объектах оборонного значения. Аэросъемщики приступили к развертыванию сети гидропортов. В самом центре города Иркутска, на берегу Ангары была в 1937 году организована (и действовала до 1953 года) Центральная авиабаза. Для изыскателей место исключительно удобное: до железнодорожных путей — всего полтора километра, до городской пристани — 300 метров. Там же размешался и ангар на восемь самолетов и ремонтные мастерские на два самолета.
Первый гидропорт для приема самолета Ж-1 на трассе БАМа был организован в устье реки Верхняя Ангара, вблизи Нижнеангарска. Поиск других подходящих акваторий с надежными подъездными путями шел по всей трассе. Первые посадки на незнакомые речные плесы и озера были сопряжены с большим риском. А дальше начиналась тяжелая работа: траление бассейна, строительство причалов и аппарелей (гидроспусков) для извлечения гидросамолетов на сушу. Нужны были и склады ГСМ, горючесмазочных материалов, и общежития для летного и обслуживающего состава, помещения для радиостанций и другие объекты жизнеобеспечения, включая мастерские, бани, кухни и прочее. Три гидропорта с аппарелями и служебными помещениями были построены в селе Братское на Ангаре, на озере Иркана и в поселке Неляты на реке Витим. На восточном плече трассы кое-где такие порты уже действовали: в городе Совгавань (в Морской бухте), в Комсомольске-на-Амуре, в поселке Норский Склад на реке Селемджё и близ города Зеи на реке Зее. Это были надежные опорные точки, поскольку находились они на транспортных магистралях — судоходных реках или в морской бухте. Про Комсомольск и говорить нечего — туда уже ходили поезда. Там быстрыми темпами строился крупный авиазавод и одновременно подрастали свои кадры летчиков. 12 июня 1937 года в газете «Амурский ударник», посвященной празднованию пятилетия Комсомольска, было напечатано сообщение о первом самостоятельном полете над городом молодых пилотов Алексея Маресьева и Петра Шемендюка. На залатанном учебном самолете в небо поднялись первые курсанты аэроклуба.
Эти базы надо было только укрепить и развить. На западе трассы ситуация тоже более или менее определилась: основным был гидропорт в Нижнеангарске — в тихих лиманах при озере Байкал, затем на реке Витиме (поселок Неляты) — место хотя и труднодоступное, но обжитое и освоенное золотоискателями. Сообщение, пусть нерегулярное, поддерживалось по ледовым дорогам-«зимникам» или сплавом по Витиму.
Оставалось неохваченным пространство от Хани до Тынды, и обрабатывать его было вовсе не с руки. Между тем карты этого участка требовались в первую очередь. Гидропорт решили устроить на реке Олекме в предельно возможной близости к трассе. Подходящий участок реки отыскали примерно посередине пути, вблизи крошечного поселка Среднеолекминска. Правда, добираться туда было тяжело, именно на этом маршруте неудача постигла первую экспедицию Корфа.
Роль метеослужбы выполняли радиостанции изыскательских партий и отрядов, передававших сводку погоды в авиаотряды от двух до шести раз в сутки. На временных базах использовали простейшие метеоприборы, причем краткосрочные прогнозы составлялись по признакам, основанным на многолетних наблюдениях местных жителей.
Первым начальником авиагруппы Бамтранспроекта в 1937 году был назначен Щербаков. Позднее авиагруппу возглавляли: Кормановский, Розинко, Медведицын, Аброскин, Голубовский, Борисов.
Год 1938-й должен был стать переломным в работе над картами участка Тында-Хани. Большие надежды возлагались на новую Олекминскую экспедицию. Туда для организации связи был направлен радист-виртуоз Виктор Ломанович, лучшие летчики и штурманы.
Из сводки ГУЖДС НКВД: «Всего в распоряжении аэросъемочного подразделения Бамтранспроекта в настоящий момент (1938 г.) имеется 11 самолетов, в том числе 5 оборудованы для съемки».
Самолет воздушного боя АНТ-7.
Стереоавтограф системы Дробышева Ф. В., применявшийся при расшифровке аэрофотоснимков трассы БАМа. С его помощью можно объемно увидеть рельеф местности
Гидропорт на Олекме
Последняя группа Олекминской экспедиции отбывала из Москвы «в поле» в июне. Основная часть состава уже была на месте, и практически сезон 1938 года открылся, хотя еще не весь снег растаял в ущельях. Начальник экспедиции Александр Дмитриевич Клочко радовался, что в этом сезоне ему достался талантливый молодой радист по кличке Вал — Виктор Александрович Ломанович. Был он истинным виртуозом эфира. Маэстро быстро развернул радиостанцию, поставил мощную антенну собственной конструкции и с удивительной легкостью налаживал связи с отрядами. В этой местности радиоволны порой вели себя очень странно: то слышимость была великолепной, то вдруг шли искажения, а то и вовсе сигнал угасал. Должно быть, сказывались магнитные аномалии и причудливый горный рельеф. По ночам Ломанович для души работал на коротковолновике, чтобы, найдя в эфире такого же чудака, какого-нибудь новозеландца или бразильца, с удовольствием отстрочить ключом по международному коду свое QSP («Я могу передать») и после обмена любезностями ждать законный приз — почтовую открытку с изображением кенгуру или с панорамой Рио-де-Жанейро.
Весьма обнадеживающе прозвучало выступление нового начальника БАМтранспроекта Федора Алексеевича Гвоздевского на общем собрании ИГР (инженерно-технических работников), начальников отделений и экспедиций Союзтранспроекта, Он заявил, что является сторонникам самого активного применения аэрофотосъемки, рации и новейшей техники с охватом сразу 4000 километров трассы БАМа. «Эпоха скитаний и блужданий по тайге для изыскателей канет в прошлое. На службу им придет авиация, автотранспорт и радио. Не сразу, но мы придем к этому и к новой технике», — закончил свою пламенную речь Гвоздевский. И действительно, многое стало меняться в работе изыскателей. Так, к концу 1938 года число самолетов в авиагруппе возросло втрое, причем шесть машин были оборудованы новыми аэросъемочными приборами.
Экспедиция спешно укомплектовывалась специалистами, аппаратурой, материалами. Изыскатели, на горьком опыте познавшие тяготы таежной жизни, стремились предусмотреть все до последнего гвоздя. Но возникли непредвиденные задержки. Поздно получили новую технику, материалы, приборы, дешифровочную и проявочную аппаратуру, словом, все то, без чего с равным успехом можно оставаться дома, и в последние недели перед отъездом навалилось сразу столько хлопот, что даже по вечерам некогда было послушать радио, раскрыть газеты. Толстой связкой прессу забросили на вагонную полку в расчете на то, что в поезде досуга будет предостаточно. Первые сутки все отсыпались после беспокойных сборов и прощаний с близкими. А потом, когда вступила в свои права вагонная неторопливая жизнь, дошла очередь и до газет.
Газеты были настолько переполнены событиями, что, казалось, обжигали руки. В предыдущую навигацию в Ледовитом океане зазимовало двадцать шесть пароходов, в том числе много ледоколов. Только к весне 1938 года отшумела полная волнений папанинская полярная эпопея. Даже если оценивать событие с точки зрения современной науки, можно сказать, что первая дрейфующая научно-исследовательская станция «Северный полюс», организованная высокоширотной воздушной экспедицией под руководством академика Отто Юльевича Шмидта, показала высокие результаты.
Идея великого норвежца Фритьофа Нансена об использовании дрейфа льдов для исследования природы была блестяще осуществлена, хотя из-за недостатка опыта и знаний о циркуляции арктических льдов работа первой станции была, на сегодняшний взгляд, относительно недолгой — 274 дня, а ее эвакуация проводилась довольно сумбурно, сопровождалась большими потерями и, понятно, стоила очень дорого. Но уроки были учтены: в послевоенные годы такие станции обычно действовали по 3–4 года, причем одновременно в дрейфе находилось до трех хорошо оснащенных «СП». Опасностей не стало меньше, но работы проводились исключительно четко, слаженно.
Зато политический эффект организации первой полярной станции был грандиозным. В начале 1938 года помыслы миллионов людей были сосредоточены на одном: спасти четверку отважных первопроходцев, снять людей с разламывающейся льдины. Вначале отчаянный спасатель, гидрографический бот «Мурманец», застрял в тяжелых льдах у берегов Гренландии. Это была парусно-моторная шхуна каких-нибудь ста тонн водоизмещением — типа китобойца. Подобному суденышку в столь высоких широтах даже появляться очень рискованно.
Всего лишь четыре года прошло со времени челюскинской операции, когда летчики показали себя истинными героями. Но в этот раз, едва только изготовились лететь к терпящим бедствие зимовщикам, льдина начала расползаться на куски, и посадка на лыжах стала невозможной. Летающая лодка тоже не годилась — ей нужна акватория, свободная ото льда. Снарядили дирижабль СССР-В-6. Однако близ станции Белое море воздушный корабль из-за плохой видимости и отсутствия надежных карт врезался в сопку. Погибли тринадцать человек…
К зимовщикам направили ледокольный транспорт «Таймыр» и следом ледокольный пароход «Мурман». Но оставались сомнения — хватит ли у них сил пробиться, поэтому знаменитый ледокол «Ермак» досрочно вывели из Кронштадтского ремонтного дока и тоже двинули в поддержку.
Экстренные сообщения: «Папанинцы увидели прожекторный луч «Таймыра», «Ледоколы выгрузили легкие самолеты на лед. Самолет У-2 (летчик Власов и штурман Дорофеев) летит в гости к папанинцам. Пилот Черевичный с Карабановым на амфибии Ш-2 пробиваются к лагерю…»
Конечно, бамовцы выцеживали из эмоциональных репортажей наиболее интересующие их детали — о работе радиосвязи, транспортных средствах, способах наблюдения, ориентировки, об организации взаимодействия. И невольно переводили взгляд на другие, еще более тревожные политические сообщения: аресты и расстрелы в армии Германии, оккупация Австрии, триумфальное прибытие Гитлера в Вену, похищение гестапо швейцарских антифашистов, полеты германских самолетов над польской территорией, переговоры Гитлера с Муссолини, расправа штурмовиков с антифашистами в Судетской области, военные действия в Китае. Тучи сгущались и на Западе, и на Востоке…
Спасение видели только в одном: крепить обороноспособность, работать лучше, сделать все возможное, чтобы стать неуязвимыми, удержать занесенную для удара руку… Такие мысли и настроения порождало чтение газет. Сводки о посевной, о тоннах выплавленной стали, добытого угля не казались скучными. Они воспринимались как самая обнадеживающая весть: мы сильны, враги не решатся, не осмелятся напасть. А завтра будем еще сильней…
Больше всего, конечно, аэросъемщиков профессионально интересовали действия авиации. Впрочем, в 1938 году люди умели читать газеты между строк. Все знали, например, что наши летчики сражались с фашистами в Испании, воюют в Китае против японских агрессоров. Поэтому с особым вниманием вчитывались в сообщения ТАСС:
«По подсчетам военных наблюдателей, японская авиация в течение апреля потеряла 75 самолетов, в том числе 36 гидросамолетов. Убито 95 японских летчиков. Несколько летчиков взято в плен китайцами…»
«…при попытке бомбить Ханькоу 12 японских истребителей и 3 бомбовоза сбиты. Китайская авиация в бою потеряла 2 истребителя. Летчики спаслись на парашютах».
«Потери японской авиации. За время войны сбито и уничтожено на земле 648 японских самолетов. Убито и ранено 1064 летчика. 27 взяты в плен».
Поражали масштабы военных действий. Быть может, наши газеты преувеличивают? Сомнения рассеивались, когда появлялись сообщения из зарубежной печати. 14 июня «Правда» цитирует материал из английской газеты «Обсервер»: «Гонконгский корреспондент сообщает, что в результате последних бомбардировок общее количество жертв в Кантоне составило от 5 до 20 тысяч мирных жителей». Спустя два дня — новое сообщение: «16 июня 6 японских бомбардировщиков встречены возле Кантона китайской авиацией, вступившей с ними в бой. В результате воздушного боя все японские самолеты были сбиты. Китайские самолеты благополучно вернулись на свои базы».
В этом же номере газеты — заметка из Нью-Йорка: «Германский шпионаж в США» — о судебном процессе над семнадцатью разоблаченными агентами германского шпионского центра.
И вновь Китай: «25 июня китайская авиация подвергла бомбардировке японские военные корабли на реке Янцзы. В результате три корабля потоплены и на двух возникли пожары. Одновременно на аэродроме уничтожено 18 японских самолетов».
Аэросъемщики долго анализировали по школьной карте эту операцию. Значит, китайцы не только отстреливаются, но и сами наносят удары, причем грамотно — с одновременным блокированием аэродромов.
По дипломатическим каналам Япония потребовала от СССР отозвать своих летчиков из Китая. На что нарком иностранных дел М. М. Литвинов заявил в истинно восточном стиле: «претензии японского правительства тем более непонятны, что, по уверению японских властей, в Китае сейчас нет войны, и Япония вовсе не воюет с Китаем, а то, что в Китае происходит, квалифицируется Японией лишь как «инцидент» более или менее случайный, не имеющий ничего общего с состоянием войны между двумя независимыми государствами…»
Газеты, посвященные выборам в Верховные Советы РСФСР, Украины и Белоруссии, состоявшимся 26 июня, были особенно парадны. В «Правде» фотография: у избирательной урны Н. И. Ежов, М. И. Калинин, А. А. Жданов. С начала тридцатых годов выборы превратились в торжественный, жестко запрограммированный ритуал. И надо думать, не случайно именно к этим дням было приурочено событие живое, волнующее: беспосадочный перелет по маршруту Москва — Владивосток. Летчик В. К. Коккинаки со штурманом А. М. Бряндинским стартовали на двухмоторном самолете «Москва» 27 июня в 8 часов 36 минут утра. На аэродроме присутствовали Каганович, Локтионов — начальник ВВС РККА, конструктор Ильюшин.
Репортаж зачитывали вслух. В этом же номере газеты приводились тексты радиограмм о прохождении контрольных точек, в том числе «родных» для бамовцев: Ванавара — Бодайбо — Олекма — Зея — Хабаровск. Аэросъемщики оживились:
— Посмотрите, когда он (Коккинаки) рубеж Олекмы проходил?
— Написано, что 28 июня в 00 часов 23 минуты.
— Это по Москве. Здесь уже было утро.
Всего самолет преодолел расстояние в 7600 километров за 24 часа 30 минут. Средняя скорость составляла 307 километров в час. Это был рекорд.
На следующий день «Правда» писала в передовой статье:
«Шум мощных моторов самолета Коккинаки, несомненно, встревожит тех наших соседей, которые замышляют войну против Советского Союза. Наша могучая страна может в любую минуту выпустить столько быстроходных, мощных машин, сколько…» и т. д.
Рядом с портретами Коккинаки и Бряндинского напечатана еще одна заметка — «Провал беспосадочного перелета германского самолета». Оказывается, чуть ли не в один день с перелетом Москва — Владивосток планировался беспосадочный же полет по маршруту Берлин — Каир — Берлин на дальность 6300 километров. Расчетное время в пути — 24 часа. Однако обстоятельства сложились иначе: «…27 июня с берлинского аэродрома «Темпельсгоф» стартовал четырехмоторный «Кондор» ФВ-200, носящий название «Саарланд». На обратном пути он был вынужден сделать посадку в Салониках. Обнаружилось, что самолет нуждается в продолжительном техническом ремонте и вообще неизвестно, когда он сможет вернуться в Берлин. Чтобы снять пассажиров «Саарланда», из Берлина в Салоники был послан специальный самолет».
Всем было известно, что фашистская Германия создает могучий воздушный флот. И снисходительный тон этой заметки должен был свидетельствовать о том, что у нас есть в запасе нечто гораздо более серьезное и в классе сверхтяжелых воздушных машин.
Действительно, как позже стало известно, в июле 1938 года состоялся первый полет самолета АНТ-42 (ТБ-7) конструктора В. М. Петлякова с агрегатом центрального наддува. Испытания показали, что этот бомбардировщик на большой высоте (потолок 11 250 метров) превосходит по скорости все известные бомбардировщики и не уступает истребителям. На этом самолете дважды-осенью 1941 года в мае 1942 года — советская правительственная делегация во главе с В. М. Молотовым летала в Великобританию и в США на переговоры. Летели не через Аляску, не через Арктику, а нахально напрямую — над всей покоренной Гитлером Европой, над фронтами. Основными заботами оказались штурманские, поскольку система радиомаяков была еще несовершенна, да и в условиях войны следовало остерегаться всевозможных радиоловушек. Штурманами авиации дальнего действия были в основном «арктические волки» такие как А. П. Штепенко — великолепный навигатор и радист. Кстати, в те дни, когда бамовская аэросъемка готовилась к началу полевых работ 1938 года, штурман Александр Штепенко отправлялся на новой двухмоторной летающей лодке на ледовую разведку в море Лаптевых — помогать застрявшему во льдах каравану судов.
Что же касается «Кондора», неудачному полету которого была посвящена язвительная заметка в «Правде», то справедливости ради надо отметить, что Фокке-Вульф Fw-200 оказался неплохим самолетом. Несколько позже, в августе того же 1938 года, он совершил рекордный беспосадочный полет через Атлантику по трассе Берлин — Нью-Йорк, а в ноябре еще два убедительных полета: в Ханой и Токио. Командование Люфтваффе немедленно заказало фирме бомбардировщики на его основе. Уже в следующем году были выпущены первые десять Fw-200 С-0, затем еще десятки, в том числе торпедоносцы, оборудованные поисковым радиолокатором. Впрочем, немецкие военные были не очень довольны этим бомбардировщиком. Один из самолетов этой модификации был сбит над Москвой в ночь с 21 на 22 июля 1941 года. Но как лайнер «Кондор» был отменно хорош и использовался в качестве личного самолета Гитлера.
Бамовцы чувствовали свою прямую причастность к напряженной борьбе со стихией, к острому соперничеству за овладение морскими и воздушными пространствами. Соревнование моторов, техники ожесточилось в преддверии Второй мировой войны, начало которой становилось только вопросом времени.
В соседнем купе четыре здоровяка-пассажира под грохот костяшек домино вели нескончаемый спор. Все четверо одеты были по-вагонному: в одинаковые спортивные штаны-шаровары и майки, но по выправке, по короткой стрижке в них за версту можно было узнать командиров. Темой их спора была входившая в моду теория итальянского генерала Джулио Дуэ, которую он изложил в книге «Господство в воздухе», изданной еще в 1921 году. Отставной дивизионный генерал сформулировал теорию «самостоятельной воздушной войны». Дуэ доказывал, что победа в войне «может быть обеспечена лишь воздушной армией надлежащей мощи». Для этого прежде всего необходимо установить господство в воздухе, лишить противника всех самолетов, авиационных баз и авиазаводов. Дуэ считал, что после завоевания господства в воздухе воздушная армия может «развернуть почти всю свою наступательную мощь, используя ее для того, чтобы сеять разрушения и ужас внутри неприятельской страны и чтобы разбить ее материальное и моральное противодействие».
Немало военных летчиков, особенно молодых, в Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, да и в СССР, всерьез относились к этой идее. Но те, кто постарше, особенно из числа командного состава, имевшего прямое отношение к практической организации полетов, к обеспечению, к реальным оценкам эффективности ударов с воздуха, считали теорию Дуэ «перегибом», фантазией. Например, конструктор Ильюшин после долгих размышлений всерьез воспринял лишь тезис о необходимости завоевания господства в воздухе, а в целом идею Дуэ отнес к разряду авантюр, подобных чисто танковой войне или тотальному подводному террору.
Создатель лучшего штурмовика Второй мировой войны Ильюшин сталкивался и с вопросами управления воздушными силами, причем в условиях жесткого противодействия противника. «Давайте представим себе, — говорил конструктор, — что титаническими организационными усилиями удалось поднять армаду. И вот она, армада, плывет. К победе? Как бы не так! Чем неповоротливей армада, тем меньше шансов на успех. Лишенная маневренности масса теряет в скорости, в радиусе действия, и сама становится все уязвимей. Наибольший эффект может быть достигнут лишь при условии стратегической внезапности (ценой вероломства), да и то лишь на первый период. А дальше начнутся неожиданности, которыми чреваты всякие военные действия, и тяжеловесная доктрина становится обузой. Нет, в жизни все гораздо сложней, чем в мечтаниях генерала Дуэ.
А пока бамовцы, прямые участники всей этой гонки на выживание с удовольствием выходили прогуляться на станционные базарчики, где бабушки точно по расписанию выносили к поездам традиционную вареную картошку с солеными огурцами, грибочки, сальце, вяленую рыбку и прочие вкусные вещи. Пассажиры бегали с чайниками за кипятком и гоняли потом чаи вагонные до седьмого пота. За время пути многие перезнакомились. В соседнем вагоне даже свадьбу сыграли. Все там было, как полагается: гармошка, тосты, подарки, песни.
С этой группой в первую самостоятельную командировку ехала Варвара Михайловна Бутова — молодой бухгалтер экспедиции. В одном купе с ней оказались также ее сотрудница и подруга Антонина Морозова — секретарь-кассир, какой-то неразговорчивый военный и заместитель начальника экспедиции по административно-хозяйственной части Н. Н. Заборский — человек пожилой и рассудительный.
Молодые женщины часами стояли у окон, удивляясь, как много военных на станциях, вообще людей в форме. Иные поезда попадались непонятные, закрытые — с угрюмой охраной. И запахом карболки от них тянуло до жути. В других эшелонах под брезентом угадывались танки, пушки, грузовики, самолеты со сложенными крыльями, остроносые катера на платформах. Такие маршруты стояли не долго. Только паровоз водой заправят, состав загремит буферами — и дальше.
Гудки по ночам, угольная копоть, искры летящие. Два звонка станционного колокола. Семафор открыт?.. Вот и гудок. Поехали!
После Иркутска, когда поезд стал приближаться к Байкалу, Варвара Михайловна боялась уснуть и пропустить момент встречи со «священным морем». И она увидела его как раз при восходе солнца. Ее восторженное восклицание: «Байкал горит!» — разбудило соседей по купе. Заборский даже подскочил на своей полке и схватился за сердце. Он уже много раз видел это. Поворчав немного, зампохоз вновь укрылся одеялом с головой. Великий Байкал между тем торжественно проплывал в окнах. Поезд то и дело погружался в темноту — тридцать девять тоннелей насчитывала Кругобайкальская дорога. На тесных полустанках встречалось много новых бараков, сторожевых вышек — чувствовалось, что охрана дороги усилена.
Военный инженер, стоявший у окна, рассказал Варваре Михайловне, что еще недавно поезда через Байкал перевозили на паромах, а зимой рельсовый путь настилали на лед озера. Правда, паровозы оказались слишком тяжелыми для ледовой дороги, лед под ними трещал, поэтому через озеро перекатывали только вагоны — конной тягой. В вагоны поочередно запрягали лошадей и тянули на другой берег, а дальше вновь сцепляли в поезда. Кругобайкальская дорога — великое сооружение. Строить ее было очень тяжело — сплошь скалы и водотоки. Впрочем, и теперь здесь нередко случаются оползни, камнепады, селевые потоки и землетрясения, поэтому хлопот железнодорожникам здесь очень много.
После Байкала опять потянулась тайга. В открытые окна вагонов то справа, то слева доносился шум быстрой реки. Встречались редкие станции со стандартными строениями из добротных, прямых, как свечи, бревен. Слышнее стал скрип вагонных тележек на поворотах — в Забайкалье железная дорога изобилует крутыми поворотами. Поезд змеей извивался по петлям — «тещиным языкам». Тоннели, спуски, подъемы. Конечно, Транссиб строили еще до революции, техника была слабая. БАМ будет прямее — за счет одной ортодромии на целые сутки сократится путь. Только бы успеть до начала военных действий…
Наконец, станция Могоча — железнодорожная часть пути пройдена. Экспедиционный народ энергично высаживается. Новые знакомцы — попутчики — помогают девушкам выгружать багаж. В Могоче расположена первая и главная перевалочная база Олекминской экспедиции: с железнодорожного на автогужевой транспорт. Отсюда предстоит добираться на грузовике до поселка Тупик. Там будет вторая перевалочная база: с колесного на водный путь. Впрочем, если судить по карте — это совсем близко.
— Сколько километров от станции Могоча до Тупика?
Встречавший их местный шофер как-то неопределенно развел руками.
— Что, не были там никогда?
— Почему? — обиделся он. — Чуть не каждую неделю там бываю.
— Так сколько же километров будет?
— Ну, если зимой, то, надо думать, чуть больше ста, — без особой уверенности в голосе ответил этот странный водитель и сразу перевел разговор на то, что трудно с запчастями и нужно ему идти кое-что в машине подремонтировать.
Начальник экспедиции Александр Дмитриевич Клочко находился уже на перевалочной базе в поселке Тупик и готовил там караван к отплытию на север. Пока снаряжалась в дорогу машина, молодежь — Варвара Бутова, секретарь-кассир Антонина Морозова и два молодых техника, воспользовавшись свободным часом, чуть не бегом поднялись на ближайшую сопку.
К югу от Могочи гряды сопок терялись в синеве. Там была граница, на которой, как в песне, тучи ходят хмуро; там был воюющий Китай. Оттуда доходили сведения о зверствах японских оккупантов, о том, как самурайскими мечами рубят головы китайцам. Число жертв исчислялось сотнями тысяч. И странно — с этой сопки молодым изыскателям, казалось, стало виднее то, что они не могли как следует разглядеть и понять в Москве. День был тихий, солнечный, но тишина казалась настороженной.
С тех пор, как в 1931 году японские милитаристы оккупировали Маньчжурию, на забайкальской границе поселилась тревога. «Дальневосточный Мюнхен» не умиротворил, а лишь раззадорил агрессора. Газеты сообщали о пытках и массовых казнях в Корее. В прессе развернулась кампания вокруг спорных территорий на границе марионеточного государства Маньчжоу-Го с советским Приморьем. Стремясь ослабить сопротивляемость народов Китая и Кореи, оккупационные власти намеренно способствовали распространению наркотиков, творили жестокий произвол.
Японская авиация терроризировала население. Горели города Китая. Пользуясь многократным перевесом в вооружении, самураи неуклонно продвигались в глубь страны. В конце 1937 года советское правительство направило летчиков-добровольцев и авиационную технику на помощь китайскому народу. По воздушному мосту Алма-Ата — Ланьчжоу — Ханькоу была налажена перегонка самолетов, доставка экипажей. Сталин не испытывал ни малейшего доверия к Гоминьдану. Но добровольцам говорили, что в небе Китая они защищают Родину. Так оно и было: с военно-политической точки зрения, полная оккупация японцами Китая развязала бы милитаристам руки для более дерзких планов относительно Дальнего Востока и Сибири. Так что сшибка в небе Китая происходила всерьез. Речь шла не просто о «спокойствии наших границ», а о том, быть или не быть большой войне на Дальнем Востоке. Всего с октября 1937 по октябрь 1939 года СССР поставил Китаю 985 самолетов, более 1300 орудий, свыше 14 тыс. пулеметов и другое военное имущество. Двести наших летчиков погибли, защищая небо Китая. И кто знает, какую беду они предотвратили ценой своих жизней…
С вершины сопки, где стояли молодые изыскатели, были видны серебряные нити рельсов. Через станцию Могочи по Транссибу безостановочно шли поезда с грузами, пассажирами. А к северу простиралась бескрайняя тайга. Граница рядом. Оборвутся нити рельсов — и весь громадный Дальний Восток будет отрезан от промышленного центра. Туда, на необжитый север, пойдут строители, чтобы за горными хребтами проложить вторую мощную линию обороны. Там возникнут города, рудники, аэродромы… Но для этого нужна точная карта. Для начала — аэрофотоснимки.
Водитель могочинской перевал базы не зря уклонялся от прямого ответа: летом забайкальский автодорожный километраж ни о чем не говорит. До Тупика добирались целых два дня.
Дорога узкой лентой вьется между сопками. Она проложена по вечной мерзлоте. Зимой полотно держится крепко, а теперь дорога разбита, размята, перемолочена колесами, вся в канавах и топях. Это, в сущности, «зимник», который летом приходит в полную негодность. Но ехать надо. Грузовик-трехтонка ЗИС, загруженный бочками с горючим для самолетов, ныряет в рытвины порой по самые борта. Тогда все вылезают из машины, рубят жерди, выстилают впереди гать. Потом вагами — деревянными рычагами размером в телеграфный столб — приподнимают машину, толкают ее вперед, погружаясь сами по колено в топь.
Над машиной белесым облачком кружатся какие-то неведомые горожанам мелкие бабочки, комары и злые пауты, от укусов которых вспухают на лице волдыри. На белокожих москвичек эта голодная туча набрасывается с особенной жадностью. Так, во всяком случае, казалось Варваре Бутовой.
Вот, вылезли из очередной топи и снова поехали на подъем — по камням, по корневищам, по размочаленным стланям. На перевале холодно даже днем — все понадевали телогрейки, но здесь хоть нет трясины. Заночевали в тайге. И весь следующий день до самого вечера — то ехали, трясясь на бочках, то толкали перед собой машину.
Тупика достигли часов в шесть вечера. Прибывших встретил начальник экспедиции Клочко.
— Карбасы и катер готовы, — объявил он вновь прибывшим. — На рассвете двинемся в путь.
Видно было, что ожидал он эту последнюю группу с нетерпением. Что сказать о начальнике экспедиции? Те, кто работал с Александром Дмитриевичем хотя бы один сезон, старались вновь попасть под его начало. Отзывы были лаконичны до предела: «правильный мужик», «настоящий», «четкий организатор». Между тем, руководителем Клочко был очень взыскательным, даже строгим, хотя в обхождении был прост, доступен, не стремился держать дистанцию. Молодежи импонировала его энергия, решительность к личная смелость. Опытные изыскатели особенно ценили в нем внимание и предусмотрительность.
В этот раз Клочко никому не дал передышки: «На карбасах отоспимся». Нельзя было терять ни дня — могла измениться навигационная обстановка на капризной реке. Пройти 350 километров по Тунгиру на самодельных баржах — не шутка. Поэтому бухгалтеру Бутовой, как ни устала с дороги, отдыхать не пришлось. Надо было выверить накопившуюся финансовую и материальную отчетность перевалочной базы. Контроль был строгий, под стать суровому времени.
До двух часов ночи просидели бухгалтер с завбазой над документами. В третьем часу, к рассвету, подписали акт. Сразу пошли на берег. Сырой туман стелился над рекой, но видимость была достаточной. Таежный Тунгир казался тихим и спокойным. Люди уже перебрались на карбасы; на катер и только ждали сигнала, чтобы немедленно двинуться в путь. Застучал мотор; убраны сходни. «Счастливого плавания!» — донеслось с берега.
От Тупика до гидропорта 350 километров сначала по Тунгиру, потом по Олекме. Карбасы были подзагружены основательно, но шли довольно ходко, хотя река в этих местах извилиста, много порогов, прибрежных ловушек, и шкиперам надо быть очень внимательными. Но они — люди опытные и свое дело знают. Карбасы — суденышки разовые, делают их плотники на скорую руку — для перевозки грузов в один конец, только вниз по течению. Добравшись до места, карбасы обычно разбирают на постройку жилища или просто пускают на дрова. Вверх по течению такую неуклюжую баржу катером не вытянуть. Путь от Тупика до гидропорта карбасы обычно «пробегают» дней за семь-девять, в зависимости от скорости течения и направления ветра, и если, конечно, не застрянут на перекате. В этот раз шли с буксировкой, так что задержки не должно было быть.
Днем, пока тепло, Клочко, Заборский, Бутова и Морозова плыли впереди, на открытом катере. По вечерам караван приставал к берегу на ужин и ночевку. Обычный распорядок в экспедиции — чтобы меньше терять светлого времени — двухразовое питание: плотный завтрак, сытный ужин, а днем, в лучшем случае, холодный чаек (очага на карбасе не разведешь — рядом бочки с авиабензином) или просто сухарик. На сплаве время дорого. Вдруг завтра туман упадет — будешь стоять да локти кусать. В сумерках приставали к берегу, разводили костер, отваривали макароны с консервами и чай по всем правилам. Ночевать устраивались на карбасах: казалось, в них как-то спокойней, чем в тайге. Перед сном по радиостанции слушали передачи из Хабаровска.
В те дни по радио много говорили о рекордном перелете трех военных летчиц: старшего лейтенанта Полины Осипенко, старшего лейтенанта Веры Ломако и штурмана-радиста лейтенанта Марины Расковой. 2 июля они прошли без посадки по маршруту Севастополь — Киев — Новгород — Архангельск. Весь путь от Черного моря до Белого протяженностью 2416 километров они преодолели за 10 часов 33 минуты со средней скоростью 228 километров в час. На месте посадки спортивные комиссары произвели замеры остатков горючего в баках и внесли в акт: бензина 200 кг, масла 10 кг. Барограф под пломбами отправили в Москву.
Поздравительная правительственная телеграмма подписана была по высшему разряду: Сталин, Молотов, Ворошилов, Калинин, Каганович и Ежов.
Для бамовских аэросъемшиков этот полет представлял особый интерес, поскольку он был совершен на гидросамолете МП-1 — из той же серии, как и те, на которых они работали. И тут любые подробности были очень ценны. Важно то, что машина не специальная, а типовая, притом морская, а оказалась весьма надежной над сушей — когда летели, к рекам летчицы особенно не жались. Предпочитали иметь запас высоты для планирования. Держались в основном на уровне 4500 метров. Выше без маски нельзя, а запас кислорода небольшой: тяжелых баллонов взяли поменьше, только на случай, если понадобится уходить от грозы на высоту. От Киева до Новгорода практически вели машину в слепом полете. Связь с землей, если верить сообщению, держали бесперебойно. Ну, то, что из Севастопольской бухты поднимались тяжело — оно и понятно: загрузка полная, а температура воздуха в Крыму высокая. Вот только надо бы разобраться, почему у них над Онегой обледенение произошло. Хотелось бы узнать подробней, как вела себя машина, ведь в подобную ситуацию могут попасть и бамовские лодки.
Это был уже не первый женский официальный рекорд, установленный замечательной летчицей Полиной Осипенко для гидросамолетов. В мае 1937 года она совершала подъемы на высоту без груза и с контрольным грузом 500 кг и 1000 кг. Установлен для машины и практический потолок — 7150 метров. В мае 1938 года — рекорд дальности по замкнутому маршруту. И, наконец, последний полет принес сразу два рекорда — на дальность по прямой и по ломаной линии. Практическая дальность определена была для машины в 800 километров. Словом, летающая лодка внушала надежды на успех в аэросъемке.
МБР-2 — ближний морской разведчик, он же МП-1 бис — аэрофотосъемщик, самолет чистого неба
Стоит подробней рассказать об этой машине, поскольку в делах аэросъемки трассы БАМа она сыграла главную роль. Создателем этой красивой летающей лодки-моноплана был молодой конструктор Георгий Михайлович Бериев. Вообще-то он отдавал предпочтение металлу, но алюминия не хватало для бомбардировщиков и штурмовиков, пришлось обратиться к древесине.
Опытный экземпляр МБР-2 (морской разведчик и легкий бомбардировщик ближнего радиуса действия), прозванный «амбарчиком», построили в Москве в 1932 году. «Амбарчик» оказался прочен и надежен, имел простое и приятное управление. В первом же полете самолет показал превосходные летно-технические характеристики, значительно лучшие, чем у зарубежных машин подобного типа. Лодка обладала к тому же хорошей устойчивостью и мореходностью. Для использования самолета зимой на лыжах сконструировали специальное шасси. Это была машина с экипажем в три человека и общим полетным весом чуть более четырех тонн, способная нести до пятисот килограммов бомб. Устанавливались и два пулемета: один впереди, у штурмана, второй в задней кабине стрелка-радиста, правда, с ограниченным сектором обстрела. Пулеметы ставили секретные — ШКАСы, имевшие невероятную скорострельность: 1800–2000 выстрелов в минуту.
5 августа 1933 года на совещании у Сталина рассматривался вопрос о морской авиации, и хотя авторитетный конструктор Туполев пренебрежительно назвал МБР-2 «деревяшкой», машина была принята на вооружение авиации ВМФ. Четырем советским флотам нужны были сотни воздушных разведчиков, а самолеты, причем не самых передовых конструкций, приходилось покупать за границей, в основном в Италии и Германии.
После испытаний МБР-2 передали Таганрогскому авиазаводу для серийного производства. Выпускались такие самолеты и без вооружения, причем в больших количествах. Они назывались МП-1 (морской пассажирский), МП-1Т (транспортный), МП-1 бис. Некоторые оборудовались шестью креслами в комфортабельном салоне. Гражданский вариант самолета, как это ни странно, обладал лучшими летными качествами, чем боевой. Происходило это за счет улучшения аэродинамики: не было ни пулеметной турели, ни бомбодержателей. Самолеты МП-1 эксплуатировались на авиалиниях Сибири, Дальнего Востока. На Черном море они обслуживали линии Одесса — Сухуми — Батуми и Одесса — Ялта. Однажды МП-1 совершил вынужденную посадку в море и выдержал девять суток дрейфа при штормовой погоде.
МП-1 широко использовались на Севере для перевозки пассажиров, почты и самых разных грузов, в ледовой разведке и для поиска косяков рыб. Всего таких лодок было выпущено в Таганроге 1365 — тоже своего рода рекорд, и ни одна не разбилась из-за конструктивных просчетов.
Впервые тихоокеанские МБР-2 приняли участие в конфликте с японцами в районе озера Хасан — вели дальнюю морскую разведку на подходах к Владивостоку и Посьету, но боевых столкновений с противником не имели. В принципе, фанерные лодки уже к концу 1930-х годов считались морально устаревшими, не предназначенными для полетов в сложных метеоусловиях, дневной разведки и тем более воздушного боя. Причины тому — тихоходность, малая бомбовая нагрузка, слабое оборонительное вооружение. В частности, прицельная стрельба из ШКАСа открытой передней кабины была возможна только до скорости 210 километров в час: при повышении скорости сильный напор воздуха отрывал стрелка от оружия. В 1940 году выпуск МБР-2 прекратили. Однако «амбарчики», обладая высокой устойчивостью и маневренностью, оказались эффективными в поисках подводных лодок и распознавании минных полей, в спасении на море экипажей сбитых самолетов, потопленных судов.
Возможно, в этом состоит исторический курьез, но именно наш патруль — пара МБР-2 — экипажи старшего лейтенанта Трунова и лейтенанта Пучкова во время разведки в Финском заливе в 3 часа 30 минут первыми обнаружили боевые действия неизвестных кораблей в «белую ночь» на 22 июня 1941 года на Балтике. Морские разведчики подняли тревогу и дали возможность нашему флоту подготовиться к отражению удара. На Черном море лодки Бериева первыми нанесли чувствительный бомбовый удар по нефтяному порту Констанца. И позднее, в ночь с 10 на 11 августа 1945 года, шесть летающих лодок совершили первую воздушную атаку на японскую военную базу на Южном Сахалине.
На Балтике, на Белом и Черном морях и в Арктике МБР-2 выполняли сложные задачи: сопровождали наши корабли, выслеживали вражеские подводные лодки, нападали на них, отыскивали караваны судов противника, были «наводчиками» при торпедоносцах, высаживали разведгруппы, поднимали с моря тонущих моряков и летчиков, сами нападали на небольшие суда — обстреливали и топили их бомбами. Они появлялись преимущественно по ночам, всегда внезапно и обрушивали на вражеские корабли, береговые батареи и аэродромы свои полтонны бомб. Германское командование считало, что МБР-2 причиняют много вреда, и поощряло своих истребителей на охоту за русскими «морскими корсарами». Обычно истребители старались подкараулить их у берегов, при возвращении с морской разведки. Для летающей лодки единственным спасением был маневр над самой водой, на высоте, смертельно опасной для истребителя.
МБР-2 соответствовали своему назначению. Но время их кончилось и грозной эту «рабочую лошадку» уже нельзя было назвать. Малая скорость делала самолет уязвимым для зениток. Пулеметы системы ШКАС резали словно ножом, однако калибр у них был винтовочный, а дальность стрельбы невелика. Истребитель мог спокойно расстреливать лодку из авиапушек или крупнокалиберных пулеметов с безопасного для себя расстояния. Верно, бывали случаи когда морские разведчики сами сбивали истребителей. Так 24 февраля 1942 года на траверсе Аю-Даг летчик В. Герасин и штурман В. Бялик в течение часа вели воздушный бой с двухмоторным истребителем Ме-110 «Ягуар», обладающим почти вдвое большей скоростью (у МБР-2 максимальная до 250 км/час), вооруженным четырьмя пушками и двумя пулеметами, и победили. Чаще всего МБР-2 использовались как ночные бомбардировщики. Осенью 1941 года, когда немцы рвались к Ленинграду, экипажи МБР-2 совершали за ночь по 6–8 боевых вылетов. Эскадрилья лодок прикрывала и Дорогу жизни на Ладожском озере.
Но все-таки это была нежная птица, которую надо было беречь и выпускать только с учетом ее возможностей. Что называется, самолет чистого неба. А война, как известно, место для выбора оставляет редко. МБР-2 посылали даже на бомбометание по таким укрепленным объектам, как Керчь. Там небо кипело разрывами зенитных снарядов. Прямо в воздухе горели и разваливались фанерные аппараты: осколки прошивали их насквозь. Немногочисленные уцелевшие лодки возвращались и тонули у своих берегов, изрешеченные пулями. Но задачу свою они выполнили, дали возможность стране продержаться в самый трудный период и произвести перевооружение. Бросали их даже на защиту Сталинграда. В безводных степях Калмыкии лодки успешно бомбили военные объекты противника.
Неоценимую помощь оказали эти машины в ходе обороны Севастополя. При эвакуации они принимали на борт столько раненых, что не могли взлететь и как катера шли до Феодосии по морю, и только потом, с полупустыми баками, поднимались в небо. К сожалению, ни одной из почти полутора тысяч машин не сохранилось даже в Таганроге. Фанера истлела, только память осталась.
Что же касается аэрофотосъемки, тут МП-1 бис вполне соответствовал задачам. Тем не менее, морским летающим лодкам требовались надежные акватории. К новому гидропорту на Олекме как раз и приближался караван груженных бензином карбасов. Вел караван начальник экспедиции Клочко.
Прибытие геодезического отряда с караваном вьючных оленей. Во время переходов хрупкие измерительные приборы — теодолиты, нивелиры — геодезисты несли на себе.
Дом фотолаборатории и общежития.
Из воспоминаний В. М. Бутовой: «День был хороший. Мы сидели на крыше карбаса и любовались совершенно необыкновенными берегами реки: то мелкий кустарник, то высокие пихты, то вдруг неожиданно обрывистые скалы с порогами, созданными рекой. Очень красиво… Когда видела раньше в кино такие места, то казалось, что это декорации…
Как прекрасна молодость, когда она насыщена стремлением видеть мир во всей его самобытности, приложить и свои руки к доброму, нужному людям, не теша себя комфортом, асфальтом, модными туалетами. Плыть на карбасе в ватных брюках (тогда еще у женщин брюки не были в моде), телогрейке, красной косынке…
Вечером Тунгир как бы затихает. Устраиваясь под крышей карбаса на ночлег, услышали радиопередачу: на «Мосфильме» идут съемки звукового художественного кинофильма «Александр Невский». В главной роли снимается любимый киноартист Николай Черкасов. Музыку написал композитор Александр Прокофьев. В массовых сценах принимают участие почти полторы тысячи человек, в том числе целая воинская кавалерийская часть. Перечислялось, сколько пришлось потратить алебастра, мела, оплавленного стекла и фанеры для съемки сцен Ледового побоища. Бывалые аэросъемщики развеселились: к нам, в Чару надо было приезжать, на Лурбун и Интамакит. Там наледи такие, что за лето не успевают растаять — бери лед бесплатно и сколько хочешь…»
Путешествие проходило на редкость спокойно. На седьмой день за мысом открылся просторный плес и низенький поселок изыскателей на берегу. Это было 12 июля 1938 года. Шел дождь.
На Олекме устройство гидропорта было закончено еще с прошлой осени. Фанатик эфира радист Виктор Ломанович оставался здесь на зимовку и теперь вполне мог считаться старожилом. В руках Ломановича любая радиоаппаратура играла и пела, поэтому изыскатели постоянно были в курсе важнейших новостей с Большой земли. Собственно, самые драматические события происходили у них под боком, хотя сообщения шли через Москву. 28 июля 1938 года на наш пограничный наряд в составе одиннадцати человек на сопке Безымянной напала рота японских солдат. Бой был неравный и жестокий. Все наши пограничники были ранены или убиты. Японцы спешно укреплялись на захваченной территории, наращивали силы. У озера Хасан они сосредоточили две пехотные дивизии, пехотную бригаду, отдельные танковые части и семьдесят самолетов. Конфликт продолжался до 11 августа и закончился полным разгромом агрессора. Тогда впервые прозвучала в эфире фамилия командира 32-й стрелковой дивизии полковника Н. Э. Берзарина — будущего первого коменданта Берлина. В решающей операции по очищению нашей территории от самураев, разработанной в штабе Блюхера, кроме артиллерии, танков и пехоты принимали участие сто восемьдесят бомбардировщиков и семьдесят истребителей.
Охотно делясь новостями, Виктор Ломанович любил повторять: «Нет связи — нет авиации». Связь на Олекме заработала, появилась и авиация. И если в прошлую навигацию карбасы шли груженные фуражом для лошадей, то теперь основную массу грузов составляли бочки с бензином и маслом для самолетов.
Перед тем как принять первые машины, всю акваторию тщательно протралили, то есть промерили шестами, подорвали динамитом надводные и подводные скалы, которые могли представлять опасность для гидросамолетов. Подчистили и подходы — убрали с пути взлета-посадки высокие деревья. Палаточный городок выглядел образцово. Это не какой-нибудь цыганский табор с пестрыми шатрами. Палатки были установлены на срубы с деревянными полами, с дверными рамами и натянуты на каркасы без единой морщины, чтобы брезент меньше намокал и быстрее высыхал. Спали не на нарах вповалку, а на индивидуальных топчанах. Аккуратные тумбочки, полочки, стол. Самая длинная черная палатка из особо плотного брезента, где установлены были длинные монтажные столы, предназначалась для полевой фотолаборатории и фотограмметрического цеха.
Главное сооружение — аппарель для подъема и спуска на воду гидропланов. Это наклонная деревянная площадка из стесанных сверху бревен. С боков бревна схвачены железными скобами и зажаты поперечинами, чтобы не разъезжались. Площадка полого спускается в реку, ее так и называли — Спуск.
Гидросамолет СССР-Ж-3 (МП-1) на аппарели в гидропорту Витимской экспедиции 1938 г., пос. Неляты на р. Витим.
Ангар в Олекминской экспедиции 1938–1939 гг.
Севший на воду гидросамолет буксировали катером — клиперботом к берегу. Там водолазы в гидрокостюмах подводили под самолет колесную тележку и подцепляли трос. На берегу стоял ворот, деревянный и очень скрипучий, который вращали и, наматывая трос на барабан, вытягивали машину хвостом вперед из реки на ровное место для осмотра, просушки лодки и ремонта. Вот и вся таежная аппарель. Но на дальневосточных буйных реках за аппарелью надо было очень внимательно следить, чтобы ее не подмыло и не унесло течением. Для защиты самолетов и склада горючего расставлены были зонтики-грибки с подвешенными фонарями типа «летучая мышь». На высоком столбе развевался длинный полосатый колпак-колдун, показывавший пилотам силу и направление ветра.
Гидропорт действовал, и забот хватало всем: и приезжим москвичам, и нанятым в забайкальских поселках местным рабочим. По воскресеньям все, кто был свободен от полетов и от дежурств, брали в руки пилы, топоры, лопаты и шли вырубать лес вокруг поселка. Нужно было окопать защитную полосу на случай таежного пожара. Вокруг палаток мастерили деревянные тротуары и помосты, чтобы ноги не застревали в топи. Мерзлота оттаивала и чавкала под сапогами. Комары становились все злее, лица у многих вспухли от укусов. Только на открытых для ветра местах можно было работать без накомарников.
Центром поселка фактически была не контора, а именно Спуск. Туда, поближе к самолетам, на сухой и теплый помост, пахнущий свежей древесиной, смолой, тянуло всех, как магнитом. Спуск был и местом производственных собраний экспедиции, и площадью, где отмечались самые значительные события в жизни аэросъемки и два особо почитаемых летних праздника: День железнодорожника и День авиации. Там по особо торжественным случаям вывешивали флаги, плакаты и портреты вождя Сталина и железнодорожного наркома Кагановича. На собрания, на праздники, на репетиции хора самодеятельности, на танцы под гармошку или под патефон приходили обычно с букетами из веток, а проще говоря, с вениками, чтобы отмахиваться от комаров и мошкары. Впрочем, место было действительно красивое, и стоило чуть потянуть ветерку, как мошкара исчезала, и можно было вдоволь полюбоваться пейзажем, поговорить о новостях. На Спуске вывешивалась и стенная газета, где отмечали тех, кто сумел сделать что-нибудь особенно полезное для общего дела. Там распевали песню собственного сочинения на мотив популярной тогда «Каховки» съестными вариациями — про «наш гидропорт», про «Олекму родную»…
Клочко был хорошим руководителем» Из бесконечной череды неотложных дел Александр Дмитриевич умел выделять главную цель и ориентировать на нее буквально всех до единого. Этой целью было — составить карту. Естественно, что в центре внимания оказались два аэросъемщика — Кириллов и Румянцев — и три летчика — Иванов, Дворников и Ефимов. Они были на острие атаки. Надо было организовать дело так, чтобы из короткого летнего сезона не упустить ни одного часа, ни минуты летно-съемочной погоды. Остальное можно будет наверстать зимой. За работу аэросъемщиков болели все: и водолазы, и радисты, и техники, и завскладом Фомичев, который с помощью небольшого движка обеспечивал лабораторию и палатки электроосвещением. Каждый погожий день встречали с нескрываемой радостью: значит, самолеты сегодня вылетят на аэросъемку и будет охвачена еще часть трассы. Машины с утра уходили по маршрутам. Если же погода для съемки не годилась, но все же летать было можно, экипажи занимались перевозкой людей и грузов по участкам. Тех, кто умел хорошо работать, мало сказать, уважали — их любили, смотрели на них, как на героев. Кстати сказать, за ударную работу и платили тоже здорово, не скупясь.
Правда, «длинные рубли» сыграли нехорошую шутку с одним из молодых авиамехаников. Вернувшись «с поля» в Москву, он однажды здорово провинился. В театре драмы имени Пушкина скупил все билеты на спектакль и уселся в зале вдвоем со своей барышней. Артисты, естественно возмутились, отказались играть. Вышел ужасный скандал, сначала механика честили по комсомольской линии за «купеческие замашки», а потом хоть и простили — механик он был толковый, — но еще долго на собраниях ораторы по разным поводам вспоминали этот яркий эпизод, хотя и не называя имени и употребляя множественное число: «А то ведь есть у нас отдельные товарищи, которые…»
Связь с Большой землей, с базами» таежными наземными партиями и отрядами, а также наблюдения но трассе за полетами гидросамолетов осуществлялась по радиотелефону. Руководил организацией радиосвязи Владимир Петрович Ярославцев — высококвалифицированный инженер радиослужбы. Человек талантливый и страстно любящий свое дело, он способен был буквально на чудеса. Про него говорили, что может принимать радиосигналы чем угодно, хоть на кроватную раму с металлическими пружинами, хоть на зубную пломбу.
Всего в Олекминской экспедиции было четырнадцать радиостанций. Когда самолет вылетал из гидропорта, с каждой точки — наблюдатель сообщал о прохождении машины. Радиосвязь держала штаб экспедиции в курсе дел каждого отряда, находящегося в глубине тайги. На борту МП-1 тоже были рации, но скверного качества — работали плохо, можно оказать, по настроению, и надеяться на них было рискованно.
Впрочем, иногда и бортовые станции работали устойчиво. Был даже случай, когда только рация помогла летающей лодке совершить благополучную посадку на озеро Иркана. Сплошная облачность неожиданно закрыла в тот день горное озеро. Никаких локаторов, ни даже АРК — (аэрорадиокомпасов) в помине не было. Горючее кончалось, и положение казалось безвыходным. Тогда два наблюдателя вышли на берег и на слух, по звуку мотора стали пеленговать, определять местоположение самолета, кружившего за облаками, а радист передавал ориентировку на борт. Выбрав подходящий момент, он скомандовал пилоту: «Давай! Садись…» В отчаянно крутом пике лодка пробила облачность и плавно опустилась на озеро.
Однако в целом наземные рации были гораздо надежней бортовых. Телеграммы служебные и личные, адресованные на Иркутскую базу экспедиций, тут же по радио передавались в гидропорты.
«Сидишь, бывало, работаешь в дощатой избушке-конторе, — вспоминала Варвара Михайловна Бутова. — За перегородкой дежурный радист Серафим Копейкин или Надя Шубина. Только и слышишь: «Внимание, внимание! Говорит гидропорт, радиостанция эр-цэ-а-и-хэ (РЦАИХ)… Я вас принял-понял, перехожу на прием…» Эта фраза стала ходовой среди молодежи экспедиции: «Я вас принял-понял!»
Однажды из Тупика по рации передали: «К вам на карбасе плывет корова». Все обрадовались — соскучились по молочку и надеялись, что хоть по полкружечки в неделю да перепадет — чай забелить. Чуть не всем поселком вышли на Спуск встречать караван по первому разряду. Развеселившись, вывесили флаги и потешные лозунги. А по соседству — портреты Сталина и Кагановича и соответствующие серьезные плакаты.
Начальнику экспедиции особо бдительный товарищ намекнул: удобно ли?.. Клочко на всякий случай посуровел: «При чем тут рыжая корова?! Встречаем караван с горючим для самолетов и продовольствием для людей. А это для нас праздник».
К сожалению, оказалось, что корову прислали яловую; она годилась только на мясо. В октябре, когда в гидропорту уже заканчивалась работа, загорелась конторская дощатая изба. Произошло это заполночь, когда Варвара Бутова сидела за столом и завершала финансовый отчет, чтобы утром отправить его в Бамтранспроект самолетом, который шел на Иркутск. За спиной молодой бухгалтерши топилась печка-времянка, типичная буржуйка с трубой, выведенной в потолок. Чердак под дощатой крышей для тепла был засыпан обыкновенным мхом. Олений мох — изолятор отличный, не хуже хлопка. Северные народы используют его не только утепления жилища, но и, например, закладывают маленьким детям в подгузничек — влага впитывается, а ребенок остается сухим и не мерзнет. Но сухой мох, как и хлопок, имеет одну опасную особенность: загорится — не погасишь. Становилось холодно на дворе, избушку продувало, и печка гудела все чаще. Периодически Варвара Михайловна подкидывала в печку дрова-чурки. И вдруг, подняв голову, увидела, что в щели возле трубы бьется пламя. Выскочила на улицу, глянула: крыша горит. От испуга Бутова начала кричать и бегать вокруг дома. А пламя становилось все сильней. Позже летчики дружески посмеивались над молодой бухгалтершей, потому что кричала она не то, что обычно кричат в подобных случаях: «Помогите!», «Пожар!» или «Горим!», а почему-то: «Товарищи!.. Товарищи!..» Громко и пронзительно. Когда товарищи выскочили из палаток, объяснять уже ничего не нужно было — крыша полыхала. Увидев, что не одна, Варвара Михайловна сразу обрела самообладание. Ринулась в избу, наполненную дымом, свернула на столе клеенку со всеми документами. Скомандовала летчикам: «Шкаф тащите! С документами шкаф…» Быстро выволокли все до последней бумажки, прикнопленной к стене, и отнесли на берег реки.
Домишко спасти не удалось, сгорел дотла. Радиостанцию тоже вытащили, но за хлопотами к очередному сеансу связи опоздали. И хотя радиосвязь скоро наладили, чуть ли не на следующий день в гидропорт на Олекму прибыло районное начальство дознаваться о причинах происшедшего пожара и перерыва в работе радиостанции. Сотрудник НКВД опросил Бутову как свидетеля, однако на том дело не закончилось. Когда последняя группа вышла из тайги, ее, Бутову, ждали для доследования — как главную свидетельницу и возможную виновницу пожара, поскольку в помещении в тот момент находилась она одна. И хоть ущерб был небольшой — сгорело временное дощатое строение, дело могли повернуть самым неприятным образом.
По роковому совпадению пожар произошел именно в те дни, когда вся страна искала «Родину» — потерявшийся где-то в тайге самолет Валентины Гризодубовой. А тут непонятный пожар на радиостанции, находящейся на трассе перелета.
Ликвидация
По ночам становилось все холодней. Наконец выпал снег и закрыл сезон полевых изыскательских работ 1938 года. Именно снег, а не холод заставлял изыскателей уходить на материк: под снежным покровом поверхность земли делалась нераспознаваемой. Весь добытый аэрофотосъемочный материал, уже обработанный фотолабораторией и смонтированный фотограмметристами, был тщательно упакован и вместе с данными возвратившихся из тайги наземных партий топографов вывезен большими гидросамолетами в Иркутск и Читу. Вместе с драгоценными ящиками с изыскательскими материалами на материк были вывезены и почти все участники экспедиции.
Поселок преобразился. Сняты и убраны были жилые палатки. Остались только каркасы — как скелеты — вид печальный. Оборудование лагеря упаковали и убрали на зимнее хранение в складские деревянные помещения до будущей весны, до нового сезона, в который предстояло завершить съемку участка трассы. Разобрали по бревнышку нижнюю часть аппарели, чтобы ее не срезало весенним ледоходом. На таежной базе Олекминской экспедиции наступила непривычная тишина.
Отъезд с места базирования.
В планах работы изыскательских экспедиций есть специальный раздел, без которого никто не имеет права выходить в поле. Он озаглавлен «Свертывание работ и эвакуация». Там изложены правила еще более строгие, чем на работы по развертыванию исследований. Ликвидация пунктов базирования происходит по нескольким схемам: одни выходят из района исследований пешком вьючными караванами — с лошадьми или оленями, другие на катерах, лодках или плотах, третьи на самолетах. И надо было проследить и четко зафиксировать прибытие каждого на Большую землю. Шутка ли: оставить в тайге человека или группу без помощи, без продуктов и средств жизнеобеспечения — это почти верная гибель.
Однажды на озере Читканда перед открытием сезона — это было в начале июля 1939 года — летчик Дворников и штурман Кириллов опустились на МБР-2, чтобы проверить сохранность склада, оставленного с осени. Крылатая лодка на малых оборотах вошла в бухточку, как вдруг с берега прыгнул в воду черно-бурый зверь и поплыл к самолету. Оказалось, что это собака, оставленная по недоразумению в прошлом сентябре. Худая, облезлая, плывет и визжит. Чудом она тут перезимовала. Ей удалось прокопаться между плахами склада. Под ними жила, муку ела, снегом запивала. Такого, видно, натерпелась, что месяца два все к ногам людей жалась, не отходила. Потом немного обвыклась, но зорко контролировала все перемещения экспедиционного народа: как только начиналась посадка в лодку или на самолет, бросалась, расталкивая всех, и усаживалась первая. Приходилось за шкирку ее выволакивать — так сильно боялась она вновь остаться одна в тайге.
Эвакуация гидропорта на Олекме в 1938 году происходила с отклонением от плана. Здесь оставались пять человек во главе с начальником экспедиции Клочко. «Капитан» запланировал уйти с базы последним. Кроме него, в группу входили завскладом, он же электрик Фомичев, который настаивал на своем праве окинуть прощальным взглядом замки и пломбы, две женщины — Бутова и Морозова и, наконец, последний — развозящий — молодой летчик Евгений Ефимов.
По плану ликвидации Ефимову предстояло на легким трехместном гидросамолете Ш-2 вывезти из тайги геодезистов, а затем перебросить на Большую землю оставшихся в гидропорту Олекма людей. Однако неожиданность спутала все карты. Самолет Ефимова в назначенное время не вернулся.
Вначале, когда Женя на своей амфибии-«шаврушке» улетел за последними двумя начальниками партий, на Олекме все были заняты сборами в дорогу. Но затем началось томление на упакованных узлах, которое сменилось нарастающей тревогой. Вот они — сложности периода ликвидации: система радиосвязи уже свернута. Дело в том, что радиоаппаратура была увесистая, и ее вывозили на больших машинах. Сутки проходили за сутками, а самолет Ефимова все не возвращался. Стало ясно: что-то случилось.
Наступило резкое похолодание. Выпал густой снег. По всему течению Олекмы пошла снежница, затем плотная шуга. В такую ледовую кашу посадка гидросамолета стала невозможной. А из-за глубокого снега амфибия теперь не могла сесть и на берегу. «Шаврушку» еще не переставили с колес на лыжи. Да и куда садиться — лед еще не стал, на реке сплошные торосы, а на суше рыхлые сугробы. Единственное что оставалось — попробовать сесть лодкой на заснеженную речную косу, но это риск…
Тревога за товарища, неизвестно где пропавшего вместе с самолетом, угнетала всех и особенно начальника экспедиции. Александр Дмитриевич часами ходил один по опустевшему лагерю, беспрестанно курил, возвращался еще более мрачный, почерневший. Он любил своих людей, а летчиков особенно. Мысль о том, что румяного, веселого пилота Женю Ефимова — самого молодого, более похожего на юношу, чем на взрослого мужчину, постигла неизвестная участь, терзала неотступно. Может быть, он покалечился и сейчас беспомощный замерзает один в тайге… Что делать? Чем помочь ему?
Теперь, когда вылет самолета из гидропорта стал невозможен из-за шуги, а ждать ледового покрова пришлось бы слишком долго, Клочко организовал выход из тайги пешком. Для этого запасного варианта нанят был проводник — местный эвенк Максим с семью оленями. Продовольствие, теплую одежду, медикаменты упаковали во вьюки. Все было приготовлено, однако Александр Дмитриевич откладывал выход из тайги со дня на день. И его надежды оправдались. На пятые сутки, когда река вся кишела шугой, из тайги вышел Женя. Ликование было всеобщим: жив! Правда, вид у летчика был измученный донельзя. Он пришел пешком…
Оказывается, «шаврушка» не долетела до места, где Ефимов должен был забрать в тайге двух человек, — вышел из строя мотор. Евгений совершил вынужденную посадку на реку. Ликвидировать неисправность ему не удалось, а помощи ждать неоткуда. С пассажирами — начальниками партий — был заранее такой уговор: при истечении контрольного срока эвакуироваться самим по запасному варианту. Ефимов нашел небольшой заливчик, укрепил там самолет у берега, снял и положил в мешок приборы, вещи, продуктовый НЗ и пошел через тайгу прямым курсом на гидропорт. Путь был тяжелым, без тропы, по глубокому снегу, но летчик точно вышел к цели.
Измученного Женю вымыли, накормили, уложили отсыпаться. А на следующий день двинулись на юг вшестером: Клочко, Ефимов, Фомичев, Бутова, Морозова и проводник Максим.
За что уважали и любили Клочко — так это за его заботу о людях. При организации похода им было предусмотрено буквально все. Продуманный и строгий режим движения и ночного отдыха, темп ходьбы, привалы для принятия пиши. Под вечер он присматривал подходящие места для ночлега. Останавливались и сразу, пока было светло, начинали заготовку дров для костра. Затем настилали на снег ветки, хворост. На них укладывали спальные мешки, в которые влезали одетыми, в ватных брюках, телогрейках и шапках-ушанках. По очереди дежурили у мощного костра из толстых кряжей. На дежурном лежали обязанности — поддерживать огонь в костре, присматривать, чтобы не загорелись мешки и охранять от хищных зверей. При дежурном была боевая винтовка. Клочко добивался беспрекословного соблюдения дисциплины, и надо сказать, что все его распоряжения были разумны.
Варвара Михайловна Бутова вспоминала, как еще летом однажды заработала от начальника сразу два выговора: устный и письменный, причем первый запомнился крепче. А дело было так. В жаркий полдень молодежь решила искупаться в реке. Всем было известно распоряжение Клочко — не отплывать далеко от берега. Варя плавала здорово и решила переплыть Олекму. Поплыла уверенно, но на середине реки почувствовала, что не может справиться с мощным течением, которое понесло ее мимо берега, а вода холодная. Выслали вдогонку катер, подняли на борт незадачливую пловчиху. Все обошлось благополучно.
Взбодренная холодной водой и пережитым приключением Бутова влетела в контору — и оробела. Ее встретил Клочко, бледный от гнева. Высказав все, что думает о «безрассудном поведении, казалось бы, взрослого и грамотного человека», он продиктовал секретарю-кассиру Морозовой приказ о вынесении строгого выговора бухгалтеру экспедиции Бутовой. Приказ был вывешен в столовой в назидание и напоминание другим о том, что с таежными реками шутить нельзя и что распоряжения начальника экспедиции следует выполнять безоговорочно.
Группа шла цепочкой. Впереди проводник Максим, за ним навьюченные олени, связанные друг за другом. Последний олень шел без груза — это был резерв для уставших, для женщин. Замыкал цепочку всегда Александр Дмитриевич. Он был осмотрителен и очень осторожен. Ему было известно, что сезон 1938 года, как обычно, не обошелся без жертв. В соседней экспедиции при пешем переходе отстал от группы и замерз техник Величко. Неподалеку от своего лагеря погиб техник Эдуард Бурнас — был растерзан медведем. Александр Дмитриевич всегда с настороженностью относился к тайге и внимательно наблюдал за физическим состоянием каждого вверенного ему человека.
Как-то ближе к вечеру на пути встретилось заброшенное зимовье, и Клочко решил на эту ночь разместиться там, чтобы люди отдохнули получше. Это решение обрадовало всех, кроме эвенка Максима. Он наотрез отказался войти в избушку, уверял, что спать в ней нельзя, по ночам там появляется нечистая сила, и расположился под открытым небом у костра. Снял унты, просушивал над огнем свои портянки, расчесывал влажные волосы и шептал какие-то заклинания. И все приговаривал: «Он ночью будет там». А кто этот «Он», проводник не говорил.
Обе молодые женщины, потихоньку наблюдавшие за проводником, не на шутку струхнули. А когда пошли к роднику за водой для ужина, в темных кустах им почудились шорохи. Бросились бежать оттуда опрометью, впрочем, ведер все-таки не побросали. А когда все улеглись на лавках вдоль стен зимовья, долго дрожали, охваченные необъяснимым страхом, прислушивались и перешептывались, пока Александр Дмитриевич, потеряв терпение, не прикрикнул на них: «Спать немедленно! Завтра на перевал идти…» От грозного голоса командира страх прошел, и все уснули. Один Фомичев в обнимку с винтовкой остался зевать да на часы смотреть, дожидаясь смены караула.
Днем шли бодро. Мужчины по пути охотились. Порой на обед удавалось добыть глухаря. Питание Клочко предусмотрел высококалорийное: гречневая каша, тушеное мясо чай с сахаром. Летчик Ефимов, самый молодой из группы, быстро оправился от пятидневного одинокого странствия притом природная жизнерадостность брала свое. Он не уставая веселил группу выдумками, рассказами, занимал какими-нибудь безобидными каверзами. Периодически, когда одна из женщин уставала, ее усаживали верхом на резервного оленя. Для ходьбы одевались облегченно: на ногах ичиги (самодельные мягкие сапоги поверх меховых чулок), ватные брюки и шерстяные вязаные кофты. А когда садились на оленя, то утеплялись, надевая валенки и полушубок.
Ефимов, когда чувствовал, что близится время привала, щекотал веточкой хвост у оленя, тот встряхивался, и наездница во всей своей громоздкой одежде падала в снег.
«Максим! — кричал тогда Женя Ефимов проводнику. — Максим, постой, мешок упал». Раздавался общий смех. Группа останавливалась.
В поселок Тупик добрались на седьмой день. Максим хорошо знал дорогу, и провел группу коротким путем. Ведь по реке расстояние 350 километров. И все же люди устали. Придя на базу, вошли и, не раздеваясь, сразу опустились на пол, сели, протянув ноющие ноги. Отсюда группа должна была переправиться автомашиной на прирельсовую базу в Могоче. До Транссиба можно было добраться уже не как весной — за два дня, а всего за три часа. Дорога подмерзла и стала вполне проезжей.
Неожиданно в помещение вошел милиционер: «Бутова из Олекминской экспедиции здесь?.. Следуйте за мной. Вас вызывает следователь».
Варвара Михайловна почувствовала, как кровь ударила ей в виски. С трудом встала. Ее остановил голос Клочко.
«Отставить! Я начальник экспедиции Главного управления железнодорожного строительства НКВД, — решительно сказал он работнику милиции. — Прошу по всем вопросам, прежде всего, обращаться ко мне».
Клочко сам отправился к следователю и дал необходимые разъяснения о летнем пожаре и временном перерыве в радиосвязи. Но все же в Могоче у Бутовой взяли подписку о невыезде. Настроение у нее стало совсем скверное; одно спасение — работа.
На могочинской базе техники в это время завершали обработку полевого материала, Варвара Михайловна пристроилась к ним разбираться с финансовым отчетом. А когда закончили, как раз подоспело решение комиссии, которая установила, что конторская избушка сгорела не по умыслу, а из-за несоблюдения противопожарных правил при установке печки-времянки. «Ваше счастье, что не сгорел ни один документ», — сказал на прощание следователь. Дело было прекращено, и группа во главе с Клочко выехала в Москву. В Бамтранспроекте сотрудники еще долго подшучивали над Варварой Михайловной: «Расскажи, признайся, Варя, как контору поджигала…» И принимались изображать, как перепуганная бухгалтерша бегает вокруг горящей избы, вскрикивая: «Товарищи! Товарищи!..»
Верхом на цистерне с бензином
Чрезвычайное происшествие властно вторглось в жизнь экспедиций БАМа. Основные события развертывались в короткий промежуток времени — с 24 сентября по 4 октября, но запомнились очевидцам на всю жизнь.
Вся дальневосточная авиация, все радиосредства, военные и гражданские организации, официальные и секретные службы были включены в поиски пропавшего самолета «Родина». Бамовская эскадрилья как самая мобильная и находящаяся по предполагаемому маршруту его следования была поднята в первую очередь. Пятьдесят радиостанций Бамтранспроекта обеспечили связь с дальними отрядами, и первым распоряжением было приостановить эвакуацию, организовать специальные поисково-спасательные группы.
Поиск шел от Байкала до Совгавани. В таежных поселках, факториях опрашивали население: не видел ли кто, не слышал ли что?.. Но это было похоже на поиск иголки в стоге сена, потому что не удавалось сделать главное — сузить до сколько-нибудь реальных размеров район поиска. Без этого при огромности пространства нельзя было рассчитывать на успех. Даже спустя десятилетия, при наличии высокоразвитых систем радиолокационного и космического слежения на Дальнем Востоке время от времени пропадают самолеты и вертолеты. А тут никто не мог сказать даже приблизительно, где сосредоточить усилия. Искали малейшую зацепку. Особенно внимательно прослушивался эфир на тот случай, если экипажу удастся подать сигнал, ведь аварийная радиостанция в самолете была.
Нервозность обстановки усугублялась пониманием того, что как только выпадет снег, — а это должно было произойти со дня на день, — положение резко ухудшится. Экипаж даже если он уцелел при посадке тяжелой колесной машины, наверняка погибнет. Там одни женщины. На что надеялись?
Этот полет был со всех точек зрения необыкновенным, рекордным, вызывающе дерзким.
«24 сентября 1938 г. в 8 час. 12 мин. утра па московскому времени известные всей стране летчицы-орденоносцы Гризодубова Валентина Степановна, капитан Осипенко Полина Дмитриевна и старший лейтенант Раскова Марина Михайловна (штурман) вылетели в беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном самолете. Самолет стартовал со Щелковского аэродрома близ Москвы…»
Сообщение было опубликовано во всех центральных газетах 25 сентября, а накануне передано московским радио. Главная газета страны — «Правда» — напечатала на первой странице фотографию трех миловидных женщин, знаменитых летчиц, улыбающихся на утреннем солнце; тут же — сводка лаконичных радиограмм, полученных с борта самолета, носящего святое для каждого человека имя — «Родина». Последняя радиограмма, переданная штурманом в 17.34, гласила: «Широта 55'00", долгота 80'30". Высота 5000 метров. Раскова». Значит «Родина» в тот момент была на подходе к Новосибирску, где уже наступала темнота… Цитируемые телеграммы с борта самолета были чересчур лаконичными, без общепринятого в те годы агитационного пафоса, и людям, сведущим в подобных делах, стало ясно: с полетом что-то не ладно. Возможно, радиосвязь была затруднена из-за сильных помех в атмосфере. Тогда непонятно, почему самолет с названием «Родина», с женским экипажем на борту был выпущен в полет в ненадежную погоду. Или мы действительно обзавелись такой могучей техникой, которая позволяет принимать столь дерзкие решения и сообщать о них с предельной краткостью…
Да, техника, по крайней мере, в части механической, достигла высокого уровня надежности, хотя, конечно, не до такой степени, чтобы вовсе не считаться с силами природы. В штабе перелета знали, что метеоусловия по намеченной трассе тяжелые: сильный грозовой фронт над Уралом, еще более мощный на Байкале, Хабаровск также закрыт облаками. Потом будут говорить, что это Гризодубова буквально с боем сумела добиться разрешения на вылет, обзвонив для этого почти всех членов Политбюро. Но в сущности, рискованное решение было продиктовано нечем иным, как временем. Речь шла не о рекордах во славу отечественного спорта, а о той — жить стране или погибнуть.
Типографские машины уже начали печатать тираж утренних газет за 25 сентября, когда стало известно: радиосвязь с самолетом «Родина» потеряна. Верно, капризы радио считались по тем временам делом обычным, механика была сравнительно более надежной, и члены комиссии по перелету не теряли надежды на благополучный исход. Гораздо больше тревожило то, что погода стала еще хуже. К тому же наступила ночь, а вынужденная посадка в таких условиях исключительно опасна. Если же самолет исправен, то по графику экипаж скоро увидит рассвет — в полночь по московскому времени. Это должно было произойти где-то в районе северной оконечности озера Байкал. Там, в поселке Душкачан, по заданию правительства специально для «Родины» установили мощный радиомаяк, чтобы он указывал путь самолету. Бели, конечно, штурман слышит землю. Вдоль расчетной трассы всем радиостанциям, в том числе экспедиционным бамовским, была дана команда внимательно слушать эфир. В штабе перелета старались не смотреть на часы. Но даже здесь, в штабе, не все знали, что связи с «Родиной» не было с самого начала, а так называемые радиограммы «с борта самолета» искусственно составлялись по данным наземной пеленгации.
Обнаружить самолет не удавалось, и на память людям невольно приходили бесследное исчезновение во льдах Арктики экипаж Сигизмунда Леваневского, гибель Михаила Бабушкина, других отважных летчиков.
26 сентября (самолет мог находиться в воздухе менее тридцати часов) газеты опубликовали скупое, протокольно жесткое сообщение ТАСС, озаглавленное «Ход перелета самолета «Родина»:
«В течение всего дня 24 сентября штабом перелета непрерывно поддерживалась радиосвязь с самолетом «Родина».
В 17 час. 34 мин. самолет, находясь на высоте 5000 метров, сообщил по радио свои координаты (г. Каргат) и в дальнейшем регулярно передавал по радио сведения о полете. Полет протекал успешно.
Затем самолет вошел в зону фронта со снегопадом и дождем. Весь дальнейший путь до озера Байкал протекал в сложной метеорологической обстановке, и связь с самолетом была нерегулярна… Место посадки самолета не установлено. Ведется непрерывное радионаблюдение за эфиром и организованы розыски самолета».
После этого, вплоть до 4 октября ни газеты, ни радио больше ни буквой, ни звуком не упоминали о самолете «Родина», будто и не было его никогда. Шел лихорадочный поиск, велось расследование всех обстоятельств, но на прессу был наложен запрет. Вплоть до особого распоряжения — никаких предположений, эмоций по поводу исчезнувшего самолета — и без того хватало бед. Вот еще два факта из «Истории Второй мировой войны», характеризующие осень 1938 года:
«28 сентября нарком обороны Ворошилов доложил Советскому правительству о готовности направить в Чехословакию 4 авиационные бригады (8 полков) в составе 548 боевых самолетов. В этот же день об этом были проинформированы правительства Франции и Чехословакии. Всего в боевую готовность приведены 12 авиационных бригад. Командующий чехословацкими военно-воздушными силами Я. Файфер позднее писал, что Красная Армия готова была «сразу выслать нам в помощь 700 истребителей». В этот период советские летчики сражались в небе Китая, где положение было критическое. Сражение с коричневой чумой фактически началось, и гибель трех женщин-летчиц, словом и примером поднимавших молодежь «на крыло», была бы воспринята в числе боевых потерь. Миллионы людей с болью в душе ждали добрых вестей, желали экипажу «Родины» удачи и спасения.»
Ночь надвигалась с востока, быстрей обычного. Темноту сгущала мощная облачность, таящая в себе грозные опасности. Стекла штурманской кабины и крылья самолета покрылись седой коркой: обледенение! Командир Гризодубова повела машину из опасной зоны на подъем… 5500 метров, 6000, 6500… Окна и плоскости очистились ото льда, но тут же — другая напасть — сильнейшая болтанка. В неровном гуле моторов, казалось, слышался скрип конструкций крыльев и фюзеляжа. Еще выше — из слоя штормовых возмущений воздуха!.. А звезд все не видно. Они показались лишь на высоте 7450 метров. Болтанка прекратилась — здесь попутный ветер взялся помогать, и штурман Раскова отметила, как сразу возросла маршрутная скорость. Но работать приходилось в кислородных масках и на лютом морозе.
Экипаж перед дальним перелетом консультировали такие опытные летчики и штурманы, как Чкалов, Громов, Беляков, Данилин, Спирин. Ожидали, что придется преодолевать два атмосферных фронта. Но всего не предусмотришь заранее. Случилось так, что курс «Родины» пролег не поперек, а вдоль фронтов. В облаках кабина штурмана заледенела внутри и снаружи. При температуре почти сорок градусов холода аппаратура застыла. Нельзя было прослушать даже сводку погоды, которую передавали широковещательные радиостанции. Прогноз, полученный накануне полета, явно не оправдывался. Планировали «проткнуть» два фронта километров по тридцать, а пришлось почти все расстояние идти вдоль линии их действия.
Раскова по звездам — Полярной и Веге — пыталась определить местонахождение самолета. Не работали радиопередатчик, радиокомпас, радиоприемник, внутренняя телефонная связь. Командир, второй пилот и штурман в изолированных кабинах «летающей цистерны» общались только с помощью сигнальных ламп и записок. Полная изоляция от внешнего мира. Безмолвие и холод. Только работающие моторы сохраняли им жизнь.
Когда Гризодубова через узенькое внутреннее оконце увидела как штурман в тщетной попытке наладить связь непослушными от холода пальцами разбирает приемник, она поняла что единственно правильным решением будет продолжать держать курс строго на 90° по аэрокомпасу. Уже почти сутки они летели на восток. Ночью самолет шел над облаками на высоте 7500 метров. Полина Осипенко дала командиру некоторую передышку — часов шесть безукоризненно вела машину. И это была главная работа второго пилота на этой машине, поскольку посадить самолет со своего места Осипенко не могла — обзор был недостаточный. Однако за эти часы Гризодубовой удалось немного поспать и восстановить силы.
Рассвет застал «Родину» над Становым нагорьем. Все так же высоко и плотно держалась внизу облачность, лишь кое-где ее прорезали заснеженные пики гор. Снижаться было невозможно. За Байкалом по графику полета следовало изменить курс, взяв по аэрокомпасу 120°, чтобы выйти к Транссибу. Но, не видя местности, не зная погоды, не слыша радиомаяков, есть риск невольно пересечь китайскую границу, попасть в нарушители. Еще не остыли страсти после событий у озера Хасан. Оставалось одно — двигаться только вперед, напрямую к Охотскому морю. А там…
Готовясь к перелету, экипаж нанес на карты и выучил наизусть расположение запасных аэродромов и посадочных площадок вдоль трассы полета. Сегодняшним авиаторам кажется почти невероятным: если провести по карте России прямую линию от Москвы на восток, это и будет путь «Родины» — почти по параллели, с ничтожным отклонением. А ведь шли практически вслепую. Шли с горячим желанием побить мировой рекорд. Когда по времени полета стало ясно, что новый рекорд установлен, командир Гризодубова повела машину еще дальше. Теперь нужно было определить точное местонахождение самолета. Снижаться над гористой местностью было рискованно, тем более в облаках, грозящих обледенением. Лучше уж пробивать облачность над океаном, а потом повернуть к суше и определиться по береговой кромке. День еще не кончился, и где-то, хотя бы на краешке родной земли, должен быть просвет.
Рассказывают, что однажды создателя эволюционной теории Чарльза Дарвина спросили — насколько принципы естественного отбора приложимы к человеческому обществу. Коль скоро самые смелые и отзывчивые на чужую боль люди первыми гибнут в борьбе за высокие идеалы, то эгоисты имеют преимущество в продолжении рода, — значит ли это, что человечество обречено на нравственную деградацию? Ответ был неожиданным и суровым: здесь все иначе — народ, у которого в критический момент не хватает людей, способных жертвовать собой во имя общего блага, — такой народ погибает целиком или рассеивается по свету.
Кто были эти три женщины, рисковавшие жизнью ради спасения своего народа? Прежде всего, это люди незаурядные, весьма и весьма одаренные умом, талантом, сердцем. И еще тем особым качеством, которое русский философ и этнограф Л. Н. Гумилев назвал пассионарностью. Именно из таких людей состоял экипаж «Родины».
Валентина Гризодубова — дочь знаменитого русского авиаконструктора и пилота Степана Васильевича Гризодубова. По рассказам Михаила Водопьянова, однажды Степан увидел в кино запечатленный полет братьев Райт. Он выпросил у киномеханика несколько кадров кинопленки, отпечатал их и принялся делать свой аппарат. Он сам строил самолеты и монтировал двигатели к ним. Первые три были не слишком удачными, держались в воздухе считанные минуты, но четвертый аэроплан принес славу конструктору, Гризодубов совершил на нем ряд уникальных полетов, о которых писала и русская, и зарубежная пресса.
В 1912 году в младенческом возрасте, привязанная ремнями к отцовской спине, Валентина впервые поднялась в небо на его аэроплане Г-4 с бензиновым мотором. Мать ушла по делам, а конструктору надо было опробовать машину и он взял дочку с собой на ипподром, где совершал полеты. При ипподроме находились царские конюшни, и на Гризодубова иногда жаловались, что шум мотора пугает лошадей.
Мама, Надежда Андреевна Гризодубова (урожденная Комаренко), работала швеей-модисткой. Она обладала прекрасным голосом, и меценаты предлагали средства для поездки в Италию — учиться вокалу. Но любовь к мужу оказалась сильнее. Он работал, как тогда называли, «техником электромеханического ремесла» или, по-нынешнему, главным механиком электростанции — первой в Харькове. А для души строил самолеты своими руками, за свой счет. Разумеется, на такое увлечение не хватало ни мужниного жалования, ни того, что жена зарабатывала шитьем; на субсидии нечего было и рассчитывать. Но были частные пожертвования на благородное дело. Собирали деньги на покупку велосипедных колес для уже почти готового летательного аппарата.
Когда, например, потребовалось помещение для сборки и окраски крыльев, местный предводитель дворянства Ребиндер — умный и весьма просвещенный человек — предоставил конструктору лучший зал дворянского собрания. Там, на паркете бального зала, под огромным портретом Николая II бегала и Валентина, помогая матери и сводному брату обтягивать каркас полотном, прошивать гипюрной лентой для прочности и покрывать крылья блестящим эмалитом. Когда крылья были готовы, оказалось, что они не протискиваются в изгибы коридора. Конструктор был в отчаянии. Мама плакала. Но предводитель дворянства приказал разобрать не крылья, а оконную раму, подоконник и даже проломить стену сантиметров на тридцать под окном бального зала.
По свидетельству Ибрагима Усманова, в 1919 году Сикорский приглашал Гризодубова уехать с ним в Америку, где ждали успех, богатство. Степан Васильевич ответил, что не может покинуть отечество.
Полеты от отца, музыка от матери — вот две страсти, которые сопровождали Валентину Степановну всю жизнь. И еще чувство справедливости при открытости и поистине русской широте натуры. Она училась в Харьковской консерватории, была прекрасной пианисткой. Но предпочла идти по стопам отца — стала замечательной летчицей и инструктором летного дела. Среди ее учеников (всего их было восемьдесят шесть) — немало героев, один из них — легендарный летчик-истребитель Борис Сафонов. До полета на Дальний Восток В. С. Гризодубова установила пять международных женских рекордов. В свои неполные двадцать восемь лет успела налетать около пяти тысяч часов, причем это были очень непростые маршруты в агитэскадрилье имени Максима Горького, когда приходилось на Р-5 садиться без аэродромов, выбирая с воздуха подходящие площадки.
Гризодубова, по натуре своей человек действия, стала главным инициатором дальнего перелета, официальным командиром и признанным лидером маленького коллектива. Хотя кое-кто из военных и недоволен был тем, что командир корабля — летчица гражданской авиации. Но это уже из области обычных ведомственных амбиций.
Полина Осипенко, смуглая крепкая украинка, происходила из бедной крестьянской семьи. Была по натуре добрая, отзывчивая, прямая и верная в дружбе, в работе серьезная и деловитая. Окончила два класса церковно-приходской школы, и нужда заставила наняться сначала в няньки, потом в батрачки. С детства мечтала летать. Добивалась приема в летную школу. Сначала не брали. Она устроилась официанткой в столовую — подавала курсантам борщи, но настояла, добилась приема. Занималась упорно и поступила в Качинскую авиашколу, стала военным летчиком-истребителем. Имела налет в строевых частях более пятисот часов, обладала великолепной техникой пилотирования, природным даром к летному делу. Установила несколько международных рекордов, в том числе вместе с Верой Ломако и Мариной Расковой на летающей лодке МБР-2, совершив перелет из Черного моря в Белое. А характер… Когда гражданская летчица Гризодубова по телеграфу запросила капитана П. Осипенко (уже удостоенную двумя орденами) о согласии лететь на Дальний Восток в качестве второго пилота, та ответила кратко: «Хоть третьим!»
Марина Раскова в сравнении со своими поистине боевыми подругами производила впечатление тепличного создания. Выросла в артистической среде, обладала изумительной женственностью. В летчицы эта красивая, обаятельная женщина попала в общем-то случайно. Двоюродная сестра Марины — Надежда Сумарокова, одна из первых летчиц-наблюдателей (летнабов), рекомендовала ее на работу в Военно-воздушную академию. Нет, Боже упаси, не в летный состав — лаборанткой кафедры навигации. А тут как раз Полина Осипенко готовилась установить рекорд дальности на летающей лодке для женского экипажа. Других женщин-навигаторов в то время не было, пригласили Марину. Она решилась. Машина МБР-2 надежная, погода благоприятствовала, полет прошел прекрасно. Но опыта было мало: налет часов у Марины в качестве летчицы (она окончила трехмесячную летную школу в Тушине), штурмана и пассажира составлял к тому времени часов 30, не больше. Готовил Раскову к перелету на Дальний Восток известный штурман ВВС Александр Васильевич Беляков.
Валентина Степановна Гризодубова. 1926 г.
Авиаконструктор и пилот Степан Васильевич Гризодубов.
История этой яркой, но короткой жизни изложена в «Записках штурмана» М. Расковой. Надо только учитывать, что редактировалась ее книга весьма жестко по соображениям как политического, так и военного характера. Многие весьма существенные обстоятельства полета были опущены. Ведь главное было тогда — показать силу нашего воздушного флота и не выдавать секретов, «болевых точек».
Нет, ни одну из трех женщин не назовешь послушным «винтиком», каковыми на исходе XX века стало модным характеризовать поколение 1930–40-х годов… Более непохожих людей трудно себе представить. Эти три женщины были поразительно разными по способностям, воспитанию, вкусам, склонностям, темпераментам, силе характеров, даже политическим взглядам. Единственное, в чем они были схожи — прекрасно понимали, что происходит с их страной, с их народом, с ними самими. Они сознательно выбрали свое место в жизни — служение Родине и были до последнего вздоха верны своему выбору, своим принципам. Все три оказались достойны своей громкой славы. Это были яркие звезды в суровом небе России. И разумеется, их отношения складывались очень непросто, поскольку дело, за которое они взялись, требовало предельного напряжения сил.
— За десять дней до полета «Родины», — рассказывала на закате жизни, уже по прошествии полувека, В. С. Гризодубова, — исчез (был арестован) начальник связи полковник Алехин, который ведал радиоделами. Он не успел даже предупредить нашего штурмана Марину, когда произойдет смена частот и позывных. Некому было позаботиться о проверке сухих батарей питания и других «мелочах». Кое-кто с перепугу стал держаться от нас подальше…
Погоды не было. Всех истомило ощущение неопределенности. Беспокоило командира и состояние здоровья экипажа. Подруги выглядели неважно. У Марины недавно был приступ аппендицита, Полина тоже потемнела лицом, держалась суше обычного, позже выяснилось, что у нее плеврит и повышенная температура. Однако болезнь свою скрыла, а ухудшение внешнего вида Валентина Степановна отнесла на счет нервного напряжения, связанного с арестом Алехина, и выматывающего ожидания.
Вечером, перед очередным совещанием у наркома авиационной промышленности Михаила Кагановича Гризодубова своим абсолютным музыкальным слухом уловила, как командующий ВВС перемолвился с кем-то: «Осень, погода совсем испортилась. Да что тут еще откладывать, голову морочить… Отменю я этот перелет и все…» Обидно стало командиру: ну ладно, экипаж время потерял, но еще столько людей участвовало в подготовке перелета — народные деньги, силы вложены, и все это — прахом?! Гризодубова поняла, что если завтра утром не прорвутся, перелет не состоится. Сказала себе: «В любую погоду — хоть на метле — улечу! Надо звонить…»
Обзвонила все Политбюро, за исключением Сталина, доказывала, что идет возмутительная перестраховка. В ответ наркому часов в семь вечера дано было разрешение-приказ: «Вылет — завтра. В восемь утра…» Наркому не хватило духу возразить, что для такого перелета с момента назначения времени «Ч» на подготовку требуется не менее суток. Члены экипажа едва успели попрощаться с родными. Гризодубова только поцеловала сынишку, родителей, с мужем простилась, и тут же в машину и на аэродром. Она захватила любимое охотничье ружье «Зауэр — три кольца» и фотоаппарат. Врач Борщевский потребовал: спать немедленно! Какое там спать — сна ни в одном глазу, и фактически в ночь перед вылетом экипаж не спал.
Утром штурман Раскова обратилась к командиру: рация не работает. А время было на исходе. «Чепуха какая-то. Накануне нормально работала и в полете, и на земле. Должно быть, предохранители сгорели. В полете, заменишь». Спросить не у кого — Алехин исчез. Но не работала и связь внутренняя.
Инженер доложил: в баки залито 5525 килограммов горючего — запас почти на тридцать часов. Общий вес самолета 12 480 килограммов. Взлетали с грунтовой полосы, против ветра; машина поднялась легко.
Хотя одеты все были хорошо, Осипенко и Раскова обморозились на высоте. Лишь в самую тесную командирскую кабину шло тепло от моторов, так что Гризодубова даже сняла перчатки. К сожалению, кабины между собой не соединялись — такова конструкция самолета. Дело в том, что бензобаки — числом семнадцать — размещались по центроплану, в основном между кабинами первого и второго пилотов.
Дальний бомбардировщик ДБ-2 («Родина» АНТ-37бис)
По своему назначению ДБ-2 (АНТ-37) был дальний бомбардировщик, созданный бригадой инженера П. О. Сухого под общим руководством А. Н. Туполева. Головной образец машины летом 1935 года потерпел аварию над Центральным аэродромом. Из-за вибрации горизонтального хвостового оперения во время полета начал разрушаться фюзеляж. Летчику-испытателю и ведущему инженеру удалось выпрыгнуть с парашютом, третий член экипажа — электротехник — погиб.
Машина с усиленным фюзеляжем показала результаты вполне устойчивые, но для бомбардировщика 1936 года уже недостаточные по скорости и бомбовой нагрузке. Более удачливый конкурент в этом классе — самолет Ильюшина — перешел дорогу. Но вот дальность полета машины Сухого — 5000 километров — показалась заманчивой для побития рекорда.
Попытка установления нового рекорда была предпринята. Все шло хорошо, поправка в таблицу союзных рекордов дальности была внесена, однако в конце пути летчик Алексеев просчитался с горючим. «Стал летать, смотреть, где цветы, где машины встречающих», — смеялась потом Гризодубова. При посадке Алексеев выпустил шасси, но чуть не дотянул до полосы, там оказалось неровное место — поставил машину на нос, в лепешку смяв штурманскую «корзину». Ладно еще, что предусмотрительно приказал штурману Гордиенко выброситься с парашютом, — обошлось без жертв. Кабину восстановили, и самолет использовали как тренировочный.
АНТ-37бис представлял собой переделанный по заданию правительства для установления рекорда самолет с дальностью полета 7000–8000 километров, с более сильными моторами и другими усовершенствованиями, которые дали повод летчикам в шутку, отчасти из зависти, называть эту машину «дамской». Дело в том, что в те годы ряд операций требовал от летчиков больших физических усилий. Например, на истребителе И-16 надо было сделать сорок оборотов тугой рукояткой лебедки, чтобы убрать шасси. Для мужчин-пилотов это было серьезное неудобство, а для женщин — сущая мука. На АНТ-37бис система (впервые в СССР) была кнопочной — работала от электропривода. Крылья и оперение имели поверхность не гофрированную, а непривычную для глаз гладкую — из кольчугалюминия. И крылья эти были широченные, размахом в 31 метр.
«Родина» АНТ-37 бис.
Машина очень понравилась женщинам-летчицам, и предложение командира назвать самолет «Родиной» экипаж принял с восторгом. Правда, хлопот с переключением семнадцати баков у Гризодубовой было много всю дорогу. И ведь так и не уследили!.. Несколько раз прогревали моторы, потом заторопились, а надо было еще долить баки под завязку — каких-то считанных литров как раз и не хватило, чтобы дотянуть до Комсомольска. Но спешили: ведь приказ был вылетать в восемь утра!..
Облака раздвинулись лишь над тихоокеанскими волнами. Стекла штурманской кабины были наглухо заморожены. Но Тунгурский залив и Шантарские острова Гризодубова и без штурмана сразу опознала с воздуха. Сама поразилась: несмотря на боковые ветры, прошли от Москвы по параллели и уперлись в Шантарские острова. Цель достигнута; мировой рекорд установлен. Теперь — на юг. Курс — 270°. Снова попали в облачность, началось обледенение. Немного снизились, чтобы отогреться, но высоту Гризодубова не хотела терять, ибо горючее было на исходе. Понимала: «Родина» шла на большей, чем предусмотрено графиком, высоте (5000 метров) — значит, ясное дело, пережгли горючее.
Марина Раскова, Валентина Гризодубова, Полина Осипенко после вручения им и участникам розыска и эвакуации самолета «Родина» 10 ноября 1938 года в Кремле орденов Ленина.
Бензочасов на самолете не было, оперативный контроль за остатком бензина отсутствовал. Топливо к моторам поступало через резервный бачок, емкости которого хватало примерно на тридцать минут. Надо было следить: как только прекращалось пополнение резервного бачка, вспыхивала красная лампочка на панели приборов. Летчик должен был по заранее определенной схеме, чтобы не нарушилась центровка самолета, переключиться на очередной бак. Красная лампочка гасла на какое-то время. И вот уже сделано переключение на последний из запасных баков.
Внизу показалась широкая болотистая равнина — полузаросшие травой озера бассейна реки Амгунь, мелкий кустарничек. Вспомнился инструктаж: это единственное месте, где в случае необходимости можно сесть на брюхо, не опасаясь врезаться в дерево или валун. Дальше до самого Комсомольска леса да сопки, притулиться будет некуда… И тут вспыхнула красная лампочка. Погасить ее было уже нечем. До Комсомольска на одном лишь резервном бачке не дотянуть. «Значит, судьба!» — сказала себе Гризодубова, и стала выбирать место для посадки. Внизу — обширное болото. В 10.20 моторы начали глохнуть. Командир приказала штурману прыгать с парашютом, ибо в передней кабине при вынужденной посадке находиться было опасно.
Раскова замешкалась, упустила нужный момент. Гризодубова велела ей подождать, пока сделает еще круг. Но Марина, должно быть, ее не поняла, и в 10.32 через нижний люк покинула самолет на высоте 2300 метров. Гризодубова жестом показала Полине: «Следи за ней!», а сама сосредоточилась на посадке, рассчитывая глиссаду, стараясь держать машину поровней. Уже повиснув на стропах парашюта, штурман Раскова услышала, как воет сирена, напоминая пилотам о том, что они идут на посадку, не выпустив шасси.
Касание — тучи водяных брызг. Машина своей массой около семи тонн при скорости в сотню километров в час. Чиркнула по болоту и, оставив на кочках две борозды от мотогондол, остановилась: 26 часов 29 минут летного времени…
Позже воздушные асы признавали, что это была просто блистательная посадка. Машина почти не пострадала, лишь кончики винтов погнулись. Невредимой осталась и штурманская кабина, и Гризодубова пожалела, что приказала Расковой прыгать. Сама Валентина Степановна, в чьей смелости не приходится сомневаться, по собственному ее признанию, просто терпеть не могла прыгать с парашютом: это все равно, что из теплого дома голышом на мороз…
Пострадала при посадке только сама Гризодубова. Прозрачный колпак своей кабины она сдвинула назад. Так поступали все опытные пилоты: колпак могло заклинить при деформации, и тогда, в случае пожара, летчику невозможно быстро покинуть кабину. В последний момент перед касанием женщина правой рукой уперлась в борт козырька, а левой держала штурвал. Она знала, как часто — почти всегда — при вынужденной посадке пилота кидает по кабине, рвет привязной ремень, бьет головой о приборную доску, уродует лицо… Посадка получилась мягкой, но от резкого торможения прозрачный колпак сорвался с защелки и по инерции сильно ударил по кисти руки.
На поиски самолета «Родина» было мобилизовано все, что могло двигаться: свыше ста пятидесяти самолетов (в том числе два десятка бамовских), сотни пеших отрядов, следопыты на лошадях и оленях, рыбаки на лодках и катерах. Площадь поиска определили по последней пеленгации, взятой Читинской радиостанцией в 7.05: в треугольнике Хабаровск — Аян — Казачинское. Это более полутора миллионов квадратных километров. День проходил за днем, о «Родине» никаких вестей. Между тем зима уже была на пороге. Радисты внимательно прослушивали эфир. Ведь на самолете был комплект аварийной наземной радиостанции с генератором типа «солдат-мотор», вещь надежная. Но то, что они будут работать на устарелых данных, никто не мог предполагать.
О том, как проходил поиск, дает представление работа одной из групп. Авиагруппа прибыла в Сковородино (Рухлово) по тревоге Была поставлена задача — прочесать склоны Яблоневого хребта на глубину 450 километров. Группу возглавлял молодой полковник со звездой Героя за бои в Испании С. Черных (расстрелян в 1941 году — его дивизия, состоящая из новых истребителей МИГ-3, была уничтожена в первые часы войны).
Поскольку в Сковородино уже начались заморозки, а летчики прибыли в летнем обмундировании, железнодорожники обеспечили их меховыми полушубками, ватными брюками и валенками. На случай вынужденной посадки снабдили неприкосновенным запасом питания. НЗ состоял из: куска несоленого сала (для чего в подсобном хозяйстве закололи несколько свиней), сухарей, шоколада (был закуплен в Военторге весь запас «Белочки с орехами»), бутылки коньяка, коробки спичек и пачки соли.
Экипажи использовали световое время полностью, до минуты, совершая по два-три вылета в день. Летчики часто меняли курс, заметив серебристое пятно. Но это оказывались лишь замерзшие озерца. Только один раз увидели дымок костра охотников. В некоторых квадратах полеты совершались повторно с целью дообследования сомнительного места. Когда прочесывание южного склона Яблоневого хребта было закончено, решили перебазироваться на север. Там, у богатого прииска Незаметного (в 1939 году переименованного в город Алдан), имелся подходящий аэродром. Но аэродром оказался уже законсервированным, и посадку никто не мог гарантировать.
Член штаба перелета П. С. Анишенков и командир эскадрильи на «фордике» отправились по БАМу, чтобы на месте подготовить прием самолетов. Когда сотрудники НКВД узнали о намечавшейся поездке, их снабдили карабином и предупредили, что путь небезопасен — были случаи, когда беглецы из лагерей нападали на проезжих с целью завладения документами, которые необходимы для возвращения на «материк». За девятнадцать часов проехали 650 километров. Машину гнали по очереди. Эта «золотая» магистраль содержалась в образцовом состоянии. Через каждые 100–150 километров были автозаправочные станции и ремонтные мастерские с гостиницами.
Прииск Незаметный уже лежал под снегом. Здешнее месторождение золота называли «русским Клондайком». Оно было открыто в летний сезон 1923 года старателем Тарабукиным и геологом Вольдемаром Бертиньш. Русло безымянного ручья, впадавшего в речку Орта-Сале буквально отливало желтизной. Золотоносный ручей, должно быть, чтобы не вспугнуть удачу, назвали скромно Незаметным. Вблизи построили поселочек, приисковую базу, оборудовали аэропорт. Приисковый поселок быстро разросся, превратившись в город. Однако суровый климат заставлял на зиму сокращать основные работы, поскольку промывка связана с водой, вода же здесь застывала уже в конце сентября, а начиная с декабря застывала даже ртуть в термометрах.
Анищенков понимал, что вставший до весны снежный покров сильно усложнит поиски пропавшего самолета, а усиливающиеся с каждым днем холода очень скоро лишат спасателей последней надежды найти экипаж живым, поэтому не позволял никому терять ни часа. Но, едва только успели развернуть на приисковом аэродроме расчистку полосы, прибежал связист: «Вам срочная телеграмма!»
Телеграмма была от Черных и содержала только одно слово: «Возвращайтесь». Снова в машину — 650 километров на предельной скорости. Один раз опрокинулись, но все обошлось без последствий. А дальше путь Анищенкова пролег по маршруту Хабаровск — Комсомольск — Амгунь на перекладных: на поезде, самолете, пароходе, на катере. С жестокой простудой, но в приподнятом настроении возвращался член штаба перелета — потому что след «Родины» отыскался…
Совершая вынужденную посадку, Гризодубова помнила, что к северу протекает судоходная река Амгунь, и во ней можно выйти к людям, но уходить далеко от самолета нельзя. Марина Раскова бродила где-то поблизости. Ей подавали сигналы выстрелами. Но она не отвечала. У Полины Осипенко поднялась температура.
29 сентября Гризодубова отметила в дневнике: «Марина не вышла… Прошли на север два СБ (скоростных бомбардировщика), нас не заметили…»
31 сентября: «Марину не нашли… Ночь ясная, холодная.
На выстрелы никто не откликается… Три медведя бродят вокруг но ближе, чем на полкилометра, не подходят…»
3 октября: «Пролетел Р-6, заметил нас — мы колыхали парашютами…»
Это был, точнее, МР-6 — двухмоторный морской разведчик, — модификация трехместного истребителя дальнего сопровождения или разведчика Р-6. Только вместо колесного шасси он был «обут» в огромные поплавки-галоши, предназначенные для более крупного ТБ-1, которому были как раз впору. И когда с земли смотрели на МР-6, то казалось, что каждый из его поплавков «с тятькиной ноги» — больше самого самолета.
За штурвалом сидел опытный летчик Михаил Сахаров гражданского авиаотряда гидросамолетов. Он уже несколько раз пересекал плато, стараясь быть предельно внимательным. Это было одно из тех мест, где с большей вероятностью можно было надеяться найти сухопутный самолет и его экипаж в более или менее целом виде, когда могла потребоваться помощь, а обломки по ущельям можно искать годами. Следовало обшарить в первую очередь места возможных посадок.
Гризодубова и Осипенко уже несколько раз видели, как проходили самолеты, но летчики не замечали лежащую на болоте «Родину». Осенний травяной ковер очень пестрит, а серебристая летная сталь отсвечивает в точности, как озерца, которых тут множество. Работа на аварийной радиостанции результатов не давала. В этот раз, заметив, что самолет идет на низкой высоте, женщины особенно энергично стали трясти парашютным полотном, как одеялами, складывая и поворачивая материю, чтобы изменением конфигурации пятна привлечь внимание летчиков. И Сахаров краем глаза заметил: что-то там шевелится.
Посадку на болоте совершить невозможно ни на колесном шасси, ни на лодке. Первым делом — сброшены продукты и одежда. Но Сахаров видит только двух членов экипажа. Где третий? И кто отсутствует? Сахаров пишет записку: покажите, кто вы? Встаньте к своим кабинам… Выложите направление поиска отсутствующей. А мы сейчас улетим докладывать.
Но тут оказалась, что привязать записку не к чему. Вымпелу нужна заметная «свечка», чтобы не потерять в болоте. Пришлось механику пожертвовать своими белыми подштанниками — раздеться и оторвать кусок исподнего. Зато «свечка» получилась яркая. Вымпел у земли развернулся, и был сразу подобран. На следующем круге Сахаров увидел, что фигурки стоят у пилотских кабин; значит, отсутствует штурман — Марина Раскова. Сахаров покачал на прощание крыльями и повел самолет вначале в том направлении, где выпрыгнула Раскова, потом повернул на Комсомольск.
Его место в небе над «Родиной» тотчас заняли летающие лодки. Экстренное сообщение в «Правде» за 4 октября:
«Сегодня в 4 часа 33 минуты утра командующий воздушными силами 2-й армии комдив Сорокин сообщил по прямому проводу в Москву следующее:
— Самолет «Родина» находится в 14 километрах северо-восточнее Дуки, в пяти километрах от реки Амгунь. Для экипажа самолета сброшены горячий кофе в термосах, теплые носки, сапоги и одежда. Сбросили также карту с указанием местонахождения самолета. Экипаж все собрал… Сейчас еду на аэродром для подготовки воздушного десанта…»
Комдив Сорокин подтвердил, уточнил и дополнил переданную чуть раньше информацию ТАСС, которая была опубликована здесь же, на первой странице газеты.
«3 октября 1938 года звено гидросамолетов Гражданского Воздушного флота вылетело из Комсомольска на поиски самолета «Родина» в район озера Эворон — озеро Амуткит — населенный пункт Керби, находящиеся в 125–200 км северо-западнее г. Комсомольска.
В 13 часов 20 минут (по местному времени) летчик Сахаров заметил самолет на земле в 20 км юго-западнее озера Амуткит. Снизившись до 10 метров, он ясно увидел двух человек около самолета, подававших сигналы белым полотнищем. Через 5 минут прилетел второй самолет под управлением летчика Бурлакова и через час — третий под управлением летчика Романова, который также видел самолет двухмоторный и двух человек возле самолета.
Есть все основания предполагать, что обнаруженный двухмоторный самолет на меридиане восточнее Хабаровска есть самолет «Родина».
Приняты все меры к доставке экипажа и самолета в Комсомольск».
Кстати, летчик Романов, оказывается, был учеником Гризодубовой. 4 октября Валентина Степановна отметила в дневнике:
«Прилетели рано, ровно в 10 часов Р-6 и два МБР-2. Сбросили мешки, цветы, код. Мы им сообщили, что не нашли Марину. В 14 часов 10 минут прилетел «Дуглас». 15.00 — дымка. Пришел ТБ-3…»
С «Дугласа» сбросили вымпел, в котором была записка от Бряндинского о том, что прилетит десант, и чтобы экипаж «Родины» выложил полотнище, указав направление, в котором могла находиться Марина. Сигнал выложили, и «Дуглас» улетел искать Раскову. Потом вернулся и стал кружить над «Родиной» на низкой высоте.
Летчики обнаружили штурмана Раскову, которая двигалась по болоту в направлении «Родины». Участники спасательной операции сообщали: «Тов. Раскова давала сигналы платком..», «С самолета сбросили пакеты с продуктами, которые Раскова немедленно взяла и начала кушать…»
И тут вмешался случай — нелепый и кошмарный. Произошла история, в чем-то сходная по ситуации с гибелью самолета-гиганта «Максим Горький». В результате грубой ошибки пилотирования в районе приземления «Родины» столкнулись два самолета: небольшой «Дуглас» и громадина четырехмоторный ТБ-3.
Как рассказывала Гризодубова, после 15 часов пришел второй ТБ-3. Ему выложили сигнал, он сбросил двух парашютистов и пошел… к катастрофе, которая произошла здесь же, на ее глазах.
Но вначале о том, что предшествовало столкновению. Свидетельствует участник поисков самолета «Родина» подполковник в отставке летчик И. М. Неешхлеб. Он был тогда воздушным стрелком-мотористом авиабригады.
«3 октября 1938 года в 15.00 в наш гарнизон (близ г. Хабаровска) приехал командующий 2-й Воздушной армией комдив Сорокин. Наш командир эскадрильи капитан Еремин доложил, чем занимается личный состав. Комдив спросил, кто из летчиков летает в сложных метеоусловиях и ночью. Капитан Еремин назвал себя, командира корабля ст. лейтенанта Катулина и 2-го летчика Коронякина. В этом экипаже находились я и второй воздушный стрелок-моторист П. Стенечкин, стрелок-радист и бортмеханик. Командующий приказал: готовить самолет ТБ-3 к вылету на 21 час с посадкой в Комсомольске.
Рано утром 4 октября наш экипаж с командующим Сорокиным вылетел в предполагаемый район вынужденной посадки самолета «Родина». Перелетели через хребет, стали снижаться до высоты 600–700 метров. Мы увидели в районе Дуки в 6–8 километрах от реки Амгунь на болотистом плато лежащий самолет. Два человека стояли на плоскости, махая руками. Командующий написал записку, в которой спрашивал: в каком направлении выбросился третий член экипажа? Этот вымпел сбросили с 300 метров экипажу. Они указали стрелой из парашютов направление прыжка Расковой.
Увидели в тайге дым. Командующий приказал выбросить путевой запас — шоколад, галеты и горячий кофе с парашютом. Возвратились в Комсомольск, сообщили в штаб армии в Москву о местонахождении самолета «Родина» и мерах по оказанию помощи экипажу.
Жители города Комсомольска несли на аэродром пищу, теплые вещи. Принесли даже подушку. Начали загружать в самолет все необходимое для жизни женщин. В это время приземлился другой ТБ-3 с десантом. Через 20 минут приземлился «Дуглас», пилотируемый майором Лисиковым и штурманом Героем Советского Союза Бряндинским. С ними были два фоторепортера и бортинженер.
Комдив Сорокин собрал все экипажи у нашего самолета, по карте указал местонахождение самолета «Родина». Указал порядок вылета, и сам пошел ко второму самолету ТБ-3, где находились десантники.
Первым взлетел самолет с командующим, вторым «Дуглас». А через 10 минут вылетел наш экипаж со всем имуществом, которое необходимо было выбросить для эвакуации женщин.
Перелетели хребет, стали снижаться до высоты 700–800 метров Мы увидели, как над самолетом «Родина» заходит на сброс десанта ТБ-3, а «Дуглас» с креном 40–50 градусов виражирует над «Родиной».
Все произошло на наших глазах. Из-за неосмотрительности майора Лисикова «Дуглас» врезался в бок ТБ, где находился командующий. ТБ-3 перевернулся. Мы увидели 4 парашюта: были выброшены 2 летчика и 2 десантника. «Дуглас» загорелся. Оба самолета упали почти рядом. С нашего корабля сразу выпрыгнули на место их падения капитан Еремин, капитан Полежаев и майор медицинской службы Колеников.
По их рассказу, на «Дугласе» все сгорели. На ТБ-3 некоторые от удара о землю были выброшены из машины. Комдив Сорокин с тяжелыми травмами жил еще около часа. В этой трагедии погибло 23–25 человек, в том числе комдив Сорокин и Герой Советского Союза Бряндинский.
С болью в сердце мы закончили операцию — выбросили все грузы к самолету «Родина» и вернулись в Комсомольск, чтобы сообщить в Хабаровск в штаб армии и в Москву об этой трагедии.
На самолетах По-2 и Р-5 останки погибших были доставлены в Комсомольск. Все мы переживали эту утрату… Через 15 дней мы встретились в Доме Красной Армии с экипажем самолета «Родина». В этот же день капитан Еремин был вызван в Москву как спортивный комиссар с данными о перелете. Он доставил барографы и документ регистрации. Возвратился Еремин с правительственной наградой — орденом Красной Звезды».
Свидетельствует В. Шиловский, служивший в то время в Комсомольске и Хабаровске: «Дуглас» был личным самолетом инспектора ВВС Хользунова. Только что стало известно о присвоении званий Героев Коккинаки и Бряндинскому за беспосадочный перелет на остров Уд с последующей посадкой в Хабаровске. Коккинаки улетел в Москву, а флаг-штурман Бряндинский получил распоряжение ждать Хользунова, который должен был совершать проверку боевой подготовки 2-й Воздушной армии.
После того, как было установлено местонахождение самолета «Родина», Бряндинский и летчик «Дугласа» майор Лисиков в отсутствие Хользунова решили вылететь к месту вынужденной посадки. Прибыв туда, Лисиков совершил рискованный пилотаж и врезался в, самый центр ТБ-3. Оба самолета рассыпались».
В. Шиловский рассказал также о случаях, предшествовавших трагедии, когда летчик майор Лисиков за короткое время допустил две аварии. Он расценил оба эпизода как проявление лихачества.
Отчего эта безудержность? От избытка сил или от неуверенности в завтрашнем дне? По словам Гризодубовой, «Дуглас» догнал ТБ-3 и срубил ему оперение. Сам тут же сорвался в штопор и скрылся за лесом. Четырехмоторный ТБ-3 словно пошел на петлю, опрокинулся, от него отделились четыре комочка — раскрылись парашюты — и тоже рухнул.
Погибли более двадцати молодых мужчин, в том числе два признанных героя, известнейших в стране человека — комдив Сорокин и флаг-штурман Бряндинский, который так и не успел получить свою звезду на грудь. Но в газеты об этом не обмолвились ни словом, и некоторые журналисты попали впросак, домысливая радостную встречу экипажа «Родины» с жителями Комсомольска. Там не было особых торжеств и ликований — были траур и слезы по погибшим.
В Комсомольске состоялся первый телефонный разговор летчиц с родными. Их ввели в комнату, обитую материей, с микрофонами и динамиками и предупредили, что канал особый — радиотелефон, а враг, как говорится, не дремлет. Переговоры слышали все. И здесь произошел эпизод, который ярко характеризует как В. С. Гризодубову в качестве депутата Верховного Совета СССР первого созыва, так и ее родительницу, которая обладала не только прекрасным голосом, но и светлой душой и отвагой.
После материнских всхлипываний и причитаний ее голос вдруг окреп и зазвенел:
— Детонька, я, конечно, очень рада, счастлива, что вы все живы — здоровы. Но ты знай — там, в Хабаровске, какие-то мерзавцы посадили двух твоих учеников — Женю Лемешонок и Леню Митюшкина. Ты там примешь меры или я обращусь здесь сама? Ждать нельзя…
Чекист, сопровождавший экипаж «Родины», изменился в лице. Назавтра оба летчика были на свободе. А история произошла действительно отвратительная. Бывшие ученики инструктора Гризодубовой супруги-летчики после окончания Тушинской высшей школы были направлены на Дальний Восток. Там, в Хабаровске, им выделили квартиру, и они ее заняли. Потом некто заявил: мне эта квартира нравится, пусть убираются. Летчики ответили: с какой стати?! Тогда их обоих забрали. Очень просто делалось…
Когда к Митюшкину в хабаровскую тюрьму ОГПУ пришли и спросили: кто тебе Гризодубова, он подумал, что она тоже арестована и стал оправдываться:
— Я ни в чем не виноват. Я ничего не знаю. Она — мой инструктор, учила меня летать. Если ее тоже посадили, то я об этом ничего не знаю…
— Дурак, ее не посадили. Она, наоборот, рекорд завоевала, прилетела сюда и вот требует, чтобы тебя выпустили. Иди к черту отсюда!..
Этот эпизод мог показаться сказкой со счастливым концом, если бы не одно страшное обстоятельство. При аресте двухлетнему ребенку сломали позвоночник, и мальчик потом восемь лет провел в гипсе… Гризодубова и здесь помогла — нашла замечательных врачей… Все это было. А Евгения Ивановна Лемешонок стала второй женщиной, налетавшей без аварий миллион километров.
Кстати говоря, в «слуги народа» В. С. Гризодубова избиралась только один раз, и в своей депутатской деятельности проявила столько бескомпромиссной прямоты и требовательности, что больше ее никогда — ни в сталинские, ни в хрущевские, ни в более поздние — застойные и перестроечные времена (она до момента кончины в мае 1993 года сохраняла ясный ум, волю, энергию, всегда проявляла живейший интерес к происходящему в жизни Отечества) — не выдвигали в парламент.
В суровое время, когда никакие заслуги, никакая слава не могли защитить человека, у Гризодубовой на депутатском контроле было около пяти тысяч дел. Ее помощница Н. Виноградова часто обмирала от страха и заработала нервное расстройство, рассылая гневные письма в НКВД, военную прокуратуру, во все высшие инстанции, подписанные Валентиной Степановной, — думала, их обеих арестуют и посадят. «Требую, — писала Гризодубова в пять высших инстанций, — сожгите лагерь Знаменку, БУР (барак усиленного режима)…» Она часто была резка в выражениях, оспаривая решения судов и трибуналов, но почти всегда правда в конце концов оказывалась на ее стороне.
В 1939 году в один дождливый вечер к ней пришла мать молодого конструктора Сергея Павловича Королева, осужденного на 10 лет по 58-й статье за измену Родине и отбывавшего срок на прииске Мальдяг на Колыме. Утром были отправлены письма Председателю Верховного Совета СССР, Председателю Верховного суда, в другие инстанции. К хлопотам подключились Михаил Громов и другие знаменитые летчики. Было направлено письмо Сталину. Спустя два месяца Королева перевели к Туполеву — заниматься делом.
Пришло время, проклятую Знаменку сожгли. Но поразительная вещь — отношение властей к Гризодубовой не изменилось до конца: «Летчица? Ну и пусть летает!..» Был гневный звонок Гризодубовой М. С. Горбачеву: «То, что происходит сейчас с космической программой кораблей многоразового использования «Буран» — либо некомпетентность, либо враждебная России акция».
Однако вернемся к событиям октября 1938 года. По всему пути следования экипажа «Родины» — от Хабаровска до Москвы — толпы людей выходили к поезду, чтобы приветствовать своих «дочерей». Зимой самолет «Родина» подняли на домкратах, поставили на лыжи и своим ходом перегнали в Комсомольск. Машина почти всю войну летала, обеспечивая фронтовые бригады, а потом, к сожалению, попала под копер.
Судьба не баловала героинь. Полина Осипенко уже вскоре, 11 мая 1939 года, погибла при авиакатастрофе вместе с летчиком Анатолием Серовым — героем Испании. Марина Раскова 4 января 1943 года разбилась на боевом Пе-2, успев сформировать женский авиаполк. Валентина Гризодубова стала командиром 101-го гвардии краснознаменного авиаполка, который сама создала, и где было триста мужчин-гвардейцев и она одна — женщина.
И — невероятное совпадение, которое может случиться только на войне. Однажды на глазах Гризодубовой был сбит вражеским огнем наш самолет. Все были уверены, что летчик погиб. Но, оказалось, он уцелел, был подобран немцами, попал в плен, выжил и пришел домой после войны. Гризодубова помогла ему вернуться в авиацию. Это был Михаил Сахаров — тот самый летчик, который 3 октября 1938 года обнаружил «Родину», беспомощно лежавшую среди болот.
Механик тобой не доволен
В самолете у каждого члена экипажа есть свое законное место. Есть оно у пилота, у штурмана. У радиста, пусть даже откидное сиденьице, но обязательно свое. Попробуй займи — сразу прогонят. Про пилотское кресло, как про царский престол, можно целую историческую поэму написать. Пилотской кабиной, креслом пилота — и с точки зрения эргономики, и с точки зрения дизайна — конструкторы занимались еще во времена, когда и слов таких никто не знал. То есть лучшие умы напрягались над созданием ложемента (logement — франц. «гнездо»), соперничая между собой: кто пилота поудобней усадит, чтобы у него в гнездышке все было под рукой, чтобы нигде не давило, ничто не терло, не мешало, чтобы он еще комфортней себя чувствовал. Для штурмана тоже старались, как могли: не кабина у него, а прозрачный китайский фонарик. В некоторых самолетах штурману еще и специальные кожаные подушечки подкладывали, чтобы ему по стеклянному полу удобней было елозить.
А про место для механика вспоминали только в самых больших самолетах. А так — бортмеханик, бедный, размещайся, где придется. Если второго пилота нет — на его ложементе, если без штурмана летят — в его кабине. А когда экипаж в полном составе, механик притулится где-нибудь в углу на брезентовых чехлах и затихнет. Или бродит неприкаянно по каким-то чуланам, то бишь отсекам. Вид у него всегда озабоченный и чуть печальный. Даже когда спит. Ведь никто не знает, спит ли бортмеханик на самом деле или с закрытыми глазами слушает голоса своих моторов и разные скрипы да постукивания. Пилот знай рулит, вперед глядит, и ему печали нет, как там, за красивой облицовкой, в темноте ползают тросы по роликам. А что видится механику во сне? Возможно, то, как от тряски, от вибрации плохо зашплинтованный болт потихоньку высвобождается от гаечки. Гайка упала, болтик выпал, а дальше пошел процесс развиваться…
В большой транспортной машине механик порой появляется неожиданно, как домовой, из какого-нибудь люка: то сверху — из «чердака», то снизу — из «подполья», то из стенки-переборки. И на лице его всегда заметны следы машинной смазки и обеспокоенности. Чем больше дом, тем больше забот у домового.
Летчики и штурманы вечером неспешно ужинают в буфете гостиницы, с официантками любезничают, а механики еще хлопочут у машины с фонарями в мороз или в дождь. А утром кто поднимается чуть свет? Механики. Тихонечко, чтобы не разбудить товарищей, на ощупь одеваются в полутьме и, пожевав что-нибудь оставшееся от вчерашнего, спешат к застывшему самолету. Господа пилоты глазки открыли, побрились и завтракают, а с аэродрома уже доносится рев моторов — механики прогревают двигатели. «Милостивые государи благородные пилоты, лететь подано!» При этом без малейшего лицемерия деликатно самочувствием поинтересуются. Еще бы: в полете жизнь экипажа в руках пилота.
Зато, случись, списывают пилота или штурмана с летной работы по здоровью или за аварию — это полный крах в его жизни, а бывший авиамеханик в любой мастерской, на заводе, в гараже найдет себе работу.
У летчиков к механикам отношение дружеское, товарищеское и братское, и это тоже неудивительно: от исправности машины зависит полет. И называют пилоты своих механиков всегда с оттенком нежности: механичек — если в единственном числе, механцы — во множественном. Работа механика невидная, тяжелая — в стужу, на ветру, в любую непогоду он возится в металлических «кишках» самолета, вечно пальцы в ссадинах. В экспедиции тем более, механик должен быть мастером на все руки, иметь при себе не только полный набор инструментов, но и, предвидя что и когда сломается, разные запасные железки. В полете бортмеханик рискует наравне с пилотом, а славы никакой — всегда в тени. И надо очень любить технику, чтобы терпеть такую несправедливость. Для поэтической натуры это сущая мука.
Истинный авиамеханик все в своей машине знает, все видит, все помнит, поэтому к пилотам относится с пристрастием. Он или гордится командиром своего воздушного корабля и служит ему беззаветно, или не одобряет и норовит уйти в другой экипаж, к более достойному командиру.
Летчики и штурманы экипажей бамовской аэросъемки были в основном москвичами, но среди механиков было немало местных, дальневосточников. Как правило, они оказывались людьми обстоятельными и крепкими. Среди них был совсем молодой механик Алексей Иванович Ковалев.
Алексей работал слесарем на заводе имени Ленинского комсомола в городе Комсомольске-на-Амуре, и, как многие юноши в те годы, в свободные от работы часы бегал в местный аэроклуб, поначалу в группу мотористов, потом в пилотскую. На учителей ему везло. Начальником аэроклуба был старший лейтенант Паларин — прекрасный летчик и педагог, который никогда не распекал курсантов, но умел тихим голосом высказать замечание настолько проникновенно, что оно запоминалось навсегда. Под стать ему был и инструктор звена Бирюков — спокойный, уравновешенный человек и требовательный наставник.
Осенью 1938 года на аэродром из военно-морской авиации пригнали сразу пять летающих — лодок МБР-2 (МП-1) и вытащили из воды на стоянку. Это было незабываемое зрелище. На таком вдохновляющем фоне инженер особого авиаотряда НКВД Иван Алексеевич Горяинов произнес перед курсантами пламенную речь и предложил поступить на работу в аэросъемку Бамтранспроекта механиками мотористами, а если кто захочет, при желании, может попробовать сдать экзамены на авиатехника.
Алексей вдвоем с приятелем немедленно взяли на заводе расчёт и пошли в авиагруппу БАМа. Приятеля, однако, вскоре начала тяготить кропотливая, вечно под открытым небом, работа авиамеханика, и он вернулся на завод. Ковалев остался. Характер у него был хоть и романтический, но упорный — в деда, а может быть, даже и в прадеда…
История этой семьи в общем-то характерна для старожилов Дальнего Востока. Насколько сумел проследить свою родословную по мужской линии бамовский авиамеханик Алексей Ковалев, у него только прапрадед — Терентий Иванович — был вполне оседлым оброчным крестьянином Полтавской губернии. А дальше, с начала XIX века, от семьи коренных землепашцев отпочковалась веточка странствующих и путешествующих. Дело в том, что у прапрадеда семья была, по тогдашним понятиям, нормальная: шестеро сыновей и две дочери, а вот землицы совсем негусто. Наделить землей всех своих детишек он не мог. И вот его сын (прадед Алексея) — Иван Терентьевич — решил идти добывать свой хлеб.
Иван нанялся к рисковому купцу, который гонял «аргиш», т. е. возил из Китая через Кяхту на Украину чай, перец, шелк и другой ходовой товар. Однажды, когда шли через калмыцкие степи, на караван напали грабители, и прадед, защищая «аргиш», погиб. Вдова вскорости умерла от горя, и дети остались сиротами. Купец семью поддержал, доверил старшему сыну — Терентию Ивановичу (деду авиамеханика Алексея) и товар, и верблюдов, и дело.
Работа была трудная и опасная. Приходилось и голодать, и мерзнуть. Нравы на караванных путях царили жестокие. Случалось, заболевшего бросали на явную гибель, на съедение волкам и шакалам. Всегда ли сам дед Терентий следовал христианским заповедям, гадать трудно. Но случилось так, что оказался он один в степи, терзаемый лихорадкой. И приступили к нему два разбойника-«калмыка» («калмыками» дед называл южных людей — киргизов, казахов, туркмен). Решили разбойники добить больного и забрать его последние пожитки. Но оставалось у деда оружие ближнего боя, которым он владел в совершенстве. Называлось оно, на «калмыцкий» манер, «полтора палка», проще говоря, нунчак. Вот этим страшным оружием дробящего действия дед Терентий отбился от разбойников и добрел до селения, где уже другие, добрые «калмыки» отпоили его, полумертвого, кумысом и помогли вернуться на родину, в Полтавскую губернию.
А туг как раз подоспел соблазнительный рескрипт царя о переселении в далекие земли, т. е. на Дальний Восток. Надо думать, непросто было решиться на такой путь человеку, имеющему на руках двух малых детей. Но понадеялся дед Терентий на привычку к караванной жизни, на закалку, полученную во время странствий, и записался в отряд переселенцев.
Три года длился этот поход. Транссиба еще не было. Двигались на санях поздней осенью и зимой. Весной останавливались в подходящем месте, выбранном идущими впереди разведчиками, пахали землю, сеяли хлеба, растили поросят — запасались провиантом — и двигались дальше. На одной из остановок «калмыки» украли часть лошадей, что усложнило и без того нелегкое положение отряда. В пути Терентий похоронил обоих своих детей. Но род не угас. Троих сыновей и двух дочерей жена родила ему уже на Дальнем Востоке.
Достигнув Амура, переселенцы остановились было на хороших, свободных землях у Албазина. Но там стали докучать заречные соседи-маньчжуры, пришлось спуститься по Амуру и основать селение в пятидесяти верстах выше Благовещенского поста. В честь землеустроителя, который возглавлял их группу, село в 1857 году назвали Марково. Там вскоре построили школу, а потом и каменную церковь. Переселенцы жили трезво — кабак в селе открыли только к знаменитому приезду наследника престола Николая II.
Отец бамовского авиамеханика Ковалева — Иван Терентьевич — был младшим сыном в семье и имел шестнадцать детей. Некоторые умерли в детстве, но все равно орава за стол садилась большая. Чтобы всех накормить и вырастить людьми, отцу надо было уметь все: катать валенки, шить бродки, ичиги, чирки, знать работу плотницкую и столярную, уметь вязать сети, делать кирпичи и класть печи. Еще надо было гнуть полозья и обода для колес, ладить лодки и бочки. Зимой отец по давней семейной традиции занимался рисковым извозом — нанимался возить на лошадях разное имущество и продовольствие для золотых приисков. Разумеется, был он умелым охотником и рыбакам. Ну а мать, помимо обычных домашних дел, шила одежду, ткала и вышивала, умела отбеливать и красить полотна и еще многое другое. Дети от младых ногтей приучались к труду, им было у кого набираться опыта и брать пример стойкости к жизненным невзгодам. Особенно в семье Ковалевых почиталось мастерство — умение хорошо делать всякое дело, за которое берешься.
В авиагруппе поначалу молодому механику поручали работу попроще, но Ковалев быстро набирался опыта и доказал, что ему можно доверить самостоятельную подготовку машины. Однажды — это было в середине мая 1939 года — техник Быков предупредил Ковалева, что завтра маленький самолет-амфибия Ш-2, за которым Алексея закрепили, должен будет лететь через сихотэ-алиньский хребет аж на Тумнин, к Тихому океану. Полетит летчик Скорик. Надо, сказал Быков, прийти в пять утра и выпустить машину в полет. Надо так надо. Алексей только спросил: Скорик — это имя или прозвище такое? Оказалось — фамилия, а зовут летчика Сергей Сергеевич. Впрочем, в аэросъемке его чаще всего так и звали: Скорик да Скорик.
Идти механику Ковалеву от дома до гидропорта было далеко, поэтому он поднялся в три часа утра и, наскоро позавтракав молоком с хлебушком, побежал в гидропорт. В 4.30 Алексей уже был у самолета, обтер пыль, снял чехлы, проверил тяги, заправку. Казалось, все было в полнейшем порядке, хоть самому садиться и лететь. Алексей обернулся и увидел крупного, стройного мужчину в фуражке и со шлемом в руке. Тот стоял и внимательно наблюдал за действиями механика. Ковалев сразу догадался, что это и есть летчик Скорик.
Летчик обошел вокруг Ш-2, цепким взглядом пробежался по рулям, элеронам, бойко пробарабанил пальцами по поплавкам (позже молодой механик сообразил, что Скорик вовсе не дурачился, а по звуку определял, нет ли в полостях воды), погладил струны — тросики, проверяя натяжку, кивнул одобрительно. Потом спросил, как бы между прочим: «Заправка под пробку?» Механик ответил, что бензин и масло залиты полностью.
Летчик надел шлем, застегнул реглан и сел в кабину. Механик дергает винт, мотор сразу завелся. Скорик его прогрел и порулил с берега на воду. Там, уже на плаву, он ручной лебедкой подобрал шасси и пошел на взлет. Однако «шаврушка», еще не набрав скорости, начал задирать хвост, а по бокам веером поднимались брызги. Скорик сбросил газ и еще раз попытался взлететь. Результат тот же. Едва лодка, набирая скорость, начинала выходить на редан и трястись на встречных волнах, шасси самопроизвольно опускалось, и возникало мощное торможение.
Скорик подрулил к берегу; стали искать причину. Загвоздка оказалась в механизме уборки шасси: фиксатор не полностью заходил в гнездо. Летчик не сказал ни слова в упрек, но щеки молодого механика горели от стыда. Вместе подрегулировали фиксатор. Скорик благополучно взлетел и взял курс на Тумнин. Ковалев запомнил урок, и больше подобных промашек у него не было.
С другими механиками из числа новичков на первых порах случались и такие огрехи, которые могли привести к катастрофе. Однажды экипаж Скорика, сбросив груз, возвращался на базу на летающей лодке МБР-2. Вдруг один из кронштейнов, которыми крепился мотор, как-то странно стал отходить в сторону. Экипаж замер: если напором воздуха железку развернет назад, то она может попасть под винт диаметром в три метра, и тогда… Винт — на части, его обломки способны перебить фюзеляж пополам, и они рухнут с высоты. К счастью, в этом рейсе с ними летал инженер отряда Горяинов. Коротко посовещавшись со Скориком, Иван Алексеевич вылез из кабины, добрался до двигателя. Скорик сосредоточился, стараясь держать машину как можно ровней, все остальные с замиранием сердца наблюдали, как Горяинов, стоя на ветру, на головокружительной высоте, держась одной рукой, свинтил злосчастный кронштейн и передал в кабину. Он мог сразу отбросить его, но важно было установить причину. Она оказалась проста — по недосмотру технического состава кронштейн был плохо закреплен. Ни Скорик, ни Горяинов не стали докладывать начальству о случившемся, но уже вскоре неведомыми путями всем авиамеханикам от Комсомольска до Иркутска стало известно и про непростительный грех, допущенный техническим персоналом, и про смертельный цирковой трюк, исполненный инженером Горяиновым.
Механик Ковалев очень уважал людей смелых, преклонялся перед отвагой, если она оправдана ситуацией, но терпеть не мог лихачества, людей отчаянных, авантюрных, рискующих по легкомыслию.
Со Скориком Ковалеву довелось работать недолго. Способного молодого механика прикрепили к экипажу летчика Д. В первом же вывозном полете на МБР-2 Д. при посадке налетел на островок, изрядно поломав лодку. На правом сиденье находился командир отряда Винников, который, как водится, за аварию и ответил. Но не ему, а Д. — истинному виновнику адресовалась пропетая на субботней вечеринке едкая частушка из популярного в те годы кинофильма «Летчики»:
Все в порядке. Мягко сели. Высылайте запчастя, Фюзеляж и плоскостя…От этой «мягкой» посадки у Алексея на всю жизнь остался шрам на ноге. Впоследствии ему и бортмеханику Изварину из-за слабой, как считал Алексей Ковалев, летной подготовки командира пришлось немало претерпеть неприятностей. Во время перелета на озеро Иркана погода была дрянная, и они заблудились. Бензин весь сожгли, на оставшемся бензоле мотор работал плохо, пришлось срочно искать подходящий плес и идти на вынужденную посадку, причем Д. решил, что это река Витим. Только позже выяснилось, что это была своенравная Ципа, а Витим они проскочили. Ковалев уверял, что видел в разрывах облаков промелькнувшую большую реку, но командир и бортмеханик ему, восемнадцатилетнему парню, не поверили.
Самолет, насколько смогли, подтянули к берегу и стали думать, что делать дальше. Предложение Ковалева сделать плот и пойти по течению было отвергнуто. Полагая, что они находятся на Витиме, командир наметил пеший маршрут и приказал взять вещички. Два дня прошагали под дождем, промокли, промерзли. Питались кореньями, лишь однажды удалось убить и сварить в кружке небольшую птицу. На третий день Д. скрутил радикулит, он согласился, что надо делать плот и опускаться по реке.
Когда вышли в долину реки Курла (об этом путешественники узнали позже — от местных жителей), обнаружили там вырубленную из дуба плаху с частично сохранившейся выжженной надписью: «Здесь похоронена раба Божия жена техника … из экспедиции … советника г-на Миддендорфа… 18… год».
Из воспоминаний А. И. Ковалева: «Мы постояли у этой безвестной могилы. Не знаю, что думали мои товарищи но мне почему-то было жаль эту женщину и я чуть не расплакался. Видимо, наше положение обостряло чувство сопереживания. Когда плыли вниз, то попали в прижим, под скалу, утопили все вещи и главное — спички. Хорошо, что было тепло. Прошли вверх километров десять по направлению к самолету. В тальниках нашли лодку, но стянуть ее в воду не было сил.
Дошли до самолета, сделали из хлебной пудры лепешку, поджарили ее на вазелине (спички в самолете были), съели, запили водой и уснули в кабине, где тепло и сухо. Услышали самолет. Это был Сережа Курочкин на своем Г-1. Мы махали, но нас не увидели — обидно. Оставив Д. с его радикулитом, дошли до лодки, кое-как столкнули ее и поплыли. Услышали шум самолета, но из-за гор не увидели, что там происходит. Подплыв, увидели радостного Д., ему сбросили продукты и кроки с карт. Теперь мы убедились, что это река Ципа (по-эвенкийски звучит Типа) и до фактории всего двадцать километров. Мы этот путь преодолели на лодке за три-четыре часа. Послушали-бы Д. и Изварин моего совета — плыть на плоту — в тот же день были бы на фактории, обошлись бы без столь плачевных приключений. Видно, мои восемнадцать лет не позволяли им обдумать предложение всерьез…
Через пару дней из Нелят пришли два полуглиссера, привезли мастера, материалы для ремонта и выкатное шасси. Подвели шасси под днище, самодельным воротом выкатали самолет из реки на берег, начали ремонтировать. Но тут пошли сильные дожди, Ципа вздурела. Работу пришлось прекратить, так как место, где был наш самолет, затопило, и туда можно было подъехать только на лодке…»
Трое суток механик Ковалев бессменно откачивал из самолета воду. Котелок с едой ему подавали на багре. Горная Ципа точно взбесилась, Алексею приходилось отталкивать от самолета бревна и коряги, несущиеся по течению с огромной скоростью. Все веревки, какие были, порвало, и если бы не цепь, привязанная для вытаскивания самолета, удержать машину было бы невозможно. Вода, разбавленная снегом, была очень холодна. Трое суток прошли почти без сна. О том, что будет с ним, если фанерный самолет унесет на быстрину, на каменные пороги, механик старался не думать, главное было — удержать машину. Наконец река утихомирилась, вода спала. Кое-как заделав щели в лодке, поднялись и перелетели в Неляты, где уже основательно отремонтировали редан, заменив не только фанеру, но и часть шпангоутов, пострадавших от ударов бревен.
Позже, во время наводнения на реке Зее, Ковалеву пришлось пережить еще одну штормовую ночь. Стоя по пояс в воде, он отталкивал от самолета плывущие коряги.
Оказавшись на озере Иркана, механик Ковалев стал просить, чтобы его оставили в здешней экспедиции. Никак не мог он преодолеть своего стойкого предубеждения против командира. В это время на Иркане работал знакомый летчик Скорик. Но у Скорика экипаж был полностью укомплектован, и Алексея зачислили механиком к молодому летчику Евгению Ефимову, переведенному на Иркану из Олекминской экспедиции. Здесь они часто летали и на Байкал, и в Иркутск. Так закончился «аргиш» потомка первых русских переселенцев механика Алексея Ковалева от Комсомольска-на-Амуре до Байкала.
Карты в руках НКВД
Протяжный вой доносился от устья залива. Там, у белой кромки торосов, ревел пароход «Ола». Он опоздал к причалу всего на несколько дней, и теперь напрасно дымили, разгоняя машины, налезал на кромку ледяного припая. Бурлила вода за кормой, но пароход не двигался с места. Ледяное поле бухты Ванина оказалось слишком крепким для старого корпуса «Олы». Ранние морозы 1938 года покрыли залив прочным панцирем. Лишь у берегов и у границы с чистой водой лед потрескивал от приливного дыхания океана. Экспедиционное имущество — сотни мешков, бочек, ящиков — пришлось разгружать прямо на лед в одиннадцати километрах от порта и на санях вывозить на берег. Но самый важный груз оставался в трюмах. Трактора и грузовики выставить на лед с помощью маломощных судовых лебедок не удалось. Обдирая борта о кромки льдин, пароход «Ола» повернул назад, во Владивосток.
В Москву полетели тревожные телеграммы. Хотя по календарю до открытия полевого сезона оставалось еще несколько месяцев, работы по изысканию железнодорожной трассы Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань оказались под угрозой провала. Ведь смысл операции состоял в том, чтобы на тракторах, запряженных в сани, бульдозерными тропами, проложенными по руслам замерзших рек, забросить грузы от берега Татарского пролива к таежным базам, находящимся на подступах к перевалам непроходимого хребта Сихотэ-Алинь.
Москва потребовала: во что бы то ни стало пробиться к причалам и доставить технику трассовикам. В сопровождении ледокола пароход «Ола» вновь был послан в Совгавань. Но морозы усилились, и залив заковало в такую броню, которая теперь уже и портовому ледоколу оказалась не по зубам.
Между тем в Кремле теряли терпение. Было принято уже несколько правительственных постановлений о строительстве второго железнодорожного выхода к Тихому океану, к Советской Гавани, а дело не двигалось. В бухте Ванина побывал сам Климентий Ворошилов. Нарком по военным и морским делам лично убедился: залив исключительно удобен (глубоководен, разветвлен) для создания там военно-морской базы, но, не имея сухопутной связи с Большой землей, Советская (бывшая Императорская) Гавань не могла выдержать осады и случае морской блокады становилась легкой добычей агрессора. Бывшая Императорская гавань — лучшая бухта на нашем Тихоокеанском побережье — в свое время уже стала ловушкой для фрегата «Паллада». Здесь в 1855 году экипаж, чтобы избежать плена, взорвал свой корабль. Останки «Паллады» покоятся на дне залива. Немало первопроходцев погибло здесь от цинги и голода.
Опыт русско-японской войны также подтверждал: без сухопутной связи с «материком» залив не мог послужить даже надежным убежищем для экипажей судов. Из гавани, как ее ни называй — Императорской или Советской — невозможно было эвакуировать не только материальные ценности, но и людей. По крайней мере, для женщин и детей путешествие через Сихотэ-Алинь было бы губительным. Только строительство железной дороги могло спасти положение. И вот тогда, получив рельсовый выход к Амуру и на Транссиб, военная база в Совгавани обретала особую активность и жизнеспособность.
Вторую трассу к Тихому океану пытались проложить еще в 1927 году от Хабаровска. Изыскания производились при полном отсутствии топографических карт. Идя по правому берегу Амура, попали в долину реки Хор, далее по одному из притоков поднялись на перевал Сихотэ-Алиня, наметили восточный спуск к океану. Однако вариант сочли малообоснованным. В 1931–1932 годах Дальжелдорстрой НКПС произвел более тщательные изыскания. Появились еще два варианта пересечения хребта Сихотэ-Алинь и спуска с перевала.
В 1932 году началось строительство индустриального центра — Комсомольска-на-Амуре. От станции Волочаевка, что на Транссибе, потянули на северо-восток к новому городу слева от Амура насыпь сначала для автомобильной дороги, потом использовали ее под железную. Вариант линии от Хабаровска на Совгавань потерял свое значение. Дорогу в Советскую Гавань решили прокладывать не от Хабаровске, а от Комсомольска. К этому времени определилось в общих чертах направление Байкало-Амурской магистрали. Так что железная дорога от Комсомольска до Совгавани должна была стать восточным участком БАМа.
Но трассе не везло. Все силы изыскателей в 1933 году были брошены на отработку трассы ВОЛК: Волочаевка — Комсомольск. Оставшаяся единственная партия сумела только произвести рекогносцировку в районе спуска в долину реки Хуту с выходом в долину реки Тумнин. Основное направление так и не было определено.
В июне 1934 года командованию Особого корпуса Железнодорожных войск было приказано срочно произвести изыскания железнодорожной линии Комсомольск — Советская Гавань. Распоряжение свалилось, как снег на голову, и для подготовки к высадке десанта использовались даже материалы местного краеведческого музея — глазомерные маршрутные съемки Арсеньева. Подразделения прибыли на пароходе «Кречет», высадились на берег и немедленно приступили к полевым изысканиям. Однако условия работы оказались настолько сложными, что полной ясности по главному направлению трассы добиться не удалось. Среди инженеров возникли серьезные расхождения по поводу вариантов перевалки через хребет Сихотэ-Алинь. Особенно остро стоял вопрос о строительстве трехкилометрового тоннеля на перевале. Не строительство тоннеля требовались годы и уйма средств.
Между тем обстановка в Тихоокеанском бассейне накалялась — на море, на суше и в воздухе. Японский военный флот, в десятки раз превосходящий наши морские силы, концентрировался поблизости — на Южном Сахалине, Хоккайдо, Курилах. На морской и сухопутной границе постоянно вспыхивали вооруженные конфликты.
7 июля 1937 года, спровоцировав «инцидент на мосту Марко Поло», японская армия начала полномасштабную войну с Китаем. Советское правительство направило в помощь Гоминдану сотни летчиков-добровольцев. Они помогли прикрыть небо, но натиск японцев нарастал. Уже в июле — августе агрессором были заняты обширные районы Северного Китая. 13 декабря японцы окончательно захватили Нанкин. Шесть недель там шла резня. Было убито более двухсот тысяч гражданских лиц и военнопленных. В это число не входят те, чьи тела были сожжены, сброшены в реку Янцзы… Общее число жертв оценивалось в триста тысяч человек. К концу года и центр Китая, где был сосредоточен практически весь промышленный потенциал страны, оказался в руках японцев. Правительство Чан Кайши бежало в провинцию Сычуань. Многие историки считают, что Вторая мировая война началась не на Западе, с нападения Гитлера на Польшу, а гораздо раньше — на Дальнем Востоке в 1937 году…
В марте 1938 года Япония принимает закон о всеобщей мобилизации. Все более очевидным становилось, что после захвата Китая Япония обрушится на СССР, и первый удар будет нанесен по Транссибу. 3 июня 1938 года СНК СССР принимает очередное постановление, в котором планировалось в 1939 году начать сооружение участка магистрали Комсомольск-Совгавань с переходом через Амур и закончить строительство железной дороги с вводом ее в постоянную эксплуатацию в 1942 году. Одновременно велось усиление Транссиба и строительство тоннеля под Амуром, предназначенного на случай разрушения моста у Хабаровска.
К этому времени кабинет министров Японии Коноэ уже одобрил оперативный план «Оцу» для действий на советской границе. Планировалось с участием маньчжурских войск захватить вначале города Уссурийск, Владивосток и Иман, а затем Хабаровск, Благовещенск и Куйбышевку-Восточную. Цель — отсечь Дальневосточную армию от Забайкальского округа. Одновременно планировалось вторжение в Монголию. Императорская армия воспитывалась в наступательном духе. Оборона признавалась скорее злом и допускалась лишь в исключительных случаях. Воинов приучали прежде всего к ведению встречных боев, быстрым маневрам, действиям ночью, пешим переходам по пятьдесят-шестьдесят километров в день. Ставка делалась на внезапность, умение оторваться от противника, навязывание инициативы.
Пограничные инциденты сопровождались демонстративными разрушениями пограничных знаков СССР и вызывающими заявлениями японских офицеров, типа: «Территория васа будет наса». Чтобы не оставаться в долгу, наши пограничники, разводя руки, изображали самолет и огорчали противную сторону фразой, не нуждающейся в переводе: «Коккинаки — Нагасаки!..» Японских военных действительно тревожили успехи краснозвездной авиации, и они надеялись, что им удастся успеть блокировать немногочисленные аэродромы противника. Но ни самураи, ни большевики и в кошмарном сне не мощи представить себе трагического конца городов Хиросима и Нагасаки…
Обстановка сделалась крайне нервозной после того, как 13 июня 1938 года в Маньчжурию бежал и сдался оккупационным властям начальник управления НКВД по Дальнему Востоку Генрих Люшков — одно из доверенных лиц Ежова и Агранова. Его называли лучшим чекистом, репрессировавшим семьдесят тысяч «врагов народа». Помимо прочего он передал японцам сведения об организации шифровальной связи. Люшков стал гражданином Японии под именем Ямогучи Тосикаду. К японцам перебежал также работник штаба 36-й мотострелковой дивизии майор Фронтямар Францевич, пользовавшийся военным комплексом шифропереписки. В руки японцев попали точные сведения о численности, дислокации наших вооруженных сил, о сооружаемых оборонных объектах. Надо было срочно вводить коррективы. А для передислокации нужны дороги. 1 июля Особая Дальневосточная армия преобразуется в Дальневосточный фронт. Командующим назначен маршал Василий Блюхер.
В ночь на 29 июля 1938 года японцы атаковали пограничный пост в районе озера Хасан и начали наступление на высоту Безымянную. Инцидент приобрел угрожающие масштабы: 6 августа, когда рассеялся туман, в 16 часов сто восемьдесят бомбардировщиков под прикрытием семидесяти истребителей нанесли удар по обороне японцев. Затем, после артподготовки, в наступление пошли танки и пехота.
Конфликт у озера Хасан завершился поражением агрессора. Газеты прославляли мощь Красной Армии. 17 октября Президиум Верховного Совета СССР учредил медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Однако прибывшим на Дальний Восток из Москвы заместителем наркома обороны Мехлисом и специальной инспекцией были выявлены серьезнейшие недостатки в подготовке красноармейцев и организации боевого взаимодействия. Отмечалось, что малограмотные командиры воевали по-партизански, дисциплина хромала. Припомнили, что той же осенью при спасении экипажа самолета «Родина» в результате грубого нарушения правил полетов произошло столкновение в воздухе «Дугласа» и тяжелого бомбардировщика ТБ-3 с десантом. Непорядок отмечался всюду — на суше, в воздухе и на воде. 7 ноября эсминец «Решительный» совершал переход на буксире от гавани Владивосток, где предстояли испытания только что построенного корабля. К вечеру поднялся ветер — до 11 баллов. Буксир лопнул, эсминец ударило о скалу. Корабль разломился.
Череда неудач роковым образом отразилась на судьбе многих неповинных людей, в том числе маршала Блюхера, который умер под следствием 9 ноября 1938 года. А в декабре Берия назначили на место Ежова, который в 1939 году был арестован и в 1940 году расстрелян. Кадровая чистка коснулась и проектировщиков линии Комсомольск — Совгавань. Никакие ураганы, льды и другие причины не принимались в оправдание: «Начинаем строительство. Где трасса? Карты — на стол! Немедленно…»
8 февраля 1939 года уже не только авиагруппу, а всю контору Бамтранспроект передают из НКПС в распоряжение НКВД. Организация получает новое, гораздо более впечатляющее название — Управление по проектированию Байкало-Амурской магистрали — «Бампроект НКВД». Начальником назначают инженера путей сообщения Федора Гвоздевского, присвоив ему ранг, соответствующий генеральскому.
22 февраля 1939 года тяжелую технику, наконец, выгрузили с парохода «Ола». Для этого пришлось оборудовать специальную эстакаду в сорока километрах от Совгавани. Но время было упущено безвозвратно. К марту на восточных склонах Сихотэ-Алиня началось бурное кипение наледей, затем пошли оттепели. Зимние дороги стали непроезжими, и вся тяжесть перевозок легла в прямом смысле слова на плечи изыскательских партий, отрядов и групп. Им пришлось все оборудование и продовольствие тащить на себе, частью на вьючных животных, частью на лодках — где с шестами, где по-бурлацки на канатах. Строгие нормы питания были введены сразу, поскольку угроза голода к концу сезона могла стать вполне реальной.
Бампроект НКВД силами восемнадцати крупных изыскательских экспедиций и Конторы аэросъемочных работ проводил изыскания железных дорог в разных районах страны. Но линия Комсомольск — Совгавань была под особым контролем. Подготовка к строительству шла полным ходом. Ждали ответа изыскателей: где конкретно, по каким долинам и перевалам она должна пройти. Генерал Гвоздевский, бывший боец Первой Конной армии Буденного, награжденный орденом боевого Красного Знамени, понимал, что провал на этой трассе будет стоить ему головы.
Особую авиагруппу НКВД пополнили самолетами. В экипажи двадцати шести машин подбирали добровольцев из числа военных и гражданских пилотов, штурманов, радистов, которые уже проявили себя в деле. Но то, с чем пришлось столкнуться профессиональным летчикам на трассе, невозможно было предвидеть.
Учитывая отчаянное положение трассовиков, им в помощь была занаряжена почти вся имевшаяся в этом районе авиация. Мешала непогода, приходилось летать при отсутствии аэродромов и надежных топографических карт, при очень плохой радиосвязи между отрядами, и все же двухмоторным самолетом АНТ-4 (Г-1) удалось забросить на трассу двенадцать тонн продовольствия. Так что весной 1939 года каждый килограмм груза, каждая сброшенная летчиками с вымпелами записка были для изыскателей путей сообщения просто бесценными. Ближе к лету, когда растаял лед на реках и озерах, в дело вступили летающие лодки, самолеты на поплавках и амфибии.
Смотри: самолет!
Как все истинные пилоты, Сергей Скорик готов был лететь на чем угодно и куда угодно. Но этот рейс в таежный поселок Кун не нравился ему с самого начала. И дело тут было не в каком-то мистическом предчувствии. Портила настроение атмосфера нервной суеты на базе экспедиции и в гидропорту. Вокруг только и слышалось: «Давай-давай!» А как известно, суматоха к добру не приводит. Так оно и вышло.
В этот день весь экипаж Скорика оказался не у дел. Их летающую лодку МБР-2 поставили на ремонт и, судя по нахмуренным лицам механиков, надолго. Такое с гидросамолетами случалось частенько: то мотор барахлит, то днище течь дает. В ремонте находился и «шаврушка» — крошечный самолет-амфибия Ш-2. Но тут уже Скорику не на кого было пенять — сам повредил аэроплан.
С этим рассыльным самолетиком произошла история, которая нынче может показаться забавной, даже невероятной. Скорику пришлось садиться на реку Тумнин в месте, где произвести посадку почти невозможно. Но внизу ждал помощи больной человек, и Скорик решился. Когда до воды оставались уже считанные метры, самолет правым крылом задел ветку дерева, и обшивка нижней части плоскости распоролась.
Подрулив к берегу, Сергей Скорик осмотрел поврежденное крыло и понял, что взлететь он не сможет, если не заделает эту прореху. Для ремонта он употребил то, что оказалось в наличии: полотно от собственных подштанников и вар, которым смолят лодки.
Пока летчик кроил, штопал и клеил, привезли больную женщину; она была в сильном жару. Скорик усадил ее рядом с собой в открытую кабину, закутал поплотнее. Ветер немного усилился, это должно облегчить взлет, но выдержит ли крыло? Пилот еще раз осмотрел акваторию, выбрал дальний угол и дал до отказа «по газам». «Шаврушка» легко вышел на редан. Скорик вел машину по дуге, с легким креном, чтобы ветру сподручней было помочь ему, и, оторвавшись от воды, пилот по-прежнему держал машину чуть с креном, не выравнивая. И ветер помог — сам перевалил «шаврушку» через береговую чащу.
Пластырь на взлете выдержал, но за время пути, должно быть от вибрации, один конец полотна скориковских подштанников оторвало. Жители города Комсомольска смотрели в небо с удивлением: что это за флаг полощется под крылом самолета?
На берегу больную ждал крытый грузовичок. Во время полета ее сильно тошнило. Когда женщину уложили на носилки, врач предупредил, что есть подозрение на тиф, и велел Скорику и механику тщательно продезинфицировать и себя, и самолет. «Шаврушку» протерли бензином и передали в ремонт, чтобы как следует залатать крыло, подтянуть тросы, перебрать мотор.
Словом, день обещал быть бесполетным. Скорик зашел в столовую пообедать. По репродуктору передавали последние известия. Диктор рассказывал о положении в районе Халхин-Гола, где 11 и 14 мая японо-маньчжурские войска осуществили вооруженные провокации. Группы были небольшие, но чувствовалось, что за их спиной стоят крупные силы и дело завязывается нешуточное.
В столовой Скорика окликнули. Это был начальник авиаотряда Винников, с ним еще какой-то мужчина.
— Сергей Сергеевич, — обрадовался начальник, — а я как раз тебя ищу. Вот, давай — «шаврушку» уже исправили, — отвезешь товарища Метельникова в поселок Кун. Давай, Скорик, быстренько — туда и сразу назад. Дело не терпит…
Давай так давай. Летчик сунул в карман пару пирожков и вместе с пассажиром направился в гидропорт. Самолет-амфибию Ш-2 в мастерской едва успели отремонтировать, даже еще не покрасили. Сказали: вернешься из рейса, тогда и разрисуем — дело спешное. Скорик поморщился: машина без опознавательных знаков выглядит, как самоделка, да и мотор надо бы еще погонять. Мало ли…
Как выяснилось, пассажиру — инженеру Метельникову — тоже не дали толком собраться в дорогу. Спохватились: так вот же оказия, — садись и лети. Впрочем, Метельников поначалу искренне радовался. Шутка сказать: вместо многодневного изнурительного похода — два с небольшим часа, и он на месте.
Внизу проплывало озеро Хумми. Из лодок рыбаки махали пролетающему самолету. Качало, правда, изрядно, что неудивительно при полете со скоростью всего в сотню километров в час. Глотая слюну, пассажир строил мысленные планы на остаток дня — к кому зайти вначале, кого навестить попозже — и с уважением поглядывал на летчика. Нет, кто по тайге пешком не ходил, тому не понять, какое чувство благодарности к авиации переполняло душу инженера Метельникова. Ведь простейшая машина, а какие великие преимущества она дает человеку!
Пожалуй, тут следует сделать краткое отступление, чтобы подробнее описать летательный аппарат, на котором 24 мая 1939 года из Комсомольска-на-Амуре в сторону Куна двигались Скорик с Метельниковым. Право, машина того заслуживает.
Ш-2 («шаврушка») самолет-амфибия — корабельный разведчик, связной, посыльный, санитарный и прочее
Это был первый в Советском Союзе самолет-амфибия, созданный Вадимом Борисовичем Шавровым на средства ОСОАВИАХИМа. В конце 20-х годов многие конструкторы были одержимы стремлением создавать аэропланы, способные летать «выше всех, дальше всех и быстрее всех», бредили рекордами высоты, дальности, скорости, грузоподъемности. У инженера Шаврова идея была иная: сделать машину, напротив, предельно простую, легкую, экономичную, способную садиться на воду, на снег, на любую поляну. Чтобы она была неприхотливой и универсальной, как крестьянская подвода, и чтобы отремонтировать ее можно было в самой захудалой мастерской. Надо вспомнить, что в то время не существовало легких и прочных полимерных материалов. Моторы, по сравнению с нынешними, были тяжелы и капризны: не те сплавы, не та степень точности обработки и подгонки деталей.
Делал Шавров свою первую амфибию в Ленинграде, в домашняя условиях. Молодому конструктору помогали еще два энтузиаста — инженер Виктор Корвин и сосед по квартире механик Николай Фунтиков. Остроносая деревянная лодка с хвостом поместилась в комнате наискосок — ее длина чуть больше восьми метров. Верхнее же крыло полутораплана размахом 13 метров никак не влезало в помещение; пришлось делать его частями. Но не зря говорят «нет худа без добра» — получилась конструкция со складывающимися назад консолями. В таком сложенном виде можно было подвесить летательный аппарат на крюк и в корабельном трюме, и в любом сарае, благо веса в гидроаэроплане было всего 660 килограммов. А полностью заправленная и загруженная машина весила примерно тонну. Мотор приспособили «Вальтер» в восемьдесят пять лошадиных сил. Наконец в одну из белых ночей 1929 года детали вывезли на аэродром и там собрали машину. Знатоки посмотрели и в один голос приговорили: эта штука — летать не сможет, — просто мотор не вытянет. На восьмидесяти пяти силенках ему придется тащить фактически три фюзеляжа: лодку, два объемистых поплавка, да и сам движок тоже без обтекателей. А кроме того, амфибии полагалось иметь еще шасси — пару колес, которые надо было поднимать и опускать, вращая в кабине ручку лебедки — тросовый привод. С такой аэродинамикой не стоит даже пробовать искушать судьбу.
Вначале испытатели как следует погоняли амфибию по воде в Гребном Порту. Плавала машина хорошо, по реке бегала резво. Когда лодка уравновешена, то поплавки, прикрепленные к нижним укороченным крыльям, даже не касаются воды. Эти поплавки боковой остойчивости, необходимые только для подстраховки — на случай волны, качки, немного переделали.
На первый взлет осмелились 21 июня 1929 года. Летчик Л. И. Гикса только оторвал амфибию от поверхности воды и, пролетев немного по прямой, опустился. Второй полет был подольше, третий еще… Машина, как трудяга-лошадь, тянула спокойно, без рывков.
Затем другой летчик-испытатель Б. В. Глаголев целую неделю истязал машину в самых жестких режимах, в том числе при сильном ветре и на волне до 0,6 метра. После этого установили шасси и костыль, опробовали взлет с воды, посадку на сушу и обратно. Под конец совсем обнаглели — уселись в трехместную кабину вчетвером. Машина и это выдержала. Полет прошел нормально.
И вот 31 августа аппарат под индексом АШ-1 (амфибия Шаврова) взлетел в Ленинграде с акватории Гребного Порта и приземлился в Москве на Центральном аэродроме. Комиссии машина понравилась с первого взгляда. Начальник управления авиапромышленности Наркомтяжпрома П. И. Баранов распорядился провести всесторонние государственные испытания. Конструктору поручили довести модель «до кондиции»: поставить отечественный звездообразный семицилиндровый двигатель М-11 в сто сил, прикрыть мотор каким-нибудь капотом, чтобы улучшить аэродинамику, и еще кое-что по мелочам.
Окрыленный успехом Шавров горячо взялся за дело. Первую свою модель он передал ОСОАВИАХИМу для агитационных полетов. Но агитировать первенцу довелось недолго. 26 февраля 1930 года пилот Чкалов с механиком Ивановым летели из города Барановичи в Ленинград и угробили машину.
В ОСОАВИАХИМе Валерий Павлович оказался в связи с другой, и тоже неприятной, историей 15 августа 1928 года военный летчик-истребитель Чкалов для тренировки полета на низких высотах нырнул под телеграфную линию.
Высоту проводов Чкалов оценил по изоляторам на столбах, но на беду один из проводов провисал в результате аварии не по норме. Надо сказать, что в эти годы обстановка в ВВС Красной Армии с аварийностью была просто отчаянной. Сотни людей гибли из-за малого опыта, изношенности старой техники и низкого качества отечественных самолетов первых выпусков. Но объяснялось это зачастую недисциплинированностью летного состава. Чтобы прервать эпидемию самонадеянности молодых пилотов, решили примерно наказать Чкалова.
Летчику дали год тюрьмы за нанесенный урон. Просидел он в брянской тюрьме, где ему сочувствовали даже надзиратели, только девятнадцать дней. По ходатайству жены Чкалова о помиловании, «всесоюзный староста» М. И. Калинин освободил его из заключения. Однако из армии летчика демобилизовали. Некоторое время Чкалов маялся без работы. Но потом устроился в ленинградский ОСОАВИАХИМ.
Полет Чкалова и бортмеханика Иванова на интересной новой амфибии Ш-1 проходил при сквернейшей погоде. Прижатый к самой земле густым снежным зарядом, обледенелый самолетик зацепился крылом за железнодорожный семафор и упал. Летчики, к счастью, не пострадали, но машина полностью разрушилась. Поскольку вины пилота не было, дело закрыли, а вскоре — 11 ноября 1930 года — Чкалова зачислили в НИИ ВВС летчиком-испытателем скоростных, боевых и других необыкновенных машин.
Шавров, рассказывают, не очень горевал о потере первенца. Он доводил до ума типовую модель АШ-2 (Ш-2). Кабина трехместная: два сидения рядом и одно сзади. В случае надобности можно было уместиться и четверым без ущерба для центровки. Как удалось добиться таких пропорций — остается загадкой, никаких пластиков тогда и в помине не было. Каркас лодки — сосна, частично ясень, облицовка — фанера толщиной три миллиметра, на редане — шесть. Крепилось все это казеиновым клеем, оцинкованными гвоздями и шурупами. Снаружи всю лодку и нижние крылья оклеивали бязью, пропитанной вслед за тем аэролаком для защиты от воды. На случай аварии нижние крылья и поплавки разделялись на двенадцать водонепроницаемых отсеков. Только верхнее крыло делалось из дюраля, обшитого полотном. Моторная рама сварная из стальных мягких труб.
11 ноября 1930 года самолет-амфибия с окончательным индексом Ш-2, изготовленный на ленинградском заводе «Красный летчик», был впервые опробован над сушей пилотом-испытателем Глаголевым. Особых доводок не потребовалось, и без лишней волокиты самолет передали Таганрогскому авиационному заводу для серийного выпуска.
«Шаврушку» ожидала необыкновенная судьба моделей типа биплана «кукурузника» По-2, паровоза «овечки» О8, «полуторки» грузовичка ГАЗ-АА и других технических долгожителей, на протяжении десятилетий не знавших конкурентов. Тиражировали Ш-2 во многих сотнях экземпляров. Десятка полтора «шаврушек» выпустили в санитарном варианте — с прорезью для носилок и небольшим колпаком. Зимой вместо колес ставили лыжи. Капитаны судов Севморпути «Челюскин», «Литке», «Красин» брали амфибию на борт как ледового разведчика. Особенно широко применялись Ш-2 на линиях Сибири, Дальнего Востока и в высоких широтах Арктики. Амфибия стала верным помощником геологов, рыбаков, лесников, связистов. Использовали «шаврушку», самолет простой и надежный, и как учебную лодку. Со временем появились и другие, более мощные отечественные гидросамолеты. Самым же грозным соперником в классе «воздушный связной» стал, конечно же, знаменитый По-2. Однако амфибия-«шаврушка» настолько полюбился авиаторам, особенно тем из них, кто летали над тайгой, что с 1939 года их стали делать «хозспособом» на базах ГВФ, причем сотнями. Правда, алюминиевых сплавов не хватало, верхнее крыло получалось попроще — деревянной конструкции, — зато мотор ставили помощней, 115 сил, и снабженный системой запуска сжатым воздухом, чтобы в случае чего летчик в одиночку мог поднять машину. Пытались для запуска приспособить пиропатроны, но из этой затеи ничего не вышло.
И летали эти «Ш-2», можете себе представить, аж до 1964 года. Причем, старые летчики и в 90-х годах вспоминали «шаврушку» не иначе как с нежностью, перечисляя по пальцам его скромные достоинства. Вот они. Скорость, по нынешним меркам, очень низкая — максимум 139 километров в час. Зато и посадочная мала до смешного — всего 60!.. Амфибия Ш-2 не взвивалась соколом к облакам: подъем на тысячу метров одолевался более чем за восемь минут. Зато для разбега при взлете требовалось всего сто метров; пробег при посадке — десять метров. Что еще? «Потолок» — 3850 метров. Максимальная дальность полета — 1300 километров. Для такой «мухи» даже поразительно. Емкость баков: под масло тридцать литров, под бензин — триста тридцать. Это на одиннадцать часов полета. Больше, пожалуй, и не высидеть летчику за штурвалом в открытой всем ветрам кабине.
Конструктор самолета-амфибии Ш-2 Вадим Борисович Шавров.
Легкий самолет-амфибия Ш-2 общего назначения Вадима Шаврова. Полутораплан с верхним крылом типа парасоль и встроенными в нижнее короткое крыло стабилизирующими поплавками.
Именно столько: тридцать и триста тридцать литров — под самые пробки — было залито в баки того фантастического аппарата Ш-2, на котором, глубоко проседая на воздушных ухабах, приближались к поселку Кун летчик Скорик и его пассажир инженер Метельников.
Была прекрасная пора — конец мая, сихоте-алиньская тайга уже расцветала свежей зеленью. Инженер с любопытством заглядывал через борт лодки, пытаясь высмотреть сверху сохатого или медведя, поднявшегося недавно из берлоги, а если повезет, то, говорят, и тигры сюда забредают. Сверху тайга кажется особенно красивой, безобидной, прямо-таки уютной, как парк культуры и отдыха.
Оркестра только не хватает. Впрочем, музыка непрерывно звучала в ушах — легкая слуховая галлюцинация, которая обычно возникает от истошного воя мотора над головой. Но это чепуховое неудобство по сравнению с трудностями, которые испытывают те, кому приходится продираться через тайгу пешком.
Скорик лишь изредка косился на пассажира. Чаше обычного он поглядывал вокруг, оборачивался. Приходилось вертеть головой: не ровен час, вывалится из облака какой-нибудь шальной патруль. Скорик сам недавно ходил в воздушном патруле и над Балтикой, и над тихоокеанской бухтой Святой Ольги, причем на разных самолетах: на итальянской летающей лодке «Савойя», на немецком «Хейнкеле-55» (двухместном корабельном разведчике), на отечественной «Искре» (Р-1). Насмотрелся на всякое.
Опытный истребитель, конечно, на такую безобидную козявку, как «шаврушка», с ходу не набросится. Заглянет вначале, увидит, кто в лодке сидит, и сразу поймет: не самураи, а два русских мужика по хозяйственному делу пилят. Можно покачать ястребку крыльями, помахать руками, защитные очки снять для опознания рязанской физиономии, даже поспорить, побраниться жестами или, на худой конец, успеть шлепнуться на какую-нибудь лужу. А вот если попадется молодой-ранний, так тот может, не разобравшись, резануть из пулемета и полетит за наградой. Как же: сбил диверсанта без опознавательных знаков на подлете к стратегическим объектам… В Комсомольске авиазавод № 126 начал серийный выпуск дальних бомбардировщиков конструкции ОКБ Сергея Ильюшина ДБ-3 (Ил-4). За годы войны завод поставил фронту 2700 таких самолетов. Набирал силу судостроительный завод и много еще чего строилось — не для чужих глаз. С начала конфликта в соседней Монголии военные по всему Дальнему Востоку сильно посуровели, нагнали и на гражданских летчиков уставных строгостей, секретностей, совсем сделались жесткими, неразговорчивыми. Так что случайная встреча в воздухе с военным, патрулем была до крайности нежелательной.
Однако в конце пути Скорик напрочь забыл об истребителях. Теперь он глядел не по сторонам, а только вниз, но совсем по другой причине, чем пассажир. Не приборы (их было-то всего: барометр-высотомер, тахометр, часы на руке да флажок впереди, показывающий направление ветра), какое-то седьмое чувство подсказало летчику — с мотором не ладно. Но вот уже и река Хунгари. Еще полчаса… И тут бурые капли вспыхнули на ветровом стекле.
Подавшись вперед, Скорик стер капли и увидел на пальцах жирный след. Сверху, из мотора, брызгало горячее масло. «Попались», — проговорил пилот, чувствуя, как теперь уже несомненно падает тяга двигателя и крылатая лодка начинает просаживаться. Он снизил машину, чтобы не терять опору, в воздухе, и отчаянно завертел головой, отыскивая на реке какой-нибудь плес почище.
Лишь только «шаврушка» клюнула носом, Метельников, вцепившийся обеими руками в бортик лодки, обратил к пилоту вмиг побелевшее лицо: «Что, садимся?..» Скорик не ответил. Мотор тянул все хуже, но еще работал… Пилот повел машину круто вниз, с доворотом, туда, где, зажатая зелеными сопочками, сверкала спасительная лента реки. Они спускались быстро, как сани с ледяной горы. Инженер весь напрягся, ожидая удара. Совсем рядом мелькнули деревья. По-над самой водой Скорик выровнял гидроплан. Дно лодки, точно бритвой, чиркнуло по зеркалу плеса. Двумя веерами взметнулись вдоль бортов брызги воды и тотчас опали. Лодка слегка огрузла на нос, потом выпрямилась и закачалась на стрежне. Скорик выключил перегретый двигатель, чтобы его не заклинило, и, взглянув на часы, по привычке отметил время посадки: 17.15.
«Приехали!» — сказал он, не услыхав собственного голоса. Оба оглохли от тишины. Пассажир смотрел на пилота круглыми глазами — так неожиданно и быстро все произошло. Но мешкать было нельзя. Мощное течение уже разворачивало самолет и тянуло все быстрее вниз, навстречу какой-нибудь коряге, которая только и ждет, чтобы пропороть фанерное днище. Как ни легка «шаврушка», а пудов на шестьдесят массы наберется. По обеим сторонам проплывали густо заросшие берега, свисали острые сучья, способные изорвать обшивку, изломать конструкцию. Но вот слева показался довольно чистый откос. Скорик метнул в ту сторону якорек-кошку как гарпун, веревка натянулась, и они пристали к берегу. Правда, засидевшийся за штурвалом Скорик сплоховал — оступился и вымок при высадке на берег, зато и «шаврушка» и пассажир были в полной сохранности.
— Тебя как зовут-то? — летчик с нескрываемой досадой оглядел своего пассажира, будто впервые его увидел, и тот заговорил торопливо, словно оправдываясь:
— Фамилия моя Метельников. Я старший инженер изыскательской партии… Зовут Серафим…
— Значит, Серафим, — остановил его пилот. — А меня — Сергей… Такое дело, брат Серафим, давай выворачивать карманы, будем запасы считать. Да не стесняйся, выгребай, что есть: крючок ли, иголка, лекарства какие — теперь у нас все общее.
— Вы думаете, нас не найдут?
— Ничего я не думаю… Искать будут — это обязательно. Но пока хватятся, пока то да се, время пройдет. А найдут — не найдут?.. Сам видишь, в какое глухое место попали. Давай пока сушняка собери, костерок разложим — обсушиться надо.
Скорик чувствовал перед пассажиром понятную неловкость за аварию и завел с ним этот ободряющий разговор не потому, что забыл фамилию инженера, о котором и раньше был наслышан как об одном из самых дельных специалистов-трассовиков. Впрочем, теперь в их положении имело значение только то, что Метельников — начальник не слишком высокого ранта, да и сам Скорик — тоже не Сигизмунд Леваневский и не Марина Раскова. Это в прошлом году, когда искали экипаж «Родины», подняли все, способное двигаться, — летающее, плавающее, скачущее… Словом, оба они птицы не такого полета, чтобы их пропажа тотчас вызвала тревогу по всему свету. Нет, конечно, товарищи не оставят их в беде, начнут искать. Но сколько пройдет времени, пока хватятся? День как минимум. Да плюс плохая связь, да извечная экспедиционная неразбериха, нехватка техники, сложности поиска, капризы погоды… Короче, тут надо самим не сплоховать. А главное — не совершать опрометчивых действий.
— Что же теперь делать?
— Как — что делать?! — летчик вдруг рассмеялся. — Жить будем. Машину спасать будем… И знаешь, давай лучше сразу на «ты». Не возражаешь?.. Говорят, в дороге и отец сыну товарищ. А дорога наша, Серафим, похоже, будет длинная. Так, что у тебя имеется?..
Запасы на поверку оказались немногим богаче, чем в песне про бродягу с Акатуя. Из продовольствия — два пирожка с мясом, прихваченные летчиком из буфета. Оружие — нож да старая малокалиберка с таким изношенным выбрасывателем, что стреляную гильзу надо было выбивать шомполом через дуло. Початая пачка патронов. Из теплой одежды один ватник — тот, что на Серафиме. Пилот, как всегда, в шлеме, но по случаю теплой погоды налегке — в синем кителе с латунными пуговицами, напоминавшими о том, что их владелец не откуда-нибудь, а из морской авиации. Хорошо, что в кармане кителя по доброй старой привычке хранился «на всякий пожарный» коробок спичек, запакованный в резиновый мешочек. И первое, что сделали потерпевшие аварию, — развели огонь. Правда, костришко получился не таборный — из «сухарей», оказавшихся поблизости. Хворост и сухолом сгорают слишком быстро. Но все же у огня оба почувствовали себя бодрее: какая-никакая зашита от надвигающейся ночи.
Пилота пробирала ознобная дрожь. Вода в реке ледяная. Кое-как удалось подсушиться у костра. Пассажир, хоть и выскочил сухим, но тоже жался к огню. Видно, вся эта передряга со стремительным падением — посадкой самолета на воду и купанием пилота — произвела на него сильное впечатление; инженер считал чудом, что остался жив. Оба уцелели, но вот спаслись или нет — еще вопрос. Их только двое. Вокруг на сотни верст простирались владения угрюмого Сихотэ-Алиня. Вот так круто повернулись обстоятельства. Только что они были властителями пространства, и вдруг очутились в глухой тайге, — пешие, слабые, подавленные могуществом природы. Поначалу даже вздрагивали от каждого звука, доносящегося с реки или из чащи. Кто там: медведь, тигр, бродяга? Но это, конечно, была просто нервная разрядка после пережитого падения с высоты; очень скоро они успокоились.
Летчик подошел к «шаврушке». Самолет стоял, притянутый к берегу веревками, покачивался слегка на волнах, словно диковинная птица. Не бог весть какой аппарат: фанерная лодочка, над ней крыло, изогнутое на фасонистый манер — чуть кверху, да моторчик с пропеллером на этом крыле. А столько изящества в конструкции. Хрупкое создание. Жалко, если пропадет — полезная вещь, когда работает. Может, и неисправность-то пустяковая, да без инструмента что сделаешь — пальцами гайки не отвинтишь. Надо сохранить, «шаврушка» еще послужит.
Закончив проверку надежности растяжек, Скорик поднялся на берег и еще раз оглядел машину. Припомнилось некстати из пушкинской сказки:
Глядь — поверх текучих вод Лебедь белая плывет.Лишь только начали сгущаться сумерки, от реки повеяло холодом. Неодобрительный рокот воды нарастал, и чем темнее становилось вокруг, тем, казалось, все ближе к живому огоньку подступала тайга со своими тенями и шорохами.
Единственное, о чем всерьез тревожился Скорик и о чем не решился сказать пассажиру — не ошибся ли он в ориентировке, когда шел над долинами, затянутыми туманом, или потом, когда манипулировал гаснущим мотором, когда высматривал подходящее место для посадки? Кто падает, тому не до ориентировки, — лишь бы сесть, не разбиться, не напороться на корягу, и в такие мгновения все в голове переворачивается. Если река, что рокочет в десяти шагах, — действительно Хунгари, то где-то тут, километрах в шестидесяти должно быть нанайское поселение под названием Кун. Там стоит партия, куда и требовалось доставить Метельникова; там у них имеется не только полевая рация, но и добротная телеграфная связь. Но вверх идти по течению рискованно, можно заблудиться в притоках. Да и «шаврушку» не бросишь. Если бы суметь сплавиться в Амур. Места здесь очень неуютные.
В этих сихотэ-алиньских дебрях, только чуть южнее, в 1908 году погибал от голода отряд Арсеньева. На изыскания железнодорожной линий Хабаровск — Императорская гавань и Хабаровск — залив Де-Кастри они отправились на пароходе по Амуру вниз. 1 августа отряд перевалил Сихотэ-Алинь. Когда спускались по реке Хуту, лодка с провизией и оружием опрокинулась. Голодали двадцать один день. Съели Альму — любимую собаку Арсеньева. Владимир Клавдиевич с предельной лаконичностью описал этот страшный момент:
«На берегу рос старый тополь. Я оголил его от коры и на самом видном месте ножом вырезал стрелку, указывающую на дупло, а в дупло вложил записную книжку, в которую вписал все наши имена, фамилии и адреса.
Теперь все было сделано. Мы приготовились умирать».
А уж ходок-то Арсеньев был отменный — не им чета. Опытный, осмотрительный, он готовил свои экспедиции очень тщательно. Авантюристом не был никогда, старался предусмотреть любые неожиданности. У Арсеньева даже дома, на хабаровской квартире, на некоторых выдвижных ящиках стола, где хранились особо ценные материалы, были сделаны надписи: «При пожаре выносить, в первую очередь»…
И еще многие бывалые и неслабые люди возвращались отсюда в таком виде, что глядеть на них было жутко: изможденные, в изодранной одежде, иные в полубеспамятстве.
Здесь необходимо сделать небольшое пояснение для тех читателей, которым захочется отыскать на сегодняшней карте упомянутые места. Река Хунгари ныне именуется Гур, а по соседству с крошечным поселком Кун вырос Снежный — городского типа, тот, что на железнодорожной линии Комсомольск — Совгавань.
Никакой снасти у наших робинзонов не оказалось, да и вряд ли можно было поймать рыбу в весеннем мутном потоке. В это время года здешняя тайга скудна. Утешало только одно: комаров было еще мало. Поели с опаской какую-то прошлогоднюю ягоду. Топора не было, а без него в лесу, как без рук. Кое-как срезали ножом рогатульки, устроили шалаш. Дежурства и прочие обязанности расписали сразу.
Как полагается в подобных случаях, Скорик взялся вести дневник, фиксируя все происходящее с ними и вокруг них. Такой обычный полевой блокнот прошитый нитками, с пронумерованными страницами. Он может быть ужасно измят и грязен, но два правила должны выполняться неукоснительно: записи разрешается вести только простым (не химическим) карандашом; подчистки запрещены, зачеркнутое тоже должно читаться.
И события не замедлили…
Из дневника летчика С. С. Скорика:
«25 мая. Я дежурил во второй смене. С наступлением рассвета разбудил Серафима, а сам с малокалиберкой собрался отправиться на охоту за уткой или вообще, что попадет…
Готовя вдвоем опознавательный костер метрах в пятидесяти от лагеря, мы одновременно услышали человеческий крик. Сначала не поверили, подумали, что речка шумит, над нами издевается, но крики повторились. Мы увидели, как из-за поворота вниз по течению плывет бат (лодка, выдолбленная из ствола большого дерева), в котором сидели два человека. Кричали они не по-русски, и не нам, а кому-то еще. Потом мы узнали, о чем кричали эти два молодых ороча; «Смотри, смотри: самолет!..» Вскоре вторая лодка вышла из-за поворота. Мы глянули друг на друга, и наши лица сразу посветлели. Стали тоже кричать и взмахами руки приглашать к себе. Они подплыли на своих суденышках, не сводя глаз с самолета».
Действительно, было чему удивляться. На глухом таежном плесе вдруг увидели крылатую машину, слегка покачивающуюся у берега. Как выяснилось, местные жители (это были, конечно же, нанайцы, а не орочи) ехали из верховьев за товаром в поселок Вознесенский (Усть-Гур), что расположен в устье Хунгари (реки Гур) при впадении ее в Амур. Длина этого участка, по их словам, примерно сто двадцать километров. Путь этот для самосплава опасен, течение местами очень быстрое, русло загромождено топляками — надо хорошо знать реку и мастерски владеть как веслом, так и шестом. По расчету нанайцев, на следующий день они должны были достичь Вознесенского, где имелась радиостанция. Скорик с Метельниковым тут же составили телеграмму:
«Аварийная. Комсомольск. Хомчику, Ванникову. Вынужденно сели 24 в 17.15 реке Хунгари левый берег в 60 километрах от Куна. Нет масла, не работает откачивающая система. Высылайте немедленно продукты. Скорик. Метельников».
Как только листок с телеграммой оказался в руках молодых нанайцев, они сразу сделались серьезными и заторопились в путь.
Из дневника С. С. Скорика:
«Мы попросили что-нибудь поесть. Они дали нам шесть лепешек и кусок сахара. Увидев у них юкалу (сушеная кета, которой большей частью здесь кормят зимой собак), мы попросили оставить парочку. Они с удивлением на нас посмотрели и оставили полдюжины. Мы их поблагодарили — лучше грызть крепкую, как кость, юкалу, чем неизвестные корешки. Предложили орочам плату за лепешки и юкалу, они категорически отказались. Дружески распрощавшись, они сели в свои суденышки и, равномерно отталкиваясь шестами, быстро пошли по течению. А мы, помахав им вслед, схватились за еду. Орочи (так в дневнике — авт.), оглянувшись, увидели, с каким аппетитом мы уплетаем лепешки, засмеялись и налегли на шесты. Река резко повернула влево, и их не стало…
Под вечер с моим Серафимом стряслась беда — стал хандрить и жаловаться на здоровье. Всю ночь не смыкал глаз, пришлось дежурить. Периодически Серафим бредил, а к утру его стало лихорадить, несмотря на то, что я положил на него все, что имелось из нашего имущества. Ночью очень холодно, спереди у костра жарко, а задняя часть леденеет.
26.05. В 11.00 пришли на бате два нанайца, сказали, что разыскивают самолет по заданию экспедиции. Взяли с собой больного Серафима в Кун, дали мне продуктов. Теперь я остался в лагере один. В 16.00 услышал гул самолета МБР-2. Зажег приготовленные костры. Самолет пролетел в стороне — левее левого берега. Через 15 минут возвратился тем же маршрутом и снова не заметил моих костров… Теперь ночь, сижу у костра. Холодно. Хорошо, что Серафим оставил мне свой ватник… Пишу коряво — мой источник света капризен. Нет топора, и приходится экономить дрова. До рассвета еще далеко — четыре с лишним часа. Не спится. Холодно.
27.5. Варил уху. Подготовил сигнальные костры. Налил в две банки бензина для быстрого воспламенения. Немного подремал, пригревшись на солнце. В 14.00 услышал быстро нарастающий рокот моторов. Зажег костры. Из-за деревьев показался гидросамолет типа Г-1 на высоте 100–150 метров, который сделал круг и сбросил груз…»
От машины оторвался темный комок и, кувыркаясь, исчез в чаше. «Далеко!.. Рано бросаешь!» — закричал Скорик, понимая, конечно, что экипаж не услышит его голоса. Видно, побоялись, что мешок попадет в реку Хунгари или того хуже — пришибет ненароком робинзона. Такие вещи тоже случаются, и летчик, как потом выяснилось, это был Сергей Курочкин, тезка и друг Скорика, — перестраховался.
Двухмоторная ширококрылая машина сделала еще один торжественный круг. За стеклами передней кабины Скорик различил чье-то светлевшее лицо, взмах белой ладони. Эту штурманскую кабину с характерными узкими окнами летчики-москвичи в шутку называли. «Моссельпромом». Оконца действительно чем-то напоминали первое высотное здание Москвы, построенное в Калашном переулке в духе конструктивизма, и броскую рекламную фразу Владимира Маяковского: «Нигде, кроме как в Моссельпроме»…
Самолет удалился в сторону Комсомольска. Гул моторов стих. Скорик на всякий случай по двум стволам деревьев засек створ — направление, в котором упал груз, сбросил китель и побежал напрямую, через чащу. По пути ему пришлось переплыть две протоки, чтобы не потерять направления. Посылки из «Моссельпрома» нигде не было. Летчик осмотрел примерно квадратный километр площади, раз двадцать лазил на деревья для обзора местности — мешок как сквозь землю провалился. После трех часов безуспешных поисков усталый и вконец расстроенный Скорик возвращался в лагерь. Теперь он уже не летел, как лось через кустарник, заломив рога, а плелся, выбирая дорогу полегче, в обход.
Подойдя к протоке, стал искать брод, и тут краем глаза заметил нечто, совсем не похожее на мешок, но явно чужеродное тайге, — плавающую свежеструганную досочку, перетянутую посредине веревкой. Догадался: это поплавок, привязанный к грузу. Сам мешок лежал на дне. Голод не тетка — пришлось лезть за продуктами в ледяную воду.
Мешок успел напитаться водой и стал таким тяжелым, что едва удалось его вытянуть. В две ходки Скорик перенес припасы в лагерь, заодно и согрелся. Все было мокро: папиросы, хлеб и прочее. Разложил сушить. Только консервам и спичкам в резиновом мешочке ничего не сделалось. На самом дне мешка, в герметической упаковке — записка. Она сохранилась до наших дней, написанная простым (на случай, если все-таки попадет в воду) карандашом на листке из тетради в линейку. Поскольку в дневнике Скорика о ней упоминается мельком, приведу в подлиннике (отдельные неразборчивые слова обозначены отточием):
КСМ 27.5. Здорово, Сергей!
Только вчера начали разыскивать тебя. Мой самолет вчерашний день … Хумми — Кун … К сожалению, не обнаружили … Черкасов искал на Хунгари до Куна, тоже не обнаружил. Сегодня получили… телеграмму. Вылетаем … питания, маслом и техником Быковым. Быкова высаживаем в Вознесенске с маслом и инструментом, который на лодке поплывет к вам. Продукты сбрасываем тебе.
Привет тебе от всех сослуживцев.
Курочкин.
(на обороте)
Командир отряда просил передать тебе, что если трудно взлететь, то идти сплавом навстречу Быкову … он взял тоже.
Привет, Асташев».
Скорик понял: хлопот он наделал больших, и дела у отряда трудные, коли так торопят — велят сплавляться с самолетом по незнакомой реке. Из дневника С. С. Скорика:
«28.5. С вечера приготовил шесты. Ночь почти не спал. Видел собаку на противоположном берегу, но человек почему-то не вышел. Завтракаю. Гружусь. В 5.00 отдал концы, ложусь в дрейф, не зная лоции реки. Через 5 минут сажусь на мель. Сталкиваю самолет, плыву. Как бы не пробить днище. Через 15 минут попадаю в сильное течение — тянет к берегу, ничего не могу сделать шестом. Прижимает с разворотом к деревьям, свисающим с берега. Хвостовым оперением задеваю ствол дерева. Деформация руля поворота. Бросаюсь в воду, намотав на себя конец, привязанный к крылу, стараюсь оттолкнуть самолет. Чуть не утонул. Теперь несет на залом посреди реки. Удар. Хватаюсь за корягу и закрепляю конец. Как будто пришвартовался, но согнул задний подкос крыла правой плоскости. Так буду сплавляться, к Амуру от самолета останутся одни дрова. Выкурил пять папирос.
Самолет стоит, но место плохое — сильное течение и водоворот. Сухое дерево, торчащее из воды, за которое зацепился самолет и которое в основном его держит, уперлось в заднюю стойку правого крыла и все время деформирует стойку, что наводит меня на грустные размышления. Единственное, что могу сделать — сидеть на палубе и отталкивать шестом налетающие коряги. За весь день не видел ни одной живой души, а кажется, что кто-то здесь есть; хочется поговорить. Это от усталости и оттого, что сплю урывками. Но надо защищаться от коряг.
29.5. Под утро все же задремал, и проснулся от сильного удара. Это было бревно, длиной метров семь. Оно прошло между лодкой и поплавком. Тщательно осмотрелся — все в порядке, успокоился. Вода в Хунтари начала заметно спадать: коряг и бревен плыть стало меньше, и теперь они проходят левее самолета.
К часу дня стал готовить обед на островке. Вижу, по реке плывет бат с тремя человеками: два нанайца и русский. Они уже не кричали «Смотри, самолет» — вся река об этом знает, у них тут свой беспроволочный телеграф. Знаками приглашаю на чаек. Зашли они через протоку, прямо идти не захотели, боясь перевернуться. Удивлялись тому, что я решился сплавляться один и вообще ухитрился пристать к такому бешеному месту. Мои действия не одобрили. Просил их перевести мой самолет к тихому пологому берегу. Отказались, чему я впоследствии порадовался, ибо наверняка разбили бы самолет.
Среди гостей был метеоролог со станции Верхняя Удога. Он отработал там два года по договору и теперь возвращался. Оказалось, что сам он из бухты Святая Ольга, где я проходил службу. Разговорились, вспомнили знакомых, сфотографировались вместе. Угостил нанайцев сгущенным молоком, которое мне сбросили в мешке. Они мне дали рыбки — линьков. Прощаясь, просил, если навстречу попадется бат с техником Быковым, то поторопить.
После обеда из трех блюд (суп с мясными консервами, макароны и чай) лег на палубу загорать. Не тут-то было. Опять едет какой-то бат с целым рыбацким семейством. Обменялась приветствиями. Нанайцы качают головами, удивляются, куда я забрался.
К вечеру, веред заходом солнца услышал выстрел. Поднял голову. Смотрю, быстро летит по течению совсем легкая оморочка: в ней — пожилой нанаец, улыбается. Приглашаю к себе — такой уж день гостевой, — он проходит ко мне тоже по протоке. Сидя в лодке, удивляется, спрашивает — почему я со старого надежного места ушел сюда, в это пропащее, как он сказал, место. Видно, тоже в курсе всех моих событий.
Покурили, я стал приглашать его к чаю. Когда нанаец поднялся, оказалось, что он без ноги, обут в зимний унт. Рассказал, что раньше учил детей, а теперь заведует магазином. В оморочке у него шест, весло, палки разных размеров, чтобы отталкиваться в узких протоках, бердана, сумка с патронами, острога, всякая снасть. Спрашивал, в чем я нуждаюсь, приглашал в гости. Отказался — куда я от самолета? Увидев малокалиберку, фыркнул, оставил мне свое ружье и пять патронов на уток.
30.5. Ночью несколько раз поднимался проверять крепление самолета — веревки перетираются. После завтрака услышал крики. Вижу, идет целая армада больших батов. На первом — ученики-пионеры с красными галстуками. Ребятишки все коренастые. На других батах взрослые. Эскадра направляется в Вознесенск, оттуда пассажиры должны были добираться в Комсомольск. Многие впервые видели самолет так близко, но подошли смело и решительно с характерным для нанайцев шумом и криками. Право, жаль, что вид у самолета не очень опрятный — не успели покрасить после ремонта.
Мне передали письма из Кука — от Серафима, от председателя сельсовета, а от начальника базы — фактуру на получение груза. Это были два мешка, весом килограммов на шестьдесят: продукты, спальный мешок, долгожданный топор, кухонные принадлежности. Зная, что не сегодня-завтра должен прибыть Быков, я призадумался, брать продукты или нет, но поскольку девать их некуда, пришлось брать.
Видя, что народу много, я попросил нанайцев перевезти самолет на противоположный берет. Они собрались, обсудили на своем языке, поспорили, покричали — видно, была и оппозиция. Потом дружно и ловко, как будто всю жизнь занимались буксировкой гидросамолетов, прикрепили веревки к бортам и взялись за весла. Шестами тут работать нельзя, так как большая глубина и грунт илистый…»
На этом дневниковые записи летчика Скорика, к сожалению, обрываются. Дальше завертелись такие дела, что некогда было мусолить карандаш. Прибыл техник Быков. Однако в волевых условиях он не смог устранить неисправность, хотя после дозаправки мотор некоторое время работал нормально. Они даже поднялись метров на тридцать, пролетели пару километров, но вновь начало струей выбивать масло. Пришлось садиться на реку. Позже, когда разобрались, оказалось, что в мастерской, когда на поршень надевали кольца, второпях не развели зазоры как положено — под углом 120 градусов… Только и всего! Зазоры трех колец несчастливым образом совпали, и масло под давлением нашло себе дорожку по стыку.
Пришлось с помощью местного населения сплавляться вниз по Хунгари. Вечером со встречного бата Скорику передали письмо. Удивительным образом эта трогательная записка сохранилась в семейном архиве Сергея Сергеевича Скорика. Написано на листке, вырванном из ученической тетради в клетку, химическим карандашом, школьным почерком:
«Уважаемый Летчик тов. Скориков!
Мы просим пролететь низко над рекой Хунгари. Хочим вас видеть. Мы сегодня ночевать будем (у) «Пригородного хозяйства». С приветом, жмем вашу руку. Учитель А. Двамай. (подпись неразборчива). от 30/V 39 г.»
Скорик сокрушался, что не может выполнить просьбу ребятишек. В Вознесенске он с благодарностью вернул ружье нанайцу и стал ждать попутного катера-буксировщика. Но туг случалась досадная накладка. 28 мая в районе Халхин-Гола произошла очередная, третья вооруженная провокация, на этот раз крупная, в которой принимали участие две с половиной тысячи японских солдат при поддержке артиллерии и авиации. Стало известно о концентрации больших сил, активизировалась агентурная разведка. Обстановка на границе стала тревожной. По всему Дальнему Востоку были разосланы строгие директивы об усилении бдительности.
Председатель местного сельсовета заявил категорически, что не выпустит подозрительный самолет без опознавательных знаков. Велел ждать разрешения сверху. Знакомые нанайцы сочувственно качали головами: очень строгий начальник, арестовать может и под замок посадить. Как Скорик с Быковым ни доказывали свою правоту, ничего добиться не смогли. Но и терять времени даром тоже не хотели. Утром они пораньше вышли к самолету, якобы проверить мотор, но вещички приготовили с вечера поблизости — для побега. Заправили бак свежим маслом. Нанайские мальчишки, несмотря на ранний час, уже были на месте. Они, как всегда, расселись на ограде и, уставив свои смышленые мордашки, следили за каждым движением летчиков. Мальчишки уже изучили всю процедуру обкатки мотора, и время от времени разыгрывали между собой сценки ремонта или взлета.
«Контакт!» — кричал один.
«Есть контакт!» — откликался другой, прокручивая воображаемый пропеллер.
«От винтей!» — командовал «летчик».
«Пах-пах-пах», — имитировал «механик» работу еще холодного мотора. Тем временам «летчик» производил рукой переключение рычага шаг-газа.
«Р-р-р-р», — немедленно реагировал напарник-«мотор», и они оба, набрав побольше воздуха, переходили на пронзительное пение дуэтом: «Й-и-и-и». Потом «механик» показывал руками крест, и оба замолкали.
— Ну что, «от винтей»? — подмигнул Скорик механику.
— Я готов. Пошли!
Быков с палубы крутанул винт, мотор взревел. Отдали концы. Самолет, к восторгу нанайцев, глиссером промчался мимо конторы, взлетел на полсотни метров, взяв курс на Амур. Полет продолжался считанные минуты. Двигатель пришлось заглушить, потому что масло вылетало струей. Скорик посадил машину на воду. Но из поселка этого уже не могли видеть, — они были одни на голубом просторе.
На Амуре они сразу почувствовали разницу — совсем по-другому закачало, словно из тихой бухты попали в открытое море. Амурская волна тяжелая, мощная. Про эту реку не говорят, что «течет» или «бежит». Амур идет. Гигантская масса воды кажется необычайно плотной и упругой. А чуть усилится ветер — разнесет волна легкую фанерную конструкцию в щепки. Скорик с Быковым уже начали присматривать место на берегу, чтобы пристать, как вдруг увидели нагоняющий их пароход.
Старый амурский капитан видел в жизни всякое, но, как и те нанайцы с Хунгари, он тоже поначалу не поверил своим глазам и схватился за бинокль: «Это что еще там за чудо-юдо плывет? Не может быть… Смотрите: самолет!»
С амфибии махали руками, прося о помощи. Капитан застопорил машину и приказал спустить шлюпку на воду. Гидроплан ваяли на буксир и потащили в Комсомольск, на северную его окраину перед глазами изумленных горожан. Там, в гидроаэропорту самолет вытянули по аппарели на сушу, механики тут же сняли мотор и в два счета устранили неисправность. Амфибию покрасили, нанесли положенные знаки, и вскоре «шаврушка» вновь включился в работу отряда.
Сережа Курочкин, летчик самолета Г-1, вылетавшего на поиски, долго смеялся, когда узнал про утопленный мешок:
— Скажи спасибо, что я догадался поплавок к мешку привязать.
— Ладно, тезка, — ворчал Скорик. — Я теперь твой должник. Когда-нибудь я тебя тоже искупаю.
Радиоволны доносили изыскателям тревожные вести о том, что на Халхин-Голе разгораются бои, а это значило, что трасса дороги на Совгавань должна быть определена в кратчайший срок — во что бы то ни стало. Спрос будет суровый — по законам военного времени.
Из конфиденциальных источников Кремлю стало известно, что в мае 1939 года Генштаб Японии одобрил доработанный вариант «Оцу». Для его реализации предусматривалось использовать сорок пехотных, пять механизированных дивизий и другие армейские соединения. Планировалось открыть три фронта: Северный (десять дивизии) с задачей нарушить движение по Транссибу и выдвигаться к Хабаровску; Восточный (десять дивизий) — должен был взаимодействовать с морским десантом во Владивостоке, оккупировать Приморье и наступать вдоль Уссури на Хабаровск; Западный (двадцать пехотных и пять механизированных дивизий) — с задачей нанести главный удар по району города Нерчинск и далее развивать наступление в сторону Улан-Удэ и Рухлово (Сковородино), оккупировать Забайкалье и МНР. На это время активные действия в Китае должны быть приостановлены… В целом общий план «Хати-го» предусматривал достижение полной готовности к нападению на СССР в начале 1940-х годов.
Нельзя было терять ни часа. В июне 1939 года группа катеров типа «ярославец», веди на буксире груженые чалки, впервые прошла вверх по Хунгари до базы изыскателей в стойбище Кун. Рейс был исключительно тяжелый, караван пробился ценой предельного напряжения сил. Не обошлось без потерь. Во время аварии на одном из перекатов, спасая имущество, погиб завхоз партии Лавриненко… Изыскатели работали от зари до зари. Инженер Серафим Метельников возглавил один из отрядов, работавших на перевале.
Тумнинская экспедиция обеспечила первоочередной документацией строящиеся объекты. Отставание было ликвидировано. К концу 1939 года экспедиция П. К. Татаринцева была самой крупной экспедицией предвоенного периода. В ее состав входили двадцать трассировочных и геологических партий и пятнадцать гидрометрических отрядов. Всего же «Тумнинка» насчитывала в 1939 году пятьсот пятьдесят инженеров и техников, более полутора тысяч рабочих.
Обследование трех направлений трассы Комсомольск — Совгавань было закончено и обоснован выбор Мулинского направления, по которому и был составлен проект. Длина трассы составляла 475 километров с мостом через Амур и двухкилометровым тоннелем через Сихотэ-Алиньский хребет. Позднее, уже в 1943 году в проект были внесены поправки, в основном с целью ускорения, удешевления строительства и, разумеется, делающие линию более извилистой. Но основное направление было определено, документация проработана, дело оставалось только за строителями.
Жесткие сроки зачастую заставляли изыскателей идти на риск, нарушать правила техники безопасности. На восточном участке заблудился работник партии Иван Озеров. Его нашли только на четвертый день. «Он лежал около Амурской тропы на толстом стволе дерева, совершенно больной, обессиленный, облепленный гнусом, и почти не узнавал людей, — вспоминал позднее ветеран БАМа Александр Алексеевич Побожий. — Через неделю Иван Павлович выздоровел, до еще долгое время спустя не мог рассказывать о пережитом без ужаса».
Изыскания продолжались до поздней осени, до снегов. В начале октября большая группа — сорок человек — потерялась в тайге, причем следопыты определили, что группа разделилась надвое. Продовольствие у них кончилось. В поисках пропавших приняли участие самолеты и отряды во главе с местными охотниками с нартами и собаками. В конце октября, до наступления сильных морозов все были найдены. Больных и обмороженных удалось вывезти на нартах и спасти.
Вас разыскивает «Гроза»
Должно быть, какое-то предчувствие томило пилота Скорика. Уж очень он убеждал ремонтников поярче, покрупнее рисовать на крыльях и фюзеляже опознавательные знаки. Ссылки на габариты, на трафаретки не успокаивали командира летающей лодки. Но как ни остерегался он истребителей, однажды все-таки нарвался. Причем с последствиями весьма печальными… для истребителей. Однако и судьба самого Сергея Сергеевича также едва не сорвалась в штопор.
А дело было так. В первых числах июля 1939 года в разгар полевого изыскательского сезона генерал Гвоздевский, начальник управления БАМпроект, лично прибыл в поселок Норский Склад. Там, на берегу реки Селемджи располагалась база Зейской экспедиции. Генерал ознакомился с ходом работы и назвал положение дел по изысканию трассы провальным. Начальники партий и отрядов выслушали его приговор в угрюмом молчании. Они и сами понимали, что обстановка в Приамурье критическая и надо спешить. Тревожные вести приходили с границ. 28 мая 1939 года японцы предприняли очередную провокацию в районе Халхин-Гола. Люди делали все возможное, чтобы ускорить работы. Но в экспедиции не хватало специалистов, техники, лошадей, продовольствия. Изыскатели гибли в дебрях тайги от чрезмерных усилий, лишений, болезней, тонули при переправах через бурные реки, порой голодали, перебиваясь тем, что удавалось добыть охотой, случалось, и сами становились добычей диких зверей.
Гвоздевский знал про все эти трудности, и тем не менее, требовал невозможного — форсировать работы на изысканиях железнодорожных линий. О многом он не мог говорить. Например, о том, что в последнем неудачном воздушном бою было потеряно пятнадцать наших самолетов против одного японского. Что в подкрепление молодым пилотам 29 мая из Москвы спецрейсом на трех «Дугласах» отправлена группа из сорока восьми асов-истребителей, участников боев в Испании и Китае, в том числе двадцать два летчика со Звездами Героев. Что в перехваченных у японского полковника Адзума картах с абсолютной точностью были обозначены наши оборонительные сооружения и расположение войск.
Понимая, что ресурсы Зейской экспедиции практически исчерпаны, а именно здесь карты требовались в первую очередь, Гвоздевский на планерке, происходившей под открытым небом на лесной просеке, приказал срочно оказать изыскателям центрального участка трассы БАМа помощь авиасредствами за счет Тумнинской экспедиции, работавшей на направлении Комсомольск — Советская Гавань.
Из сводки ГУЖДС НКВД:
«Всего в распоряжении аэросъемочного подразделения Бамтранспроекта в настоящий момент (1939 г.) имеется 26 самолетов, в том числе 19 действующих, из них 6 оборудованы для съемки. В группе 43 человека летного состава, в том числе 16 пилотов. Общая численность персонала аэросъемки 250 человек».
Распоряжения генерала Гвоздевского, одного из лучших выпускников МИИТа, бывшего буденновца, выполнялись безоговорочно. Получив радиограмму, начальник авиаотряда БАМ проекта Винников решил завтра же отправить на Селемджу летающую лодку МП-1бис (специально оборудованную для аэросъемки), бортовой номер СССР Ж-12, с самым опытным экипажем — летчиком Скориком и штурманом-аэросъемщиком Станкевичем. С ними направлялись инженер Горяинов — человек знающий, бывалый, а также молодой механик Ковалев и недавно поступивший в отряд бортинженер. Итого пять человек.
На рассвете собрались у самолета. Скорик после вынужденной диеты на Хунгари взял за правила впредь путешествовать только с запасом свитеров и продуктов, поэтому явится в гидропорт с шикарным большим чемоданом, выглядевшим довольно странно в этой обстановке.
Экипаж занял штатные места. Павел Станкевич — впереди, в своей штурманской кабине. За ним, чуть выше, в пилотской — Сергей Скорик. Командирское место слева, за эбонитовым штурвалом. По правую руку от него — на месте второго пилота — пристроился новичок-бортинженер. Иван Горяинов с Алексеем Ковалевым разместились в заднем отсеке-«амбарчике» с круглыми окошками, где расположена аппаратура аэросъемки и радиостанция. Туда же, а частью и в боковую кабину, сложили кое-какие продукты, походные вещички — все необходимое для командировки, поскольку неизвестно было, сколько она продлится. Новый командирский чемодан, понятно, на почетном месте. Да еще три парашюта. Механик тоже без собственного любимого инструмента и заветного набора запчастей — не механик. Так что внутри самолета было тесновато.
Зато внешне летающая лодка выглядела эффектно. Конструкция и на воде смотрелась празднично, а уж в полете быта особенно хороша — красива, изящна. Вся белая, как чайка, только брюшко черное. На центроплане возвышался толкающий двигатель. Там, под белым капотом, добрых семьсот «лошадей» крутили винт с четырьмя лопастями. «Все готовы?.. Пуск!».
Провожающих на берегу было немного, но все, кто есть — дежурные, техники, мотористы, водолазы — неотрывно наблюдали за взлетом. Картина действительно завораживающая. Вначале, при разбеге, лодка вся окутывается брызгами. Постепенно хвост оседает, а носок, наоборот, поднимается из воды все выше, выше. Когда лодка выходит на редан, уже не брызги ее окутывают, а водяная пыль стелется позади, пока, наконец, не покажется черное брюшко, двадцать — двадцать две секунды — взлет, и вот уже машина-птица зависла над амурскими волнами.
Вылетев поутру из Комсомольска-на-Амуре, сразу взяли по аэрокомпасу курс на Норский Склад. Решили идти напрямую через три (не считая Мяо-Чана) горных хребта: Баджальский, Буреинский и Турана. Для одномоторной машины маршрут рискованный. К тому же экипаж продрог до костей на большой высоте. Зато такая трасса значительно короче.
Но под конец пути встретился обширный грозовой фронт. Лиловая туча-гора, увенчанная серебристой-«наковальней», надвигалась, посверкивая изнутри разрядами молний. Штурмовать ее в лоб Скорик, понятно, не захотел. Принял курс южнее, чтобы пройти фронт, где облачность пожиже и нет таких мощных турбулентных потоков воздуха.
Однако и к югу атмосфера была неспокойной. Лишь только вошли в облака — ударил град. Гражданский вариант МБР-2 попроще военного: над пилотской кабиной верхнего прозрачного колпака не было, защита только спереди и с боков. Штурману, да и бортмеханику еще можно спрятаться, в «амбарчике» и вовсе спокойно, а летчика лупит градинами прямо по шлему, по очкам. Но шишки на голове — еще полбеды; если градом повредит лопасти винта, тогда хана. Садиться морской лодке в горах некуда. Это не «шаврушка». Для МБР-2 акватория нужна длиной почти с километр, да такая, чтобы и глубина была не меньше полутора метров. Пришлось от взятого курса еще отклониться к югу, в сторону маньчжурской границы.
Когда лодку очень уж сильно стало швырять вверх-вниз и раскачивать, молодой механик Ковалев заметил, что инженер Горяинов открыл свою сумку с инструментами и стал в ней рыться, бормоча что-то себе под нос. Потом выпрямился, зачем-то высунулся в люк и будто рукой помахал. Хотя кому тут было махать, в этом сумраке клубящихся грозовых облаков. Вначале Алексей подумал, что старого инженера укачало и тот высунулся под ледяную сечку, чтобы в чувство прийти, освежиться, но потом вспомнил нанайскую легенду и рассмеялся. Здесь, на Дальнем Востоке, тайфуны — частые гости, и нанайские старики говорят, что для усмирения вихря надо сделать гэйэн — постучать палочкой по топору. Звон железа отпугивает Амбана — злого духа, а если и это не помогает, надо бросить в вихрь что-нибудь острое, чтобы злой дух укололся. Интересно, — стал про себя гадать механик Ковалев, — чем из своего инструмента инженер пожертвовал?..
Град действительно, как по команде, прекратился, и вскоре внизу, сквозь разрывы облаков стала проступать земля, вся в кружеве извилистых речушек. Здесь, по расчету, начиналась обширная Зейско-Буреинская равнина и можно было снизиться, чтобы отогреться от холода высоты. Однако и в тылу грозового фронта весь север был по-прежнему закрыт облаками. Меж тем, пора было определиться с местонахождением.
Придерживая одной рукой штурвал, Скорик написал на листке бумаги два слова: «Куда идем?» и передал записку Станкевичу.
Штурман прочитал и, ухмыляясь, стал скрести карандашом на обратной стороне послания какие-то слова лесенкой, как показалось пилоту, стихами:
Домой идем.
Речки малые текут в большие.
Большие — в Амур.
А мы на лодочке…
Еще не дочитав записки, Скорик краем глаза вдруг заметил внизу быстро движущийся самолет. В жар бросило: им наперерез, набирая высоту, спешил истребитель с явно решительными намерениями. Чувствовалось — боец! И злой, как шершень. Истребителя на то и учат, чтобы истреблять… Граница где-то рядом, тут некогда расшаркиваться. Сейчас он довернет фигуру пилотажа и ударит, только ошметки фанеры полетят от их лодки во все стороны.
Не раздумывая, Скорик дал вираж с глубоким креном вправо и вошел в подвернувшееся кстати облако. Задремавшие в «амбарчике» Горяинов с Ковалевым от неожиданности повалились прямо на командирский чемодан. В последний момент Скорик успел зафиксировать в памяти картинку: развилка дорог, характерные аэродромные строения, взлетно-посадочная полоса и на ней — два длинных пыльных шлейфа от взлетающих по тревоге самолетов.
«Да ведь это же Бочкаревка! — осенила догадка. — Военный аэродром…»
В районе Халхин-Гола шли бои, и тыловые аэродромы также находились в состоянии повышенной боевой готовности. Гроза не только оттеснила от курса, она коварно вывела самолет Скорика прямо в запретную зону, к истребителям на растерзание. Причем летающая лодка аэросъемщиков Ж-12 вывалилась из облаков как снег на голову. Локаторов в то время не было. А всякое подразделение ПВО, как сторожевой пес, очень не любит неожиданностей: когда некогда поднимать предупредительный лай, остается хватать и рвать в клочья. Скорей в облака — и на север, на север, подальше от границы!
В облаках лодка пряталась недолго. Скорик теперь знал точное местонахождение своего самолета. Нижняя кромка облачности держалась довольно высоко, а больших сопок по курсу не было, поэтому они могли без опаски снизиться, спокойно вышли к своей базе в Норском и приводнились на речном плесе.
На этом, однако, злоключения экипажа не закончились. Поскольку глубина плеса у Норского Склада была величиной непостоянной — она изменялась в зависимости от уровня воды в реке, — чтобы случайно не повредить днище самолета, штурман Станкевич бросил якорь довольно далеко от берега. Из гидропорта выслали, как полагается, клипербот — проще говоря, плоскодонный катерок, — чтобы снять экипаж, а вторым рейсом отбуксировать самолет в тихий затон.
Погрузились на катерок с вещичками, двинулись. Но на полпути шкиперу, видно, захотелось показать пилотам класс. С поворота он так резко прибавил газу, что клипербот зарылся носом в собственную волну, черпнул воды и, задрав корму, пошел сразу на дно.
Оказавшиеся на плаву летчики стали ловить свои чемоданы, узлы и толкать их к берегу. Течением реки экипаж растащило чуть не на километр. Позже всех пристал к берегу командир. Скорик плыл, лежа на своем огромном чемодане, подгребая по-собачьи и выражая во весь голос свое крайне негативное отношение ко всем селемджинским шкиперам.
По счастью, никто не утонул. Личные вещи тоже не пострадали. Пришлось, правда, развешивать их для просушки. Вытащили даже злосчастный клипербот — его уволокло течением недалеко, застрял на нижней косе.
Как только другим катером самолет привели в затон, Иван Алексеевич Горяинов показал механику Ковалеву три пулевые пробоины, в фюзеляже и плоскостях, и велел заделать их без шума. Достал-таки «шершень» — издалека строчил, через облако, хорошо, что не в бензобак.
Алексея так и подмывало спросить инженера: «А где-то тут были старенькое шильце и ножичек?», но из деликатности промолчал. Суеверие — грех невеликий, тем более, что гроза и в самом деле от них отступилась сразу после инженерского камлания, хотя нанайский злой дух Амбана и сыграл с ними напоследок очень нехорошую шутку — навел на истребителей.
Механики, как известно, уходят от самолета позже всех и встают раньше всех, чтобы подготовить машину. На этот раз они, похоже, вовсе не ложились. Зато от пулевых пробоин не осталось и следа.
На следующее утро экипаж Скорика, как ни в чем не бываю, приступил к плановым полетам над участком трассы БАМа. Вода в Селемдже была холодная, но от неожиданного купания никто не простудился. Про свою оплошность в районе Бочкаревки упомянули в рапорте мимоходом: мол, из-за грозы отклонились от курса, потом поправились. Думали, обойдется.
Но без шума не обошлось. Грозовые раскаты все-таки прогремели над головами командира и штурмана. Днем, когда они улетели на аэросъемку, над Норским Складом появился посыльный У-2 и принялся на малой высоте кружить в районе гидропорта, явно привлекая к себе внимание. Когда люди высыпали из домов, летчик сбросил вымпел.
Текст сообщения привожу по подлиннику, сохраненному Скориком. Написано было заранее — до вылета — фиолетовыми чернилами, рукой энергичной и твердой. Пусть не смущает странное несоответствие отменно лаконичного стиля с грубыми грамматическими ошибками. Это 30-е годы… Не так еще давно произошла реформа в русской орфографии, и у многих рука по привычке иногда продолжала чертить то «еры», то «яти»:
«Товарищи, поднявшие вымпел — разверните эту записку передайте пилоту сидящего у Вас самолета.
Тов. пилот. Вас разыскивает «Гроза» — просить сообщить Ваш вылет: откуда и когда, куда следуете, номер с-та, позывной рации, фамилию пилота. Немедленно сообщите по адресу: г. Свободный, аэропорт, а там передадутъ «Грозе». 10.VII.39 г. Пилот Мокрушенко».
У Скорика в душе похолодело. «Гроза» — под этим названием кодировалась система ПВО — противовоздушной обороны. Летчиков затребовали в город Свободный для разбирательства к самому начальнику Главного управления железнодорожного строительства (ГУЖДС — НКВД), к грозному Нафталию Ароновичу Френкелю, что носил ромбы в петлицах.
Об этой полумифической личности если и говорили, то только шепотом. Рассказывали, что родом он из Константинополя. До революции Френкель в Мариуполе занимался лесоторговлей, был миллионером, «лесным королем Черного моря», в 1916 году успел перевести свои капиталы за границу. В разгар нэпа вернулся в СССР, по тайному поручению ГПУ крутил какие-то дела с золотом и драгоценностями через Торгсин (так назывались в СССР учреждения, занимавшиеся торговлей с иностранцами, где расчеты велись в золотом эквиваленте), в итоге его посадили за решетку и отправили на Соловки. Затем неведомыми путями он попал на прием к Сталину, который беседовал с ним три часа, после чего Френкелю было поручено осуществить предложенную им систему использования труда «врагов народа» на строительстве Беломорканала. По завершении строительства канала он получил орден Ленина и был назначен начальником БАМлага, вел строительство вторых путей Транссиба.
Это был человек мобильный, решительный, обладающий невероятной энергией. Спецпоезд Френкеля, состоявший из паровоза и четырех вагонов — вагона-салона, классного, товарного и вагона-клуба — постоянно курсировал по магистрали от Уссурийска до Сковородино… Зимой к составу прицеплялась платформа с углем. Паровозная бригада, обслуга, охрана были постоянными. Товарный вагон был наполнен ценными подарками, предназначенными для премирования передовиков. Столь же оперативно принимались решения о наказании провинившихся. Встречаться с таким человеком — все равно, что с шаровой молнией.
Гидросамолет МП-1 (МБР-2) СССР-Ж-6 на оз. Иркана.
А история с летающей лодкой Скорика произошла до крайности нелепая и неприятная. Встретившийся аэросъемщикам в нескладном полете летчик-истребитель хорошо разглядел номер машины. Но дальше вышло, как при игре в испорченный телефон. По связи передали: бортовой номер самолета-нарушителя запретной зоны в районе реки Зея — Ж-12; а поняли, что двенадцать самолетов идут в направлении железнодорожного моста через реку Зею. Тревога: звездный налет!.. Чуть ли не всю бригаду подняли на крыло.
Истребители искали прорвавшиеся под прикрытием облачности и испарившиеся неведомо куда двенадцать самолетов противника. И, конечно, увлеклись, частью заблудились в облачности, частью не рассчитали запаса горючего. Истребители все на колесах, сухопутные, а мест для вынужденной посадки маловато — кругом то леса, то кочкарник, то протоки. Колеса — не поплавки. Так что при посадке три машины поломались. Командовал авиабригадой в тот год Е. Я. Савицкий — будущий маршал и дважды Герой, заслуженный летчик СССР, лауреат Ленинской премии.
Скандал затих так же внезапно, как и вспыхнул — словно и не было ничего. Видно, когда комбриг разобрался, то неловко стало военным признаваться в допущенной ошибке. Все ограничилось крупным разговором за плотно закрытыми дверями — и никаких оргвыводов. По крайней мере, для бамовских летчиков. К тому времени на Халхин-Голе бои закончились нашей блистательной победой. Японские агрессоры потеряли убитыми и ранеными больше, чем за два предыдущих года войны в Китае. Отличились и летчики. В воздушных схватках самураи потеряли шестьсот шестьдесят самолетов против наших двухсот семи. «Сталинские соколы» оказались на высоте, несмотря на то, что на всех японских самолетах были рации, а у наших истребителей радиосвязи не было, поэтому приходилось действовать преимущественно плотными группами, что гораздо менее эффективно.
1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу. Центр внимания военных и политиков сразу переместился на Западный театр действий. А летающую лодку Ж-12 прямым маршрутом, и совсем не самосплавом по Амуру, как в шутку предлагал штурман Станкевич, поздней осенью от греха подальше вернули в Комсомольск, выполнять новое задание генерала Гвоздевского — всеми силами форсировать трассу на Советскую Гавань.
Но в строительство этой линии вмешалась война. Скорик пересел на бомбардировщик, затем на штурмовик. Генералу Гвоздевскому поручили руководить военной инженерией — нередко под бомбежкой и артиллерийским обстрелом строить южные оборонительные сооружения, Волжскую рокаду (Иловля — Саратов — Вольск). Затем генерал возглавил бросок из Комсомольска на Совгавань. 15 июля 1945 года он собственноручно забил «золотой» стыковочный костыль на трассе. Железнодорожники успели: 20 июля с первым поездом наши войска, перевалив через грозный хребет Сихотэ-Алинь, вышли к Тихому океану. В 1989 году имя выдающегося изыскателя путей сообщения Федора Гвоздевского было присвоено железнодорожному разъезду в верховьях бассейна той самой реки Селемджи. А предателя Генриха Люшкова постигла поистине собачья смерть. Должно быть, потому, что перебежчик слишком много узнал о методах японской контрразведки, в 1945 году, незадолго до освобождения нашими войсками Маньчжурии, он был удавлен своими новыми хозяевами и, как падаль, сброшен с катера близ города Даляня.
Самый опасный груз
Много разных грузов для экспедиционных нужд приходилось доставлять по воздуху. А в иные труднодоступные места, где самолету сесть невозможно, приходилось сбрасывать изыскателям практически все, что требовалось для их жизни и работы. В том числе продукты питания, горючее, взрывчатку. Грузовых парашютов, естественно, не давали. Для геодезистов-наблюдателей, что работали на голых вершинах в палатках, сбрасывали даже дрова, вязанками. На Северо-Муйском перевале мох выгорел, пришлось туда завозить грузы не на оленях, а на лошадях. А для лошадок потребовалось сбрасывать мешки с овсом, с отрубями.
Постепенно бамовские летчики стали весьма изощренными «бомбардирами». Механик Алексей Ковалев гордился тем, что на спор сбросил земляку на день рождения чекушку спирта, и она, пролетев по воздуху метров двести, осталась в мешке целехонькой. Его пожурили для вида — на изысканиях действовал «сухой закон», но к опыту упаковки отнеслись серьезно. Порой требовалось сбрасывать и жидкости, и даже кое-какие оптические приборы. Но это уже исходило на цирковой трюк: сброс на длинном канате с глубоким креном-разворотом на крыло для гашения скорости. Иной раз молодые летчики просто из озорства норовили попасть мешком картошки в привальный костерок-дымокур. Это считалось высшим шиком. Экспедиционный народ в основном молодой, а развлечений в тайге мало. Впрочем, такие шутки допускались только в отношениях с приятелями.
Появились среди «бомбардиров» и свои изобретатели. Каждый груз при ударе о землю ведет себя по-своему. Одно время никак не удавалось аккуратно сбросить необходимейший для русского человека продукт — муку. Самые крепкие мешки лопались, как бомбы. Муку потом приходилось соскребать с земли, вперемешку с хвоей, листьями и прочим таежным мусором. Хорошо еще, если погода сухая, а то и вовсе одна грязь получалась. Пробовали делать двойные, тройные мешки — тот же результат: белый гейзер вспыхивал на месте приземления. Известно: мучная пыль взрывается, как порох. «Лодка вся в муке, сам в муке, в кислом молоке, — ворчал Скорик, отчищая от въевшейся белой пудры свой любимый некогда темно-синий военно-морской китель. — Нет, я не ворон. Я — мельник!»
И все-таки механцы-кулибины нашли управу и на пшеничную муку. Изобрели способ простой и безотказный. Отсыпали из мешка ровно половину муки, а завязывали, будто он полный. Получался вялый мешок с запасом пространства. Его посередине перехватывали шпагатом и помещали в другой, совсем пустой мешок. Получался груз: полмешка муки в двойной оболочке. При ударе о землю мука буквально в клочья разрывала внутренний мешок, а для наружного мешка взрывной силы уже не хватало, и груз оставался целехоньким.
Однако был случай, который Скорик до конца своих дней не мог вспоминать без содрогания. А все из-за груза. Было это летом 1940 года. Тот год — от начала и до декабря — стал самым несчастливым для бамовской аэросъемки: непрерывной чередой пошли тяжелые катастрофы.
Как раз незадолго до этой серии потерь произошла у Скорика неприятная история. На маленькой амфибии — «шаврушке» вез он непростого пассажира — замполита авиаотряда НКВД Иосифа Деркача. По пути они встретили грозу, сели на Байкале, чтобы на берегу переждать непогоду. Скорик стал выводить амфибию из воды на косу, а колеса все скатывались вниз. Деркач хотел помочь — подложить камень под колесо, да оскользнулся и, потеряв равновесие, сунулся головой прямо под пропеллер. Его и рубануло. Упал, как подкошенный.
Летчик мотор выключил, стоит ни жив ни мертв: убил человека. И вдруг Деркач зашевелился, сел на каменном откосе, головой трясет. Скорик глазам своим не верит: кусок пропеллера отлетел напрочь, а замполиту хоть бы что, только ссадина да шишка здоровая выросла. Бывает же!..
— Твое счастье, — сказал летчику Деркач, когда очухался. — Свидетелей — ни души. Обязательно какой-нибудь дурак «догадался» бы: нарочно убил чекиста-замполита. И не оправдаться бы тебе по нынешним временам…
Замполита Скорик кое-как доставил в больницу Нижнеангарска, где Деркач — кадровый чекист — на всякий случай письменно подтвердил, что травма неумышленная: «Возьми, Сережа, эту бумагу. Сбереги ее на всякий случай». Вторую лопасть пропеллера летчик собственноручно подпилил для равновесия, чтобы обе стали более или менее одинаковыми, иначе самолет сильно трясло, и улетел на базу, где механики винт заменили на новый. Хороший был человек замполит Деркач; жаль, погиб на войне.
Так вот, вскоре после этого случая Скорик на рассыльном Ш-2 оказался в поселке Калакан, что расположен на берегу реки Витим. Сел он там, чтобы дозаправиться горючим, но бензина в гидропорту не оказалось ни капли. В это время из Нелят, с центральной витимской базы шел большой двухмоторный АНТ-4. Сесть в Калакане он не смог, хоть и на поплавках: машина тяжелая, а вода в реке стояла низкая, мелковато ему оказалось. С самолета сбросили для Скорика бочку с бензином, но эта бочка как-то неудачно упала и разбилась о подводный камень. Скорик решил дозаправить своего «шаврушку» тракторным топливом, чтобы как-то дотянуть до Нелят.
Веселого, конечно, мало — лететь над глухой тайгой, над Витимом на сомнительной смеси. А тут еше бухгалтер экспедиционный пристал: возьми, говорит, меня, — надо срочно быть в Нелятах. Скорик отказался наотрез.
— Ну ладно, — отступился бухгалтер, — не берешь пассажиром, так хоть деньжата подбрось в экспедицию.
Занятый своими хлопотами летчик согласился. Думал: по карманам рассую, а если много — в полевую сумку.
Перед самым вылетом появляются у причала двое: бухгалтер и охранник с кобурой на поясе. Волокут по сходням три здоровенные кожаные сумы под пломбами.
— Что это?
— Деньги, — отвечает бухгалтер невинным голосом, — я же тебе говорил. Сколько?
Бухгалтер пригнулся к уху:
— Побольше миллиона… Да ты не беспокойся, Сережа, груз нетяжелый. Пломбы в порядке — проверь и распишись. Какая тебе разница: три места принял, три сдал — только и делов. Мы уже сообщили в Неляты — там тебя встретят.
— Да вы что?! — взвился летчик; он только теперь понял, каких «поросят» ему в лодку подкладывают. — Я на этой касторке сам не знаю куда залечу. А если с самолетом что-нибудь случится, вы меня кем будете считать? И всю родню мою перетрясете: где деньги?! Нет, как хотите — не повезу.
— Надо, Сережа. В банке все документы уже оформлены. Погода по трассе хорошая — солнышко; видимость тоже — миллион на миллион. Двести километров всего-то лететь. В Нелятах люди знают. И как ждут! Они там столько времени — почти весь сезон — без зарплаты сидят, у местных жителей задолжались за постой. Кому в отпуск надо — уехать не могут;..
— Не возьму!
— Ну ладно — не бери. Лети налегке — проветривайся. Вот только как тебя там встретят, как людям в глаза будешь смотреть в Нелятах?..
Скорик даже застонал, представив, какому позору и всеобщему презрению он подвергнется на пристани в Нелятах. Никто даже слушать не станет про всякие технические причины — сам-то, небось, явился — не запылился. И вечно эти бухгалтеры ставят людей в безвыходное положение… Махнул рукой:
— Черт с вами, укладывайте!..
Разбег у «шаврушки» — сто метров, не больше. Эту остроносую, с заплаткой на правом борту амфибию местные острословы называли «соткой»: сто метров — взлет, сто сил — мотор, сто километров в час — скорость, сто метров — высота…
Поднялся Скорик нормально, хотя и чувствовал — тяга не та. Показалось, что мотор чихнуть захотел, но воздержался. И провожающие увидели, какой нехороший грязноватый следок выхлопа тянется за самолетом.
Кожаные мешки — два сзади, один справа — смирно лежали в кабине. Скорик косился на них и не переставал бранить себя за уступчивость. Путь лежал над Витимом, который в Забайкалье называют Угрюм-рекой. Чернеет негладкая вода. Гуляет, бугрится могучая сила. Тут если и сядешь, то с течением трудно управиться одному, а якорек долго не удержит. Перекат на перекате: разобьет, растащит по камням, и поплывут бумажки-денежки мимо Нелят в Северный Ледовитый океан… Седые гривы пенятся на шиверах. Но мотор жужжал ровно, хоть и недовольным тоном, словно понимал, что здесь шутки плохи.
Все шло нормально вплоть до ущелья, где слева на Витим наваливается Южно-Муйский хребет, а справа поднимается белоголовая гора Шаман — 2374 метра. Место скверное. Щеки называется. Там, на Шаман-горе, попав в неожиданный снегопад, разбился двухмоторный АНТ-4 летчика Анатолия Швидовского. Люди чудом остались живы; машина — вдребезги. Летчика судили, определив ему десять лет строгого режима, а самолет там же и бросили. Правда, произошло это позже — в декабре, а еще позже в районе так называемой Многообещающей косы проектировщики замыслили строить мощную ГЭС.
Каменная щель для этого дела удобная, узкая. Вот тут-то, в Щеках, все и началось.
Невесть откуда налетел ветер. Темные, сизые облака выдвинулись из боковых распадков, преграждая путь. Скорик оглянулся: и повернуть поздно, снег налетел. Боже, среди лета — снег!.. Садиться нельзя — по Витиму валы гремят. Утопит сразу и в порошок изотрет фанерную лодчонку. Видимости никакой, только по-над самой водой, метров на двадцать просвет. Но самолету запас высоты нужен. Воздух крутит по ущелью, как в аэродинамической трубе.
Вспомнилась местная легенда, как злые духи Шаман-горы нападают на одиноких путников. Поверишь, когда такое творится… На воздушных ямах мешки с деньгами подбрасывает. Духи жертвы требуют — миллион. Снег все гуще. Скорик совсем ослеп, защитные очки сбросил, заметался от одного борта ущелья к другому — чуть не рукой скалы ощупывает. Страх его охватил — каждый миг ожидал он удара крылом о скалу, беспорядочного падения, и не столько за жизнь свою боялся, сколько за своих родных, за доброе имя семьи. Друзья все поймут и поверят, и память сохранят. А что Деркач говорил — обязательно сыщется какой-нибудь подлец, который скажет, по себе примеряя: «Удрал, поди, с миллиончиком; сейчас где-нибудь в Харбине по ресторанам гуляет, — у «шаврушки» запас хода на 1300 километров, а до Маньчжурии меньше семисот»… Нет, не откупиться ему от злых духов Шаман-горы ни деньгами, ни даже ценой собственной жизни. Надо выжить, иначе будет то, что хуже смерти.
И такая вдруг обида охватила летчика, что собрал он всю свою волю в кулак и, словно локаторы включились, всей кожей почувствовал горы справа и слева и все крутые изгибы реки. Отшатнувшись от одной скалы, он уже знал, в какой миг появится тень противоположной. И так — от борта к борту ущелья.
Облака оборвались резко, точно сдернули плотную штору с окна. Скорик зажмурился — впереди открылась Муйская котловина, освещенная ярким солнцем. Ветра здесь почти не было. Вся снежная кутерьма осталась позади, в сумраке ущелья. Скорик глянул на мешки — они были на месте, только снегом их густо присыпало.
В Нелятах экспедиционный народ ждал его на причале гидропорта. Веселые, шумливые друзья-изыскатели не понимали, отчего сердит летчик в такой прекрасный день. Он стал говорить, что в ущелье бушует снежная буря; ему не поверили.
— Да посмотрите же: на мешках снег.
— Где?
Скорик оглянулся, а снег уже весь растаял.
Разбить черное зеркало
Радиограмма — переговоры с бортом самолета Скорика о катастрофе, происшедшей на Борончеевском озере.
Люди, стоящие на берегу, оцепенели в ожидании новой катастрофы. Перегруженная летающая лодка МБР-2 никак не могла оторваться от поверхности озера. Но вот самолет прекратил разбег, и его нос вкопался в волну. Машина медленно развернулась и, словно подумав, повернула к месту старта, чтобы предпринять новую попытку. Моторист клипербота, вытянув шею, следил за маневрами гидросамолета, готовый немедленно дать газ и идти на помощь. Рабочие в лодках стояли с шестами в руках, ожидая сигнала.
Дежурный гидропорта с тоской глянул на столб, где покачивался «колдун». Полосатый колпак ветроуказателя едва наполнялся. Проклятый штиль! В черном зеркале Борончеевского озера ярко горело закатное солнце. Проклятый день 15 августа 1940 года… Семь трупов, накрытых, брезентом, лежали в аккумуляторном сарае. Еще два часа назад эти семеро молодых мужчин были полны жизни, энергии, надежд. И вот лежат плечом к плечу, как погибшие воины: шесть геологов-буровиков и летчик Сережа Курочкин. И еще пятерых покалеченных при катастрофе, Сергей Скорик — друг и тезка погибшего — должен срочно доставить в больницу на этой битком набитой лодке. Путь лежит неблизкий — через Северо-Муйский перевал. День клонится к вечеру, а в Нижнеангарском гидропорту нет оборудования для ночной посадки. Светлого времени, может хватить только чтобы дойти до озера Иркана, где придется переждать ночь, а на рассвете пойти к Байкалу — там уже близко.
Если, конечно, удастся подняться с перегрузом при полном штиле. Если не закроется облаками перевал. Если не разыграется шторм на Байкале. Если… Скорик: нервничает, перед глазами все время всплывает картина, которую он застал, когда подлетал к озеру: самолет друга медленно погружается в воду…
Вот, наконец, лодка Сергея Скорика оторвалась от поверхности озера. Самолет завис над зеркалом воды и мягко, словно чертя крылом, повернул с набором высоты на запад. У всех немного отлегло от сердца. Может быть, раненых удастся спасти. Особенно тяжелая травма головы была у Нефеда Никифорова, он почти все время находился без сознания. Помочь могли только в больнице. Хотя неизвестно еще, что их ждало: скорость лодки — чуть больше двухсот километров в час, и за уходящим солнцем не угнаться. Не было ни кислорода, чтобы преодолеть горы, если перевал закроется туманом, ни радиопривода, чтобы ночью выдерживать курс. В Нижнеангарск до наступления темноты они не успели бы — это несомненно. Но Скорик уже решил для себя, что не будет останавливаться ночевать на озере Иркана, а пойдет напрямую к Байкалу. В аккумуляторном сарае он наклонился над телом друга и, погладив его холодную щеку, сказал тихо: «Ладно, Сережа, со всяким такое могло случиться… Я тебе обещаю, довезу я твоих пассажиров в больницу, сегодня же. Больше никто не умрет. Такой от меня будет тебе подарок…» В этот день погибшему пилоту Сергею Курочкину исполнилось ровно тридцать лет.
Сергей Курочкин был известным в Сибири и на Дальнем Востоке летчиком. Про него говорили, шутя, что единственный «недостаток» — вина он не пьет никогда. Его двухмоторный Г-1 перевозил из Нелят геологов девять человек, да еще оборудование. Экипаж — командир корабля Сергей Курочкин, бортмеханик Павел Бахчев, бортрадист Анатолий Хотимченко. Штурмана не взяли: рейс близкий — от Витима до Таксимо меньше сотни километров, по сути, только взлет да посадка, трасса ровная, известная, а погода ясная. Тут захочешь — не заблудишься и никуда не денешься из долины, огражденной двумя горными хребтами. Скорей всего, именно это кажущееся благорасположение природы притупило бдительность. И погубило.
Изыскателям были совершенно необходимы воздушные грузовики, которые могли бы обеспечить огромный объем перевозок на большие расстояния. Лодки не справлялись. Поэтому для экспедиции выделили несколько самолетов Г-1. Несколько слов о конструкции этой замечательной в своем роде машины, опередившей свое время.
Грузовик Г-1 (АНТ-4) — дедушка «летающих крепостей»
Первый в мире цельнометаллический тяжелый двухмоторный самолет АНТ-4 (основные модификации Г-1 и ТБ-1) был создан под руководством великого авиаконструктора А. Н. Туполева, испытан пилотом А. И. Томашевским 26 ноября 1925 года. С 1929 года самолет выпускался серийно как тяжелый бомбардировщик ТБ-1 с двигателями жидкостного охлаждения М-17 мощностью 500–680 л. с. Вид удивлял современников, привыкших к бипланам, трипланам, полуторапланам и другим «этажеркам». Этот свободнонесущий моноплан с обшивкой из гофрированного дюралюминия стал прототипом многих самолетов-бомбардировщиков как отечественных, так и зарубежных, в том числе всех «летающих крепостей» и «сверхкрепостей». С 1934 года ТБ-1 использовался в Аэрофлоте в качестве грузового самолета (Г-1) и в виде гидросамолета — с поплавками.
Модификации тяжелого бомбардировщика ТБ-1: вверху — АНТ-4 (первый опытный экземпляр на лыжах), внизу — самолет для дальних перелетов «Страна Советов».
С 23 августа по 1 ноября 1929 года экипаж в составе летчиков С. А. Шестакова, Ф. Е. Болотова, Б. В. Стерлигова, Д. В. Фуфаева совершал на АНТ-4 «Страна Советов» первый выдающийся по дальности и сложности перелет из Москвы в Нью-Йорк через Азию. Расстояние в 21 242 километра самолет преодолел за 141 час 45 минут летного времени, из них 7950 километров — от Хабаровска до Сиэттла — самолет летел над водой. ТБ-1 вел себя настолько стабильно, что в 1933 году на нем производились опыты дозаправки в воздухе. 5 марта 1934 года пилот А В. Ляпидевский на самолете АНТ-4 участвовал в спасении челюскинцев. С 9 февраля по 14 июня 1937 года длился большой арктический полет на дальность на самолете АНТ-4 из Москвы через всю Сибирь и побережье Северного Ледовитого океана. Его участники — экипаж в составе летчиков Ф. Б. Фариха, В. А. Пацынко, А. П. Штепенко, М. И. Чагина, В. А. Демидова и три пассажира — пролетели 23 000 километров, сделав сорок семь посадок.
Основные данные Г-1: взлетная масса — 7500 кг, максимальная скорость — 201 км/ч, полная нагрузка — 3000 кг.
Всего было построено 216 самолетов АНТ-4 разных модификаций. Снимаемые с вооружения ТБ-1 обычно передавались в Аэрофлот и там использовались как транспортные сухопутные или поплавковые под названием Г-1 (грузовой первый). Самолеты Г-1 использовались на транспортных перевозках в период Великой Отечественной войны. На них возили даже никелевую руду из Норильска.
Эксплуатировались Г-1 до предела и списывались после многих лет службы с налетом в несколько тысяч часов. За всю историю АНТ-4 никаких поломок в воздухе по причине ослабленной прочности не было.
В том злосчастном рейсе 15 августа 1940 года в изогнутой, как плетеная корзина, штурманской кабине, которую в шутку называли «Моссельпромом», вместе с бортрадистом Хотимченко расположились еше трое пассажиров: начальник изыскательской партии № 6 Иван Введенский и две девушки — техники-геологи. Остальные шестеро пассажиров разместились в фюзеляже, в салоне на бурильных трубах. Строителям БАМа в 1982 году удалось восстановить фамилии погибших, их должности и некоторые имена. Вот они: старший техник Цуренков, буровой мастер Николай Иванович Козьмин, рабочие партии — Бабошин, Пешков, Тарасов и Тихонов Павел Анатольевич.
Над мелководным озером Борончеевским, что вблизи поселка Таксимо, стоял полный штиль. Исключительно редкостное явление в здешних местах и самая неприятная вещь для посадки гидросамолета: в наиболее ответственный момент, когда надо выравнивать машину, поверхность воды становится совершенно неразличимой — пилот видит только отражение гор и неба. Обычно в таких случаях высылают катер, который морщинит воду, дробит «зеркало». Известны случаи, когда военные морские летчики дробят из пулемета черное зеркало бухты, чтобы правильно определить высоту. Но подобных дней с мертвым штилем практически не бывало. Не оказалось на подобный случай и катера. Или не сообразили по недостатку опыта, что в такую прекрасную погоду летчику нужна какая-то помощь.
Возможно, окажись на месте штурман, он под своим углом зрения сумел бы различить поверхность воды и подсказать пилоту момент, когда надо выравнивать машину. Но шли без штурмана, а летчик воды не увидел. Самолет коснулся зеркала под крутым углом, его поплавки тотчас зарылись в воду. Стойки шасси, которые так часто ломаются, тут, на беду, выдержали, хвост по инерции понесло вверх, и машина опрокинулась. При вынужденной посадке на суше штурманская кабина бывает самым уязвимым местом, — ее обычно сплющивает. Потому и Гризодубова, идя на вынужденную, приказала штурману Расковой покинуть самолет. На Борончеевском озере все произошло наоборот. От удара об воду передняя кабина сразу отвалилась, и все, кто находились в «Моссельпроме», остались живы, хотя и получили ранения, ушибы. Тех же, кто сидел в фюзеляже — шестерых геологов, — с размаху накрыло трубами и припечатало к потолку. Командир успел крикнуть: «Толя, открой люк!.. Паша, назад!..» Оказавшись перевернутым вниз головой, с зажатыми в рычагах ногами, летчик захлебнулся в мутной воде озера. Оглушенный ударом бортмеханик Бахчев с трудом вывернулся и вынырнул. Окровавленными руками, срывая ногти, он безуспешно пытался открыть бомбовой люк.
Жители Таксимо, услышав треск и крики, выбежали к озеру, бросились на лодках спасать тонущих. Радист гидропорта передал сигнал бедствия. Из Нелят немедленно была выслана летающая лодка МП-1. Ее вел Скорик, штурманом был Румянцев, бортмехаником — Иванов.
Они прибыли так быстро, что увидели в озере опрокинутый и изуродованный самолет Курочкина, который еще оставался частично на плаву и медленно погружался на зеленое илистое дно. Когда через полвека самолет поднимут, на часах кабины пилота поисковики увидят, что стрелки замерли в 10 часов 27 минут 45 секунд — момент удара.
Тела семерых погибших уже извлекли из обломков и вынесли на берег. Пятеро получили ранения, их надо было срочно доставить в больницу.
Скорик держал курс на запад. Солнце било пилоту прямо в глаза и быстро клонилось к закату. Внизу густели тени. Засветло успели пройти только Северо-Муйский перевал. По ту сторону распадки уже наполнились чернотой, один только самолет еще некоторое время освещался солнцем. Но вот оно скрылось за горизонтом. Ночь вступала в свои права. Штурман Румянцев обернулся к пилоту. Он уже понял, что на озере Иркана посадки не будет, и кивнул ободряюще: мол, ничего, командир, не оплошаем, показал рукой на звезды — они не подведут, помогут выдержать курс.
Самолет Г-1 СССР-Ж-10 у берега.
Аэросъемочный самолет МП-1 в акватории озера Ирканд.
К Байкалу подходили в полной темноте. Огромное озеро слегка отсвечивало звездами. Казалось, славное море мерно дышало во сне. В районе гидропорта и вовсе тьма царила кромешная, и Скорик подумал, что в затененной лагуне дело пахнет гробом, лучше попробовать сесть на Байкале, где можно хоть что-то различить, волна должна быть небольшая. Сесть, где посветлее, а потом на плаву подрулить к берегу. Но раненым придется болтаться по волнам, им эта затяжка совсем не на пользу.
И вдруг вдоль устья Нижней Ангары, где находилась акватория гидропорта, по берегу реки пробежалась цепочка дрожащих огней. Костры! Вот молодцы, догадались… В темноте командир увидел, как штурман Федя Румянцев повернул к нему лицо. Казалось, оно светилось: а что я говорил!.. Сбавили газ, чтоб сделать поглуше шум мотора. Самолет накренился на правое крыло, будто присматриваясь к обширной лагуне. Все ярче становилась цепочка огней, а вот и блики заиграли на черном зеркале воды. Через несколько минут летающая лодка коснулась светящейся ряби.
От инспекции ГВФ экипаж Скорика получил выговор за то, что летали ночью на необорудованной для таких полетов машине и произвели посадку в гидропорту, не предназначенном для приема самолетов в темное время суток. От экспедиции Бамтранспроекта НКВД — благодарность. Как значилось в приказе, подписанном Клочко, «за активную помощь и проявленную инициативу по спасению людей при аварии самолета на озере Таксимо».
Нефед Георгиевич Никифоров — самый тяжелый из раненых при катастрофе — выздоровел, а когда началась война, пошел на фронт защищать Родину и погиб в бою. Выздоровел и Павел Андреевич Бахчев, у которого поврежден был глаз. Он остался в авиации, добровольцем пошел на фронт — служил в дивизии Гризодубовой бортмехаником, много раз летал к партизанам. После того, как в бою, разгоревшемся вокруг партизанского аэродрома на Брянщине, был сожжен его самолет, воевал в разведгруппе отряда. Позже снова стал летать. При возвращении с одного из боевых заданий его машина была подбита в воздухе. Все были ранены: летчики, штурман, стрелок, сам Бахчев. Машина горела. Павел подтаскивал раненых к бомбовому люку и, пристегнув карабины вытяжных тросиков к парашютным кольцам, выталкивал их из самолета. Все остались живы. Один Бахчев не успел… Оставшийся в живых при аварии в Таксимо радист Александр Хотимченко в годы войны участвовал в партизанском движении в Литве, затем до конца боевых действий служил в авиации дальнего действия.
Но это — лишь небольшие эпизоды дальнейшей истории «бамовской эскадрильи», героической истории военных лет. А тогда, в августе 1940 года, ни выговоры, ни благодарности не трогали сердца Скорика. Погиб лучший друг — Сережа Курочкин. В расцвете сил, на исправной машине, в распрекрасную погоду, среди ясного дня. На секунду какую-то опоздал — погиб сам и людей погубил. Вот уж горе и досада.
Это был поистине черный год для бамовской эскадрильи. Отряд нес потери — одну за другой. Было и раньше множество острейших моментов, подобных тем, что случались со Скориком на Хунгари, на Зее, на Витиме и не только с ним — каждому довелось пройти по краю пропасти, и не раз. Но все обходилось более или менее благополучным образом, и вот подряд пошли тяжелейшие происшествия. Словно удача, неизменно сопутствовавшая аэрофотосъемщикам, в 1940 году отвернулась. Потом не раз говорили, что кто-то разбил зеркало. Причем инстинктивное предубеждение аэросъемщиков против поплавковых конструкций не подтвердилось: в 40-м году бились гидросамолеты поплавковые, бились и летающие лодки. Гибли люди, гибли самолеты.
Счет потерям открыли на Гилюе, близ Тынды.
Из воспоминаний бортмеханика А. И. Ковалева: «В Усть-Нюкже собралось несколько экипажей, а горючего не было. Поэтому решали вопрос: как быть? Решили послать в Тынду одну машину, чтобы она полностью заправилась и еще загрузила порядка тридцати бидонов с бензином и доставила это горючее в Усть-Нюкжу. Все это происходило в начале июня 1940 года. Но так как был штиль, а река Гилюй небольшая, то перегруженный самолет врезался в лес. Экипаж, состоящий из летчика Михайлова, б/мех. Ермолаева, начпорта Наумова, погиб…»
Заканчивался сезон 1940 года. Из экспедиций начали вывозить самолетами наработанные «в поле» материалы и высвобождавшихся людей. 23 сентября пилот Е. П. Ефимов получил от начальника Ирканской экспедиции А. Д. Клочко задание вывезти в Иркутск технические материалы, профессора И. И. Орябинского, находившегося в это время в командировке на Иркане, и жену начальника авиабазы Каплан с ребенком — пятилетним мальчиком. Экипаж самолета состоял из самого Ефимова и бортмеханика Николая Филатова. Это был второй в этот день вылет «семерки» — летающей лодки МП-1 с опознавательным знаком СССР Ж-7.
Из воспоминаний В. М. Бутовой:
«Не будучи фаталисткой, все же не могу забыть какого-то странного ощущения перед этим вылетом Ефимова из Ирканы. Встретился он мне на дорожке в гидропорту. Подошел и попрощался. Меня это удивило, так как он никогда перед вылетом не прощался. Я ответила ему шуткой: «Вот еще. Пять раз в день будете вылетать, и каждый раз прощаться?..»
Поднялся в воздух самолет Ефимова нормально. Радиостанции на промежуточных базах по трассе поочередно сообщали: пролетел. Но вот радиостанция в Нижнеангарске сообщений о самолете, пилотируемом Ефимовым, не дает. Гидропорт Иркана непрерывно запрашивает Нижнеангарск. Ответ все тот же: «Самолета не было». Встревожились. На розыски поднялись в воздух все имевшиеся в наличии наши самолеты. Нигде самолета Ефимова не обнаружили.
Начальник экспедиции Клочко сообщил во все районные, поселковые организации. Созданы были наземные поисковые группы — никаких результатов.
Только на третий или на четвертый день пришло известие. Рыбаки на озере Байкал заметили плавающий предмет. Это, уцепившись за обломки, барахтался в волнах Байкала Николай Филатов — бортмеханик погибшей «семерки». По какой-то фантастической случайности он остался жив. Из последующего его рассказа стало известно, что катастрофа произошла при подходе самолета к Байкалу. Начался густой снегопад. Видимости не было. К слепым полетам самолет не был приспособлен (и штурмана в самолете не было — авт.). Продолжать полет было невозможно. Пилот Ефимов повел самолет на посадку на озеро Байкал и при снижении из-за густого снегопада зацепился за деревья на берегу озера. Это и послужило причиной катастрофы. Бортмеханика Филатова спасли, а из Байкала извлекли тела, погибших. Похоронили летчика Ефимова и погибших с ним пассажиров Орябинского и обоих Каплан в Нижнеангарске».
На похороны приехали почти все, кто оставался в это время в экспедиции: Клочко, Комиссаров, Бутова, Скорик, Ломанович. В самолете Ефимова была чуть ли не вся годовая продукция работы экспедиции. Большую часть удалось поднять со дна бухты Фролиха и спасти. Для этого на берегу пришлось организовать лагерь тральщиков и водолазов. Несколько дней подряд разматывали пленку, протирали и сушили.
Некоторые важные уточнения вносит Алексей Ковалев, бывший механик экипажа Ефимова, тоже оставшийся в ту осень горьким сиротой — без командира и без самолета:
«Евгений был жизнерадостным, всегда улыбался, никогда не кричал. Под стать ему и б/мех Филатов — пожилой, спокойный, знающий и… маленький. Он всегда подкладывал на сидение две подушечки, чтобы лучше видеть из кабины. Недолго пришлось с ним работать. При той катастрофе на Байкале в районе бухты Фролиха Филатов получил перелом левой ноги в двух местах. После мы вытащили сломанный самолет, сняли пригодные агрегаты, а остатки сожгли.
Я нашел полусферический камень и выбил на нем зубилом: «Ефримов Е., Орябинский И. И., Каплан…». Это на мысу, в кустах, метрах в тридцати-сорока от берега, если двигаться с севера, при повороте в бухту Фролиха…
С ними должен был лететь А. Балякин, но потом его оставили, а послали меня. В последний момент инженер отряда Павел Кононович Шабанов оставил и меня. Видно, не судьба.»
Гибель Жени Ефимова, с которым проработали бок о бок три года, буквально потрясла Ирканскую экспедицию. Он был очень живой, теплый человек, С ним было всем как-то особенно хорошо и спокойно. И, потеряв, не знали, как сделать, чтобы память о нем осталась надолго. Выпустили специальную стенгазету, посвященную короткой светлой жизни летчика. Там были проникновенные стихи инженера экспедиции А. Горячева, полные искреннею чувства скорби от невосполнимой утраты. Алексей Ковалев тоже посвятил стихи погибшему командиру и самолету Ж-7:
Семерка — верная подруга, С тобою вместе умерла…Летчика Ефимова действительно помнили. У него было много друзей, и они не оставили без заботы вдову летчика и дочку Светлану. Не забыли жизнерадостного пилота даже те, кто прошел сквозь ужасы войны.
«Женьку все любили», — сказала Варвара Михайловна. Так просто.
Но счет потерям не был завершен. Пришла весть, на озере Круглом погиб летчик А. Путинцев. 1940 год преследовал бамовских летчиков до конца, 25 декабря самолет Г-1, оборудованный лыжами для посадки на снег, шел в сторону Нелят. Вел машину Анатолий Семенович Швидловский. Внезапно самолет попал в сильнейший снеговой поток. Стало темно. Вокруг вспыхивали разряды молний. Шли вслепую. Самолет швыряло из стороны в сторону. Дело могло кончиться плохо. И тут в просвете облаков летчик увидел заснеженный склон хребта. Решил рискнуть сесть.
Встречный ветер дул с такой силой, что при соприкосновении с землей скорость самолета была невелика. Тем не менее, один из членов экипажа получил ранение. Когда непогода улеглась, оказалось что буря загнала их на саму Шаман-гору, на высоту около 3000 метров. Швидловский послал товарищей за подмогой, а сам остался с раненым. Из брезентовых чехлов сделал палатку и пять дней провел у постели раненого. Все продукты отдавал ему. Сам держался на махорке. Выкурил целый мешок.
Местные охотники выручили экипаж, попавший в беду. Однако ни взлететь, ни спустить самолет с Шаман-горы оказалось невозможною Приборы сняли, а сама машина — фюзеляж, крылья, моторы — сохранилась в целости. Только в 1984 году строители БАМа и пилоты улан-удэнского авиапредприятия добрались туда и с большим трудом переправили остатки самолета в Таксимо.
Рыцарские странствия летчика Борисова
Иногда говорят, что летчики — прирожденные кочевники, небесные странники. «Вы далеко летаете — скоро забываете» — такими обидными словами девушки отклоняют предложения залетных кавалеров проводить с деревенской гулянки домой. Но, если разобраться, большинство летчиков, при всей их бродяжьей жизни, в глубине души лелеют мечту о надежном семейном очаге, о нежном создании, которое любит и ждет. И гораздо чаще, чем у простых смертных. Его величество Случай в жизни пилота играет решающую роль. Так, пробитое крыло определило судьбу Василия Борисова. А начиналось все в безоблачный день, когда ничто не предвещало сердечной раны.
Случилось это 18 августа 1936 года, в День Воздушного Флота. На Дальнем Востоке в эту пору погода бывает самая чудесная. Летчики учебного отряда, по заведенному тогда обычаю, катали местных жителей. Всего-то круг над городом, но впечатлений — на всю жизнь. Желающие выстраивались в очередь и терпеливо ждали. Шум моторов, звуки гармошки, алые флаги, возбужденные, раскрасневшиеся от пережитого волнения лица. Две прелестные девушки в праздничных платьях выделялись из толпы. Молодые летчики, проходя мимо, поначалу оборачивались на них, но, приглядевшись повнимательней, просто по-дружески подмигивали и тотчас забывали про них: девушки были совсем уж юные, просто девчонки-школьницы.
Тоня Золотоверхая приехала вместе с сестрой Валентиной в гости к брату Ивану на Вторую Речку и не собиралась идти на аэродром — готовилась в девятый класс, но сестра (она была чуть постарше) уговорила пойти на праздник: может быть, удастся на аэроплане покататься. Семья Золотоверхих считалась местной — из первого переселенческого поколения, обосновавшегося в Приморье еще до сооружения Транссиба. В 1855–1913 годах Действовало прямое морское сообщение Одесса-Владивосток. Путешествие было таким дальним, что, собственно, при тех же затратах переселенцы из малоземельных областей России или Малороссии могли попасть на Аляску или в другую российскую колонию западного побережья Северной Америки. Семья Золотоверхих была большая, жили трудно, потому что рано остались без отца. Подрастали и разъезжались: кто в Иман, кто в Артем, кто в Озерные ключи, кто во Владивосток. Ездили друг к другу в гости довольно часто, ведь на востоке сто верст — не расстояние. Два брата у Тони, пять сестер, сама — восьмая; ей всего год был, когда отец умер.
Главной опорой и защитой в семье стал брат Иван. Он был уже взрослый, женатый, работал шофером-механиком на аэродроме. Мастером был отменным. Всего три класса образования, а любую развалюху-машину мог оживить, сделать заново. Летчики восхищались: «Самородок!» В аэропорту высоко ценили Ивана и считали его своим человеком. А Ивана точно магнитом тянуло к самолетам. Как уйдет ни свет ни заря, так до ночи пропадает в порту. Образования ему получить не удалось, но дослужился он впоследствии до бортинженера; участвовал в перегонке самолетов с Аляски, ремонтировал «летающие крепости» Б-19, подбитые над Японией, которые дотягивали до какого-нибудь нашего аэродрома или совершали вынужденную посадку в тайге.
Но все это произошло позднее, а пока Иван направился к группе летчиков, стал что-то им рассказывать, показывая на сестричек. Подошел летчик — совсем молодой, лет двадцати, взгляд веселый, дерзкий. Стали знакомиться. Назвался солидно: «Летчик Борисов». Когда Тоня подавала ему руку, застеснялась, смотрела в землю и успела только заметить, что худенький, но высокий и «птичка» на груди — командир звена. А сестра жарко шепчет: «Как этот летчик мне нравится…»
В открытую пассажирскую кабину маленького самолета уселись вдвоем: Тоня и какая-то полная женщина, кажется, жена городского начальника. Катал их летчик Борисов над городом дольше всех, так что пассажирку-напарницу крепко укачало. А Тоня только ладони к щекам прижимала — очень раскраснелись. Пока летчик Борисов и начальник аэропорта вытаскивали женщину из кабины и отхаживали, Тоня ждала-ждала, потом подтянулась и выпрыгнула из кабины прямо на серебристое крыло. Думала, оно стальное, а это оказалась перкаль — покрашенная эмалитом материя. Так и проломила каблучками плоскость насквозь и убежала со страху.
Летчик Борисов как увидел пробоины в крыле, так и застыл на месте, хотя дело было обычное и вполне поправимое.
«Что же ты меня раньше с сестрой не познакомил?» — укорил он Ивана, когда тот заделывал повреждение.
«Мала еще! — отмахнулся Иван. — В девятый класс только перешла, коза этакая».
«А мне спешить некуда, — сказал Борисов. — Я подожду».
Шутил или не шутил он тогда, наверное, и сам не смог бы ответить. Но раза два, когда приезжала Тоня к брату, под благовидными предлогами появлялся в доме, вроде бы как к механику — по делу. В штатском костюме, который сшил ему китаец, и в шляпе: «А Иван где?» — «Не пришел еще». Старался держаться непринужденно, как подобает бывалому командиру, но чувствовал, что непонятно почему робеет в присутствии этой девчонки-подростка. Сам-то он был на целых пять лет старше.
Антонина пошла в школу учиться, а Борисов вдруг затосковал. Родом летчик был из села Пневицы Московской области. Окончил он вначале московский авиатехникум, потом Тамбовское летное училище. На Дальний Восток прибыл в 1935 году после училища, сманив с собой еще восемь летчиков-доброволъцев. Вскоре стал командиром звена, и вот после праздника начал настойчиво добиваться перевода на самый край земли — на Камчатку. В декабре 1937 года пришло ему назначение командиром Камчатского авиаотряда. Наверное, таким образом рыцари в старину врачевали сердечные раны — отправлялись в дальние странствия. Борисов взял с собой еще двух летчиков-добровольцев, уговорил и Тониного брата Ивана — его золотые руки не раз выручали пилотов из беды.
Двенадцать дней плыли на Камчатку пароходом. В качестве багажа шли с ними в трюмах, запакованные в ящиках, три гидросамолета, на которых они потом облетали весь громадный полуостров, а заодно и Чукотку. Перед отъездом Борисов ходил грустный. На молодежной вечеринке один только раз потанцевал с Тоней. Она замирала в ожила ним, что вот-вот он спросит что-то очень важное, а она не знает, как ему ответить. Но летчик Борисов так ничего и не сказал. Тальке подарил на память бюстик Пушкина, повесив ему на шею серебряный медальон с крошечной своей фотокарточкой. С тем и отбыл на край света.
Летчик Василий Борисов, Герой Советского Союза.
Изредка, вместе с письмами от Ивана и других летчиков, доходили с Камчатки известия, что командир отряда Василий Александрович Борисов много летает на морском разведчике — по краю суши и океана, за девушками не ухаживает, ни с какой из женщин особенно не встречается. Видели в кинотеатр как-то ходил с одной девушкой с метеостанции, но на том все и закончилось. А работы у командира отряда много и в воздухе, и на земле, и на море.
Вернувшийся брат Иван рассказывал, что в ночь на 1 ноября 1938 года пропал в море паровой спасательный буксир «Кит». Вез из Петропавловска горючее в бочках и десять пассажиров. Экипаж двадцать восемь человек. Последнее сообщение от капитана Сорокина было получено о прохождении буксиром траверса мыса Налычево. Поиски исчезнувшего «Кита» отряд Борисова вел до конца ноября, летающие лодки на низкой высоте бороздили просторы в шторм и снегопад, сами дважды были на волосок от гибели, но никаких следов судна ни в море, ни на прибрежной полосе так и не обнаружили.
Через год Борисов внезапно и на короткое время появился в доме у Антонины, посидел, покурил диковинную трубочку, нарассказывал много удивительных историй о своих странствиях в краю вулканов и уехал на запад в долгий северный отпуск, опять ничего не сказав Тоне. Потом выяснилось, что в отпуске Борисов встретил старого друга по училищу, болгарина, полковника Волкана Горанова — героя испанской войны. Они расстались четыре года назад.
— Что делаешь, Василий?
— Да вот, дали отпуск девять месяцев — не знаю, чем заняться.
Тот устроил Борисова на курсы боевой подготовки: ясное дело, что эта наука скоро пригодится. Пять месяцев Василий учился летать на скоростном бомбардировщике, осваивал точное бомбометание. На полигоне всаживал в мишени цементные бомбы, наверное, не меньше, чем полвагона израсходовал.
Старшая сестра Валентина, повздыхав немного, вышла замуж за морячка. Тоня готовилась к экзаменам, посматривала на Пушкина и ждала. Всякий раз внезапно, как с небес, приходили от Борисова то посылка, то письмо, но решающего слова все не было.
Теперь он летал по трассе БАМа в целях рекогносцировки, сбрасывал продукты отрядам изыскателей. Все эти годы Дальневосточное Управление ГВФ помогало, как могло, бамовским разведчикам трассы и строителям железной дороги. Борисов сумел отличиться — фактически спас от голода несколько групп изыскателей, отрезанных от своих баз неожиданно ранним осенним ледоходом.
Когда Борисов появился вновь, Антонина уже работала в школе, жила в общежитии с другими молодыми учительницами, потому что мама умерла. Он пришел, долго хмурился, потом сказал, что прилетел «спросить ее совета», где ему быть: здесь оставаться или взять перевод в другую область… Словом, очень трудно далось объяснение отважному командиру, так боялся он услышать слово «нет». С Антониной они за руки держались, только когда танцевали. Она сказала: «Вам решать — где работа по душе, туда и надо идти. Почему меня спрашиваете?»
Летчик Борисов не помнит, как прошагал ночью четыре километра до аэропорта после того, как произнес в конце концов, что больше так жить не может, что в субботу приедет и заберет ее к себе, если согласна. А она ответила, что согласна.
Пышной свадьбы не было. Антонина свою большую подушку расшила на две. Борисов приехал за ней с друзьями-летчиками на грузовике. Забросили в кузов чемоданчик, узел с бельем, погрузили старый шифоньер, подаренный доброй соседкой, две табуретки и на руки — бюстик Пушкина с медальоном на шее — долго ли собраться сироте… Через год у них родился первый ребенок, а вскоре началась война.
Дезертиры трудового фронта
Целую неделю летчик Борисов был в отъезде, а когда вернулся, сказал жене: «Есть правительственное задание… Нет, не на фронт, просто будем перегонять самолеты: восток — запад, запад — восток. Обычные полеты».
Много позже Антонина Ивановна узнала, что в первый же день войны ее Василий отбил телеграмму своему командиру с просьбой отправить на фронт. В ответ: «Работайте. Когда надо, вызовем». Через три дня — вторая депеша. Ответ еще короче: «Отставить телеграммы!»
На попутном самолете Борисов летит в Хабаровск и лично предстает перед начальством: «Имею отличную отметку по бомбометанию. Фашист к Москве рвется, а я здесь сижу…» Получил выговор: «Вы дезорганизуете работу тыла. Немедленно возвращайтесь! Приказываю работать и ждать. Вас, летчиков, сейчас хватает…» И по строевой команде «Кру-гом!..» был выставлен за дверь. Однако, уходя, Борисов предупредил адъютанта, что еще два часа будет поблизости. И действительно — вскоре бегут, зовут: «Летчик Борисов еще здесь?.. Срочно к командиру».
Разговор был короткий: «Ну, твоя взяла, партизан. Бери машину и в аэропорт…»
И вот во главе девятки скоростных бомбардировщиков Борисов идет над всей Сибирью на запад. Пока он только перегонщик самолетов, но дело верное, — чем ближе к фронту, тем меньше формализма. Умеет «устраиваться» Борисов: уже после седьмого рейса он встретил в дивизии старого друга, бывшего аэрофлотовца, и уговорил оставить в действующей части. Жене попросил передать: «Правительственное задание… Просто полеты».
«Он жалел меня, поэтому всегда обманывал, — вспоминала Антонина Ивановна на склоне лет. — Сколько раз бывало: приходит домой озабоченный, глаза отводит. У меня сердце сожмется — значит, опять куда-то, в самое пекло его несет. Он обнимет за плечи и на ухо шепчет, словно оправдывается: «Тонечка, есть правительственное задание… Не беспокойся — обычные полеты. Да ты ведь знаешь: я хорошо летаю». Такого красивого человека, как мой Василий, я в жизни никогда не встречала…»
В делах Борисов ни у кого не спрашивал совета. Сам жил полетами, хотя аскетом-фанатиком не был. Он умел смотреть на мир трезво и ощущать истинные масштабы происходящего. В том, что скоро будет война, не сомневался и готовил себя к боям, а когда война началась, раньше других понял, что она растянется на годы. Его не смутили слухи о страшных потерях, понесенных нашей авиацией в первый день войны. Цифры, ставшие известными много лет спустя, — что в первых боях было уничтожено 1200 наших самолетов, а с июня по сентябрь потери достигли 8500 машин, лишь подтвердили его предположения. Точно так же не вызывали у него доверия и пропагандистские заявления о скорой победе над врагом — это для ободрения тех, кто оробел… Развитие грозных событий Борисов воспринимал как опытный летчик: война застигла страну на взлете. Хорошо, что ударили не на стартовой полосе, когда машина вовсе беспомощна. Правда, запаса высоты еще не хватало, от этого и потери. И все-таки уже не на земле. Моторы работали на полную мощность, и общий настрой экипажа — самый решительный, боевой… Еще бы год-два набора высоты, и безопасный полет был бы обеспечен. Каким курсом?
На Дальнем Востоке люди всегда отличались умением мыслить самостоятельно. Еще Петр Кропоткин отмечал, что здесь рядовой чиновник рассуждает свободней, чем питерский генерал. Будучи членом партии, Борисов, тем не менее, по здравому рассуждению, понял для себя, что цель — скорейшая победа коммунизма во всем мире — откладывалась на неопределенное время. Напротив, утвердилась доктрина о «возможности построения социализма в отдельной стране». Энтузиастов перманентной мировой революции — троцкистов и их последователей — выжигали каленым железом. Не менее свирепо карались отклонения от принципов дружбы народов СССР. Сам по себе лозунг о неизбежной победе коммунизма на всей планете не был снят, но изменилась тактика: построить у себя, в отдельной стране образец, привлекательный для всех — это и будет самая убедительная агитация. Действия властей казались Борисову вполне логичными: работай на совесть, не болтай языком, и государство о тебе позаботится. Насколько реальна была цель, особенно задумываться не приходилось. Пока не вызывало никаких сомнений только то, что над страной нависают грозные тучи и вначале надо было «отдельному» государству выжить. А там разберемся.
Взвесив обстановку, Борисов понял: надо переходить на долговременный военный образ жизни. Без лишней скромности, считая себя в семье главным действующим лицом, он всех родных и близких начал вовлекать в круг своих авиационных забот. Борисов с большим трудом выхлопотал в Моссовете пропуск для жены. Война — войной, семья — семьей. Он летал бомбить Берлин, выходил по ночам на «свободную охоту», громил ближние и дальние тылы противника — под Ленинградом, Воронежем, Сталинградом. Антонина приезжала к нему в гости на подмосковный базовый аэродром, и они виделись между «обычными» боевыми вылетами.
Из семьи Борисовых воевали пятеро. Даже своего отчима, которому было уже за шестьдесят и по возрасту не подлежащего призыву, он вытащил из глубокого тыла, устроил писарем в штаб дивизии. Конечно, там случались бомбежки, но ведь не каждая бомба — в цель. Однажды под Львовом Борисов случайно встретил младшего брата Александра — тот был солдатом, стоял на старте — встречал и отправлял самолеты. «Не надоело самолетам хвосты заносить? Война кончится, а ты без ордена вернешься… Непорядок! Добился — посадил брата на свой бомбардировщик стрелком-радистом, и в воздушном бою над Свинемюнде брат отличился — спас экипаж, сбил подкравшийся сзади Фокке-Вульф 190.
Для большинства аэрофотосъемщиков Бамтранспроекта НКВД с началом войны работа не изменилась, только темп ее еще более возрос. Все просьбы бамовских летчиков об отправке на фронт категорически пресекались. Им объясняли, что карты, которые они делают, — важнейшая военная продукция. Румянцев завидовал летчику Ульяновскому, с которым довелось некоторое время работать в одном экипаже. В отличие от большинства бамовцев, это был кадровый военный, зрелый командир, награжденный боевым орденом Красного Знамени. А на БАМе он оказался случайно. В 1937 году Сергей Александрович Ульяновский по нелепому подозрению был демобилизован из армии. Он не смирился со своей участью. Написал письмо Ворошилову, а сам отправился туда, где, по его мнению, обстановка ближе всего соответствовала боевой — в бамовскую аэрофотосъемку.
Летал Ульяновский хорошо, командир был волевой, и не уставал повторять: «Дружба дружбой, а служба службой». Он был из тех прирожденных ведущих, которые о дистанции не беспокоятся, но и не терпят панибратства с подчиненными. На соломе рядом будет спать, а встанет и потребует, как положено по уставу. Спустя примерно год Ульяновский был восстановлен в звании капитана ВВС, вернулся в армию, служил в Подольске и с первого дня воевал на скоростном бомбардировщике.
Сводки Совинформбюро становились все тревожней. Огненная лавина неудержимо катилась к сердцу страны, к Москве. Радисты хмурились, прослушивая эфир, — Германия гремела победными маршами. И в этой гнетущей обстановке, когда вся Европа лежала у ног Гитлера, вдруг пришло известие о том, что на Балканах, в оккупированной Югославии вспыхнуло восстание. Братья-славяне пошли в бой против многократно превосходящих сил противника. Что это: безрассудство, вызов, акт отчаяния народа, который предпочел смерть — рабству? Если регулярная армия была разбита в течение нескольких дней, если король и большинство политических деятелей бежали из своей страны в Лондон, то что могут сделать легко вооруженные разрозненные отряды? В дальнейшем стало ясно: югославы осознавали силу вермахта. Но еще лучше они знали характер своих братьев-славян; верили, что Красная Армия разобьет зарвавшихся нацистов, и будет так, как уже бывало в истории — и с тевтонами, и с османами…
Тому, что командование сдерживало стремление на фронт летчиков-дальневосточников и полярной авиации, были серьезные причины. 22 июня 1941 года перед милитаристской Японией во всей остроте встала проблема: когда начинать давно запланированное широкомасштабное вторжение на Дальний Восток и в Сибирь? В этот день министр иностранных дел Японии Мицуока предложил императору Хирохито немедленно напасть на Советский Союз. И 2 июля 1941 года на императорском совете было принято решение вступить в войну с СССР, если германское наступление будет развиваться успешно. 3 июля 1941 года в радиодонесении советский разведчик Рихард Зорге сообщил, что Япония вступит в войну не позднее чем через шесть недель. «Наступление японцев начнется на Владивосток, Хабаровск и Сахалин с высадкой десанта на советском побережье Приморья». Позднее стала известна планируемая дата нападения — 29 августа. В Японии и Северо-Восточном Китае (Маньчжурии) начался призыв резервистов. За июль — август японская группировка войск в Маньчжурии (Квантунская армия) и Корее была увеличена вдвое и приведена в готовность в любой момент перейти границу и развивать наступление в глубь советской территории в Приморье, на Амурском направлении и в Забайкалье.
Для предупреждения внезапного нападения с 12 июля 1941 года началась первая постановка мин в заливе Петра Великого, около Владивостока и на подходах к другим военно-морским базам. Проводку судов обеспечивали военные лоцманы по своим засекреченным картам.
О крупномасштабных сражениях на просторах океана речь не шла, потому что соотношение морских сил СССР и Японии выглядело следующим образом. Военно-морской флот Японии в 1941 году составляли десять авианосцев, десять линкоров, тридцать пять крейсеров, сто одиннадцать эсминцев, шестьдесят четыре подводные лодки, множество мелких кораблей и судов. Что мог противопоставить этой стальной армаде наш Тихоокеанский флот? Всего лишь два крейсера, один лидер (немного крупнее эсминца), двенадцать эсминцев и миноносцев, семьдесят восемь подводных лодок (почти половину из них составляли «малютки»), а также вооруженные пароходы и малотоннажные кораблики — сторожевые, минные заградители, тральщики, торпедные катера. Примерно в равном количестве была лишь морская авиация — до полутора тысяч самолетов с каждой стороны.
Таким образом, перевес японского флота был подавляющий. И было очевидно, что русские не пойдут в открытый океан, чтобы быть расстрелянными с дальней дистанции линкорами. Что делать японской армаде? Гоняться за катерами и сторожевиками вдоль побережья? Но, действуя в обороне, у родных берегов «тюлькин флот» мог нанести большой урон нападающим. Возникала реальная угроза увязнуть в прибрежных, полных мин и подлодок, чужих водах и постоянно отбиваться от налетов авиации. Среди неприятных новинок, выявленных японской разведкой еще в январе 1937 года на русском Тихоокеанском флоте, были двадцать четыре модифицированных МБР-2ВУ с аппаратами волнового управления «Спрут». Они предназначались для управления и радионаведения торпедных катеров, начиненных взрывчаткой. Испытания на Черном море показали высокую эффективность этих катеров-«брандеров».
Чаши весов истории колебались, и каждая крупица могла вести к спасению или к гибели. Каждый новый аэродром, построенный русскими в прибрежной полосе, в случае открытия военных действий мог представлять угрозу для городов и промышленных центров Японии, — время подлета бомбардировщиков совсем короткое. В числе аргументов против нападения на СССР летом 1941 года были и непонятно где таящиеся десятки подводных лодок-«малюток», и сотни торпедных катеров с отчаянными экипажами, и самолеты-торпедоносцы… Русские летчики в небе Китая и Монголии показали высокий уровень боеспособности и умение действовать в самых сложных условиях, береговая оборона оказалась значительно усилена. И еще эти бродячие «монстры» — железнодорожные батареи «главного калибра». Конечно, девять пушек, пусть даже гигантских, вряд ли решат исход крупного сражения. Но известно, как моряки не любят попадать под огонь береговых батарей, поскольку корректировщики на наблюдательных постах могут гораздо точнее, чем с корабля, определить положение цели. Простая геометрия: чем шире базовая линия, тем вернее прицел. А если к тому же батареи обладают подвижностью, то против них и авиация может оказаться бессильной: только что засекли место, откуда железнодорожный монстр вел жестокий огонь, а через полчаса его уже там нет — ищи ветра…
К тому же не за горами была лютая сибирская зима, о которой у интервентов остались самые неприятные воспоминания. На морозе дух бусидо (в переводе — «Путь воина», японский вариант суворовской «Науки побеждать») испарялся самым плачевным образом, несмотря на теплую экипировку и высококалорийное питание. Опыт показал, что основные военные операции в резко континентальном климате можно проводить только в теплый период года.
Но действия разведки к осени резко усилились. Случаи нарушений сухопутной границы и воздушного пространства, вторжений в территориальные воды СССР исчислялись сотнями, обстрелы пограничных застав все более походили на разведку боем. Для борьбы со шпионами, диверсантами, для охраны Транссиба и предприятий, которые переключились на выпуск военной продукции, по всему Дальнему Востоку были созданы истребительные батальоны, формировалось народное ополчение. В районах, которым угрожала японская оккупация, в обстановке строгой секретности готовились десятки партизанских отрядов. В них принимались только люди, добровольно изъявившие свое желание действовать в тылу противника, мужчины и женщины (около десяти процентов), обладавшие необходимыми физическими, волевыми и моральными качествами. Приоритет отдавался бывшим красным партизанам, имевшим неоценимый опыт и сохранившим боеспособность. Все зачисленные в отряды добровольцы перед лицом своих товарищей принимали Клятву партизана.
По составу отряды были небольшими (по пятьдесят-шестьдесят человек), но они должны были стать основой для развертывания более крупных формирований. Поэтому подготовке кадров уделялось усиленное внимание. Обучение проходило в спецшколах НКВД. В условиях, приближенных к боевым, курсантов учили особенностям организации партизанской разведки, засад, диверсий, выхода из боя, перехода линии фронта, охранения, прививали навыки конспирации, связи, топографии, оказания медицинской помощи. Практиковались занятия на выживание: выходы в тайгу на 100–150 километров — как в летний, так и в зимний периоды. Тренировались в проведении ночного боя. Намечались места таежных баз для хранения запасов продовольствия, оружия, боеприпасов, лекарств и для развертывания лазаретов. Создавались запасы фуража, поскольку за каждым бойцом была закреплена лошадь.
Кроме оружия, взрывчатки и радиостанций, которые получали из военных складов, для партизан изготавливались на заводах железнодорожные «лапы» для разборки пути, мощные гаечные ключи для вывода из строя паросиловых установок, таблетки буксида для вывода из строя железнодорожного подвижного состава, саперные ножницы, трехлапые «кошки» для обрыва телеграфно-телефонной связи, монтерские «когти», «ежи» для прокола автомобильных шин, всевозможные зажигательные и подрывные средства химического, электрического и механического действия и другой партизанский инструмент. Шифрами для радиосвязи были обеспечены все партизанские отряды. Летчиков БАМпроекта, хорошо знавших местность, активно привлекали к созданию партизанского фронта. С этой силой агрессору нельзя было не считаться.
В донесениях Рихарда Зорге и других наших разведчиков отражены колебания японских военных. И лишь 14 сентября 1941 года, когда стало ясно, что надежды на германский блицкриг не оправдываются и война на Западе принимает затяжной характер, Зорге передал, что Япония в ближайшие месяцы не выступит против СССР.
Решение было принято иное: пока Россия истощает свои ресурсы на Западе, устроить Цусиму американцам, обрушиться всей мощью на главную военно-морскую базу США, внезапным ударом уничтожить неприятельский флот и обрести господство над всем Тихоокеанским бассейном. Одновременно сухопутные силы завершат разгром Китая. Все центральные районы страны, сосредоточение промышленности, уже были захвачены, близилась полная победа. А с весны можно было развернуться и на север — начать наступление на обескровленный СССР одновременно с суши и с моря.
Командование Квантунской армии, численность которой превысила один миллион сто тысяч человек, особое внимание уделяло Транссибу. Там планировалось проведение серии крупных диверсий, чтобы лишить Красную Армию возможности маневра.
Этот стратегический план начал осуществляться весьма успешно. Когда на совещании у императора 1 декабря 1941 года высшим руководством Японии было принято окончательное решение о начале войны с США, крупная авианосная группировка, названная японцами «Кидо бутан», под командованием адмирала Нагумо была уже далеко в море, на пути к Гавайским островам. Морское соединение в составе шести авианосцев, двух линкоров, трех крейсеров, девяти эсминцев, трех подлодок и восьми танкеров покинуло Итуруп 26 ноября 1941 года. На борту авианосцев находилось триста шестьдесят самолетов. Еще летом под личным руководством Главнокомандующего объединенным императорским флотом Исороку Ямамото на острове Сиоху, где были построены копии объектов Перл-Харбора, отрабатывалось торпедометание на мелководье. На подходах к Гавайским островам заранее были развернуты четыре отряда субмарин — двадцать шесть подлодок.
По пути следования авианосной группы были запрещены радиопереговоры. Даже мусор не выбрасывали за борт. Командующий соединением вице-адмирал Тюити Нагумо поставил боевую задачу — «разгромить сонных американцев, прежде чем они смогут расстроить планы, — освободить страны Азии от колониального гнета». 2 декабря 1941 года Нагумо получил из штаба командующего Объединенным флотом Японии адмирала Ямамото шифрованное послание: «Начинайте восхождение на гору Ниитака».
7 декабря 1941 года без объявления войны был нанесен сокрушительный удар по главной морской базе США в Перл-Харборе. И хотя накануне отсюда на материковые базы были переведены авианосцы и крупные крейсера, по эффекту «Операция Z» далеко превзошла Цусимское сражение. В один день было уничтожено восемь американских линкоров, шесть крейсеров, один эсминец, триста сорок семь самолетов морской авиации, большинство на земле. Погибли более трех тысяч военнослужащих США. С минимальными потерями — пятьдесят пять человек летного состава, двадцать девять сбитых самолетов, одна большая подлодка и пять «карликовых» — Японии удалось завоевать господство на Тихом океане.
Спустя три месяца в ходе морского сражения в Яванском море между японской (четыре крейсера, четырнадцать эсминцев) и союзнической (пять крейсеров и десять эсминцев) эскадрами, японцы потопили два крейсера и три эсминца противника, не потеряв ни одного своего корабля. Были захвачены все острова Нидерландской Индии (ныне Индонезия). На полуострове Батаан (Филиппины) капитулировали отступившие сюда после неудачных боев против японского десанта американо-филиппинские войска. В плен сдались 79,5 тыс. человек.
18 января 1942 года Япония подписала с Германией и Италией военное соглашение, предусматривающее отторжение от Советского Союза Дальнего Востока и Сибири. В приказе японской ставки верховного командования говорилось: «В соответствии со складывающейся обстановкой осуществить подготовку к операции против России с целью достижения готовности к войне весной 1942 г.». И обозначались политические цели: «Приморье должно быть присоединено к Японии, районы, прилегающие к Маньчжурской империи, должны быть включены в сферу влияния этой страны, а Транссибирская дорога отдана под полный контроль Японии и Германии, причем Омск будет пунктом разграничения между ними».
Вопреки Портсмутскому договору 1905 года японское правительство запретило советским судам пользоваться наиболее коротким и удобным путем в Тихий океан Сангарским проливом — под тем предлогом, что этот район является оборонительной зоной. Вместо этого предложили выходить в океан через пролив Лаперуза или через южные проливы, что удлиняло путь. Но самое главное — в проливах Лаперуза, Корейском и Курильском наши суда подвергались насильственным беззаконным обыскам. Корабли «Ангарстрой», «Кола», «Ильмень» были потоплены подводными лодками.
Только в декабре 1941 года японскими пиратами были потоплены советские торговые» суда «Кречет», «Свирьстрой», «Перекоп», «Майкоп», захвачены «Симферополь» и «Сергей Лазо». Тяжелейшее положение на советско-германском фронте не позволяло нашим морякам наказать пиратов. Нельзя было поддаваться на провокации. Вакханалия на море продолжалась до весны 1945 года. Всего с 1 декабря 1941 года по 10 апреля 1945 года японские военные корабли двести раз останавливали (иногда с применением оружия) и досматривали советские торговые и рыболовные суда. Некоторые из них были задержаны на длительный срок, а восемнадцать судов захвачены и потоплены.
Как только советскому командованию стало ясно, что нападение Японии откладывается, часть войск из Забайкалья и Дальнего Востока была переброшена под Москву, где наступила критическая фаза — момент неустойчивого равновесия. Оборона была разрушена, истекала кровью, но и наступление выдыхалось. Немецкие танки докатились до пригорода Москвы. Шла массовая эвакуация, правительство и посольства переехали в город Куйбышев (Самару). На путях стоял под парами специальный поезд, подготовленный к отъезду Сталина. Сам Верховный Главнокомандующий не исключал, что ему придется покинуть столицу и перенести ставку в подземное убежище, оборудованное на берегу Волги, или еще дальше, например, в Тюмень, куда было тайно отправлено тело Ленина из Мавзолея.
5 октября 1941 года секретарь МГК ВКП(б) А. С. Щербаков на Старой площади провел совещание с чекистами — руководителями НКВД столицы и области о создании подполья численностью в несколько тысяч человек. Состав — партработники, чекисты, спортсмены, политэмигранты, состоявшие на учете в Коминтерне. Семьи срочно эвакуировали. Закладывались тайники с оружием. Были подготовлены легенды, документы, «семейные» фотографии…
Именно в трагические октябрьские дни стали подходить свежие дивизии с востока. По Транссибу, который за 30-е годы в несколько раз повысил пропускную способность, воинские эшелоны шли с Востока на ряде участков по «живой блокировке» — с расстановкой сигнальщиков на расстоянии один километр друг от друга, со скоростью курьерских поездов, в том числе нередко одновременно и по нечетному, и по четному пути. Этот грандиозный маневр решил исход битвы под Москвой, а может быть, и всей войны.
Риск был огромный. 26 октября 1941 года командующие армиями Дальневосточного фронта получили шифровку: «Начальник Разведуправления Красной Армии сообщает о следующем:
1. Из Стокгольма сообщают, что 26–28 октября выступят японцы. Основной удар — Владивосток.
2. Из Вашингтона сообщают, по мнению высших военных китайских властей, японское нападение на Сибирь произойдет в ближайшие дни».
3 ноября 1941 года поступило сообщение Разведупра: «По агентурным данным, полученным из Шанхая, японцы намерены выступить против СССР независимо от времени года, как только немцы добьются крупных успехов в наступлении на Москву». Подтверждалось намерение в первую очередь овладеть Владивостоком, а также захватить севере-восточную часть МНР, Состав японской группировки не изменился. На 30 октября в Маньчжурии и Корее насчитывалось 35 пехотных дивизий, 12 танковых полков, 3 кавалерийские бригады, 2 механизированных соединения, 20 артиллерийских полков и 35 авиаотрядов. Общая численность войск составляла 1150 тыс человек. И только 5 ноября 1941 года в сообщении Разведупра РККА отмечалось, что в правящих кругах Японии полагают: «…если немцы потерпят поражение под Москвой, то Япония не выступит против СССР до весны 1942 года, а ограничится действиями в районе Южных морей».
Так что у тыловых «бюрократов» была все основания удерживать силы на восточной границе. И хотя железнодорожным батареям «главного калибра», с таким трудом доставленным в 1933 году на Дальний Восток, и подлодкам-«малюткам» не довелось участвовать в боевых действиях, их молчаливое присутствие, несомненно, способствовало тому, что в критический для нашей страны момент вторжение с востока не состоялось.
Вскоре после битвы под Москвой и освобождения Калуги (30 декабря 1941 года) штурману Федору Румянцеву передали конверт какого-то странного вилл с мутноватым штемпелем «Доплатное». Это был сшитый нитками лист в косую линию из школьной тетради. Федор не сразу узнал почерк своей сестры, и его охватило недоброе предчувствие. В письме сообщалось, что оказавшиеся в оккупированной Калуге его хромой старший брат Сережа, оба шурина и два подростка-племянника убиты фашистами. Четырехлетняя племянница стала инвалидом. На глазах ребенка гитлеровцы зверски казнили отца: кололи кинжалами, отрезали нос и уши… Почти одновременно с письмом пришла телеграмма от среднего брата Василия. Телеграмма заканчивалась словами: «Мужайся, работай, мсти».
Федя Румянцев по прозвищу Джан — самый мягкий и добродушный человек в экспедиции — вложил телеграмму и письмо в конверт и спрятал в нагрудном кармане летной куртки. Только два слова услышали от него товарищи: «На фронт!»
В бамовской авиагруппе было немало людей, чьи родственники оказались в захваченных врагом районах Белоруссии, Украины, России, Прибалтики. Тревожились: что сталось с теми, кто попал под новый порядок? Письмо, полученное Румянцевым, приоткрыло завесу. Оно прозвучало, как крик о помощи, и стало для них пропуском на фронт. Произошел новый, еще более тяжелый разговор с авиационным начальством и руководством НКВД. Летчики требовали немедленно откомандировать их в действующую армию, чтобы своими руками уничтожать фашистских насильников. Разговор шел в таких тонах, что по законам военного времени мог быть расценен как бунт, неповиновение. А когда начальник произнес отрезвляющее слово «трибунал», штурман Михаил Кириллов пригрозил в ответ, что сам застрелится, если его не выпустят на фронт.
К августу 1942 года практически весь личный состав бамовской авиагруппы добился перевода в армию, как было сказано в распоряжении, «на время военных действий». И они недаром чувство вали, что многое умеют. Уже после недельной стажировки этих гражданских летчиков стали посылать на самостоятельные боевые задания.
Плакат времен войны.
Встреча с Героями Советского Союза в Москве 1943 г.
Сидят (слева направо): Литманович Г. М., Кириллов М. М., Румянцев Ф. С., Червяков В. А. Стоят: Иванов Б. Н., Авдеев Д. Д., Титов С. С., Алексеев Б. Н., Пастернак Р. П.
Охота на крупповского монстра
Полк, в который попали штурман Румянцев и летчик Кудряшов, работал главным образом в темное время суток. А в ночных полетах у экипажа не бывает ни минуты передышки. У штурмана — тем более: приборы, счетные линейки, графики, таблицы, карты — земные и звездные, непрерывные вычисления, счисления, поправки, сопоставления… На высоте же каждый летчик это знает — мозги соображают медленнее, тогда как требуется, наоборот, решать задачи быстро и безошибочно. Зато и бояться недосуг — страх нагоняет уже потом, на земле, после полета.
Первая неожиданность, с которой столкнулись бамовские летчики в АДД — авиации дальнего действия — удивила и обрадовала. Они прежде думали, что у военных авиаторов каждый шаг расписан в строгом соответствии с уставами и с количеством «кубарей» в петлицах. Им было бы нелегко расстаться с простотой отношений, к которой, при всей секретности работы с материалами, они привыкли на БАМе. Но оказалось, что в АДД экипажи не менее дружны. Летчики называют друг друга по именам — только командир есть командир, а после полета экипажи садятся за один стол — офицеры, старшины, рядовые стрелки. На построении подтягиваются, — как положено, но никакой муштры, шагистики, хотя дисциплина строгая, и держится она на святом принципе: одна судьба, одна семья, один отец — командир. Должно быть, эта внешняя непосредственность позволяла командиру лучше узнать особенности характера каждого члена экипажа; ведь они кровно зависели друг от друга, и ошибка одного могла погубить разом всех. Дивизии АДД дислоцировались в основном вокруг Москвы. В случае необходимости они перебрасывались ближе к району предполагаемых действий, как это было, например, во время Сталинградской битвы зимой 1942–1943 гг.
Штурман Румянцев выводил бомбардировщик расчетливо и дерзко. Письмо сестры и телеграмму брата — «Мужайся, работай, мсти!» — он всегда держал при себе в кармане куртки: ненависть заставляла мозг работать с особенной прозорливостью. Цепким и холодным взглядом он фиксировал эффект работы экипажа, и его доклады командиру всегда были лаконичны. Это был его личный расчет с гитлеровцами, и никакого не было смысла ни преувеличивать, ни преуменьшать.
Летали бамовцы на самолете Ер-2. Это была особенная в своем роде машина.
Ер-2 — дизельный ночной бомбардировщик
История рождения ночного дальнего бомбардировщика Ер-2 конструкции Владимира Ермолаева связана с именами многих замечательных людей. Прежде всего, это Александр Чаромский — конструктор легкого (из дюралевых сплавов) и экономичного дизельного авиадвигателя. Узнав о его разработке, Валерий Чкалов пришел в восторг — это был реальный шаг к его мечте пролететь «вокруг шарика». Потом двигатель подхватила команда Михаила Кошкина, приспособив его на Т-34, ставший лучшим средним танком Второй мировой войны. Наконец дизель Чаромского попал на Ер-2 и на Пе-8.
Самое прямое отношение к появлению на свет Ер-2 имел и выдающийся конструктор, «красный барон» Роберт Бартини. Он создал самолет «Сталь-7», предназначенный для магистральных воздушных линий Аэрофлота — машину скоростную, двухмоторный низкоплан с крылом резко выраженного типа «обратной чайки» (излом крыла напоминает перевернутое крыло чайки). Двигатели расположены в сгибах крыльев, шасси предельно низкое. Экипаж — два летчика и радист. Самолет был рассчитан на двенадцать пассажиров. При испытаниях машина показала отличные качества, и решено было подготовить «Сталь-7» для кругосветного перелета. Для этого было установлено 27 бензобаков общим объемом 7200 литров. Для пробы 28 августа 1939 года летчик Н. П. Шибанов с экипажем пролетел по замкнутому маршруту Москва — Свердловск — Севастополь — Москва, установив мировой рекорд скорости на дистанции 5000 километров — 406 километров в час. Однако «вокруг шарика» лететь не пришлось — началась война.
На высокие летные качества машины обратили внимание военные. Конструкторскому бюро Владимира Григорьевича Ермолаева предложили развить «Сталь-7» до бомбардировщика. Он переделал конструкцию из смешанной — из легких сваренных труб с полотняной обшивкой — в цельнометаллическую. Бартини, подвергшийся в это время необоснованным репрессиям, тем не менее, консультировал эту работу. Штурманскую кабину сделали остекленной, пилотскую кабину из двухместной превратили в одноместную, а весь экипаж состоял теперь из четырех человек: пилот, штурман, стрелок-радист и башенный стрелок. В начале 1941 года на самолете, получившем название ДБ-240, был выполнен беспосадочный перелет Москва — Омск — Москва со сбросом на середине маршрута тысячи килограммов условных бомб. К началу войны было выпущено несколько десятков таких машин. Достоинствами были хорошая скорость, дальность 4100 километров. К числу недостатков относили слабое вооружение: два пулемета ШКАС и один БТ, крупнокалиберный пулемет 12,7 мм конструкции Березина (турельный). Ер-2 применялся в начале войны для налетов на Берлин. Использовался и как ближний бомбардировщик, в частности, под Воронежем. Из Ер-2 были сформированы два полка по сорок — шестьдесят самолетов.
Дефекты двигателей причиняли много хлопот механикам. Непривычным для пилотов был и слишком долгий разгон. Но прочность конструкции «обратной чайки» оказалась поразительной. Однажды экипаж Ер-2 капитана П. Н. Володина был сбит зенитным огнем в районе Гомеля. С парашютом выпрыгнуть не успели. Машина ударилась сгибами крыльев о землю, но все четверо летчиков остались живы, поскольку кинетическая энергия удара была поглощена разрывом обшивки по низу фюзеляжа — случай феноменальный в истории авиации.
От полета к полету Румянцев все объемнее воспринимал многосложный механизм войны, отчетливее чувствовал болевые точки врага. Поначалу стремился нацеливать бомбы в места возможного расположения фашистских солдат — живой силы противника. Но вскоре понял, что она, живая вражья сила, по сигналу воздушной тревоги уже забилась по щелям, растеклась по убежищам и достать ее под землей мало шансов. Окончится бомбежка, сила эта нечистая вылезет наружу, отряхнется и опять возьмется за свое черное дело. Если же удастся поразить коммуникации, замаскированные склады, сжечь запасы топлива, тогда танки, орудия, самолеты превратятся в мишени. Значит, главная цель — обессилить врага, парализовать движение смертоносных машин, вот тогда-то наши истребители, штурмовики погонят «завоевателей» по полям. Румянцев чувствовал, что становится настоящим профессиональным военным, и ему делалось как-то легче на душе.
Роберт Бартини.
Бомбардировщик Ер-2.
Пролетая над нашей территорией, он часто видел войсковые колонны на марше. И сочувствовал: «Эх, не пыли, пехота…» Умелый маневр на войне — половина успеха. И вот, изнуренные многочасовым походом, красноармейцы прибывают к месту действия — усталые, голодные. А германцев везут на машинах, — свежих, сытых, полных сил, готовых к бою и уверенных в победе.
Из трезвого расчета, а может быть и потому, что русскому человеку вообще несвойственна жажда убийства, даже из чувства мести, наиболее желанной целью для бомбардировщиков были нефтяные баки и цистерны с горючим.
— Федя, бей по бензовозам! — кричит в азарте Кудряшов при ночной штурмовке вражеского аэродрома. — Светлей будет.
— Понял. Боевой курс двести десять!
— Засек, двести десять, — отвечает летчик.
Штурман приникает к окуляру прицела:
— Еще вправо пять… Так. Сброс! — кричит он.
Экипаж чувствует запах пироксилиновых патронов и легкие толчки — это отрываются от замков бомбы и стремительно летят вниз. Самолет подбрасывает. Бомбы рвутся на замаскированной стоянке, рядом с бензовозом. Сноп огня.
Объятые пламенем и взрывающиеся цистерны приводили летчиков даже в больший восторг, чем вулканические взрывы складов с боеприпасами. Нескрываемая ярость всех средств ПВО свидетельствовала о том, что топливо — самая чувствительная точка оккупантов, кровь их машин. Когда удавалось запалить склад ГСМ, летчики ликовали: «Ага, с горючкой у вас туговато, ну так походите пешком!..» И, не скрывая злорадства, кричали по рации: «Цу фус», «Цу фус геен!..» («Пешком, ногами ходите!»).
К слову сказать, военные специалисты, оценивая операцию в Перл-Харборе, считают, что японцы слишком увлеклись бомбежкой кораблей. Многие из них были восстановлены. Гораздо эффективней был бы удар по базам снабжения американского флота, складам горючего, ремонтных мощностей и базам подводных лодок. В том же Перл-Харборе рядом с гаванью находилось хранилище, в котором многие годы накапливались запасы мазута, и к моменту удара в нем было более 400 тысяч тонн корабельного топлива, без которого флот США был бы парализован не на месяцы, а минимум на полтора-два года.
Командир экипажа Константин Михайлович Кудряшов был человеком своеобразным — пытливым, энергичным. Летал классно, притом любил экспериментировать, принимать нестандартные решения. В полку его иногда называли Остапом — в честь «великого комбинатора» Остапа Бендера. Он умел мгновенно перестроиться в зависимости от обстановки, опасность точно подстегивала его.
Полк насчитывал двадцать два слетанных экипажа, когда подоспело важное задание, в котором в полной мере проявились комбинаторские способности Кудряшова. Приказано было нанести удар по Беззаботненской артиллерийской группировке противника, в то место, откуда фашисты наладились обстреливать Ленинград из дальнобойных крепостных орудий. Фашисты установили их в специальных подземных укрытиях. С наступлением темноты они по рельсам выкатывали орудия на позиции и вели варварский обстрел городских кварталов.
В начале 1943 года разведка доложила, что вблизи станции Тайны под Ленинградом немцы закончили сборку самой большой в мире пушки «Дора». Она была доставлена из-под Севастополя, где применялась при осаде крепости в паре с орудием «Густав». «Дора» была смонтирована на специальной железнодорожной платформе, имела калибр 807 мм и скорострельность один выстрел в двадцать минут. Ее разработка началась в середине 1930-х годов с целью взлома французской оборонительной линии Мажино. Артиллерийская установка использовала бетонобойные снаряды весом 710 кг и фугасные — весом 450 кг. Дальность — 24 км. Масса установки 1350 тонн. В сопровождающий комплекс входили энергопоезд, состав техобслуживания, состав боеприпасов, три подвижные зенитные батареи, технические летучки. Общая численность обслуживающего состава системы — 4 тысячи человек. С французами долго воевать не пришлось. В июле 1941 года «Дору» перебросили в Крым, где она поддерживала своим огнем немецкие войска, штурмовавшие Севастополь, выпустив более ста снарядов. Ствол «Доры» длиной достигал тридцати метров, лафет — высотой с трехэтажный дом. К счастью, до центра Ленинграда снаряды «Доры» не доставали. Но на окраинах города разрушения они производили ужасные. Заход на бомбежку предусматривался с юга. Отбомбиться по цели — и назад. Из штаба Кудряшов и Румянцев выходили вместе с другими командирами и штурманами. «Брифинг» («предполетное совещание» — это словечко перешло от союзников-англичан и только начало входить в моду) — оставил многие вопросы без ответа.
— Знаешь, Джан, не по душе мне этот маршрут, — признался Кудряшов своему штурману.
— Уж чего хорошего, — согласился Румянцев. — Заслон ПВО по линии фронта мощный, зенитных батарей густо. Но комдив пообещал, что вначале наши штурмовики поработают, придавят ПВО. Под штурмовкой не особенно прицелишься. Как-нибудь проскочим.
— Ладно, — оживился вдруг Кудряшов. — Туда проскочили. На цель вышли, ты бомбы сбросил. Делаем разворот, уходим вправо и опять подставляем брюхо зениткам; а они уже очухались, получили от своего начальства нагоняй, разозлились и ждут, когда мы будем возвращаться… Штурмовиков-то где будешь искать?
— Что ты предлагаешь?
— Просто обидно рисковать…
— А ты хочешь сам бить, да чтобы сдачи не получать? К сожалению, так всегда бывает… Всегда, да не всегда, — загадочно произнес Кудряшов и остановился, осененный какой-то мыслью. — Постой, а если я делаю разворот влево?.. Что вправо, что влево…
— Правильно, Джан, ни вправо, ни влево разворачиваться не будем. А куда денемся?
— Пошли обратно в штаб. Есть одна идейка.
«Идейка» состояла в том, чтобы на цель выходить не с юга, а с севера, в обход Ленинграда. Над Онегой, Ладогой, Карельским перешейком, Финским заливом. Нагрянуть с моря под прикрытием кронштадтских батарей, разгрузиться над целью и без задержки прямиком домой. Таким образом, над вражескими зенитками они появятся только один раз, да еще противник понадеется, что как пришли бомбить с моря, так и возвращаться будут в ту же сторону.
— Ну, «стратеги», — нахмурился начштаба. — Еще через Северный полюс придумаете летать. Вместо бомб хотите запас бензина возить?
— Нет, хватит и обычной заправки, — вмешался Румянцев. — Я делал прикидки по этой трассе. Мы же на дизелях летаем…
Конечно, новый вариант был более сложным с точки зрения организации операции и полетного времени занимал больше, но преимущества его были весомы.
— Жить захочешь, станешь и стратегом, — усмехнулся Кудряшов, когда стало ясно, что штаб дает добро.
Видимо, командованию понравилась не столько идея, сколько нестандартный подход, штабисты вдохновились и довели ее до совершенства. Бомбежка «Беззаботной» летчиками 36-й дивизии и еще двух соединений была организована четко. Цель обрамлялась прожекторным световым квадратом, который даже при плохой видимости хорошо был заметен с воздуха. Для ориентировки самолетов вдоль нашей передовой линии на дне окопов были зажжены костры. Над Кронштадтом и в Пулкове два мощных качающихся прожектора словно под уздцы вели бомбардировщиков. Там, где луч кажется летчику неподвижным, — створ. Достигнув перекрестья створов, самолет словно «вспухал», освобождаясь от груза: две тонны бомб в люке и еще 800 килограммов, что под крыльями, уходили в темноту…
Тех крупповских монстров, из которых гитлеровцы расстреливали Ленинград, можно было уничтожить лишь прямым попаданием, что маловероятно при ночных бомбежках с высоты. Однако установки эти представляли собой целые заводы с подъездными рельсовыми путями, тележками, лебедками и прочим хозяйством.
О результатах удара узнали на следующий день. Из Ленинграда сообщили: батарея замолчала. Это означало, что дьявольское производство в затруднении. Монстры молчали почти неделю, потом снова заговорили, принялись долбить город. Бомбардировщики провели новый налет все тем же маршрутом, и ленинградцы получили еще несколько дней передышки. И еще трижды налетали бомбардировщики на «Беззаботную», ставя заглушки гаубицам. По два-три раза за ночь летали на бомбардировку объектов в полосе прорыва блокады, где 18 января 1943 года южнее Ладожского озера был создан коридор шириной 8–11 км, через который Ленинград получал прямую сухопутную связь с Большой землей. Труднее было, когда они работали на Сталинград. Там линии окопов проходили на расстоянии броска ручной гранаты. Для обозначения своих тоже применяли костры, разложенные на дне окопов, и пересечения прожекторных лучей. Бомбы обрушивали прямо в световой крест.
Что-то случилось с немцами там, под Сталинградом. И дело не в том, что сил у них стало меньше, — наши потери были гораздо большими. По приказу Геринга в район Волги были переброшены асы ПВО Берлина «Трефовый туз» — самые искусные летчики-истребители Германии. Но наши летчики, быть может, раньше других почувствовали трещинку, появившуюся в характере завоевателей: меньше стало уверенности, инициативы, на какую-то неуловимую долю секунды замедленней реакция в воздушных боях, больше шаблона, чаще ошибки… Сложна техника авиационная. Еще сложней душа человеческая, так называемый «личностный фактор», от которого зависит столь многое при боевых вылетах.
Как помогали обрести уверенность и равновесие русские песни — широкие, светлые!.. Были у них на аэродроме гармони, и баяны, и гитары. Поэт-любитель сочинил немудрящую дивизионную песню про базу в Астафьево, про рев моторов и приказ «По самолетам!». Стихи сложились быстро, а с мелодией оказалось трудней. Взяли готовую, пели на мотив старинного шахтерского «Коногона», но с большей бодростью. Комдиву песня очень нравилась, он слушал ее с удовольствием и даже иной раз сам подтягивал припев.
Солдат-мотор
Небо называют пятым океаном. А что же радиоэфир? Это тоже океан, еще более таинственный, труднопостижимый. Здесь царят особые законы. И в этой стихии действуют свои первопроходцы, лоцманы, капитаны, спасатели, пираты. В годы войны эфир становился ареной борьбы не на жизнь, а на смерть. «Funkelspiel» (нем.) — «радиоигра» — прием, применяемый спецслужбами для организации провокаций, как правило, крупномасштабных. Во время Второй мировой войны «игры» практиковались при захвате неприятельских радистов, которых вынуждали работать под диктовку. Раздобыть радиста, шифры, коды, другие данные радиосвязи считалось важнейшей задачей. Непревзойденным мастером «радиоигры» считался начальник гестапо Генрих Мюллер. Только с советской разведкой он провел более ста крупных функельшпилей, причем нередко они завершались уничтожением разведгрупп и диверсионных отрядов. Особое значение придавалось службам радиоперехвата. Современные военные историки отмечают, что накануне войны, тщательно собирая обрывки русских радиопереговоров, абвер сумел обеспечить свою авиацию достоверной информацией о стратегической концентрации, численности, системе управления, организации и самолетном парке ВВС в западных районах.
Возможность организации противником прослушивания эфира и «радиоигр» учитывалась при организации ЦШПД — Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования. Начальником штаба был назначен Пантелеймон Пономаренко — инженер-путеец. Ему-то и предназначалось стать организатором «рельсовой войны». В конце августа 1942 года состоялось совещание командиров наиболее крупных партизанских отрядов и объединений. Среди прочих были там такие легендарные личности, как Дука, Дымников, Емлютин, Ковпак, Сабуров, Покровский, Ромашин, Матвеев, Шмырев, Козлов, Гузенко, Воропай.
На встрече с руководством страны, когда речь зашла о координации действий, командиры высказали единое мнение: если не будет надежной связи, то нет никакого смысла создавать и штабы союзных республик и областей. Ворошилов тут же заявил, что радиоузел партизанского центра с 1 августа уже действует, смонтированы мощные антенны, но сеть надо разворачивать самым энергичным образом, и предложил при затруднениях обращаться лично к нему в любое время дня и ночи.
В штате ЦШПД имелось даже отделение почтово-голубиной службы, которым руководил некто Орлов. Но крылатые курьеры и специально натренированные собаки могли обеспечить решение только локальных задач. Без постоянной радиосвязи эффективность партизанской войны многократно снижалась. По всей Москве срочно разыскивали радистов.
Службу радиосвязи, обеспечивавшую радиомосты между Центральным штабом и многочисленными партизанскими отрядами, возглавил Иван Николаевич Артемьев. До войны он работал в Особом техническом бюро по военным изобретениям, куда его прикомандировал еще Михаил Фрунзе. В ноябре 1925 года в Ленинграде на Комендантском аэродроме, испытывая взрывное радиоустройство, Артемьев чуть не угробил Ворошилова — тот, не предупредив, отъехал к телефону и возвращался прямо под взрыв. За Артемьева тогда заступились присутствовавшие при испытаниях оба брата Орджоникидзе.
Артемьев получил задание Ставки установить связь с каждым из участников совещания. По возвращении в отряды каждому командиру выделили по радисту, шифровальщику и по портативной радиостанции «Север» — пока в качестве запасной связи, но и она вскоре очень пригодилась.
Эта переносная, самая маленькая по тем временам приемопередающая коротковолновая радиостанция «Север» — «Северок» (первоначальное название «Омега») была дипломной работой студента-заочника Московского электротехнического института инженеров связи Бориса Михалина и предназначалась для геологов. В радиолаборатории ее, что называется, довели до кондиции. В апреле 1940 года образец был готов. Реконструированную модель назвали «Севером». К концу 1941 года в осажденном Ленинграде завод ежемесячно выпускал до 300 радиостанций, затем более 2000 штук в месяц, которые вывозили самолетами.
На «Севере» можно было работать в основном на ключе — телеграфом. Передача и прием велись на одних и тех же лампах. Размешалась рация в двух упаковках и в рабочем состоянии весила 9,9 килограмма. Для питания использовались сухие батареи, одного комплекта хватало на месяц. Рация обладала большой механической прочностью — не боялась толчков, которых невозможно избежать в боевых условиях. При мощности всего около 2,5 ватта в антенне, «Север» обеспечивал связь на расстоянии до пятисот километров, а при хорошем прохождении радиоволн — до шестисот-семисот. Но это при условии, что антенна была правильно развернута и работали опытные радисты.
Специалистов по радиосвязи для работы в ЦШПД набирали в госучреждениях, в первую очередь, естественно, в Наркомате связи, а также в Наркомате морского и речного транспорта, у военных моряков. Начальником приемного центра назначили Евгения Буряченко. Он раньше плавал старшим радистом на теплоходе «Циолковский», ходил в США, Канаду, Англию. В мае 1942 года судно было торпедировано и затонуло между островами Шпицберген и Медвежий. Радист держал вахту до конца, потом семь часов провел на обломке в холодном море. Был подобран английским траулером. В Рейкьявике в больнице отлежался. Вернулся на теплоходе «Старый большевик». По пути экипаж отразил несколько атак с моря и с воздуха. Буряченко наградили орденом Красной Звезды.
Работали в центре и знаменитые арктические волки, например, Николай Стромилов — участник челюскинской экспедиции. Он входил в первую пятерку советских людей, пролетавших над Северным полюсом, а в мае 1937 года в составе экипажа Молокова совершил там посадку. Стромилов принял первую радиограмму от папанинской дрейфующей экспедиции, работал на островах Рудольфа и Новая Земля, строил радиоцентр на мысе Шмидта.
Подготовкой и отправкой в штабы и отряды радиоаппаратуры и радистов занимались: из Бампроекта НКВД — Владимир Ярославцев, Виктор Ломанович, Анатолий Хотимченко, Борис Козлов, Серафим Копейкин, Василий Завидонов; из Гражданского воздушного флота — Николай Савельев; из дальней авиации — Павел Вишневский.
Радиоузел НКВД круглосуточно прослушивал эфир. Подвижные группы в отрядах оснащались в основном армейскими радиостанциями «РАТ», «РАФ», «РСБ», радиоприемниками «Чайка» и «КВ». Но их не хватало и для армии. Приходилось использовать маломощные 20–30-ваттные передатчики «Джек» и «А-19», а также малочувствительные приемники «УС-3С», «45-ПК» и другие.
В школу радистов принимали только добровольцев. Учились интенсивно, по 12–14 часов в сутки, причем по скользящему графику, поскольку на двести сорок курсантов поначалу имелось только три комплекта радиосредств и аппаратуру использовали круглосуточно. Иногда будили по тревоге среди ночи и зуммером по азбуке Морзе передавали контрольное сообщение, которое надо было расшифровать на слух. Через месяц-полтора они могли уже принимать по шестьдесят знаков в минуту, но это была лишь первая ступень. Курсанты обычно сами мастерили телеграфные ключи с особым регулировочным винтом, чтобы «не шлепать». Считалось, что когда хороший радист работает на ключе, со спины не должно быть видно, чем он занят.
Были оборудованы специальные кабины-тренажеры для создания помех — болтанки, тряски. Радистов берегли, их «почерку», чистоте и скорости передачи придавали особое значение, поэтому курсантам было запрещено заниматься тяжелой атлетикой, поднимать в руке груз более двенадцати килограммов. Не привлекались радисты и к частым в те годы авральным работам — рытью траншей, заготовке дров, разгрузке вагонов. Но общая физическая подготовка и марш-броски по тридцать километров были для них обязательны. Половину радистов составляли девушки без армейской закалки, поэтому Центр распространил приказ — радистов не привлекать к боевым операциям, использовать только по назначению. Но это условие не всегда можно было выполнить.
В первый период войны через линию фронта обычно проходили пешком с проводниками. Потом стали переправляться по воздуху — с посадкой или с парашютом. Парашютная подготовка шла под руководством майора Порфирия Полосухина. Радиомаяки не применялись, что серьезно осложняло работу штурманов. Использовали светосигнальную связь: конфигурацию костров — конверты, кресты, ромбы по три-четыре в линию плюс осветительные ракеты, фонари и прочее. Изменения в конфигурации заранее обусловливались. При направлении связных к подпольщикам практиковалась передача в радиосводке Совинформбюро условной фразы для подтверждения, что это свой человек, не провокатор. Немцы внимательно прослушивали эфир, совершали налеты, устраивали коварные ловушки. Так, в одну из ночей им удалось заманить на ложный партизанский аэродром и захватить сразу шесть самолетов У-2.
Командование вермахта распространило специальную инструкция карательным подразделениям — в первую очередь захватывать или уничтожать радистов. С этой целью засылали в отряды диверсантов. Радисты знали об этой охоте и, тем не менее, рвались в тыл врага, а в штабы шли неохотно, только подчиняясь приказу. Бывали случаи, когда разведчики прыгали с По-2 на бреющем полете без парашюта в снег, в воду.
Высококвалифицированные специалисты радиосвязи с опытом работы на трассе БАМа воевали в партизанских отрядах, авиации и наземных войсках. На Украине в соединении Наумова начальником узла связи был Б. Д. Козлов. Партизанской радиосвязью в Литве руководил А. Д. Хотимченко, в минском подполье — П. Ф. Вишневский. В легендарном партизанском соединении дважды Героя Советского Союза Федорова обеспечивали связь В. А. Ионов и С. А. Копейкин…
В сентябре 1942 года в брянские леса была заброшена группа радистов для организации связи с Москвой и между отдельными отрядами. Старшим группы Ярославцев назначил Виктора Александровича Ломановича (позывной «Вал»), потому что Вал был не только лучшим радистом довоенного БАМа, преподавателем спецшколы Центра по радиоделу, но и редкостным мастером-изобретателем. К тому времени на Брянщине сформировался настоящий партизанский край. Действовавшие там подразделения насчитывали около двадцати пяти тысяч бойцов. Партизанские владения простирались на 26 км в ширину и около 50 км в длину — более пятисот населенных пунктов. Командовал объединением бригад Герой Советского Союза подполковник госбезопасности Д. М. Емлютин, его заместителем был батальонный комиссар А. Л. Бондаренко — бывший секретарь Трубчевского райкома партии, начальником штаба — майор В. К. Гоголюк. При таком размахе объединение остро нуждалось в надежной связи.
Хорошо подготовленную и богато оснащенную группу Ломановича, в которую вошли радисты Пуля, Тряпкин, Есин, Елисеев, Матин, Адамсон, Афанасьева, Зайцева, Водяной, Земчихина в середине сентября самолетами забросили в район деревни Борки. Высадка совпала с началом карательной экспедиции против партизан. Однако это не помешало Ломановичу быстро наладить связь с Москвой, Ельцом, где располагалась база ЦШПД, с аэродромом базирования самолетов, летавших в этот край. Центральную радиостанцию смонтировали на трофейной автомашине. После того как карательная экспедиция провалилась, Вал оборудовал стационарный радиоузел и приступил к развертыванию сети.
В феврале — марте 1943 года, в период весеннего наступления Красной Армии, на партизанском узле действовали четыре радиостанции. Две работали с Большой землей, две с бригадами. Постоянная радиосвязь — не менее двух раз в сутки — поддерживалась с самыми отдаленными отрядами, разбросанными на территории в двенадцать тысяч квадратных километров. Для ближних отрядов оборудовали проводную связь. Только внутреннее хозяйство насчитывало девятнадцать точек радиосвязи, не считая связи с Центром и аэродромами далеко за линией фронта. Некоторые слабые станции поддерживали связь с помощью антенны «бегущая волна» и других хитростей, освоенных Ломановичем и Тряпкиным еще на БАМе. Работы стало так много, что пришлось создать специальный Шифровальный отдел, так как радисты сами не управлялись. Емлютин был доволен — теперь все отряды, вся огромная территория оказались у него под контролем. А Центр уверенно планировал крупные операции, которые могли повлиять на положение на фронте.
Однако поддерживать бесперебойную связь было непросто. Батарей питания не хватало. Из подручных материалов конструировали генераторы с ручным приводом или ножным, типа велосипеда. Пока радист — в основном это были девушки, ученицы Ломановича — работал на ключе, помощник (он же охранник и носильщик аппаратуры) до изнеможения крутил ручку. Устройства эти получили насмешливое название «солдат-мотор». Все они имели ремни, их носили как рюкзаки.
Однажды вечером в землянку к начальнику связи Ломановичу прибежала взволнованная радистка Зинаида Афанасьева: «Товарищ командир, немцы меня пеленгуют!..»
Девушка была невысокая, поэтому могла стоять в землянке во весь рост. Начальник связи коротко взглянул на нее и снова занялся паянием каких-то проводков. Весь стол перед ним был завален трофейным радиотехническим хламом: лампами, сопротивлениями, конденсаторами. Сообщение радистки Афанасьевой — девушки серьезной, ответственной — удивило и встревожило Ломановича, хотя виду он не подал.
«Ты садись, — кивнул он на скамейку. — Чаю хочешь?.. Ну, рассказывай, кто там тебя пеленгует?» «Немцы, Виктор Александрович, — горячо зашептала Зина. — Как только выхожу на связь, так они начинают обстреливать наше расположение. Из минометов. Сегодня уже в третий раз. Это точно не совпадение».
«В самом деле? — начальник приблизил проводки к свету коптилки, пытаясь получше разглядеть спайку. — Ничего, Зина, разберемся с твоими пеленгаторами».
Глядя на невозмутимого командира, молодая радистка начала успокаиваться, хотя кружка в ее руке все еще подрагивала. Зинаиде Афанасьевой было в то время восемнадцать лет, начальник связи объединения, знаменитый Вал казался ей мудрым и всезнающим — ему было уже двадцать девять.
На самом деле Ломанович озаботился всерьез. Он знал, что радиоразведку немцы ведут скрупулезно, фиксируя не только почерк, но и настроение корреспондента: веселое, угнетенное или возбужденное. Их излюбленный прием — функельшпиль, радиоигра, попытка использовать пленных или обманом войти в контакт с партизанским радистом. Чаще всего абверовских радистов выдавал почерк. Но чтобы пеленговать?.. До сих пор пеленгация в диапазоне коротких волн показывала не точку, а лишь район, из которого ведется передача. Графика выхода в эфир немцы знать не могли. Наши радисты — люди проверенные, надежные, предательство исключалось. А вот если у немцев появились какие-то новейшие технические возможности точной пеленгации, об этом необходимо срочно сообщить в Центр. Еще лучше — провести операцию по захвату хитроумной аппаратуры…
С такими тревожными мыслями Ломанович отправился в разведку. Место, откуда наша радистка вела радиообмен, находилось на опушке леса неподалеку от реки Навли. Берег надежно удерживался партизанами, к тому же подходы были заминированы, и немцы туда давно уже не решались соваться. Их воинская часть располагалась в поселке на противоположном берегу. Ломанович скрытно подобрался поближе к берегу и стал наблюдать в бинокль, изредка поглядывая на часы.
Приближалось время сеанса радиосвязи у Зины Афанасьевой. Вскоре в тишине со стороны поляны донеслось едва слышное тоненькое, жалобное постанывание. Тотчас на немецкой стороне произошло какое-то движение, последовал жесткий хлопок, в воздухе пропела мина и взорвалась в лесочке, за ней вторая, третья, — мины летели в сторону Зины, откуда донесся тоскливый звук.
Ломанович все понял. Смеясь и чертыхаясь, начальник связи отползал от берега. Никакая это была не пеленгация. Просто под крепкой рукой партизана скрипела разболтанная втулка генератора, «солдат-мотора» и немцы, тоже знакомые с этой нехитрой машинкой, заслышав характерный звук, открывали огонь из минометов. Ломанович распорядился; чтобы на время радиосеанса бойца-крутильщика прятали в землянку, и «пеленгация» прекратилась. Конечно, такой примитив Ломановича не устраивал. На дорогах было объявлена охота за аккумуляторами. Вскоре запас был создан, но тут же возникла другая проблема — подзарядка. В распоряжении партизанского радиоцентра оказался только генератор переменного тока, а нужен постоянный ток. Где взять преобразователь? Надо помнить, что все это происходило в дотранзисторную эру, поэтому задача, с которой сегодня справится каждый любитель-школьник, в брянском лесу 1943 года выглядела почти неразрешимой. Однако с помощью трансформаторов, реле, добытых из немецких танков, и нескольких гасящих сопротивлений Ломанович создал преобразователь. Динамо-машину сняли с немецкого же подбитого самолета, ее использовали для зарядки стартерных аккумуляторов партизанских автомобилей, танков и самолетов. Да и тяжелая техника, в том числе орудия, появилась к этому времени у брянских партизан. Были даже кинопередвижка, оборудованная на трофейном грузовике, и своя типография, наладившая выпуск газеты «Партизанская правда».
Неугомонный Вал собрал звукозаписывающий аппарат и наладил производство граммофонных пластинок. Гибкие патефонные пластинки с механической записью популярных песен, радиообращений Сталина-вождя, наиболее впечатляющих сводок Совинформбюро изготавливались из аэрофотопленки, снятой со сбитых фашистских самолетов-разведчиков. Продукция «Партизанграмтреста» пользовалась огромным успехом в отрядах и у местных жителей.
Разросшееся хозяйство требовало все больше горючего. После боевых операций из баков трофейных машин много топлива не сольешь. Самолетами с Большой земли бензина не навозишься. Наладили массовый сбор сосновой живицы, которую потом перегоняли в скипидар. Настоящий бензин использовался только при запуске двигателей, а дальше переводили на скипидар. Разумеется, пришлось повозиться с карбюраторами и системой зажигания.
По ночам к партизанам часто прилетали самолеты, одно время в распоряжении Емлютина даже находилось звено По-2 для оперативной работы с отдаленными отрядами.
Однако все кончилось разом. В ходе подготовки наступательной операции «Цитадель» на Орловско-Курской дуге германская армия взялась подчищать свой тыл. На разгром партизанского объединения Емлютина были брошены полнокровные фронтовые дивизии — с танками, самолетами, артиллерией. Выбитые со своих баз партизаны уходили из-под ударов мелкими группами. Вырваться из огненного кольца удавалось не всем. Но и оставшиеся в живых были изнурены и жестоко голодали. Чудом — под покровом тумана — удалось выскочить из окружения штабной группе. Поседевший в одну ночь Вал едва держался на ногах.
Бамовский функельшпиль
Получилось так, что не только боевые части, но и сам штаб объединения брянских партизан оказался рассеченным. Шифровальный отдел во главе с Поповым, как позже выяснилось, тоже уцелел, но каратели загнали его в такое место, откуда он никак не мог связаться с командованием. Ситуация складывалась досадная: у шифровальщиков не было рации, а у Ломановича и его бамовского друга Алексея Тряпкина рации были, но не было шифровальных кодов. Радисты сумели единственное — со всеми возможными предосторожностями, потому что немцы прослушивали эфир, сообщили Центру: штаб уцелел, пропаганда врет про уничтожение партизан, значительным силам удалось вырваться из кольца. Но ни об отчаянных своих нуждах, ни тем более о местонахождение штабной группы открытым текстом указывать было нельзя. Сами немцы не обольщались по поводу своей победы над партизанами и пытались нащупать штаб, чтобы обезглавить объединение.
Во время скитаний по лесам к штабной группе прибился человек, который назвался Вороновым. По рассказам Воронова, его должны были забросить в другой партизанский отряд. Но по пути самолет сбили, ему удалось выброситься с парашютом. В попытках перейти линию фронта он долго нащупывал окно, прятался от немцев и полицаев. Германские и венгерские войска стояли плотно, и ему пришлось петлять, отступая постепенно к северу, пока, наконец, не попал в район действия брянских партизан. Местные жители помогли ему выйти на группу Бондаренко. При Воронове была рация и самое главное — шифры — скромная книжечка и рулончик бумаги с цифрами.
На войне всякое возможно, но верить на слово нельзя. Нередко бывало, что фашисты засылали своих агентов в партизанские отряды с самыми коварными заданиями. Воспользуешься шифром, а через два часа налетят штурмовики и разнесут в клочья партизанскую базу.
Радист и сам понимал, что доказательства у него слабые. К Воронову приставили охрану с приказом в случае чего в живых не оставлять. Ему оставалось надеяться, что брянские партизаны передадут сообщение в центр, и все разрешится. Радист держался молодцом, несмотря на то, что жизнь его висела на волоске. Никто из партизан не мог твердо сказать — виновен был этот человек, либо чист, как ангел небесный. Поэтому как-то неловко было с ним общаться. Только двое — парень и девушка из взвода охраны, постоянно сопровождавшие Воронова, помогавшие носить рацию, батареи и рогатульку со смотанной антенной, говорили с ним спокойно, обыденно, как будто не было у них строжайшего приказа глаз не спускать и пристрелить подопечного, если группа попадет в безвыходное положение. Честно делили с Вороновым сухари и партизанскую тюрю из одного котелка, прихлебывали по очереди ложками хлеб с водой. Со стороны посмотреть — крестьянская идиллия: точно два брата и сестра на сенокосе.
Во время блуждания по лесам партизаны отощали до крайности. Питались чем придется: случайно подстреленными зверюшками, грибами, иногда — пойманной рыбкой, а в основном ягодами, корой, какими-то корешками, варили кожаные ремни. Начальник связи Виктор Ломанович, на котором брюки можно было складывать вдвое, выяснил, что лесная малина особенно питательна. Но она встречалась редко.
Как-то раз Вал в надежде найти что-нибудь съестное вышел на поляну, сплошь усеянную ярко-рыжими грибами — лисичками. Он обрадовался такой удаче, стал срывать грибы и класть в рюкзак, потом стянул с себя рубаху, завязал ворот, рукава и, не обращая внимания на комаров, тотчас облепивших спину, продолжил сбор урожая. Потянулся было к очередной «семье» лисичек, раздвинул траву — и отпрянул, как ужаленный. Грибы росли на полуистлевшем трупе солдата. Ломанович пригляделся: вся поляна была усеяна проросшими густой травой останками тел, обрывками шинелей, ботинками, обмотками. Это были наши, красноармейцы, погибшие здесь два года назад. Немцы не удосужились их даже закопать, собрали только оружие и ушли дальше на восток.
Когда Вал, подавленный увиденным, вернулся в лагерь, его богатая добыча вызвала всеобщий восторг. Голодные партизаны тут же сварили грибы и съели. Ломанович от своей доли отказался, сославшись на то, что расстроился желудок. Живот у него действительно болел от голодных спазмов. Но пересилить себя, притронуться к лисичкам не смог.
Однажды группа нарвалась на немецкий обоз и вступила в огневой контакт с его охранением. В суматохе боя радист Воронов без разрешения подобрал автомат и показал, что неплохо владеет оружием. После короткой перепалки обе стороны разошлись. Партизаны, за которыми осталось поле боя, наскоро порубили туши убитых лошадей. Подхватывали на плечи куски мяса, сколько могли унести, и — бегом в чащу, путая следы и спеша убраться подальше, пока не налетела авиация. Автомат у Воронова приняли молча, но этот эпизод ровным счетом ничего не менял в его судьбе. Только лишний раз подтвердилось, что человек он хорошо подготовленный, стало быть, опасный. Нельзя было исключить, что история с шифрами — это какая-нибудь дьявольская затея абвера. Немцы уже четвертую неделю гоняли группу по лесам. Возможно, они знали, что группа штабная и что есть рация, вот и могли подкинуть такую наживку в виде заблудившегося радиста.
А помощь была необходима, прежде всего для раненых и больных. К тому же партизаны нуждались в боеприпасах для «рельсовой войны». Ломанович решил все-таки начать со своим Центром функельшпиль. Он выждал время, когда на сеансе телеграфной связи появился коллега по бамовским изысканиям Василий Завидонов. Морзянку друга он знал очень хорошо. У Васи цифра «7» выходила чуть затянутой, звучала эдак жалостливо, «Дай-дай закурить», и еще было несколько характерных штрихов в его «музыке». Вал нахально влез в эфир и открытым текстом отстучал следующую короткую радиограмму:
«Гвоздевскому. Группа Попова отсутствует. Нуждаемся восстановлении связи. Клочко».
И конечно, Завидонов на почерк Вала и на фамилию бывшего своего главного начальника, грозного генерала Гвоздевского прореагировал как надо. Немедленно принял радиограмму и помчался к начальнику связи Центра Ярославцеву, старому другу Ломановича. В Центре безо всякого кода поняли сообщение как приглашение к радиоигре. Для них стало ясно: упоминание о Гвоздевском — это указание на тему игры — бамовская фактура. Попов — фамилия очень распространенная, но в данном случае реальная — речь явно о Попове — начальнике шифровального отдела партизанского объединения Емлютина. Клочко на БАМе был начальником аэросъемочной экспедиции, другом и начальником Ломановича, но сейчас он где-то на фронте, а не на БАМе. Значит, под этой фамилией выступает сам Ломанович. А что означает фраза: «Нуждаемся в восстановлении связи»? Рация-то работает. Тогда в чем дело? Вряд ли это просто жалоба на трудные обстоятельства. Вероятно, Ломанович намекает на то, что у него есть какое-то конкретное предложение.
Вскоре на условленной волне мощная станция Центра передала радиограмму, составленную самим Ярославцевым не без артистизма, в полном соответствии с волевым стилем генерала Гвоздевского:
«Начальнику экспедиции Клочко. Срочно сообщите, в каком положении находятся геодезические отряды, какими аэроснимками они пользуются. Нужна ли им помощь средствами Кормановского». И подпись: «Гвоздевский».
Тут еще проще. «Аэроснимки» — это, безусловно, шифры, ведь процесс обработки аэрофотоснимков так и называется — дешифрированием. Кормановский же до войны был начальником авиагруппы на БАМе, в его распоряжении находилось около тридцати самолетов. То есть телеграмма означала следующее: «Сообщите о состоянии отрядов, наличии каких-либо шифров, нужна ли помощь авиацией».
Ломанович подтвердил необходимость в помощи «средствами Кормановского», а также назвал номера шифров, полученных от радиста Воронова. Москва вскоре ответила, что таких шифров в Центре нет. Приблудного радиста Воронова тут же взяли под прицел, и он пережил несколько жутких часов. Между тем Центр вошел во вкус игры и стал дознаваться, продолжил расспросы: «Каким трестом выполнялась аэросъемка?»
Со слов Воронова ответили: «Украинским трестом».
Центральный штаб немедленно связался с Украинским штабом партизанского движения. Оказалось, действительно, есть такие шифры. Радиста Воронова тотчас освободили и начали сеансы связи по его шифрам.
Если даже немцы в конце концов, углубившись в историю БАМа, и докопались до смысла этой нехитрой игры после того, как связь была установлена по шифровой системе, это уже не имело значения. Наши шифры имели высокую степень надежности.
Связь была восстановлена в полном объеме, к партизанам пошли самолеты с грузами — боеприпасами, продовольствием, мощными рациями, с диверсионными группами, раненые были отправлены в госпитали. А вскоре Ломанович вместе с отборным диверсионным отрядом знаменитого Дуки направлен был обеспечивать связью взрывников — рвать мосты вокруг Брянска. Герой Советского Союза Михаил Дука — человек редкой отваги — еще в августе 1941 года перешел линию фронта с целью разведки и диверсии в глубоком тылу врага. Накануне праздника 7 ноября он устроил дерзкую крупную акцию в центре оккупированного Орла. Прославился тем, что простой подрыв моста без проходящего по нему поезда считал браком в партизанской работе. Развертывалась задуманная Генштабом широкомасштабная «рельсовая война». которая парализовала коммуникации противника, сковала возможности его маневров и ощутимо сказалась на всем ходе величайшей битвы на Орловско-Курской дуге.
«Джентльмены, запускайте моторы!»
Когда от двух полков АДД, базировавшихся на одном аэродроме, осталось семь экипажей и шесть машин, Летчиков отправили в Сибирь для пополнения личного состава и получения новых самолетов. В Красноярске экипажам объявили, что летать они теперь будут на американских бомбардировщиках Б-25, которые должны со дня на день прибыть по воздушной эстафете Аляска — Сибирь, или АЛСИБ. Перед Кудряшовым, как и перед другими командирами, стояла еще задача подобрать в экипаж так называемого правого летчика, поскольку на Б-25, в отличие от Ер-2, предусматривался не один, а два пилота.
На аэродроме жизнь кипела. Здесь было много летчиков, прибывших на пополнение, переформирование, и совсем молодых — из училищ, и обстрелянных — из госпиталей. Важно было не ошибиться в выборе. Несколько особняком держались перегонщики, уже освоившие американские машины, которые тоже рвались на фронт, но на них распространялось строгое «табу». Среди них были универсалы, которые овладели тремя и более типами американских истребителей и бомбардировщиков.
Линия эта — АЛСИБ, воздушная перегоночная трасса протяженностью 6306 километров, создавалась в обстановке строжайшей секретности. 9 октября 1941 года Государственный комитет обороны постановлением № 739сс (литеры «cc» после номера означают «совершенно секретно») поручил строительство и эксплуатацию Особой воздушной линии Главному управлению Гражданского воздушного флота. Генерал-майору авиации В. С. Молокову (Золотая Звезда № 3), хорошо знавшему эту территорию, был вручен мандат, подписанный Сталиным.
Еще в августе 1941 года «арктические волки» Черепичный и Аккуратов получили в Генеральном штабе Красной Армии особое задание — доставить в США большую группу военных специалистов, которым предстояло договориться с американцами о поставках военной техники по ленд-лизу. Первоначально намечалось лететь на запад, через Англию. Утром 31 августа 1941 года в обстановке строжайшей секретности две летающие лодки «Консолидейтед», закупленные перед войной в США для ледовой разведки, поднялись от Химкинского речного вокзала. Однако в нарушение приказа курс они взяли не на запад, а на восток. В Генштабе изменение маршрута обсуждать не стали. Рассудили так: главное — выполнить задание. Арктику они знали хорошо, лодки надежные, хорошо оснащенные, прекрасно держатся на воде, в воздухе могут держаться до суток, но скорость и высота недостаточны — над Европой они стали бы легкой добычей для истребителей и зениток.
На борту флагманской машины Черевичного были Громов, Юмашев, Байдуков. Через семнадцать часов совершили посадку в Тикси, потом в Анадыре, затем летели через Ном на Аляске, прошли вдоль Канады. У острова Ванкувер машины попали в грозу, и командир предложил лететь на Сиэтл. Более двух недель провели в Сиэтле. Связи с родиной не было, о событиях на фронте узнавали через посольство. 17 сентября получили добро на возвращение со специальным грузом. 22 сентября тем же маршрутом приводнились в Химках. Аккуратов воспользовался случаем и добился перевода — ушел из Главсевморпути в действующую армию. Летал на Пе-8 в тылы противника, выполнял спецзадания на Ли-2, в том числе совершил пятьдесят девять рейсов в осажденный Ленинград. Папанин еще долго на него гневался: «Аккуратов дезертировал на фронт!»
Успешный арктический полет подтвердил правильность решения. Группа видных специалистов немедленно занялась уточнением направления перегоночной трассы, изысканиями и подготовительными работами. Начальник строительства трассы Д. Е. Чусов до войны работал заместителем начальника Восточно-Сибирского (Иркутск) управления ГВФ. В ноябре 1941 года начались строительные работы на уже имевшихся аэродромах — в Красноярске и Якутске. Затем развернулось строительство базовых аэродромов в Киренске, Сеймчане и Уэлькале, а также промежуточных и запасных — Алдан, Олекминск, Оймякон в Якутии, Берелех на Колыме, Мирково на Чукотке. Строили их организации ГВФ, ВВС и Наркомата обороны, а также могущественный Дальстрой НКВД с использованием труда заключенных. Технику зачастую арендовали у Дальстроя, Якуттранса, в ближайших МТС. Мобилизовали население, автомашины и подводы и в порядке трудовой повинности лошадей, принадлежащих населению. Так, Игаркский лесопильно-перевалочный комбинат отгрузил (на Енисее) 4000 кубометров бруса для деревянной решетки, которую укладывали как основу покрытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту Уэлькаль на берегу Берингова пролива. К октябрю 1942 года на трассе ввели десять аэродромов. Но оборудованы они были еще слабо.
Тем временем в городе Иваново формировалась целая перегоночная авиадивизия. Ее командиром назначили 36-летнего полковника, знаменитого летчика И. П. Мазурука. Сформировали пять перегоночных авиаполков. Большую часть личного состава повезли в Красноярск эшелоном по железной дороге, а один полк транспортными «Дугласами» перебросили через Берингов пролив в город Фэрбенкс на Аляске.
Эшелон пришел в Красноярск 1 октября 1942 года. Оттуда авиаторов развезли самолетами по аэродромам базирования — в Уэлькаль, Сеймчан, Якутск, Киренск. Управление трассы и штаб перегоночной дивизии разместились в Якутске.
7 октября 1942 года в аэропорту Фэрбенкс прозвучала команда «Джентльмены, запускайте моторы!» — первая группа из семи истребителей Р-40 «Киттихаук» вылетела в Россию. Первопроходцам пришлось нелегко. Из-за непогоды и технических неполадок добирались до Красноярска больше месяца, потеряли два самолета.
Способ перегонки был принят эстафетный. Каждый полк действовал только на своем участке. Перелет истребителей вели группами, клином, вел их лидер-бомбардировщик. А основная часть бомбардировщиков (Б-25 «Митчелл» и А-20 «Бостон») и транспортных самолетов Си-47 «Дуглас» перегонялась обычно одиночно.
Одновременно с перегонкой шло освоение американских самолетов и трассы, которая была еще слабо оборудована радионавигационными средствами, и сеть метеорологических постов тоже была редкая. Летчиков подстерегали туманы, снегопады, низкая облачность, летом — густые дымы таежных пожаров. Над горными хребтами (один Верхоянский чего стоит!) приходилось летать на больших высотах, в кислородных масках. Почти на всех истребителях не было отопления, поэтому четырех-пятичасовой полет с обмерзшими стеклами кабины и без автопилота становился для летчиков серьезным испытанием. Американские самолеты в сильные холода «мерзли», мороз превращал масло в камень, лопались резина и шланги — выходила из строя гидравлика. Подвесные баки, без которых не дотянуть до ближайшего аэродрома, нарушали аэродинамику, усложняли пилотирование истребителей. Неудивительно, что на первый год перегонки пришлось наибольшее количество летных происшествий, катастроф и потерь: пятьдесят восемь из восьмидесяти одного самолета, потерянного за три года действия АЛСИБа.
Каждые два-три дня шли секретные оперативные сводки в Москву о поступлении, наличии, перегонке и сдаче американских самолетов, летных происшествиях и потерях, перевозке и наличии импортных грузов, метеоусловиях. Их получали маршал авиации Новиков, генерал-полковник авиации Фалалеев, командующий АДД Голованов. Ежемесячные доклады направлялись членам ГКО Берии и Микояну, наркому внешней торговли. Наркомвнешторг по заявкам трассы закупал в США различное оборудование, технику, материалы, и доклады Микояну нередко заканчивались просьбами: закупить, выделить, обеспечить…
Полеты самолетов велись на американском высокооктановом бензине, который завозили на транзитные аэродромы летом водным путем. Отечественные грузы, в основном продовольствие и горючее для наземных энергоустановок, везли на север морем из Владивостока, а также из Иркутска по рекам и трактам. Основными пунктами завоза были морские порты Тикси, Провидения, Анадырь, бухта Нагаева (Магадан), Амбарчик (устье Колымы), залив Креста (Уэлькаль). Двадцать шесть пунктов располагались по рекам — Ангаре, Лене, Алдану, Витиму, Олекме, Омолону, Колыме, Анадырю и другим. За 1943–1945 гг. импортного оборудования, техники и горючего поступило на трассу через арктические порты 135,6 тысячи тонн. Часть груза шла по трактам: Иркутск — Качуг, Большой Невер — Якутск, Ангаро-Ленскому и знаменитому Колымскому.
Авиалиния АЛСИБ использовалась и как грузовая, международная пассажирская и дипломатическая. Затри военных года по ней перевезли 18 753 тонны оборонных грузов и 319 тонн почты. Основные грузы — опытное оборудование, стратегические материалы, образцы новейших вооружений — для испытаний и исследований в Москве.
Во время войны почти все грузы имеют оборонное значение. Вот типичный перечень перевозимого по АЛСИБу: автозапчасти, спецпровод, сверла, протезы, иголки для швейных машин, запчасти для часов, авиаприборы, аммонал, продовольствие, оборудование для госпиталей, медикаменты, в том числе дефицитный пенициллин, зимние шапки, пишущие машинки, техническая документация по нефтепереработке… Для Наркомата мясомолочной промышленности — инкубационные яйца. В сводке не указано, какой птицы, но требовалось каждые четыре часа измерять температуру в грузовых отсеках. Особая статья — международная и дипломатическая почта. В международную почту входили заграничные книги, бюллетени, каталоги, журналы, газеты, грампластинки, пропагандистские кинофильмы.
Пассажиров тоже насчитали немало — 128 371 человек. Хотя львиную долю составляли возвращавшиеся на свои базовые аэропорты авиаторы-перегонщики, 17 322 пассажира, в основном международных, были платными. Из перевезенных 18 753 тонн грузов платными были 9125 тонн. Ежегодные доходы АЛСИБа возросли с 3,9 до 24,8 миллиона рублей.
Как правило, до Красноярска пассажиры добирались поездом, а там дожидались места в «Дугласе». По представлениям военного времени, это был безопасный путь. Перелет от Москвы до Фэрбенкса на Си-47 занимал в среднем шесть-семь суток. Летали представители заводов и главков, писатели, врачи, ученые. В ноябре 1943 года по АЛСИБу в Вашингтон доставили Патриарха всея Руси Алексия. Он прибыл в США с важной миссией содействовать открытию второго фронта. Капитан Колмаков, командир самолета, застигнутого непогодой, почти при нулевой видимости посадил «Дуглас» в Маркове на Чукотке. Патриарх размашисто перекрестился: «Это искусство, воистину искусство!..»
По АЛСИБу летали послы СССР в США Уманский, Литвинов и Громыко, который просидел однажды трое суток в Уэлькале из-за непогоды, посол в Великобритании Гусев и посол в Мексике Зарубин, консул в Нью-Йорке Киселев. В мае 1944 года в СССР прибыл вице-президент США Генри Уоллес, специально присланный Франклином Рузвельтом в инспекционную поездку по нашему северо-востоку и Сибири. Летали и дипломаты других стран.
Попутно из Магадана доставляли в Красноярск золото для переработки, обслуживали золотые прииски, возили стратегическое сырье — слюду из Витима и никель из Норильска. Только никеля для танковой брони было перевезено 1500 тонн» Потребность в никеле была так велика, что, например, немцы через свою агентуру в странах Латинской Америки собирали никелевые монеты и мешками на подводных лодках вывозили на переработку.
К концу войны АЛСИБ превратился в первоклассную по тем временам трассу. Собственно, это была целая система: пять трасс, опоясывавших Восточную Сибирь. Сеть насчитывала тридцать аэродромов и аэропортов, из них двадцать; восемь вновь построенных. Всего было сооружено 274 здания, в том числе три ангара, четыре аэровокзала и пять гостиниц.
В Красноярске самолеты, поставлявшиеся по ленд-лизу, принимала специальная комендатура ВВС Красной Армии. Бомбардировщики и транспортные «Дугласы» продолжали путь к фронту по воздуху, а истребители со снятыми крыльями везли на запад по железной дороге. За три года — с октября 1942 по октябрь 1945-го — пилоты 1-й Краснознаменной перегоночной авиадивизии ГВФ перегнали по АЛСИБу 8094 американских самолета. Потери за это время составили восемьдесят один самолет, при этом погибли сто пятнадцать перегонщиков…
Американский бомбардировщик Б-25 Кудряшову показался компактным, аккуратным, но по сравнению с Ер-2 очень уж маленьким.
Б-25 «Митчелл» по прозвищу «Милашка»
Американский средний бомбардировщик В-25 Mitchell впервые поднялся в воздух 19 августа 1940 года. Назван в честь американского генерала 1920-х годов Вилли Митчелла — теоретика «господства в воздухе». За то, что машина была легкой и не слишком строгой в управлении, пилоты прозвали Б-25 «Милашкой». Основное предназначение — фронтовой бомбардировщик. Всего было выпущено 5815 таких машин.
Экипаж состоял из шести человек: двух пилотов, штурмана, бортмеханика, двух стрелков. Компоновка самолета — свободнонесущий моноплан с разнесенным оперением. Б-25 обладал крепким корпусом. Имел шасси с носовой стойкой. Использовались два мотора Райт по 1350 л. с. (в дальнейшем до 1700 л. с.) с винтами-автоматами, современное навигационное оборудование, сильное оборонительное вооружение: спаренные крупнокалиберные пулеметы.
25 августа 1942 года — через полгода после разгрома американской морской авиации в Перл-Харборе — шестнадцать самолетов Б-25, взлетев с палубы авианосца, совершили налет на Токио. Вернуться, сесть на палубу они уже не могли. Вынужденную посадку совершали в СССР и Китае. Летчики спасались в основном с парашютами. Все машины погибли. Из семидесяти пяти человек команды пятеро летчиков погибли, десять попали в плен, остальные вернулись в США. На тихоокеанском театре Б-25 хорошо показал себя как штурмовик и охотник за кораблями противника. Шесть крупнокалиберных пулеметов создавали лавину огня. На отдельных самолетах ставили пушку, применяли и как торпедоносец, подвешивая торпеду в полуоткрытом люке.
По ленд-лизу СССР получил восемьсот шестьдесят один Б-25 разных модификаций. Вначале «Митчеллы» шли окольными путями в основном через Иран — около ста двадцати боевых единиц. Их вели гражданские экипажи из компании «Пан Американ» из США через Бразилию, Атлантический океан, Ближний Восток. Но с октября 1042 года самолеты доставлялись по сибирской трассе — АЛСИБу.
В качестве фронтового бомбардировщика Б-25 на Западном фронте, где ПВО обеих противоборствующих сторон была более развитой, оказался менее эффективным и более уязвимым, чем Пе-8, зато в качестве дальнего бомбардировщика (с дополнительным бензобаком) Б-25 потеснил даже наш Ил-4.
Б-25 в музее в Монино.
С первого взгляда «Милашка» действительно казалась совсем маленькой по сравнению с теми бомбардировщиками, на которых бамовцам приходилось летать. Впечатление обманчивое и происходило оттого, что стоял Б-25 на шасси с передней стойкой. При взлете и посадке обзор у летчика здесь гораздо лучше. Ознакомившись поближе с новой машиной, бамовские летчики с удовлетворением отметили хорошее оснащение самолета. Правда, локатор не был установлен — хотя гнездо для него было предусмотрено, сами приборы отсутствовали. Должно быть, их не успевали производить. Жаль, конечно, но бамовцы — народ не избалованный. Зрение, осмотрительность, интуиция заменяли им многие приборы.
Машина, как и говорили перегонщики, оказалась легкой в освоении. С американской системой мер — футами, дюймами, галлонами — разобрались быстро, а для начала запаслись переводными таблицами.
Экипаж также складывался крепкий. Самыми опытными оказались воздушные стрелки Алексей Чуркин, Дмитрий Медведев, Иван Дерюжков — они воевали чуть ли не с первого дня. Кудряшов с Румянцевым тоже не новички — успели сделать не менее сорока боевых вылетов. Не хватало только правого летчика. И тут среди молодых пилотов, рвавшихся на фронт, встретился им летчик-казах Кусан Саденов.
Смышленый и старательный Кусан сразу всем понравился. Ранним утром в Красноярске, пока пилоты прогуливались по полю аэродрома, Саденов без лишних слов, надев старый комбинезон, расчехлил моторы, вычистил гондолы, подтянул ключами гайки, короче, навел полный порядок в своем хозяйстве. Когда прибыли техники, делать им было практически нечего.
Полковой инженер признался Кудряшову:
— Слушай, Костя, шестнадцать лет я в авиации, а такого не видел, чтобы второй пилот так технику любил и гондолы вылизывал…
— Это из нашего экипажа, — с гордостью объявил Кудряшов, как о деле давно решенном, и крикнул молодому пилоту по-казахски: — Саламат сызба, Кусан. Калкалай?..
— Здравствуйте, командир, — почтительно ответил Саденов, вытирая ветошью руки. — Дела идут хорошо.
Кудряшов искренне радовался, что нашел отличного напарника. Он знал за собой большой недостаток. В горячей ситуации порой увлекался и был способен на авантюрные решения, мог допустить грубую ошибку — а если она окажется непоправимой? Это казалось невероятным: летает прекрасно, а иной раз такой фортель выкинет…
В молодом казахе командир распознал твердый характер и прежде всего выдержку, которой ему самому порой недоставало. У Саденова к тому же оказалось исключительно острое, просто орлиное зрение. А в ночном полете над вражеской территорией важнее всего увидеть противника первым. Это означало выжить и выполнить задачу. Радиолокационные станции тогда были несовершенны, и вероятность второй встречи в небе практически равнялась нулю.
Саденов иной раз за полкилометра и даже дальше различал в темноте силуэт истребителя-перехватчика.
— Смотри, командир, самолет, — без малейшего волнения в голосе, как будто с удивлением докладывал он Кудряшову.
— Где? Не вижу.
— Вон, вверху справа…
— Точно, он! — И тяжелая машина срывалась в крутой вираж, уходя от опасности в облака, в черноту ущелий. На такие штуки Кудряшов был великий мастер. Главное — увидеть первым.
Позже Кудряшов не раз хвалил себя за верный выбор. Саденов стал для него не только надежным помощником, но и жестким контролером и верным товарищем.
Однажды после бомбардировки, с пробитыми в нескольких местах плоскостями, они возвращались, усталые, на аэродром Астафьево. Самолет вышел на посадочную прямую, но перед самой полосой резким порывом ветра машину отнесло в сторону. Надо было подниматься и повторять заход. В тот момент, когда бомбардировщик начал набирать высоту, Кудряшов вдруг непроизвольным движением убрал газ на себя, совсем выключив подачу смеси. Кусан тотчас ударил командира по руке, да так, что «барашек» с рычага вылетел.
Штурман закричал, обеспокоенный:
— Что там происходит у вас?
Кудряшов не ответил, он молчал, пораженный своей оплошностью.
— Да вода попала в мотор, — недовольно отозвался Саденов, не глядя на командира. — Отключили, на одном будем садиться.
Ничего не сказал ему потом Кудряшов. Молчал и Саденов, только отыскал далеко закатившийся «барашек» и приладил на место.
В действующей армии у бамовских летчиков оказался могучий покровитель — Сергей Алексеевич Ульяновский. Бывший пилот экспедиции стал теперь заместителем командира авиадивизии. Правда, узнать Ульяновского поначалу было трудно из-за ожогов на лице, В одном из первых боев его СБ — скоростной бомбардировщик — подбили; весь экипаж погиб. Он один, полуживой, обгоревший, долго полз, не видя ничего перед собой. Полз на лай собак. На его счастье, встретилась старушка-колхозница, которая не побоялась расстрела — спрятала и выходила раненого летчика.
— Вас за меня немцы замучат. Уйду я…
— Поднимешься, тогда уйдешь.
Когда он окреп, партизаны помогли ему перейти линию фронта. Ульяновский не забыл спасительницу. После освобождения района он навестил свою вторую мать, отписал на нее свой денежный аттестат, часто посылал посылки с продуктами.
Генерал Ульяновский видел, что условия работы дальних бомбардировщиков во многом аналогичны бамовским. Даже ошибки, совершаемые пилотами, и в особенности штурманами, казались сходными с причинами тех неудач и несчастий, что случалось порой в горном Забайкалье. Он был доволен, что заполучил людей с бесценным опытом полетов в малодоступных районах, тем более, что знал лично каждого — кто на что способен. Ульяновский называл эти кадры «бамовской эскадрильей» и старался направлять своих любимцев на работу в особо сложной навигационной обстановке — десантирование парашютистов и грузов с предельно малых высот. А задач подобного рода становилось все больше. Антифашистское движение в тылу врага, партизанские отряды становились тем вторым фронтом, который не спешили открывать союзники.
Летчик Константин Кудряшов, герой Советского Союза
Черт в санях
Во фронтовой жестокой обыденности есть свои правила и особые привилегии. Если тебя выделяет командование, значит, жди: присматривают для какого-то особого случая. В наших ВВС никогда не было недостатка в смелых летчиках. Приказ идти по заданию Генштаба отличался от обычных бомбардировок только тем, что обязывал к наибольшей вероятности исполнения. И, хотя гарантий на войне не может дать никто, на такие дела подбирались экипажи, способные на нечто большее, чем просто смелость, чем обычное владение техникой.
Далеко не каждому кадровому офицеру выпадала на фронте столь высокая честь — выполнять задания непосредственно Верховного командования. Федор Румянцев по-прежнему считал себя человеком сугубо гражданской профессии, не забывал, что в действующую армию пришел временно, а то, что недавно на его плечах заблестели лейтенантские звездочки, так это скорей для — порядка, чем по службе. И даже в погонах он был мало похож на военного.
Эти специальные задания Румянцев поначалу воспринимал без воодушевления, поскольку они чем-то напоминали транспортные, даже, можно сказать, почтовые дальние рейсы: отвезти на Б-25 с дополнительным бензобаком людей или грузы к назначенным точкам, сбросить их и назад. Через некоторое время должна прийти радиограмма-«квитанция», что груз получен, или что «пассажир» прибыл. То ли грузовик, то ли такси ночное… Все делалось незаметно, безо всякого шума, стрельбы, бомбежки. А он, Федор Румянцев, еще не рассчитался с фашистами за то письмо из родной Калуги, за «доплатное», за брата Сережу…
Ульяновский уловил его настроение и стал объяснять, что разведчики и диверсионные группы, которые на парашютах сбрасывались в глубокий тыл врага, наносят врагу еще больший урон, чем эскадрильи бомбардировщиков. Недаром за каждый уничтоженный «партизанский» У-2 немецкое командование своим летчикам выплачивало приз в две тысячи марок — вдвое больше, чем за сбитый истребитель. Румянцев вскоре сам почувствовал правоту этих слов, хотя бы по той нервозности, которую проявляли гитлеровцы, когда в глубине их территории, вдали от объектов бомбометания они вдруг обнаруживали одинокий самолет-призрак. По характеру его маршрута и по профилю полета можно было догадаться, что везет он лиц, крайне неприятных для рейха. И фашисты предпринимали все меры, чтобы сбить самолет или хотя бы выяснить точку сброса парашютистов.
— Старайтесь неслышно идти, — предупреждал генерал. — Как, бывало, у нас на Байкале пели: «Близ городов озирался зорко…» Вот так: зорко и тихо…
И вдруг Ульяновский грохнул кулаком по столу:
— Над своей землей в теми ночной, как тати, бродим. Проклятье!..
В такие рейсы не давали истребителей воздушного прикрытия и штурмовиков для «проталкивания» через линию фронта. Нельзя было привлекать внимания к операции. Фронт обычно проскакивали на бреющем. Наши зенитчики предупреждались заранее, они научились распознавать по силуэту «Милашку» — Б-25 «Митчелл», а немцы не успевали прореагировать и даже толком разглядеть тип машины, поскольку самолет неслышно шел «с горки», а над их позициями возникал внезапно — уже на полном газу. Труднее было на обратном пути, особенно летом, поскольку для возвращения не хватало темного времени.
Когда фашисты обнаруживали такой самолет, они поднимали в воздух звенья и целые эскадрильи ночных истребителей, организуя настоящую охоту за «Милашкой». Перехватчиков порой было даже слишком много, так что они, случалось, в темноте открывали друг по другу беспорядочную пальбу трассирующими очередями, и им приходилось зажигать навигационные огни для взаимного опознания.
А пока они разбирались, «Милашка» уходила, прижавшись к земле.
Стрелкам строго-настрого было приказано только следить за противником, не демаскировать себя и открывать огонь лишь в случае явной опасности. Ведь в глубоком тылу, в темноте противник нередко принимал одиночную машину за свою. Даже сбитый вражеский самолет не оправдал бы невыполнения задания. Особенно командир опасался за старшину Медведева. Старшина воевал с 41-го, артистически владел как рациями, так и пулеметами всех систем, но был порой чересчур азартен и вполне мог соблазниться — дать очередь по зазевавшемуся в потемках истребителю. Зная горячность старшины, Кудряшов перед каждым вылетом повторял экипажу: «Наша задача — не сбивать, а уклоняться…» И выразительно смотрел на Медведева.
Появившиеся к этому времени в Германии радиолокационные станции прибавили забот. Их научились обманывать, сбрасывая ленты станиоля. Было известно также, что по маршруту следования подозрительного самолета гитлеровцы порой устраивали прочесывания местности. Летчикам приходилось заботиться не только о себе, но и о том, чтобы запутать преследователей, «потерять» пассажиров как можно незаметнее, и самое главное, — в точно назначенном месте. Ведь начиная именно с этой точки у разведчика была подготовлена легенда, запасены документы, объясняющие его здесь появление. Саденов, наливавший какао из термоса одному такому пассажиру, с удивлением увидел у него в руках свежую румынскую газету. Он покачал головой, а пассажир еще и похвастал, что у него, кроме того, в кармане билет на автобус.
Иногда Кудряшов с Румянцевым с грустью вспоминали, как они разыскивали геологов на трассе БАМа по сизым шлейфам костров-дымокуров. То была открытая дневная работа, а теперь они прокладывали маршруты ночью, к потаенным огням, по едва заметным ориентирам.
Суровые правила конспирации не позволяли пассажирам откровенничать. О чем-то пилоты догадывались и сами, но эти догадки держали при себе. С удивлением Саденов обнаружил, что у одного бородача десантный комбинезон надет прямо на поповскую рясу. Работали молча. А видно было по глазам, как порой, хотелось этим людям поговорить по-человечески о жизни, о доме, о семье. Ведь это были их последние часы, проведенные среди своих. Они уходили в неизвестность, быть может, на смерть, на муки.
Отправкой пассажиров руководил крепкий контрразведчик в штатском — черном пальто с высокими плечами и диковинной по военным временам шляпе, некто Смирнов, как потом выяснилось, майор. Он занимал биллиардную комнату, спал там на диване. Лицо его было смуглым, губы большие, как у негра. Летчиков он предупредил: «Учтите, у нас пассажиры бывают разные. Иные и на наших, и на ваших работают. Так что, хлопцы, держите ушки на макушке. А то в последний момент гранату вам подкинет, а сам — с парашютом…»
В первый спецрейс они должны были выбросить трех парашютистов в разных районах Западной Румынии. Но только сбросили первого, стрелок Чуркин докладывает: «Командир, поднимаются два истребителя…» Поблизости аэродром Рошнери-де-Веде. Что-то не спится ночным сторожам. Через короткое время: «Командир, еще три истребителя…»
«Не теряйте из виду».
Дело принимало дурной оборот — их тут явно поджидали. Кудряшов крикнул второму пилоту: «Кусан, давай обороты…» А сам газ потихоньку убирает, чтобы пламя выхлопа стало совсем незаметным. И — к югу со снижением. «Отстали?» — «Нет, командир, следом идут, но, похоже, нас пока не видят».
Ночь была лунная. Впереди серебряным серпом лежал Дунай. Здесь — граница между Румынией и Болгарией. Пересекли реку и оказались над болгарской территорией. Поселки светятся огнями, светомаскировки никакой. Истребители разбрелись немного, но курс держат верный, точно ищейки по горячему следу. Но это никакое не чутье — наводят их с земли радиолокационными станциями. С минуты на минуту разглядят, догонят, возьмут на прицел и разорвут в клочья. А Кудряшов прет прямо на город, на аэродром с выложенным фонарями ночным стартом. Куда он? Ведь там обязательно свои зенитки, прожектора, дежурное звено истребителей…
Но Кудряшов на то и рассчитывал. Как объяснил позже «великий комбинатор»: на меже да на распутье нечистая сила водится, где межи да грани — там споры да брани. Болгары включили прожектор, и его луч тотчас поймал пятерку истребителей. Те, ослепнув, замигали навигационными огнями, чтобы их не сбили. А болгары все гоняют их лучом, точно признать никак не могут «союзничков», что это, мол, тесно вам стало в своем небе — сюда приперлись… А Кудряшову только того и надо. Круто развернув машину, он повел самолет назад через Дунай, в Румынию. Второго парашютиста выбросили в район Крайова, третьего вблизи Петешти. И — деру домой, во все лопатки. Только в районе морской базы Констанца «Милашку» обстреляли зенитки с кораблей, находившихся на внешнем рейде.
Полет продолжался 12 часов 25 минут. После прохода линии фронта связались по рации с аэродромом. А в штабе уже знали — получена весть о благополучном прибытии всех трех парашютистов. Экипажу от командования — благодарность. Об этом можно было бы сообщить и попозже, но на земле понимали, как устали и, возможно, раздражены были летчики. А им еще надо было совершать посадку. Если было, чем взбодрить — все шло в ход.
Когда садились, увидели стоящий у старта ЗИС-101. Сам командир дивизии встречал на рассвете свой особый экипаж. Машина у комдива большая — вместились все. Пока ехали, командир обо всем выспросил. Нахмурился, услышав, как погоняли их пять перехватчиков.
Договорились так, чтобы в следующий раз экипажу давали только точки сброса, а уж маршрут они рассчитают самостоятельно, — сами грамотные. Для такого «ночного промысла» чем меньше народа будет знать подробностей, тем надежнее. Контрразведчик Смирнов тоже одобрил такое решение и, улыбнувшись, прибавил:
— Да вы просто золотые ребята — все сами понимаете.
— Когда погоняют по всей Европе, сообразишь, — проворчал Кудряшов, с трудом подавляя в себе ярость. — Вон, целый парад устроили: для встречи справа, для встречи слева…
— Как матушка моя говорила, — припомнил Румянцев, — темна Божья ночь, черны дела людские, Господи…
— Верующая? — живо полюбопытствовал майор Смирнов.
— Просила у Бога прощения, что никак накормить нас не могла.
Чаще всего приходилось вывозить группы разведывательные и диверсионные. В них были люди разных возрастов, но все, как на подбор ловкие в движениях, собранные, жилистые, тренированные. Держались невозмутимо, даже шутили, слегка бравируя опасностью, подбадривая друг друга.
Доставляли их обычно на крытой аэродромной полуторке с зашторенными фарами, едва освещавшими дорогу. Высаживались у небольшого барака, рядом с капониром, по соседству со сложенными в штабеля бомбами в дощатой обшивке. В бараке с занавешенными окнами инструкторы помогали разведчикам упаковаться — надеть парашюты, подогнать брезентовые ремни, застегнуть карабины. Независимо от погоды разведчики одевались плотно, потому что на высоте всегда холод, а самолет не герметизирован. Вещевой мешок вешали на грудь и привязывали к поясу, чтобы не болтался. Автомат на плечо — его крепили к лямкам вещмешка. На брезентовом поясе — запасной автоматный диск, фляга, пистолет в кобуре и финка в ножнах для обрезания строп. В карманах куртки — гранаты-лимонки. Спички, завернутые в резиновую оболочку, — во внутреннем кармане, там же запалы для гранат.
Отяжелевшие от груза разведчики в ожидании посадки приваливаются к штабелям бомб и наблюдают, как оружейники заправляют пулеметные ленты, а механики прогревают моторы. Яркий месяц выглядывает из-за облаков. Это ничего, через два часа он уйдет с небосвода и будет темно. Лунный календарь разведчики почитают больше, чем солнечный.
Моторы воют. На выхлопных патрубках появляются голубоватые языки пламени. Пора. По шаткому трапу громоздкие пассажиры поднимаются в самолет. Второй пилот размещает их — кого рядом с кабиной штурмана, кого в тесном проходе, кого под ногами стрелка-радиста. Трап-люк поднят, щелкают замки. «Поехали!» Рев моторов нарастает. Мелькают синие стартовые фонари, прикрытые сверху колпаками. Наконец едва уловимый последний толчок — летим. С набором высоты становится все холодней. Через несколько часов парашютисты, с трудом разгибая окоченевшие колени, стуча зубами, протискиваются к люку. Самолет сбрасывает скорость. Теплым ветром несет из темноты люка. «Пошел!» Провал, рывок и необычная тишина.
Одну такую группу, в которой за старшего был кряжистый «дядя Ваня» (позже выяснилось, что это был полковник Львов), в октябре 1943 года только с третьей попытки удалось высадить в район Пинских болот. В первый раз прилетели — партизаны костров не зажгли, что-то помешало. Во второй раз в районе озера Червонное стоял густой туман. Группа не унывала, и с третьего захода выброска прошла успешно.
И уж вовсе героями держались парашютисты, если в составе группы были девушки-радистки. В таких случаях и экипаж «Милашки» глядел веселей.
— Ну что, пошли, лунатики, — шутил Кудряшов. — Солнце за лес — казацкая радость… — И уже всерьез: — Так, стой! Теперь попрыгали на месте. Все пристегнуто? А то по носу с размаху получите вещмешком, а он тяжелый… Когда приземляться будете, не зевайте, помните — земля на вас должна идти, а если из-под вас, значит, спиной упадете. Стропами управляйте. Ремни в порядке? Экипаж, по местам!
Бывали, правда, и странные пассажиры. Одевались все одинаково — в парашютные комбинезоны, но различить можно было, что внизу — форма или штатская одежда. Один какой-то вовсе рассеянный попался, сидит у самолета, дожидаясь вылета, и вертит в руках пилотку. Саденов подошел к нему, посоветовал пилотку привязать шпагатом, чтобы не потерять во время прыжка. А тот смотрит испуганно и спрашивает: «Как пилотка по-румынски называется? Я забыл». Кусан подошел к контрразведчику: «Там товарищ спрашивает: как по-румынски пилотка?» — «Товарищ», — недобро усмехнулся майор, но встал, подошел к парашютисту.
— «Капела» называется, двадцать раз сказано. Повторите!
— Капела, — промямлил парашютист.
— Так. И еще повторяю, — майор говорил жестко, глядя гипнотизирующе в зрачки. — Через реку перейдете, уничтожьте ту бумагу, которую я вам сказал. Поняли? Дойдете до места — включите сигнализацию, чтобы знали, что вы прибыли…
Поймав любопытствующий взгляд пилота, Смирнов отвернулся недовольно и, проходя мимо, проговорил, едва разжимая губы:
— Присмотрите за ним.
Перед самой выброской Саденов увидел вдруг рукоять пистолета, мерцавшего в складках брезентового чехла, на котором в совершенной прострации сидел растяпа-парашютист. Пистолет, конечно, и второй пригодился бы, особенно легкий изящный «Зауэр», а этот раззява все равно потеряет, — такая грешная мысль мелькнула. Но тут же устыдился, может, человек на смерть идет… Некоторые радисты, если случалось при посадке сломать ноги, стрелялись. Кусан поднял оружие, проверил предохранитель, сунул его парашютисту за пазуху, под комбинезон, поправил парашютные лямки. «Ничего, пройдешь, — подбодрил его. — Ночью все дороги гладкие…» И тут команда — «Пошел!» Прыгнул раззява без посторонней помощи, хватило духу. Саденов даже удивился.
Но чаще приходилось сбрасывать таких орлов, которым сам черт не брат. Дерзкие, острые и осмотрительные, из тех, что, как говорится, носят бороду на плече и никогда не дадут застать себя врасплох.
Группы попадались иной раз и вовсе загадочные. В район Мюнхена экипаж должен был доставить трех человек, причем условия Смирнов поставил непростые: пассажиры не только не должны были общаться, но даже увидеть друг друга в лицо, а в случае, если им все же удастся заговорить между собой, экипажу надлежало немедленно повернуть назад. При этом майор дал понять, что не исключается применение оружия.
Когда в штабе объяснили задачу, летчикам стало не по себе. Маршрут пролегал через густую сеть аэродромов ночных истребителей и зенитных батарей. Как назло, погода по всей трассе стояла безоблачная, а главное — лето, июнь, и, как ни рассчитывай, линию фронта придется проходить в светлое время суток — и туда, и обратно. Но приказ есть приказ. И, видно, дело было крайне спешное, если командование в такой обстановке решило послать одиночный бомбардировщик без прикрытия. О том, что из каких-то особо тайных соображений командование намеренно жертвует самолетом и экипажем, думать не хотелось. В любом случае шансов вернуться живыми было ничтожно мало.
— Как нам жениться, так и ночь коротка, — проговорил Кудряшов, глядя с тоской в безоблачное небо. Не так уж велик средний бомбардировщик, чтобы полностью изолировать в нем трех парашютистов.
Они прибыли под вечер. Первого привезли на машине и усадили в кабину радиста. Через несколько минут доставили второго и посадили, точнее, положили головой к пилотам в тоннель, соединяющий кабину с навигаторской. Третьего вместе с парашютистом-инструктором втиснули в навигаторскую кабину. Под парашютными комбинезонами проступали очертания немецких мундиров, как показалось летчикам, генеральских. Да и по облику судя — все трое важные, матерые вояки-пруссаки. «Сразу видно — неприятные пассажиры» — поморщился Кусан Саденов.
Еще не сгустилась темнота, в 21.15 самолет поднялся. И уже вскоре опасения начали подтверждаться. На пути к Мюнхену дважды атаковали истребители. Вначале, когда шли на траверсе Вены, очередь трассирующих снарядов пронеслась над самой штурманской кабиной. Вторая атака — вблизи города Линца. Отстреливаясь из пулеметов, уходили крутыми виражами со скольжением. Искали хоть какое-то облако, но небо было чистым, горели звезды. После очередного маневра преследователи потеряли их из вида, но чувствовалось, что они где-то поблизости в темноте, их ведут локаторами с земли. Начали выбрасывать за борт ленты станиоли. Потом сделали круг почти в 360° и вновь устремились к цели.
Высадка прошла без задержки. Точки были выбраны удачно, сбросили парашютистов идеально — с хода и на малой высоте. Правда, третий «генерал» оказался неблагодарным пассажиром. Он незаметно вытянул из ножен парашютную финку и перед прыжком попытался пырнуть Саденова в живот. Летчик-казах мгновенно увернулся. Пистолет на боевом взводе был заткнут у него за поясом, но Кусан предпочел действия более привычные: дал крепкого пинка, и «нехороший пассажир» вылетел из люка птицей. Парашютная система сработала сама, Саденову оставалось только плюнуть вслед удаляющемуся серому пятну. Задание выполнено, а начальству видней — кого бросать и зачем.
Теперь по программе, вероятно, для маскировки парашютистов, предстояло совершить еще одну операцию — подойти поближе к Мюнхену и «засветиться» — разбросать листовки. Листовок было много — сто четыре тысячи. Подходили с северо-запада, но не на самый город, а как бы по кривой, огибающей Мюнхен, так, чтобы листовки отнесло туда ветром. Успели заметить два действующих аэродрома с ночным стартом. Ждали зенитного огня, атаки истребителей. Но местная система ПВО вела себя непонятно. Немцы явно выжидали. То ли приняли за свой самолет, то ли посчитали за английского разведчика-наводчика и не хотели себя раскрывать.
Листовки сбрасывали вручную. Работали только стрелки. Саденову командир приказал во все глаза наблюдать за воздухом, и дело у стрелков продвигалось медленно. Зона полезной работы кончилась, а стрелок-радист доложил, что сброшена всего треть груза. Пришлось развернуться на 180 градусов, повторить заход, чтобы продолжить работу. Такой наглости немцы не вынесли. Воздух был удивительно прозрачен, и Румянцев, неотрывно следивший за землей, успел заметить начало свечения нескольких прожекторов и тотчас доложил об этом командиру. Не дожидаясь их полной работы в режиме поиска, Кудряшов резко отвернул самолет к западу. «Рентгены» врубились, немного пошарили в безоблачном небе и погасли. Листовок оставалось всего несколько пачек, искушать судьбу в третий раз не имело смысла.
Неохотно поворачивал Кудряшов на восток, навстречу рассвету, на трассу, где столько преград. Но тут объяснилось странное поведение ПВО. Над районами Линца и Вены работали бомбардировщики союзников. Развесив на парашютах осветительные бомбы такой яркости, что лучи прожекторов сделались бессильными, они наносили массированные удары по большим площадям. Километров за семьдесят с воздуха различались взрывы и пожарища. Было известно, что союзники, как правило, бомбят с больших высот. А где дичь, там и охотник. Значит, там же, на высоте пяти-шести тысяч метров должны находиться в немецкие истребители. Кудряшов решил поэтому держаться поближе к земле.
Рассвет застал их над Карпатами. Дальше был сумасшедший полет на бреющем — в обход населенных пунктов. «Дуй по пням — черт в санях!» — сквозь зубы твердил Кудряшов в предельном напряжении сил. Линию фронта проскочили на минимальной высоте, едва не задевая ветки деревьев. А через несколько дней с той стороны пришло подтверждение, что два «генерала» добрались благополучно, а от третьего — ни ответа, ни привета. Но о нем никто и не беспокоился; видимо, все шло так, как было задумано.
Проще было с выброской людей в районы, контролируемые партизанами — нашими, польскими, чехословацкими, югославскими. Диверсанты были суровыми воинами, увешанными новеньким оружием, запасенным и для себя, и для отряда. И в оружии, чувствовалось, они понимали толк, берегли его, как дорогой рабочий инструмент. Прицельные устройства аккуратно забинтованы тряпочками, чтобы случайно не повредить при ударе. Это запеленатое оружие наводило Румянцева на грустные мысли.
Третий вояж «графа Люксембургского»
Среди разведчиков-одиночек порой встречались люди разговорчивые, даже весельчаки. Как тот авантюрного вида парень, «граф Люксембургский», которого приняли на борт на подмосковном аэродроме Астафьеве. Впрочем, себя он никак не назвал — видно, хорошим людям врать не хотел, зачем забивать голову чепухой? Накануне его появления командира экипажа Кудряшова и штурмана Румянцева вызвали в штаб, дали задание: произвести выброску парашютиста в глубокий тыл противника, в западной части Румынии, неподалеку от города Крайова. Командир и штурман переглянулись: раз посылают бомбардировщик в такой дальний рейс ради одного-единственного пассажира, значит, повезут они какого-то «профессора», мастера экстра-класса.
Начали составлять маршрут, рассчитывать инженерно-штурманский график полета. У радиоразведчиков запаслись свежими частотами широковещательных радиостанций европейских столиц. Синоптики сообщили, что прогноз на завтрашний день очень плохой: сплошная облачность почти над всей Восточной Европой, над Трансильванскими Альпами — грозы. И только по югу Болгарии погода ожидается чуть лучше. Это означало, что запас топлива надо брать побольше — на случай обхода грозового фронта. Но нет худа без добра. При сложных метеоусловиях над горами встреча с истребителями представлялась маловероятной. Все-таки пилоту одноместного самолета ночью в такой ситуации разобраться трудно. Летчик-истребитель — он и пилот, и штурман, и радист, и стрелок в едином лице. А бомбардировщик — это корабль, коллектив. И каждый в своем деле дока. Маршрут рассчитали так, чтобы районы Плоешти и Бухареста с их мощной ПВО обойти вначале с севера, а на обратном пути с юга. Основная сложность — навигационная, тут штурману придется трудиться в поте лица, так как полет предполагался в основном вне видимости земли. Правда, в этом хорошем плане не хватало, как ни пересчитывали, темного времени. На пределе был и запас горючего, дополнительный бак, подвешенный над бомболюком, оказывался недостаточным. Поэтому решили использовать аэродром подскока в районе Курска, у самой линии фронта.
К октябрю 1943 года экипаж Кудряшова пользовался большим авторитетом по части «темных перевозок». И это звучало высшей похвалой. «Умеют, черти, сбрасывать…» — подтверждал майор-контрразведчик. Тем не менее. Смирнов не удержался, шепнул Саденову: «Вы за этим парнем ухаживайте — он для нас очень ценный…» А с виду человек как человек: роста среднего, моложавый, лицо невыразительное, такого увидишь в толпе — ни за что не запомнишь, а в комбинезоне так и вовсе как все парашютисты.
Пасмурный день близился к вечеру, когда приземлились под Курском. Все было тихо на прифронтовом аэродроме, однако летчики чувствовали, что сигнал о них прошел на серьезном уровне. Едва они сели, к бомбардировщику тотчас подкатили два бензовоза. В конце взлетной полосы стояли наготове две «аэрокобры» — дежурные истребители ПВО. Пара других барражировала — гудела в высоте. Аэродромные механики делали свое дело, но держались на почтительной дистанции. По всему видно было, что предупреждены строго: близко не подходить, глаз не пялить, с экипажем не разговаривать!.. Механики все закончили так быстро, что оставалось время для отдыха.
Как всегда во время заправки экипаж покинул свои места и расположился на пожелтелой траве, стараясь расслабиться и не думать о предстоящем. Вместе с летчиками вышел и «профессор». Был это человек еще молодой, крепкого телосложения, с переменчивым взглядом — то сонным, потухшим, то вдруг острым, озороватым. Чувствовалось, что характер у него компанейский, хоть поначалу он помалкивал И только приглядывался.
— Говорят, погода на трассе скверная? — обратился он к командиру. — Терпеть не могу болтанки.
— Покачает сегодня. — подтвердил Кудряшов. — Грозовой фронт широкий, придется его прокалывать.
И засмеялся: — Так что тело довезу, а за душу не ручаюсь…
Засмеялся и разведчик. Ему по нраву пришлась прямая и свободная манера общения летчиков. Но нельзя было определить по внешности, кто он: русский, украинец, немец, поляк, а может, англичанин или француз. Его явно забавляло молчаливое любопытство пилотов, и он время от времени, очевидно, нарочно, подкидывал им новую загадку. Заговорили, например, о дежурных аэрокобрах, он, словно нечаянно, обмолвился как-то заморожено, на английский манер, этак «ир-коур»… И еще добавил, что американская «кобра» — машина сильная, но ревнивая — не любит, когда ее покидают в воздухе — нередко калечит летчика стабилизатором. А когда Кудряшов назвал штурмана Жаном, удивленно вскинул брови:
— Жан? Что, из эскадрильи «Нормандия»? — да так живо, что показалось, готов в мгновение превратиться во француза — галантного парижанина.
Румянцев принялся объяснять, что это не имя, а прозвище, и вообще-то в училище его прозвали не Жан, а Джан — друг. Разведчик расхохотался, бормоча про себя что-то, похоже, на армянском, и заметил, что прозвище не случайное, — в чертах лица штурмана определенно есть нечто от южанина.
— А вот вы на кого похожи, не пойму, — не удержался Румянцев.
— Как это?! — удивился незнакомец, и глаза его засветились надменностью. — Разве в задании не указана точка? Там наше родовое имение, отец мой прежде был министром путей сообщения. Я офицер…
— Ага, — ухмыльнулся Кудряшов, отворачиваясь. — Прямо граф Люксембургский! Вот артист, вот плетет!..
— Ну и работа у вас! — восхитился Румянцев и стал говорить, что поражается спокойствию и выдержке разведчика.
Незнакомец покачал головой.
— Это я удивляюсь вашей смелости, — с искренностью ответил он, вновь превратившись в чуть наивного, романтически настроенного, своего в доску парня. — Ведь, случись, не дай Бог, подобьют самолет, мне легче уйти. Если, конечно, сразу, с парашютом не захватят. Я знаю местный язык, обычаи — растворюсь бесследно — ищи-свищи меня. А вот для тех, кто летает по спецзаданиям, плен страшнее смерти, — запытают, замучат. Вам остается только одно — принять неравный бой, а последнюю пулю — себе. И так при каждом вылете. Штурман с ним не согласился.
— Мы-то, — сказал он, — когда вернемся из рейса, можем расслабиться среди своих, дать отдых нервам, а вам и днем и ночью надо быть начеку…
Кудряшов приподнялся на локте.
— Кусан! — крикнул он. Второй пилот Саденов выглянул из люка. — Там у меня в сумке папиросы, кинь, будь другом.
— Кусан… — задумчиво проговорил незнакомец. — По-арабски это означает «мудрый».
— И очень строгий, — подхватил Кудряшов. — Я его побаиваюсь, потому что не знаю — когда он доволен, а когда сердится. Он, бывает, что и дерется….
Саденов вновь появился в проеме люка и, окликнув, бросил в руки командиру бело-голубую коробку. Это были редкостные тогда папиросы «Казбек», которые выдавались летчикам в качестве особого презента после полетов на спецзадания.
— Угощайтесь, — протянул командир раскрытую коробку. Но разведчик неожиданно отказался.
— Вы что, хотите, чтобы меня на такой мелочи поймали? — тусклым голосом проговорил он. — Табачный запах очень долго держится. А есть люди с поразительным нюхом на чужой сорт табака. Особенно женщины…
Незнакомец достал из-под комбинезона пачку «своих» сигарет марки «Плюгар» и закурил, как показалось, без удовольствия. Но в долгу не остался — подарил фляжку со спиртом с наказом выпить потом среди своих.
В сумерках — взлет. Фронт близко, поэтому набор высоты производили над аэродромом до входа в облачность, и уже вслепую легли на курс. Вскоре стало заметно отраженное в облаках зарево пожарищ — линия фронта. Потом все померкло — не видно ни земли, ни звезд. Где мы? Это знает только штурман. Он пеленгует широковещательные станции Бухареста, Будапешта, Белграда, уточняя курс следования и путевую скорость.
В гуле и кажущейся неподвижности самолет все сильнее потряхивает. Консоли плоскостей и винты моторов начинают светиться от статических электроразрядов. Тряска беспорядочная, как на ухабах, и такой силы, что штурвал врывает из рук. У пилотов руки трясутся от напряжения, пот заливает лицо. Зеленоватые змейки сбегают по консолям. «Держись, Кусан, — сквозь зубы роняет командир, — а то еще из кабины вытряхнет». Тряска вдруг прекращается, переходит в качку, а фонарь пилотской кабины покрывается коркой молочного цвета. Обледенение… Впереди и слева нарастают всплески грозовых разрядов. Радиокомпас приходится отключить. Самолет все сильнее раскачивает и бросает в неопределенных направлениях. Как там здоровье «графа»? Он говорил, что плохо переносит болтанку. Но сейчас не до него. Кудряшову и Саденову трудно выдерживать курс, который по графику задает штурман. Решено обойти грозу с северо-запада с набором высоты. От груза льда самолету тяжело, и все в экипаже угрюмо молчат, как будто на своих плечах поднимают машину. На высоте 5500 метров стрелки докладывают, что временами в разрывах облаков видны звезды. Слева по-прежнему полыхают разряды.
Высота 6000 метров. «Приготовить кислородные маски!» Но последние обрывки облаков облизывают крылья, и машина выходит из зоны облачности. Болтанка кончилась, плоскости самолета, фонарь, блистера постепенно оттаивают, и взору штурмана открывается полная картина звездного неба. Внизу сплошная облачность с отдельными вершинами намного выше «потолка» самолета. И прежний вопрос: где мы?.. Румянцев пытается вновь настроить пеленгатор на широковещательные станции, но из-за сильных разрядов это не удается. Остается один, древнейший, способ определения местонахождения — астронавигация. Для этого нужны три вещи: звезды, секстант и точное время.
Астрономию Федор Румянцев любил с детства, и звезды не подводили его никогда. Вот они, старые знакомцы: Полярная звезда — для широты, а для долготы — Вега, Альтаир, Арктур, Альдебаран… Однажды к ним в авиадивизию прибыл в качестве инспектора профессор Куницкий. Он летал с Румянцевым, и очень удивлялся профессор штурману, сумевшему определить местоположение самолета с точностью до трех-пяти километров, тогда как допустимой считается погрешность в пятнадцать километров.
Румянцев достает секстант.
— Костя, начинаю звезды считать, — это предупреждение пилотам о необходимости строго выдерживать режим полета при астроизмерениях.
— Понял, — откликается Кудряшов. — Держу «Милашку».. Температура за бортом — 38° ниже нуля.
Но вот они, все шесть друзей, шесть звезд. Румянцев определяет их высоту. Точное время фиксирует по главным штурманским часам. Таблицы дают расчетное положение самолета на момент измерения высоты светила. Оказалось, что уклонились от маршрута следования примерно на 150 километров.
Гроза позади. Повеселевший Кудряшов ведет самолет к Дунаю со снижением, в слоистых облаках без болтанки.
«Как там пассажир, живой?» — спрашивает командир.
«А что ему, спит себе, — откликается стрелок-радист. Болтанка такая была. Я сам тут пару раз к гиг-пакету прикладывался, а этот, как с самого начала завернулся в чехлы, только пару раз с боку на бок перевернулся».
«Ну и артист этот граф Люксембургский! — качает головой Кудряшов. — Говорил, болтанку он не переносят… Приближаемся к цели. Буди «его сиятельство».
На высоте 1500 метров становится видна земля и справа по борту светится в ночи большая река. Это Дунай. По его изгибам штурман уже с абсолютной точностью определяет место самолета на карте. И теперь курс — на точку. Близится цель. Самолет снижается до трехсот метров. Команда для пассажира: «Приготовиться…» Одновременно Кудряшов уменьшает скорость до минимума. Сняты защелки, сырой ветер врывается из темноты. «Граф», свеженький, точно умытый, садится на край люка, свесив ножки в преисподнюю. Вот и цель.
«Пошел!» — скомандовал штурман. Подмигнув на прощанье Саденову, «граф» нырнул в черноту. Еще минут пять самолет шел по прямой для маскировки парашютиста. Затем: «Разворот. Курс 150». Это была ошибка. Штурман не учел, что до этого курс был 5, и Кудряшов произвел разворот не влево, а вправо, поэтому самолет выскочил точно на военный аэродром под городом Крайова, где выложен был ночной старт и что-то двигалось. Из-за внезапности, или приняли за своего, но осиное гнездо никак не прореагировало на это вторжение.
Над Болгарией небо было ясное, крупные поселки освещены, и ориентироваться было легко. Никто не преследовал. Вышли к Черному морю и пошли домой на почтительном расстоянии от берега. Рассвет застал над территорией, оккупированной врагом. Но тут выручила плохая видимость, низкие кучевые облака. Правда, Румянцеву опять пришлось постараться: и звезд не видно, и широковещательные радиостанции европейских столиц замолчали под утро.
Экипаж измучен — более одиннадцати часов в воздухе. Поташнивает — верный признак, что нервы на пределе. Зато горючего хватило, загрузка-то была — один пассажир. Но, видно, он того стоил. Когда подрулили к своей стоянке, сам командир части с нескрываемой радостью сообщил, что получена по рации «квитанция» — особо ценный пассажир добрался благополучно.
Возможно, они забыли бы о «графе Люксембургском». Для них стало привычным «делом развозить и сбрасывать одного в тридевятое царство, другого в тридесятое государство: в Германию, Польшу, Италию, Чехословакию, Румынию, Болгарию, Югославию, Грецию… «Квитанции» были всегда последним приветом. Больше летчики ничего не слышали о судьбе этих людей. Каково же было удивление, когда через пару месяцев встретили своего знакомого-незнакомца.
Он тоже обрадовался им, как родным.
«Живы еще?!» — еще издалека закричал «граф». Наверное, он посчитал такую встречу добрым знаком судьбы. Его новый маршрут лежал совсем в другую страну, и на нем, похоже, была пол комбинезоном совсем другая форма одежды.»
— Ну, как в прошлый раз приземлились? — спросил Румянцев.
— Снайперский сброс! — похвалил разведчик. — Третий мой вояж в Россию завершился весьма благополучно. Благодаря вашей любезности чуть ли не в каминную трубу родного дома попал…
Шутил, конечно. Штурман запомнил: не было никакого строения в той точке — горы, лес, узкая полянка на склоне…
— Вот мазурик, вот плетет! — добродушно ворчал Кудряшов.
И, как в первый раз, летчики отдавали должное смелости «графа», а он в ответ смеялся, качал головой, поражаясь везучести пилотов.
Наверное, экипажу действительно везло. — каждый раз, за исключением того, «генеральского» рейса, они получали подтверждение о благополучной доставке пассажиров и короткое «спасибо». Лишь однажды «клиент» выразил неудовольствие. А дело состояло в том, что таких парашютистов сбрасывали с хода и при минимально допустимой высоте, так что парашют едва успевал раскрыться, и при малейшей его заминке уже ничего нельзя успеть сделать, гибель человека была неизбежна. А тут получилось, что из-за низкой облачности в горах они долго выходили на точку, и на малых оборотах начали остывать моторы: так что парашютиста выпустили чуть выше обычного. Для спуска человека безопасней, но это в понятиях мирного времени. Разведчик пожаловался, что ему долго пришлось болтаться на парашюте. Вот таких пассажиров развозило по Европе «ночное такси» Кудряшова: они предпочитали скорей разбиться, чем попасть на глаза врагу.
Но встречались и пассажиры-одиночки совсем иного сорта. Очень далекий был рейс, когда вывозили человека немолодого, лет за шестьдесят, совсем седого, с мягким интеллигентным лицом. Он только подошел, поздоровался, и показалось вдруг, что они давно знают друг друга, что их мысли о самом главном в жизни так сходны. Федору Румянцеву вспомнился отец в последние месяцы его жизни. Как жаль, что о многом сокровенном они так и не успели поговорить. И этот незнакомец чем-то неуловимо был похож на отца.
Чувствуя, что невольно поддается обаянию какого-то необъяснимого душевного тепла и света, излучаемого этим человеком, Румянцев подумал с тоской: какие люди уходят на смерть… Потом штурман взвесил взглядом рыхловатую фигуру в парашютном комбинезоне и спросил с сомнением, прыгал ли он когда-нибудь. Тот признался, что никогда в жизни.
— Вы мне поможете, товарищ? — тихо попросил он. — Подтолкните…
И это тоже было по-человечески приятно, — не стыдясь, он признается, что боится, но идет. По едва заметному акценту Румянцев понял, что это иностранец, скорей всего, итальянец-антифашист, возможно, из руководства Коминтерна. Но только не разведчик — это лидер. За таким пойдут тысячи.
Летчики выполнили его просьбу. Саденов придирчивей обычного проверил крепления и очень точно рассчитал силу толчка на сбросе, а Румянцев нарочно чуть замешкался с командой на маневр, продержал самолет лишнюю минуту на линии сброса. Это для того, чтобы, если нацистские ищейки бросятся по следу, им пришлось расширить радиус поиска, по крайней мере, еще на несколько километров.
Они возвращались, когда уже начало светать. После прохождения линии фронта радист принял обнадеживающую радиограмму: командование выражает благодарность экипажу — «квитанция» на доставку пассажира получена.
Это может показаться странным, но в первый год Румянцев не верил, что может умереть, что с ним произойдет такая обычная на фронте вещь, «которая ежедневно случалась с тысячами других людей. Даже когда у самого переплета штурманской кабины проносились очереди трассирующих снарядов, когда выбрасывался с парашютом из падающей машины, Румянцев не терял самообладания, свято веря в чудо, которое сохранит его, если не от боли и страданий, то от тьмы небытия. Он был молод, полон сил, и не мог весь мир — такой большой и яркий — вдруг исчезнуть. Конечно, разумом все понимал, но это понимание существовало как бы отдельно от него, и память услужливо подбрасывала примеры счастливого стечения обстоятельств из книг, из кино, из самой жизни. Ведь возвращались порой летчики, сбитые над вражеской территорией. Тот же генерал Ульяновский, Саша Махов, другие. Говорили, что существует особый приказ Верховного Главнокомандующего, предписывающий незамедлительно вывозить из партизанских районов летчиков — наравне с ранеными. Рассказы этих людей, казалось, были о нем самом. И странно было смотреть на то, как летчиков, вернувшихся «с того света», словно новичков, начинали «обкатывать» на самолетах и только после придирчивых экзаменов допускали к самостоятельным вылетам.
Случалось, правда, и так, что человек оказывался надломленным и не мог целиком сосредоточиться на той сложной и многообразной работе, которую должен выполнять каждый член экипажа. Один такой летчик долго бродил, словно неприкаянный, по аэродрому. Жив, да не годен! Потом его пристроили в наземную службу — специалист он был первоклассный, но после ранения и контузии чувствовал себя хорошо только на земле, а в воздухе с ним происходило что-то непонятное: ему казалось, что он все делает правильно, но грубые ошибки следовали одна за другой…
И пилотам, и штурману, и радисту работы в ночном полете хватает. Труднее, наверное, воздушным стрелкам бороться со страхом и однообразным напряжением. Часами бессменно вглядываться в небо и ждать, понимая, что от тебя почти ничего не зависит. Главное — увидеть первым. Зато уж если в сферу пулеметного огня попадал вражеский истребитель, удержаться и не врезать ему за всю многочасовую муку ожидания было почти невозможно.
«Вот этим я «мессера» достану, — грозился старшина Медведев, поглаживая новый крупнокалиберный пулемет, с дальностью стрельбы вдвое большей, чем у ШКАСа. — Уж я душеньку отведу. А потом звезду на борту нарисую. Светящейся краской, чтобы ночью сияла — на страх врагам.» Потому-то Кудряшов и повторял всякий раз: если враг нас не видит, не стрелять…
Лишь дважды Румянцев испытал приступ тошнотворного ужаса, и оба раза, когда лежал в земляной щели под бомбежками. В предместье Борисполя долбили их особенно жестоко. Сквозь треск зениток слышалась характерная прерывистая угрюмая песня моторов бомбардировщиков Хейнкель-111: «Везу — везу — везу-у-у…» Затем нарастающий свист и удар, от которого содрогалась земля. Один, другой, третий… Бомбовая нагрузка у каждого до двух тонн. Бомбы ложились с поразительной точностью — по аэродрому и по железнодорожной станции Бровары, будто их рукой наводили. Как штурман Румянцев объективно оценивал работу немецких бомбардиров весьма высоко. Но только периодами — потом вновь его охватывал животный страх: вот сейчас, вот эта летит сюда. Совсем недавно в этой щели сидели немцы, прячась от наших бомб. Но какая точность… Тренировались они здесь заранее, что ли?.. Налеты на Бровары происходили часто, и удары наносились, точно днем. Самому бросать бомбы легче, хоть и под «рентгеном» прожекторов, под огнем зениток. Там все время в работе, голова на триста шестьдесят градусов вертится. А тут лежишь, как червь, и ждешь… Румянцев спрашивал себя: смог бы он выдержать такое чуть ли не каждый день — в пехоте, в артиллерии?.. И с пронзительной ясностью пришло понимание возможности гибели вот в этой земляной щели или позже — в полете. Так просто. И это уже произошло со многими из тех, кого он знал раньше, знал хорошо. Они просто не возвращались, исчезали где-то далеко, — ни крови, ни похорон… Вместо них приходили другие летчики, штурманы, воздушные стрелки, потом их сменяли новые. А они все летают, и каждый раз обходится. Должно быть, скоро придет их черед. Едва ли удастся дотянуть до конца войны…
Обгоревшие обломки самолетов, смрадный чал от тлеющего тряпья, обугленные жилища. Из-под дымящихся развалин откапывают изуродованные трупы женщин, детей, солдат. Смерть по безлюдью не ходит.
Изрядно потрепанную группу бомбардировщиков перевели в Киев, на аэродром Жуляны, под прикрытие более мощной системы ПВО. А вскоре разъяснилась загадка сверхточной ночной бомбардировки. Позвонили из Броваров. Приезжайте, сказали, поймали сигнальщиков, завтра их вешать будем. Оказывается, немцы оставили свою агентуру. Предателей поймали с поличным, когда они наводили самолеты, население ожесточилось, люди требуют, чтобы публично вздернули… Очень большие потери среди местных жителей.
Погода стояла нелетная. Но Румянцев — он, кроме всего прочего, отвечал за политработу в эскадрилье — ответил: нет, не поедем, у нас занятия с молодыми штурманами. «Тоже, спектакль нашли…»
Опыт, в особенности боевой, — вещь высоко ценимая в авиации. Дается он дорогой ценой. Союзники как-то подсчитали, что половину летчиков сбивают в первом воздушном бою. После второго боя остаются невредимыми 78 процентов, после третьего — 91, а после четвертого — 97 процентов летчиков, наиболее способных. Однако у наших штурмовиков наибольшее число потерь приходилось на седьмой-десятый боевой вылет. Именно в этот период у многих появлялась излишняя самоуверенность, которая в дальнейшем проходила у тех, кому удавалось перешагнуть этот рубеж.
Но, видно, и в боевой закалке была какая-то предельная температура, которую нельзя было переступать, существовал ресурс, перерасходовав который, получали сталь уже не того качества. Боевых летчиков берегли, кормили хорошо, по завидной пятой норме питания. Спали на чистом. Но постепенно от перенапряжения накапливалась усталость, усиливалось тягостное сознание неотвратимости потерь. Установилась даже какая-то норма потерь и, если она не превышала обычную, все считалось естественным.
Ни вещами, ни деньгами не дорожили; никто не знал, что будет завтра. Если кого-то наградили или выдвинули — радовались за товарища искренно, без зависти. Бывали и такие случаи, когда, например, командир полка отказывался от повышения в должности: «Полк люблю…» И это считалось достаточно веским аргументом. В полетах все были равны. Не делили полеты на первостепенные и второстепенные, обязанности — на «твои» и «мои», а помогали друг другу, работать старались в полную силу, а там что будет, то и будет…
Падаем, кувыркаемся…
Шел третий год войны. Слухи о «втором фронте», воспринимавшиеся поначалу с надеждой, вызывали теперь лишь горькую усмешку. Союзники предпочитали действовать издалека — бомбежками городов, захватом морских коммуникаций, африканских сырьевых источников, и не спешили высаживаться на континент.
Воспользовавшись этим, гитлеровское командование решило навести порядок в своем беспокойном балканском тылу и развернуло широкое наступление против народно-освободительных войск и партизанских отрядов Югославии. В операции участвовало тринадцать дивизий, оснащенных танками, самолетами, тяжелой артиллерией. Разгорелись жестокие неравные бои. Даже по численности перевес был значительным. Четыреста пятьдесят тысяч солдат Германии и ее союзников начали одновременные действия против легковооруженных отрядов, насчитывавших в своих рядах триста двадцать тысяч бойцов.
Сил вермахт сосредоточил в Югославии больше, чем в Африке. А всего на Балканах в это время фашисты располагали армией в шестьсот двенадцать тысяч человек. Им удалось рассечь партизанские районы, захватить Адриатическое побережье. Но он не смогли уничтожить Народно-освободительную армию; патриоты отступили в малодоступные горные районы, сохранив значительную часть живой силы для будущих битв. У партизан кончались боеприпасы, нечем было остановить нагло продвигавшиеся по дорогам танки. Много раненых и больных бойцов умирало от нехватки медикаментов, продовольствия, одежды.
Красная Армия была ещё очень далеко от Балкан. Ленинград оставался в осаде, кровопролитные сражения разгорались на Днепре… Правда, совсем рядом были союзники. Их базы находились в трехстах-пятистах километрах от Югославии. Но они маневрировали, выгадывая для себя привилегии, политические уступки. За неуступчивость «наказывали» задержками в поставках оружия. Зато не жалели средств для засылки всевозможных миссий, представительств, политических консультантов, причем сразу в двух экземплярах: в штаб НОАЮ к маршалу Тито и в штаб двурушников-четников генерала Марковича. Основными занятиями этих консультантов были разведка и интрига. Один из руководителей НОАЮ сказал как-то с горечью русскому офицеру: «С каждой портянкой англичане сбрасывают на Балканы по миссии…»
Ставка Верховного Главнокомандования в конце 1943 года приняла решение — организовать доставку оружия, боеприпасов и медикаментов югославскому народу, борющемуся с общим врагом. Расчеты показали, что с территории Украины самолеты дальней авиации в состоянии, взяв на борт хотя бы полтонны груза, в течение одной ночи дойти до Боснии и вернуться назад. Поскольку сопровождение истребителями на такое расстояние невозможно, в рейс идти должны не транспортные машины, а бомбардировщики, способные в какой-то мере защитить себя бортовым оружием. Наиболее вооруженными были двухмоторные самолеты Б-25 «Митчелл».
Чтобы наладить воздушный мост длиной почти в полторы тысячи километров, по распоряжению Генштаба была создана особая Южная группа дальней авиации из пяти бомбардировщиков Б-25. В группу подбирали лучших боевых летчиков и штурманов первого класса, которые уже летали по спецзаданиям в глубокий тыл неприятеля. Командирами первых экипажей были: подполковник Б. Жилин, майор Н. Бирюков, капитаны К. Кудряшов. Е. Мухин. Н. Рыбалко. Штурманами: подполковник В. Погожев, майор С. Щербаков, капитаны И. Лисовой. В. Улиско, Ф. Румянцев…
Если бы Румянцеву еще год-два назад оказали, что ему придется с риском для жизни доставлять на бомбардировщике багажные упаковки, он бы, наверное, не поверил. А ведь задание состояло в том, чтобы вывозить во вражеский тыл и сбрасывать не бомбы, даже не диверсионные группы, а вполне безобидные с виду мешки. Да они так и назывались — ПДМ, парашютно-десантные мешки. Но на войне у каждого свои обязанности. Как на изысканиях трассы будущей Байкало-Амурской магистрали, где до войны Константин Кудряшов и Федор Румянцев работали в аэрофотосъемке, иной раз успех работы отряда, партии зависел от мешка овса для ослабевшей лошади, от вязанки дров. И они шли в рискованный «мешочный» рейс, находили в дебрях бедствующую группу, сбрасывали груз, и дело двигалось…
Труд фронтовой еще более сложен. Есть в этом адовом производстве своя шкала ценностей. Умелый разведчик, оказавшийся вовремя в нужном месте, бывает для врага страшней, чем эскадрилья бомбовозов. А группа мужественных, хорошо подготовленных и оснащенных оружием людей способна решать задачи, выходящие на уровень стратегических.
Летчики знали, что в рядах Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) сражается русский партизанский батальон, состоящий в основном из воинов, которым удалось бежать из плена. Югославы всегда говорили «русские», хотя в этом батальоне были люди самых разных национальностей. Об одном из них — руководителе разведгруппы при штабе 9-го корпуса НОАЮ — азербайджанце Мехти Гусейне ходили буквально легенды. Там же, в составе НОАЮ, были подразделения болгарских патриотов, группы антифашистов-поляков, венгров, словаков, греков, румын, немцев, испанцев, французов, итальянцев… Позже историки насчитали шестьдесят три национальные части, воевавшие в рядах НОАЮ. Они умели воевать, но им не хватало оружия.
Для транспортных перевозок «плечо» было слишком длинным — 1300 километров в один конец. И все же расчеты показывали, что с дополнительными баками цель достижима. Карту Югославии изучали старательно, впечатывая в память особенности местности. И удивлялись родному звучанию названий поселков и долин: Киево, Бела-Црква, Баня-Лука, Бабино Поле, Вратиица Добрино, Ново-Село, Крива-Фея, Ключ, Криводол, Майдан, Мария-Бистрица, Святозарово…
К середине января группа была готова к походу. Центр торопил с полетами. Однако весь январь и первую половину февраля на Украине и в Югославии плотным покровом стояли туманы, шли моросящие дожди, в облаках — интенсивное обледенение. Потом температура резко понизилась, начались сильнейшие снегопады. Киевский аэродром Жуляны завалило снегом. Строительный батальон не успевал очищать взлетную полосу, хотя люди и техника работали днем и ночью. На помощь пришли киевляне. Разумеется, они не знали, что разгребают сугробы для полетов в Югославию, но понимали, что дело очень важное.
В эти дни штурмана Румянцева часто видели возле метеостанции. Летчики — народ внимательный. Очень скоро они сопоставили прогулки молодого капитана возле площадки с флюгерами, термометрами и анемометрами с дежурствами Клавы — прелестной девушки-синоптика. Время от времени Кудряшов говорил штурману: «Сходи на метео, узнай, что там «ветродуи» себе думают…»
Увидев в очередной раз Румянцева, девушка качала головой, предупреждая его вопрос.
«Погоды нет, и прогноз плохой», — говорила она, и нельзя было понять — печалится она или радуется втайне: еще один день войны позади…
Погода со дня на день должна была установиться. Наибольшее беспокойство у командования вызывала слабая связь с Верховным штабом НОАЮ. Для координации действий туда была направлена советская военная миссия. С нетерпением ждали от нее вестей, связи. Миссия добиралась на двух самолетах этапом — кружным и небезопасным путем. Вот ее маршрут: Москва — Астрахань — Баку — Тегеран — Багдад — Кипр — Триполи — Тунис — Алжир — Южная Италия — Югославия. Возглавлял миссию опытнейший военный теоретик и практик, специально отозванный из штаба армии генерал-лейтенант Н. В. Корнеев, участник гражданской войны. Его заместителем был А. П. Горшков, имевший опыт управления как регулярными воинскими частями, так и крупными соединениями партизанских сил в брянских лесах. В составе миссии были также участники войны в Испании, бывшие работники советского довоенного представительства в Югославии. Был в этом небольшом коллективе переводчик — совсем молодой лейтенант Владимир Зеленин, который к дальнейшему нашему рассказу имеет особое отношение. Команду подобрали сильную, однако она еще была где-то в пути. А Центр все нетерпеливее запрашивал: когда будет «мост»?
Наконец прошел сигнал: цель под кодовым названием «Сокол» открыта. В районе Киева по-прежнему валил снег. О том, какая погода на трассе, можно было только гадать. Что ж, если погода скверная, значит, вражеские истребители бездействуют. Отдан приказ группе: идти на прорыв к братьям-славянам. Как бывает в подобных случаях, еще надеялись на чуточку удачи. Но на этот раз везения не было. Напротив, неудачи с первых шагов преследовали группу.
Ночь с 19 на 20 февраля 1944 года летчики позже называли «Варфоломеевской». Густой снег засыпал только что расчищенную взлетную полосу. Машины, тяжело загруженные топливом и стокилограммовыми мешками, продавливая снег, поочередно разбегались и, с трудом отрываясь от земли, тотчас исчезали в снежной круговерти.
Капитана Кудряшова и второго пилота в жар бросило, когда почувствовали, что полоса кончается, а машине еще не хватает скорости. Ударили по газам до упора, кое-как оторвались. В мотогондолах стукнули стойки шасси, сев на верхние замки. Командир Кудряшов молча вытер взмокшую шею. Кусан Саденов покачал головой:
— Ну и взлет! Обязательно сегодня кто-то гробанется…
Так и случилось. Следующая за ними машина капитана Никифора Рыбалко (опытнейшего пилота, бывшего летчика ГВФ 1-го класса) и штурмана Василия Улиско не сумела набрать скорости, в конце полосы при отрыве завалилась, врезалась в сугроб. К счастью, моторы не вспыхнули, экипаж отделался ушибами и ссадинами. Но это было только началом.
Бомбардировщики пробивались сквозь снежную кашу, не видя ничего вокруг себя. Теперь их осталось только четыре. Каждый экипаж в одиночку боролся со стихией. Пробили облачность, линию фронта миновали почти незаметно, только слабое мерцание облаков свидетельствовало о том, что внизу пролегает огненная черта. В районе Карпат вновь вошли в облака. Подниматься выше — не хватит горючего на обратный путь.
Самолеты группы разбрелись по курсу. Машина подполковника Жилина попала в полосу сильного обледенения и вынуждена была пробивать облака. Но эта борьба отняла слишком много топлива. Подсчитав оставшийся запас горючего, Жилин понял, что, концы с концами связать не удастся и, не дойдя до цели, повернул назад. И его машина оказалась единственной, которая вернулась невредимой из этого полета. Экипаж Жилина погибнет уже вскоре, во время, одного из следующих вылетов в Югославию. Он сбросит груз партизанам, но на обратном пути его самолет, поврежденный снарядами зениток, попадет над Карпатами в область интенсивного обледенения и перед рассветом рухнет на землю.
Три оставшихся бомбардировщика продолжали путь к цели. Справа Белград, курс на Босанский Петровац. Все три машины, преодолев 1300 километров, вышли в назначенное место, однако условных сигналов не обнаружили. Они повернули к югу, полетели к береговой черте Адриатического моря, к острову Брач, и, по очертаниям пролива убедившись в точности ориентировки, вновь вернулись к точке «Сокол». Но и теперь не увидели костров.
Они не знали, что в эту ночь партизаны вели тяжелый бой и не смогли предупредить об отмене операции. Экипаж Кудряшова пересчитывал остатки горючего. Очень не хотелось возвращаться, не передав югославам эти шесть мешков — полтонны бесценного груза. Может быть, партизаны просто не успели разжечь костры и, услышав шум моторов, все-таки дадут сигнал?
Внесли поправку в расчеты: от Киева до Белграда дул сильный встречный ветер. Значит, теперь он должен помочь — есть навигационный запас. Сделали на малой высоте еще один пролет по «коробочке». Как потом оказалось, эти двадцать минут ожидания над целью стоили машины, потому что неудачи продолжали преследовать первопроходцев.
Даже ветер изменил им в этом полете: за несколько часов он переменил направление и съел навигационный запас. Теперь топлива оставалось в обрез, да и то, если идти по ниточке в самом экономном режиме.
На походе к Карпатам радист доложил командиру, что принял неприятную радиограмму — аэродром Жуляны закрыт из-за снегопада и плохой видимости, приказано садиться на запасном — в Конотопе. И почти тотчас связь прекратилась. Самолет вошел в зону сильного обледенения. Молочной пленкой затянуло бронестекло кабины. Срывающимися с лопастей винтов осколками льда были разбиты блистера, антенна тоже обросла льдом и ее оборвало встречным потоком воздуха.
«Под нами Киев», — сообщил, наконец, штурман Румянцев. Земля была плотно закрыта облаками. Кудряшов ничего не успел ответить. В тот же миг зажглись красные лампочки — сигнал о том, что топлива осталось на 15 минут. До Конотопа еще километров двести. Они пробыли в воздухе на 60 минут больше, чем рассчитывали. Связи нет. Возможно, их уже считают погибшими. И вдруг по бокам — разрывы зенитных снарядов, осколки ударили в плоскости машины. Это они вышли на строящуюся переправу через Днепр, и наши зенитчики стреляли на звук моторов.
До Конотопа было не дотянуть. Решили подобрать площадку и садиться на фюзеляж, не выпуская шасси. Кудряшов не хотел терять ни машину, ни груз. Уже нацелились на посадку, но в решающий момент получили в лоб снежный заряд такой густоты, что световой экран, возникший от света фар, ослепил пилотов. Пришлось набирать высоту, чтобы повторить заход. И тут моторы начали давать перебои — баки были почти пусты. Сейчас обрежет тягу и машина упадет камнем.
— Вот тебе и «бакшиша», Кусан, — с досадой крикнул Кудряшов второму пилоту. — Бакшиш. Все, прощай, «Милашка»!..
Командир уже заранее распорядился: «Всем подготовиться покинуть самолет!», но тянул до последнего, хотя знал, что «Милашка» не любит, когда ее покидают. Если на бомбардировщике Ил-2 почти у каждого члена экипажа свой выход, то здесь, на Б-25, оба пилота и штурман должны успеть по очереди протиснуться в единственный люк. Стрелок, пятясь, как рак, отползает от хвоста почти на середину машины, к десантному люку. «Румянцев, прыгать!» И посыпались, закувыркались по одному. Как положено, первым пошел штурман, за ним — второй пилот. Ив среднего люка уже вывалились радист, воздушные стрелки. Последним, чертыхаясь, покидает самолет командир.
Точно мокрой подушкой ударил по лицу ветер. Саденов закувыркался в облаках, не видя ни земли, ни неба. Но прощальный взгляд, брошенный им на альтиметр, обнадеживал — высота достаточная, и второй пилот, не спеша, чтобы подальше уйти от обреченной «Милашки», выровнял падение и только потом раскрыл парашют. Где-то мелькнул огонек. Было еще довольно темно, но стали уже различимы пятна на земле — где снег, где проталины. Потом Саденов почувствовал, что тянет его на густую черную полосу. Это ему не понравилось. Подумал: железная дорога, значит, рядом натянутые провода, попадешь — разрежет, как кусок сыра. Потянул за стропы, стараясь уйти подальше. Потом увидел перед собой речку — этого тоже не надо, купаться еще не сезон. Парашют отпустил и тотчас упал на берегу.
Первым делом вытащил пистолет и, услыхав отдаленные выстрелы, тоже пальнул два раза в воздух. Потом подумал: хоть и на своей территории, а неизвестно, куда попал. Кругом люди с оружием, а тут кто-то с неба свалился. Раз пошло подряд такое невезение — от своих можно пулю получить. А это — самое обидное. Убрал пистолет, обмотался парашютом и, сделавшись невидимым на снегу, зашагал в сторону черной полосы, которую пересек, спускаясь. На горке был виден огонек, какие-то строения, подошел поближе — мост. У моста часовой ходит один-одинешенек. Летчик прилег на снег, начал наблюдать за ним. Часовой к мосту подходит, потом поворачивается и скрывается за поворотом.
Считал-считал Саденов, получается двести пятьдесят шагов часовой делает, вроде бы можно успеть за это время через мост на горку проскочить. Обмотался потуже парашютным шелком и, как только часовой скрылся, вскочил, и во весь дух к домику. А там какая-то проволока колючая натянута. Может быть, склад, может, военнопленных держат, появишься, где не положено, — запросто могут убить. Около дома большой дуб. Салено и встал за него, прислушался. Было около шести утра, а в шесть обычно подъем. И верно, появились двое, без оружия как будто. Вышли, потоптались у стенки. Один — другому: «Дай закурить, браток…» Второй, поворчав, оделил закруткой.
Услышав русскую речь, Саденов шагнул из-за дерева: «Ребята!..»
Они от него бегом.
— Не бойтесь, я свой! — закричал Саденов. — Самолет летал — слышали?
— Да, — остановился один, припоминая, — гудело что-то.
— Ну вот. А я летчик с этого самолета. Где ваш старшой? Проводите, пожалуйста… Идемте.
— Летали, да вот так получилось. Видите, парашют…
Пришли в дежурку. Саденов представился. Старшой внимательно вгляделся из-под керосиновой лампы, спрашивает:
— Что вам надо?
— Надо, чтобы часовые нечаянно не подстрелили наших, из экипажа. А потом до Киева мне поскорей как-нибудь добраться.
— Хорошо, — говорит дежурный, — я предупрежу. А сейчас отдохните, пока рассветет. На дороге наш пост, первую же машину остановим и поедете. Что еще?..
— Поспать бы немного.
Командир распорядился, чтобы из кладовки принесли топчан. Саденов разложил на нем парашют и только прилег, завернувшись в шелк, тотчас отключился, как в обмороке.
Очнулся от разноголосого женского плача: «Какой молоденький летчик! Красивый! Как живой лежит, а внутри, наверное, весь поломанный, разбитый. Бледный-то — ни кровиночки. Наверное, еще не убитый с высоты падал…»
Саденов приоткрыл глаза. Наверное, принесли кого-то из экипажа. Кого же? Но оказалось, что это его оплакивают. Комната битком набита молодыми женщинами. Кусан отбросил парашютное полотно, соскочил с топчана — какой тут сон! Достал плитку шоколада, стал угощать. Девушки обрадовались, хохочут:
— А вам что?
— Мне чаю кружку налейте.
Не успел выпить чаю, в дежурку вбегает девушка:
— Там еще один ваш идет. Большой такой, как медведь…
Саденов выскочил наружу. И верно — идет штурман Румянцев, парашют боевой на себя намотал. «Федор!» Обнялись.
— Где приземлился, Кусан?
— У речки, на берегу.
— А ты?
— А я среди пней. Это местечко называется Козары, — штурман при любом удобном случае любил щегольнуть знанием местонахождения. — Немцы сожгли его, а сейчас здесь работает строительная часть, готовят лес для переправы. Рядом Козелец — это километров шестьдесят от Киева.
Тут подоспела и попутная машина. В центре Киева их высадили, и подались они напрямую через развалины Лавры. Идут вдвоем, парашюты на себе. В боковом проулке показалась еще одна такая же фигура. Зоркий казах Саденов первым заметил и толкает штурмана:
— Смотри-смотри, Иван Дерюжков, командир наших стрелков. Идет-бредет, голову понурил.
Окликнули, пошли вместе. Весь экипаж, считавшийся погибшим, оказался в сборе и подводил невеселые итоги ночи.
Чуть раньше позвонили из Конотопа: экипаж Евгения Мухина (бывшего летчика ГВФ 1-го класса) и штурмана Ивана Лисового, тоже лишившийся связи, произвел там вынужденную посадку в поле, на фюзеляж. Самолету Бирюкова повезло чуть больше, у него рация продолжала работать. В невероятно сложных метеоусловиях он приземлился на аэродроме в Жулянах. Но в конце пробега бомбардировщика занесло в окоп, и он тоже получил повреждения.
Вот так окончилась первая попытка. По счастью, люди остались живы, но материальный урон группа понесла значительный: из пяти машин одна погибла, три были серьезно покалечены. И все же, после подробного анализа неудачи, командование пришло к выводу, что транспортировка оружия по воздуху в Югославию возможна. 23 февраля 1944 года советская военная миссия прибыла в Югославию. Была налажена надежная радиосвязь. Пострадавшая Южная группа была пополнена новыми машинами, и с первых чисел марта переброска военных грузов началась, «мост» начал действовать.
Что же было в этих мешках? Саденов и стрелки, когда подтягивали к люкам упаковки, чувствовали по весу и по форме: здесь — автоматы, пистолеты, здесь — ящики взрывчатки, боекомплекты, мины, здесь — бинты, лекарства. Все то, что в эти годы самим было дороже золота. Делились с югославскими братьями из последнего. Больше всего было противотанковых средств: мин, гранат, тяжелых ружей ПР (средство весьма эффективное: малый бронебойный снаряд прошивал танк чуть ли не насквозь, но стрелять из них приходилось с передовой линии, и в пехоте эти ружья ПР окрестили «Прощай, Родина»)… Попадались иногда минометы и орудия в разобранном виде.
К концу апреля 1944 года Южная группа, состав которой пополнили два новых экипажа — гвардии капитана Гоги Агамирова и штурмана Ивана Гвоздева, гвардии капитана Александра Давыдова и штурмана Василия Тузова, совершила тридцать девять боевых вылетов и доставила в Югославию двадцать пять тонн груза и восемнадцать человек личного состава НОАЮ.
«По небу полуночи»
До июня 1944 года «вторым фронтом» называли партизанские армии, движение сопротивления нацистскому режиму. Близ аэродрома создалась целая колония людей разных национальностей, дожидавшихся отправки на партизанский, подпольный «второй фронт». Разные это были люди — по возрасту, профессии, семейному положению. Все знали, что пойманных ожидают пытки и жестокая казнь. Запомнилась летчикам девушка-черногорка из диверсионного отряда. Невысокая, гибкая, она держалась отчужденно. Рассказывали, что фашисты уничтожили всю ее семью — и родителей, и братьев. Целыми днями она тренировалась в спортивном городке, стреляла в тире навскидку из нашего и трофейного оружия, а во время прогулок с необычайной ловкостью и злостью метала ножи. Смотреть на нее в эти мгновения было жутковато.
Полной ее противоположностью казалась другая девушка — итальянка по имени Тереза, появившаяся ранней весной. Было ли это имя настоящим — никто таких вопросов не задавал. Впрочем, имя распространенное…
Вместе с ней приехал молодой парень, говоривший по-русски плоховато, с сильным акцентом. Ее же речь была безупречно чистой, певучей. В отличие от черногорки, она едва ли когда-нибудь держала в руках оружие и всегда с опаской смотрела на воинские упражнения.
Была она очень красивой, и лейтенант Саденов, точно завороженный, с нее глаз не сводил. Но Тереза всегда появлялась в сопровождении юноши, и лейтенант не осмеливался с ней заговорить. Проницательные пилоты тотчас заметили переживания Кусана, но почему-то, вопреки обычаю, не стали над ним подшучивать. Наверное, и девушка почувствовала его взгляды, она всегда улыбалась в ответ издалека.
Только много лет спустя удалось узнать, кто на самом деле была эта девушка. Ученый-историк подполковник А. М. Сергиенко, после войны работавший над боевой летописью Авиации дальнего действия, встретился с бывшим переводчиком советской военной миссии в Югославии, доктором исторических наук В. В. Зелениным, и тот стал припоминать, что, кажется, однажды слышал в штабе Тито о присланной из Москвы девушке-радистке по имени Тереза. Ниточка была очень слабой, но Сергиенко не терял надежды, и в результате его настойчивых поисков появилась возможность раскрыть эту тайну — Тереза родилась 10 мая 1924 года в Италии в семье мастера по ремонту велосипедов Торкуатто Мондини. Когда к власти пришли фашисты, Мондини и его товарищам по движению Сопротивления пришлось скрываться. В это время его друг Джузеппе Берти получил задание на переезд в Москву. Ему стало известно, что в Советском Союзе открылся первый интернациональный детский дом имени знаменитой революционерки Елены Стасовой. Решили, что весной 1934 года Джузеппе отвезет в Москву свою дочь Винку и дочь товарища — Терезу. Под чужими именами проделали путь из Ливорно до Белорусского вокзала через Париж, Берлин, Варшаву, Брест. В Москве их встретил сам Ансельмо Марабини — один из основателей компартии Италии. Он пришел с внуком Пеппино — мальчиком примерно лет десяти, и первое время, до отъезда в интернат, Тереза жила в доме Марабини.
Детский дом располагался в городе Иваново, в красивом двухэтажном здании, построенном по инициативе и на средства МОПРа (Международной организации помощи революционерам). Здесь нашли приют дети преследуемых коммунистов более тридцати национальностей — из Болгарии, Германии, Китая, Испании. Италии, Бразилии. Здесь была дочь Долорес Ибаррури Амая, сын Пальмиро Тольятти Альдо, два сына Луиджи Лонго, дети Мао Цзедуна. Самой близкой подругой Терезы стала Леля — дочь болгарки-воспитательницы Свободы Благоевны Касабовой.
После окончания школы Тереза поступила в Ивановский энергетический институт. Окончила первый курс, и — война! Общежитие отдали под госпиталь, студенты разместились по частным домам, но у всех были одни заботы: рытье окопов, донорство, уход за ранеными, походы в военкомат с требованием отправить на фронт. Ответ: «Помним. Ждите!»
Наконец, весной 1942 года вызвали: «Вам скоро восемнадцать лет. Вы готовы помочь в борьбе с фашизмом?» — «Готова!..»
Школа радистов, в которую направили Терезу Мондини и Лелю Касабову, находилась в предместье города Уфы. И там неожиданно встретился старый знакомый — Пеппино, внук Ансельмо Марабини. Занимались интенсивно — по десять часов в сутки. Изучали радиоаппаратуру, азбуку Морзе, шифровальное дело. В свободное время бегали в гостиницу «Башкирия», где проживали работники Коминтерна, в том числе итальянцы. Общение с ними было необходимо, прежде всего для восстановления утраченных разговорных навыков родного языка.
Учеба в школе продолжалась почти год. Затем в подмосковном городе Пушкине и в Москве — конкретная подготовка и задание. Группа встречалась с Георгием Димитровым.
— Идете на серьезное дело, — предупреждал старый конспиратор. — Никто и никогда, при любом повороте событий, не должен знать, кто вы. Только максимальная осторожность поможет выполнить задание.
К этому времени вернулся в Москву Пальмиро Тольятти. Он принял Винченцо Бьянко и Терезу Мондини прямо у себя, в двухкомнатном номере гостиницы «Люкс» (ныне — «Центральная»). По условиям времени номер был обставлен по-казарменному скромно. Молодые люди присели на железную койку. Из предосторожности Пальмиро говорил вполголоса. Подробно обрисовав политическую обстановку в Италии за последние полгода, лидер партии совсем тихо заключил:
— Ваша группа будет заброшена по воздуху в Югославию, а уже оттуда через партизан Тито перейдете на север страны. В Милане войдете в контакт с подпольем и поступите в распоряжение Луиджи Лонго…
Все эти обстоятельства не были известны Саденову, однажды под вечер он увидел, как экипаж Мухина идет к машине, и среди летчиков — несколько парашютистов. Был там и тот молодой итальянец. Терезы с ним не было, и Саденов подумал, быть может, она только провожала товарища. Но на следующую ночь пришла очередь экипажа Кудряшова вывозить группу из трех парашютистов в район западной Югославии. В одном из них Саденов узнал Терезу. Даже мешковатый комбинезон сидел на ней прекрасно, пряди волос выбивались из-под шлема. Старшим в группе был плотный итальянец-усач, появившийся в поселке только вчера. Значит, это его ожидали. Лицо резкое, волевое, движения властные, речь жесткая.
Маршруты подобного рода были известны Саденову. Из западной Югославии группы пробирались к Триесту, оттуда в Италию. Долгий и опасный путь.
Сумрак опустился на поле аэродрома. Пора! Взревели три тысячи лошадей. Зажглись на взлетной полосе синие стартовые огоньки, прикрытые колпаками. Задраены люки. Механики отступили на несколько шагов, и самолет побежал в темноту.
Печален был этот рейс под весенними звездами. Одинокий самолет. Внизу — необъятное поле облаков. Ночь темна — фаза новолуния. Где-то внизу прячутся Карпаты, погруженные в снега, в туманы. Припомнилось: в ночь новолуния вдовы плачут. Когда же кончится эта война?.. Командир, стараясь отвлечь второго пилота от земных переживаний, то и дело тормошил его вопросами о работе моторов, давлении масла, о перекачке топлива… Иногда, в более или менее спокойные минуты, он, смилостивившись, приказывал: «Кусан, проверь, как там пассажиры». Саденов, пригибаясь, пробирался тоннелем к холодному полутемному отсеку, где под ногами стрелка-пулеметчика, завороженно глядящего сквозь прозрачный купол в звездное небо, сидели итальянцы. Но взгляд усача был таким строгим, что и теперь лейтенант не решился сказать Терезе других слов, кроме положенных, — о самочувствии, о парашюте, лямках, креплениях. Покрутившись еще немного около запасного бака, Саденов возвращался с болью в душе. Как он и предполагал, у девушки это был первый в жизни прыжок, к тому же ночной.
«Главное, запомните, — проговорил он ей в ухо, коснувшись губами кожаного шлема. — Перед самым касанием с землей подожмите ноги и валитесь на бок…»
«Спасибо, я знаю».
Штурман Румянцев тоже слышал в наушниках все переговоры второго пилота с командиром и понимал, в чем дело. Едва ли итальянцы спят у люка, на это способен только «граф Люксембургский». О чем они думают под рев моторов? Осталось еще одно опасное место — район Баня-Лука, куда фашисты перенесли аэродром ночных истребителей-перехватчиков. Есть у них и локатор. Если там не собьют, через два часа самолет пойдет со снижением. Откроются железные створки люка — ворота в темноту, в неизвестность. В эти секунды у самых отважных сжимается сердце. Он скомандует: «Приготовиться…» Уже и теперь ничего нельзя изменить — ни передумать, ни отказаться. Цель приблизится: «Пошел!» Не бомбы, а люди, живые люди — через этот адский люк. Кто бы он ни был — немецкий генерал, многоликий, как хамелеон, разведчик «граф», черногорка с мстительным огнем в глазах или эта нежная, удивительно женственная девушка Тереза, что, наверное, в жизни не держала в руках оружия, — все уходят туда. И больше Саденов никогда ее не увидит.
Монотонный многочасовой гул моторов навязывает слуховые галлюцинации — летчики привыкли к ним, и даже научились управлять иллюзией, вызывая в памяти любимую песню или мелодию. Румянцеву в этот раз отчетливо слышался голос старшего брата Сергея, расстрелянного немцами в Калуге. Почудилось: они дома, в тепле, вся семья в сборе. Вытянув вперед свою негнущуюся ногу, брат сидит на табуретке возле лампы и, закрыв глаза, читает на память из Лермонтова. На коленях у него лежит растрепанный сборник «Златоцвет» — домашняя реликвия. Все внимательно слушают, так у них в доме было всегда заведено: старший брат — второй отец. Сергей любил эти стихи, только как они назывались, не припомнить:
По небу полуночи ангел летел, И тихую песню он пел; И месяц, и звезды, и тучи толпой Внимали той песне святой…Голос брата умолк. Немцы долго били его, инвалида, прикладами, потом выволокли в сарай и застрелили там. Больше ничего не слышалось в шуме двигателей. Но как же было дальше?..
Он душу младую в объятиях нес Для мира печали и слез…— Штурман, дай координаты! — раздался в наушниках голос командира.
— Перед нами Дунай, — ответил Румянцев.
— Не вижу, облака сплошные.
— Вот этот длинный прогиб в облаках повторяет излучину реки. Идем точно по курсу. Уже скоро.
И вот моторы приглушены, машина проваливается в темноту.
— Кусан, пора провожать…
Цель — площадка — была ограниченной, поэтому сброс производили в два захода. Прошел сигнал «Приготовиться!» Привычным движением Саденов оттянул защелку — в полу открылся черный люк. Шумный вихрь заполнил самолет. В первом заходе прыгнули мужчины, и самолет пошел на второй круг. Девушка словно в полусне подошла к краю люка, и что-то изменилось в ее лице. Обеими руками она вдруг обхватила молодого казаха за шею.
— Если у тебя родится дочь, назови Терезой, — с тоской прокричала она. — Терезой… Обещай мне!
— Хорошо, сделаю. Иди спокойно, — успел ответить летчик.
Команда: «Пошел!» — и девушка исчезла.
Это было 24 апреля 1944 года, в ночь новолуния. Саденов понял, что девушка назвала свое настоящее имя. Исполнить ее просьбу он пообещал искренне, хотя никому не сказал об этом разговоре. Вскоре погиб экипаж капитана Мухина, за ним еще многие другие. Огонь войны пылал во всю силу, и никто не мог рассчитывать остаться в живых.
Славянский мост
База передвинулась под Винницу — поближе к Югославии. Группу решено было расформировать, так как задачу свою она выполнила. Оставшиеся в живых экипажи-первопроходцы использовались теперь в качестве лидеров-наводчиков больших групп самолетов. Начиная с 3 мая 1944 года в Югославию летали уже не пять, а сорок четыре экипажа 15-й гвардейской Гомельской авиадивизии дальнего действия. Поток грузов стал измеряться сотнями тонн. «Славянский мост» действовал бесперебойно.
Экипажи не видели партизан, только «конверты» их костров. Нередко втискивали под шнуровку мешка письмо со словами дружеского привета, табачный кисет или газету со свежей сводкой Совинформбюро. И, что могли еще сделать от себя, — за счет рискованного уменьшения запаса топлива увеличивали полезную загрузку машин почти вдвое — брали в кабины не пять-шесть мешков по расчетной норме, а по восемь-десять, общим весом до тонны.
Участившиеся «мешочные» рейсы не остались незамеченными. Гитлеровское командование принимало все меры, чтобы разрушить налаживающийся «славянский мост».
На трассе движения грузовиков-бомбардировщиков фашисты выставили мощные зенитные батареи с прожекторными установками, создали аэродромы ночных истребителей. Посты наблюдения сторожили их в пунктах Суботица, Сегед, Нови Сад…
Теперь летчики каждую минуту могли ожидать, что вокруг машины вспыхнут серии разрывов зенитных снарядов. В одну из таких засад попал экипаж Мухина. Заменивший погибшего Жилина командир нового экипажа, бывший летчик ГВФ 1-го класса гвардии капитан Александр Давыдов, который шел чуть позади, видел это своими глазами. Ночь была тихая, южная. Самолеты шли над Карпатами на небольшой дистанции друг от друга. Земля была под облаками, и ничто не предвещало беды. Все произошло внезапно близ города Суботица.
«Примерно на нашей высоте, — рассказывал потом Давыдов, — мы увидели залп разрывов зенитных снарядов, за ним, через короткий интервал, — второй, после которого в воздухе последовал большой взрыв, от него поползли вниз огненные языки. И снова наступила непроглядная темнота ночи без единого выстрела с земли. По нашему предположению, зенитной артиллерией сбит один из наших. Но кто именно? Я попытался установить с экипажем Мухина радиосвязь — тщетно… В сознании еще теплилась какая-то надежда, но невольное предчувствие подсказывало, что они погибли. После посадки на КП полка мы узнали, что экипаж гвардии капитана Евгения Мухина и штурмана Ивана Лисового с боевого задания не вернулся».
Трассу «моста» изменили; пришлось в обход зениток идти через Трансильванские Альпы. Тогда немцы один из аэродромов ночных истребителей перенесли в район города Баня-Лука, поблизости от места сбрасывания груза. Они неустанно охотились за «грузовиками», обстреливали партизанские костры.
Иногда вражеской воздушной разведке удавалась подглядеть форму костров; и тогда немцы выкладывали «конверт» такой же формы в расположении своих войск. Им важно было не столько заполучить эти грузы, сколько не пропустить советское оружие к партизанам, ибо в руках югославских патриотов содержимое ПДМ — парашютнодесантных мешков — обретало огромную взрывную силу. И если удавалось обмануть наших летчиков, фашисты использовали эту ошибку в провокационных целях, чтобы вбить клин между союзниками. В пользу оккупантов активно действовала «пятая колонна» — усташи во главе с С. Кватерником и В. Мачеком и другие профашистские элементы. Они оперативно распространяли листовки с фотографиями ПДМ, заявляли по радио, что якобы Красная Армия помогает оружием и партизанам маршала Тито, и четникам Михача.
Чтобы подобных недоразумений впредь не возникало, была введена дополнительная сигнализация. А кроме того, установлена персональная ответственность. Каждый мешок маркировался индексом экипажа, и партизанский радист передавал «квитанцию» о получении груза. По этим квитанциям оценивали работу.
Усилия «мостовиков» оказались более чем своевременными. Спешили недаром. Как раз в это время гитлеровцы готовили новое крупное наступление на Балканах. Операция называлась «Ход конем» («Rösselsprung»). Расчет был на внезапность. Началось наступление с высадки батальона диверсантов — около шестиста человек на планерах — в район, где находился Верховный штаб НОАЮ. Причем основной удар был нанесен 25 мая, в день рождения маршала Тито. Цель — уничтожить штаб НОАЮ, обезглавить освободительное движение. Одновременно фашисты повели наступление широким фронтом.
Десять дней Верховный штаб вместе с миссиями уходил от преследования гитлеровцев. Борьба шла порой на пределе сил, когда каждая граната, каждый автоматный диск могли стать решающими. Советские летчики вывезли штаб и миссии в безопасный район.
Но это произошло чуть позже. А пока очередная группа ночных «грузовиков» шла, отягощенная мешками с оружием, вслед за лидером-наводчиком к партизанским кострам.
…В ту ночь братья-славяне обещали выложить цель пятью кострами: четыре по углам и один в середине. Этот «конверт» до боли в глазах искал штурман Румянцев, и тревога его нарастала. Все шло по графику вплоть до последней минуты. Завершилось расчетное время, условный сигнал должен загореться, а впереди по курсу лишь глубокая тьма да пятна серой мглы.
Каждый раз на подходе к цели напряжение экипажа достигает предела. Румянцев чувствовал, что сейчас и командир корабля капитан Кудряшов, и правый пилот Саленов так же неотрывно, как он, вглядываются в разрывы облаков. И только стрелки-пулеметчики в своих прозрачных башенках обшаривают глазами небосвод, боясь упустить момент, когда среди балканских гнезд мелькнет акулья тень перехватчика.
Самолет-лидер находился в воздухе уже несколько часов. От аэродрома до потаенной точки в горах Югославии маршрут составлял более тысячи километров. Это если судить по карте. Но за время пути самолету не раз приходилось внезапно менять курс: прятаться в облаках от ночных истребителей, совершать резкие, до хруста в обшивке противозенитные маневры. Летчики то бросали бомбардировщик к самой земле, мчали на бреющем по едва различимым горным расщелинам, то гнали машину на предельную высоту, преодолевая облачность, грозящую обледенением. Здесь, в глубине вражеской территории, для них не было ни огневого прикрытия, ни радиопривода, ни метеосводки.
Они шли первыми, без огней, в режиме радиомолчания, и должны были разыскать костры и обнаружить себя у цели, чтобы там, над партизанскими кострами, стать радиомаяком для всей группы. Позади, примерно в двадцати минутах полета в таком же молчании плыли за ними вслед тяжелые воздушные корабли. Все машины однотипны, разница лишь в том, что на лидере-наводчике — самый опытный экипаж. От умения и удачливости этих шести человек во многом зависел успех операции. Истекало время, отпущенное на поиск цели, радисты всей группы настроили аппаратуру на волну привода. Но в эфире звучала лишь чужая речь, слышались незнакомые сигналы. Лидер молчал, и самолеты с боевыми звездами словно зависли в окружающей их враждебной пустоте.
Неумолимо бежала голубоватая стрелка часов; ревели моторы, высасывая из баков драгоценное топливо, — «конверта» не было. Холодный пот выступил на лбу Румянцева. Сейчас в наушниках прозвучит голос командира: «Где мы?..» «Костры!», «Цель вижу!» — разом прозвучали два голоса, командира и штурмана.
Оба они — и капитан Кудряшов и капитан Румянцев — бывший бамовский пилот и бывший аэрофотосъемщик еще никогда не ступали на югославскую землю, но они отчетливо представляли себе, как там, в горной долине, измученные непрерывными боями, голодом и болезнями люди стоят у огня и напряженно прислушиваются, пытаясь определить по звуку — свой идет или чужой? Что несет им приближающийся из черноты ночи гул моторов: спасительную помощь от братьев по оружию, юга это подкрадывается враг, и на костры обрушится град фашистских бомб, огненными бичами ударят пулеметные очереди?
Штурману с высоты людей не разглядеть, и спешить он не имеет права. Кто там, внизу? Кем разложены костры — партизанами, или это гитлеровцы изобрели какую-нибудь новую дьявольскую ловушку? Конфигурация «конверта» соответствует условленной, но этого еще мало для опознания цели. Посмотрим, что покажет «запрос»… Штурман посылает дискретный сигнал-пароль бортовыми навигационными огнями, которые до этого были погашены: «тире — точка». Партизаны должны теперь показать отзыв сегодняшней ночи. Если его не последует или сигнал не совпадет, самолет-лидер будет продолжать поиск цели. Так уже случалось.
Но засветился, замигал глазок карманного фонарика: два длинных — один короткий. Свои! Теперь — разгрузка. На боевом курсе штурман открывает бомболюк, мешки проваливаются. Второй пилот Саденов и стрелки по команде выталкивают мешки из своих кабин. ПДМ уходят в темноту. Стрелок-радист докладывает командиру, что все парашюты раскрылись, грузы ложатся в цель.
Облегченный самолет-лидер набирает высоту и включает бортовой радиопередатчик «на привод». С этой минуты он становится видим в эфире, вся «эскадра» настраивает радиокомпасы на его волну и, если даже самолеты разбросало по трассе грозами, обледенением, зенитками, истребителями, они легко отыщут цель — «конверт». Но, разумеется, позывные «маяка» слышит и враг. Поспешат ли ночные хищники сюда или попытаются перехватить самолеты при возвращении?
Накануне в штабе предупредили: у люфтваффе появился модифицированный истребитель Фокке-Вульф 190 D-9. Двигатель мощностью 2240 л. с, с водно-метаноловым форсированием. Максимальная скорость — 760 км/час, потолок—12 500 метров. Четыре 20-мм пушки с электроприводом позволяют совершать несколько тысяч выстрелов в минуту, два 13-мм пулемета, управляемые ракеты «воздух-воздух». Настоящая лавина огня. Сверх того — бортовая радиолокационная станция, система распознавания «свой — чужой». Этот лучший немецкий поршневой истребитель стал поистине грозой для наших дальних бомбардировщиков.
Задача лидера еще не завершена. Он идет по «коробочке», его радиостанция продолжает созывать группу. Вот они, корабли. Первый выныривает сверху, пологой спиралью пробивая высокую облачность. Следующие выходят на «конверт» прямым курсом, со снижением. Поочередно разгружаются на площадку и отваливают в темноту, покачав на прощанье крыльями. Югославские товарищи, наверное, не видят этого — они заняты лихорадочной работой, — надо скорее убрать груз, пока не налетели стервятники. Теперь — все. Лидер тоже уходит, качнув крылом: прощайте, братья!..
Однажды огнем зениток был подбит самолет капитана Кравцова. Летчик сумел дотянуть машину до партизанского района и приказал экипажу покинуть бомбардировщик, однако сам командир и штурман Решетников не успели — машина рухнула, и оба погибли. Югославы похоронили их и передали на авиабазу, что отомстят за погибших.
Еще далеко была Красная Армия, а немало русских могил появилось на югославской земле. Когда советские самолеты, помогая партизанам, бомбили сосредоточившуюся для наступления фашистскую группировку в районе города Ниш, одна из машин была поражена зенитной артиллерией. Экипаж покинул горящий самолет. Штурман Румянцев видел, как гитлеровцы, подсветив прожекторами спускающихся на парашютах летчиков, расстреливали их в воздухе. Летчики ничем не могли помочь своим товарищам, а югославы, будучи в меньшинстве, тотчас поднялись в атаку. Их удар был так яростен и внезапен, что противник бежал с поля боя. Братья — славяне отбили у гитлеровцев тела погибших летчиков и похоронили с воинскими почестями.
Возвращение домой было сопряжено с еще большими опасностями: группа обнаружена противником. Топливо — на пределе. Время тяжелое, предрассветное. Командир то и дело опрашивал стрелков о самочувствии, чтобы не теряли бдительности, советовал принять по полтаблетки фенамина против сна, которые полковой врач выдал перед вылетом. Но и сам Кудряшов чувствовал упадок сил, вялость, тяжесть в голове, хоть и бодрился. Быть может, сейчас отдохнувшие истребители высланы за ними в погоню и появившиеся недавно наземные радиолокационные станции ведут их в темноте ночи на перехват.
Румянцев хорошо помнил, как недавно в этом же районе на бреющем, прижав уши, уходили от трех «мессеров». Казалось тогда, что положение безвыходное и спасения нет. Вот-вот истребитель вонзит трассирующие очереди в грузную тушу бомбардировщика. Кудряшов совершил то, что казалось невероятным. С ним бывало, что в простых ситуациях он совершал ошибки, но в миг опасности на него находило какое-то сверхъестественное озарение. В тот раз ушли…
Вдруг возглас стрелка-радиста: «Истребитель!» Резкий маневр, пулеметная очередь. «Где он?» «Командир, справа, выше нас, сзади истребитель». Еще вираж. И снова: «Истребитель атакует!» Новый маневр. Штурман приник к стеклу. Где же?.. Оказалось, от перенапряжения стрелок принял звезду за приближающийся самолет.
Никто не рассмеялся и не упрекнул воздушного стрелка за ошибку. Понимали: посидишь в его башенке десять часов, как заяц на слуху, — еще не такое померещится. Дома будем разбираться. Если врач скажет, что здоров и психика не «сдвинулась», то в столовой он, конечно, станет героем дня. Уж летчики его доймут и взыщут за все страхи. «Покажи, — скажут, — в которую звезду ты палил?», «Штурман, он тебе все звезды посшибал. Как ориентироваться будешь?» Но до дома еще надо долететь. Пока же все только вздохнули с облегчением.
Ночная атака обычно происходит внезапно. Немного позже — 19 августа — получили приказ сбросить парашютиста вблизи румынского города Брашева. С большой опаской шли в это место. Знали, что придется идти мимо крупного авиационного завода. И, хотя они вовсе не собирались тревожить этот завод, незаметно прошмыгнуть не удалось. Местное ПВО выслало пару дежурных перехватчиков.
Стрелок обнаружил сначала только одного. «Командир, истребитель атакует!» — успел он крикнуть и сделал это скорей по наитию, когда как-то нехорошо подмигнула ему звезда. Кудряшов среагировал мгновенно, огненная трасса «худого» прошла мимо, а старшина Медведев, уже заваливаясь на спину, с маневра всадил в «мессера» очередь. «Командир, истребитель горит!..»
— Кирдык пришел «худому»! — подтвердил Кусан Саденов, провожая взглядом падающий истребитель.
Объятый пламенем перехватчик ушел вниз и, врезавшись в землю, взорвался. Только тут они заметили второго, этот второй истребитель отвернул от них без боя. После того как партизаны прислали подтверждение, Медведева представили к ордену Красной Звезды.
Не дожидаясь подтверждения и награды, старшина в то же утро начертил на борту бомбардировщика — поближе к своей кабине — звезду, какие рисуют обычно истребители после победы в воздушном бою. Хотел даже с вызовом — светящейся краской, но командир не позволил.
Уже начинало светать, когда показались желанные облака. Под их прикрытием миновали линию фронта. Радист отбил донесение о выполнении задания.
— Штурман, сколько на твоем хронометре? — спрашивал командир скорей для того, чтобы проверить бдительность и, получив ответ, усмехался через силу. — Уж волк умылся, а кочеток пропел…
Все труднее было сопротивляться чувству вялой безмятежности. И только вышли к аэродрому, как близко в облаках пронеслись две тени — истребители. Пригляделись — наши. Но они разворачивались для атаки. Спешно был дан сигнал: «Я — свой!» Истребители разочарованно отвалили.
После этой встречи настроение экипажа превратилось в ликующее, сонливости как не бывало, хотелось петь.
Казалось, сейчас они могли бы, заправив баки, сразу пойти на новое задание. Но это была последняя вспышка энергии. На посадку пошли с ходу — горючее заканчивалось. Потом шагали по полю, еле переставляя ноги, точно все эти десять часов не сидели за рычагами, а таскали каменные глыбы. И первый вопрос на КП: «Все ли вернулись?» На этот раз — все.
Уже сидя на краю постели, штурман Румянцев почему-то стал вспоминать, кто из «бамовской эскадрильи» еще остался в живых. Раньше он не думал об этом, но час победы близился, и тем больнее воспринимались потери. Конечно, в масштабе войны их, бамовских летчиков, была лишь горстка. Но воевали отважно и умело. Они положили свои силы, свои жизни на чашу огненных весов. Каждого из них Родина удостоила высоких наград. Семерым бамовцам было присвоено звание Героя Советского Союза. К сожалению, не все возвращались с заданий. От иных даже могил не осталось — сгорели подобно падающим звездам. В холодных волнах Баренцева моря погасла жизнь Героя Василия Дончука. Не успел покинуть пылающий над Балтикой самолет Эрик Гептнер, Разбился в горах Трансильвании Павел Долгошенко. Они мечтали после войны вернуться на БАМ и завершить начатую ими трудную работу — Г. Иванов, П. Станкевич, А. Дворников, Г. Голембиовский, К. Сгуйте, В. Дзюбенко…
Штурману Румянцеву в числе немногих выпало жить. Он воевал до последнего дня, совершил вместе с экипажем около двухсот успешных боевых вылетов, из которых пятьдесят шесть — по специальным заданиям в глубокий тыл противника с продолжительностью полетов от 6 часов 30 минут до 12 часов 25 минут. На его груди Золотая Звезда Героя. И все это время была с ним рядом Клавдия Петровна — девушка с метеостанции; она ждала его самолет в бесконечно долгие ночи. Когда на рассвете шли на посадку, штурман успевал заметить белокурую головку, высовывающуюся из форточки.
Наши в Югославии.
Фронт приблизился к Югославии, и бомбардировщики брали на борт уже по полторы тонны грузов, а иногда и больше — за счет уменьшения запаса горючего. Продолжительность полетов составляла уже только два с половиной — три часа, рукой подать до партизанских центров — Гламоча, Дравара, Бесны, Вальево, Негобужа, Статовца «Славянский мост» работал теперь с мощным прикрытием. Ночные штурмовики под командованием гвардии полковника М. Дедова-Дзядушинского во время работы «мешочников» нападали на аэродромы ночных истребителей в районах Суботица, Вольнок, Печ, Петроград, Нови-Сад, так что перехватчикам хватало своих забот, и «грузовики» могли действовать беспрепятственно.
Всего экипажи 15-й авиадивизии доставили партизанам восемьдесят одного человека из состава НОАЮ и 8157 мешков — ПДМ — с грузом в 965 тонн. Но и плата была высока. За это время погибло несколько экипажей — прекрасных летчиков, штурманов, стрелков, радистов. В их числе подполковники Жилин, Галинский и Погожев, капитаны Мухин, Кравцов, Долгошенко, Каракозов, Галяшкин, Решетников, Быков… Погиб и бывший командир Южной группы гвардии полковник Кондратьев. Он летел в Югославию, чтобы подобрать аэродром для перебазирования. Над Румынией истребитель полоснул очередью. Кондратьев был тяжело ранен и вскоре умер.
Когда союзники разрешили использовать авиабазу Бари в южной Италии, наши летчики перебросили югославам — уже с посадкой на партизанские аэродромы — тысячи тонн грузов, вывезли многие сотни раненых бойцов. 20 октября 1944 года совместными действиями 3-го Украинского фронта под командованием маршала Толбухина и Народно-освободительной армии Югославии под командованием маршала Тито Белград был освобожден от фашистских захватчиков.
Румянцеву с товарищами довелось ступить на балканскую землю 15 февраля 1945 года, и они были самыми желанными гостями в домах патриотов. Бамовского штурмана югославское Вече наградило высшим в то время боевым отличием — орденом «Партизанская звезда» I степени.
Чуть где появлялся русский солдат, звали в гости со всех сторон: «Братушка!..» Не зайти было нельзя — обидятся. Дружеское расположение югославов к Красной Армии было так велико, а формы его проявления настолько выходили за привычные рамки, что командованию пришлось принять строгие меры для поддержания дисциплины. Рассказывают, что однажды командующий армией, проезжая мимо, увидел югославского часового, стоявшего на поляне у развилки дорог. Рядом под деревом лежал наш солдат. Думая, что произошло какое-то несчастье, командующий велел остановиться и послал адъютанта разобраться, в чем дело.
Адъютант вскоре вернулся крайне сконфуженный. Солдат этот, как видно, возвращался из гостей в свою часть, но, не рассчитав сил, уснул. Мимо проходил югославский отряд. Стали думать, что делать с братушкой. Доставить бы, а куда? Сообщать русскому патрулю не захотели, чтобы не подвести солдата под взыскание. Решили так: пусть братушка спит, земля теплая, когда проснется — сам найдет свою часть. А чтобы никто не потревожил сон освободителя, выставили часового.
Месяца полтора Румянцев прожил в селе Энка и здорово там сдружился с жителями, особенно с хозяином дома, где квартировал, старым крестьянином по имени Люба. 2 апреля авиадивизия перебазировалась в Венгрию. При прощании старик прослезился. Время от времени он приходил на аэродром и просил русских летчиков, улетавших в Венгрию, передать посылку Румянцеву — вино, фрукты, окорок…
Кусана Саденова уже не было в их экипаже. Кудряшов выучил его на первого пилота, на командира. Расставаясь, печалились оба, ведь трудно было сказать, кто из них кому больше был обязан. Новому правому летчику Александру Петрову Саденов, отведя в сторону, внушал строго: «Следи, Саша, за командиром, ухаживай. Он талантливый, летает хорошо, но увлекается…» В новом бомбардировщике Саденов, едва вошел, первым делом над своим командирским креслом прикрепил фотографию Кудряшова — учителя и друга.
С мая 1945 года началось перемещение отборных армейских частей на Дальний Восток, и тогда потребовались аэрофотоснимки самых разных участков Транссиба, трассы БАМа. В середине июня 1945 года первый поезд с Амура, перевалив некогда непроходимый Сихотэ-Алинь, вышел к берегам Тихого океана. И с этого момента закончилась островная жизнь Советской Гавани. Здесь образовался промышленный центр и мощный перевалочный транспортный узел. Совгавань превратилась в один из основных пунктов базирования Тихоокеанского флота. Здесь были сформированы два батальона морской пехоты. Отсюда 19 августа 1945 года корабли с десантом вышли курсом на Южный Сахалин (порт Маоку).
Девушка по имени Тереза
После Парада Победы вечером 24 июня 1945 года играли свадьбу. Еще под Москвой, в Астафьево боевой офицер ВВС, гвардии старший лейтенант Саденов познакомился с русской девушкой Марией Федоровной — видной, статной, с длинной, до пят, русой косой. Собрались друзья-летчики. Веселились, танцевали, пели. Вспоминали погибших. Уже близилась полночь, свадьба подустала от веселья, и один из летчиков, взяв гитару в руки, затянул старинную ямщицкую:
Это было давно, год примерно назад, — Вез я девушку трактом почтовым…Песня была всем знакома, ее дружно подхватили: «Круглолица, бела…» И не сразу гости заметили, как, потемнев, застыло лицо жениха, как побледнела красавица-невеста. Кусан Саденов — боевой офицер с двумя орденами Красной Звезды на груди — вдруг встал и вышел из-за стола.
— Что это с ним? — шепнула подруга невесте.
— Ох, сколько они там пережили!.. — покачала головой Мария Федоровна, и в глазах ее блеснули слезы.
После войны Кусан Саденов овладел управлением современным бомбардировщиком, стал заместителем командира эскадрильи. Отряд майора Саденова всегда был на отличном счету, а возглавляемый им экипаж — лучшим в полку. В отставку вышел подполковником, с четырьмя орденами Красной Звезды.
Две дочери родились у Саденовых. Старшую назвали Сайдой, как объяснил Кусан, это имя связано с образом матери, так назывались ее любимые духи «Сайда» — «счастливая»; младшую — Терезой. И обе девушки выросли красоты редкостной, точно из сказок Шахерезады. Только Тереза чуть мягче характером. Впрочем, кто знает… Когда девушка выросла, отец рассказал историю ее необычного имени.
— Поймешь ли ты меня? — говорил он дочери. — Война была жестокая. А эта девушка Тереза… Что я знаю о ней? Почти ничего. Только то, что она шла рядом с теми, кто выступил против врагов человечества, против фашистской чумы. Погибла тогда Тереза или осталась в живых — неизвестно. Была она молодая и красивая. Наверное, ей очень хотелось жить. И в последний момент, у самого края, ее охватила смертная тоска. Наверное, от сознания того, что вот она, юная женщина, исчезнет с лица земли и не останется от нее ни следа. И она попросила хотя бы имя ее сохранить…
Прошли годы. 16 марта 1988 года «Строительная газета» опубликовала очерк «Тереза», где рассказывалась история о том, как летчик Саденов назвал дочь именем пропавшей без вести партизанки. Вышло так, что этот номер газеты попал на глаза ученому-историку, подполковнику в отставке А. М. Сергиенко. Благодаря усилиям этого опытного исследователя история получила совершенно неожиданное для всех ее участников продолжение.
…Итак, 24 апреля 1944 года вторым заходом на цель парашютистка по имени Тереза была сброшена. Ночь стояла темная, ветреная. Неопытную (это был ее первый в жизни прыжок) и легкую по весу парашютистку отнесло далеко от партизанских сигнальных костров. Девушка успела, как ее учили, поджать ноги, снег смягчил удар, и она мягко свалилась на бок. Потом около пяти часов по камням, по снегу шла туда, где, по ее предположению, были партизанские костры. Она выбивалась из сил, когда почувствовала, как сильные руки подхватили ее и понесли в лагерь, к теплу, к товарищам. В Босанский Петровац ее принесли спящей. Там, проснувшись, узнала от Винченцо, что все приземлились благополучно, но у грузового мешка не раскрылся парашют, и рация разбилась. На следующий день переехали в Дрвар, где размещался штаб Тито, и доложили в Москву о своем прибытии.
На партизанскую тропу перехода в Италию Бианко и Мондини вместе с группой из Словении выступили буквально за несколько дней до высадки в Дрваре немецкого десанта на планерах. На прощанье югославы подарили им крепкие ботинки-бутсы, уверяя, что для скалистых троп они будут более подходящими.
Начались дни и недели, наполненные беспрерывными изнурительными горными переходами, голодом, лишениями. Шли пешком, цепочкой, лишь однажды — верхом на лошадях, и Тереза с благодарностью вспоминала уроки верховой езды, которые получила в школе-интернате. Группа сопровождающих постепенно редела. В подконтрольных немцам районах переходы осуществляли ночью. Но больше опасались не немцев, а предателей из местных. Однажды их выследили и организовали погоню. Пришлось отклониться от маршрута и забираться в такие дебри, куда, казалось, и птица не залетала. Несколько дней шли без еды, снег растапливали на крошечных костерках. Одежда не просыхала. Бутсы действительно выдержали все испытания, но казались пудовыми.
Почти месяц в пути, и вот наконец родная Италия. Триест, Павия, Милан. Переоделись, выправили документы. Встретились с главнокомандующим гарибальдийскими бригадами Луиджи Лонго и его главным комиссаром Пъетро Секкья. Решение было такое. Поскольку работать с рацией в Милане было опасно из-за возможной пеленгации, Винченцо Бьянко оставили при Лонго, в Терезу Мондини переправили в партизанский отряд.
Движение Сопротивления на севере Италии приняло широкий размах. Этому способствовали и гористая, покрытая лесами местность, и прилегавшие промышленные центры — Турин, Милан. От рабочих организаций этих городов партизанские отряды пополнялись добровольцами и получали все необходимое для борьбы. Здесь, в районе Вальсензии, и располагался один из отрядов под командованием Чино Москателли, куда прибыла Тереза.
Отряд образовался в октябре 1943 года. Первой боевой операцией был налет на казарму карабинеров, куда обманным путем фашисты заманили командира отряда. Затем последовали крупные акции, доставлявшие властям режима Муссолини большие затруднения. Однажды партизанскому пулеметчику Рангино удалось даже сбить двухмоторный немецкий самолет.
Работа Терезы заключалась в поддержании связи с Москвой. Зашифрованные донесения доставлялись от Лонго. В строго определенное время радистка передавали их в Москву, ответ получала в таком же зашифрованном виде и через связного отправляла в Милан. Осуществлялась также связь между отрядами бригады. Немало здесь было русских, бежавших из лагерей военнопленных. Когда они узнали, что Тереза говорит по-русски, то многие, в том числе итальянцы, стали называть ее ласково Маруской — русской.
Жизнь в отряде была нелегкой. На усилившиеся действия партизан, которые в результате налаженной координации становились все более успешными, фашисты ответили свирепыми карательными мерами. Операции осуществлялись под командованием фельдмаршала Кессельринга. Завязались упорные, кровопролитные бои. Трудности и лишения партизанской жизни непомерно увеличились с приходом зимы. Тем более что под давлением карателей партизанам приходилось беспрерывно менять позиции. Не хватало оружия и боеприпасов, увеличилось количество раненых и больных.
25 апреля 1945 года партизанские силы освободили Милан. Накануне Тереза передала в эфир свою последнюю радиограмму в Москву. Ее сердечно поздравили от имени советского правительства за успешное выполнение задания.
Вскоре состоялась встреча с Пальм про Тольятти. Он с трудом узнал ее — так девушка похудела:
— Тереза, девочка, жива?! Спасибо тебе за работу!
Наверное, нет ничего удивительного, что замужество Терезы состоялось примерно в то же время, что и свадьба Саденовых. Мужем Терезы стал Ренато Москателли — младший брат прославленного командира, а сына своего она назвала, по традиции тех лет, Нелло — именем погибшего в бою героя-партизана. Потом — возвращение в СССР, работа переводчицей на радио — словом, обычная московская жизнь, тревожимая лишь воспоминаниями. Летчиков она не пыталась разыскать, поскольку уверена была, что они не запомнили ее: сколько бойцов доставили на партизанский фронт, сколько трагических судеб прошло рядом… Благодаря усилиям подполковника А. М. Сергиенко они встретились. Встретились через сорок четыре года и пятнадцать дней после того драматического полета под балканскими звездами. Причем подполковник устроил героям этой истории настоящее испытание. Никого ни о чем не предупреждая. 8 мая 1988 года Сергиенко собрал в одном из парадных залов Центрального Дома Советской армии летчиков прославленного в боях 4-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия.
Они пришли, седые ветераны, надев ордена и медали, чтобы по традиции встретиться с боевыми товарищами накануне Дня Победы. И порой постороннему человеку трудно было понять особый смысл их приветствий, разговоров, реплик. «Ну как, все горишь?» — бодро спрашивает один генерал другого. «Горю», — слышится спокойный ответ. И только посвященные знали, что этому летчику-фронтовику, когда-то горевшему в самолете, вот уже много десятилетий каждую ночь снится один и тот же огненный сон…
Подполковник Сергиенко выходит на помост. Он рассказывает о ночном полете в Югославию, совершенном 24 апреля 1944 года, и приглашает подняться на сцену ничего не подозревающих штурмана Федора Румянцева и летчика Кусана Саденова. Хотя большинство присутствующих могли бы рассказать о подобных драматических полетах, зал затих, насторожился, а телекамеры и юпитеры явно кого-то разыскивали в зале.
Сергиенко вкратце излагает историю с именем дочери летчика Саденова и неожиданно для всех объявляет:
— Сегодня, через сорок четыре года и пятнадцать дней я хочу с радостью доложить вам, дорогие товарищи: Тереза выполнила задание, она осталась жива, и в настоящее время находится здесь, в зале, среди нас. Дорогая Тереза! Я прошу вас подняться сюда к нам, встретиться с теми, кто вез вас в ту апрельскую ночь 44-го…
Она встала, и встали все. Ветераны — седые бойцы — со слезами на глазах приветствовали невысокую женщину с добрым, немного усталым и смущенным лицом. В громе аплодисментов она сделала несколько шагов, а ей навстречу спешили штурман Румянцев и пилот Саденов: «Здравствуй, Тереза!»
Встреча через сорок лет. Тереза Мондини, Мария и Кусан Саденовы.
Судьба «крестной дочери» — Терезы Саденовой тоже сложилась непросто. Пришлось старому летчику во второй раз провожать Терезу — теперь уже дочку — в дальний путь. И пусть происходило прощание в современном аэропорту, а не на краю бомбового люка, от этого разлука не легче. Случилось так, что после окончания института Тереза поехала на родину отца, в Казахстан. Там встретила и полюбила молодого горного инженера — кубинца. С мужем и дочкой улетела на Кубу — на другой конец планеты. Судьба.
Эпилог
По-разному сложились судьбы экипажей «бамовской эскадрильи», особой авиагруппы НКВД. Одни погибли на изысканиях трассы, другие сгорели в воздушных боях или пропали без вести при выполнении особых заданий Ставки Верховного Главнокомандования в годы войны. Семь Золотых Звезд Героев на счету относительно небольшой группы о многом говорят. Но, пожалуй, самое удивительное то, что нескольким бамовским летчикам и радистам все же удалось пройти живыми и невредимыми сквозь все огни и воды. Вот только никогда не гремели в их честь «медные трубы». По понятным причинам распространяться о профессионалах особой авиагруппы НКВД было не принято.
Штурман Михаил Кириллов прошел войну на тяжелом бомбардировщике: сначала штурманом корабля, затем звена, эскадрильи, полка, обучал и воспитывал молодых штурманов. Звание Героя Советского Союза, ордена боевого Красного Знамени, Отечественной войны, Александра Невского — награды за его ратный труд. После войны Кириллов поступил в полярную авиацию, летал на самолетах с красным оперением. Из тех белых пятен на карте, что оставались севернее Полярного круга, 600 тысяч квадратных километров покрыты аэрофотоснимками Кириллова. Были еще экспедиции в Антарктиду, к последним «белым пятнам» на планете. Весь ледовый континент облетел Кириллов со съемкой.
Многое повидал старый бамовский штурман: Балканы и Скандинавию, Кейптаун и Суэц, Стамбул и Афины… Но ничего прекраснее Чарской долины так и не встретил. Когда отряды строителей двинулись на трассу БАМа, ему тоже захотелось поехать туда хотя бы пассажиром, да здоровье не позволило. И часто, глядя в окно на гудящую столичную улицу, вспоминал он горное озеро, видел так и не построенный дом на берегу тихой бухты. И так ясно представлялось ему: вот Жора Иванов, упрямо набычив шею, поднимает летающую лодку с озера. Под алым кончиком крыла сияют заснеженные башнеобразные пики Кодара, полукруглые «цирки» с застывшими водопадами; из темноты провалов свисают голубые языки ледников. «Смотри!» — теснит его плечом Володя Дзюбенко, и он видит ленту поезда, скользящего по зеленому дну долины. А почти вровень с крылом парит огромная птица с красным оперением.
Погиб Георгий Иванов в 1942 году под Москвой при выполнении боевого задания. В одном экипаже со штурманом Павлом Станкевичем они превратились в облако огня и дыма.
Федор Селиверстович Румянцев из ВВС не ушел. Он окончил Военно-воздушную академию, дослужился до полковника, работал военным советником нашего посольства в Канаде, участвовал в двух экспедициях на аэрофотосъемке районов Крайнего Севера, был инспектором АДД. Свой опыт, в том числе бамовский, обобщил в учебном пособии: «Аэрофотосъемка больших площадей». Позже преподавал в Московском топографическом политехникуме курсы самолетовождения и аэрофотосъемки. Педагог он оказался отличный. За годы войны, как говорится, без отрыва от производства, успел подготовить двадцать четыре штурмана. Послевоенных учеников — не сосчитать. Они работают на пространствах от Арктики до Антарктики.
Почти все документы и вещи, связанные с войной, — компас, секстант, летный шлем, навигационную линейку, записи и фотографии — Румянцев передал в школьные уголки военной славы, музею Вооруженных Сил. Только тот «доплатной» конверт, сшитый нитками, из тетрадного листа в косую линию, он оставил у себя. Это письмо было его святыней, которую он хранил до последнего дня.
Василий Александрович Борисов устроился в бамовскую аэросъемку, в 1946 году был назначен начальником авиаотряда Бампроекта, насчитывавшего тридцать самолетов. Облетал и Арктику, и Антарктику на своем самолете с изображением белого медведя на фюзеляже. Участвовал и в первой вертолетной вулканологической экспедиции. С крошечного Ми-1. управляемого Борисовым, кинооператор впервые снимал жерла вулканов Камчатки. Сорок два года летал Борисов по самым трудным трассам и всегда возвращался домой, к своей любимой Антонине Ивановне невредимым. Эта пара часто жила в разлуке, но всегда была вместе, единой душой. Оба прожили долгую, полную волнений, но счастливую жизнь.
Радист Виктор Александрович Ломанович (позывной «Вал») работал в Академии коммунального хозяйства. Автор нескольких изобретений, свыше ста научных работ в области радио. Был удостоен престижной среди радистов бронзовой медали имени А. С. Попова, знака «Почетный радист СССР», серебряной медали ВДНХ и бесчисленных дипломов как непревзойденный ас-коротковолновик. Механик Алексей Иванович Ковалев после фронта вернулся на свой родной завод, где, уважаемый всеми, работал до глубокой старости слесарем-сборщиком. Свою бамовскую «одиссею» он никогда не забывал, переписывался с летчиками, и все звал их в гости, в Комсомольск-на-Амуре. Полковнику Валентине Гризодубовой предложили принять под командование авиадивизию. Но Валентина Степановна с головой ушла в послевоенные гражданские заботы. Ее волновали проблемы развития отечественной авиации, радиопромышленности, борьбы с бюрократизмом, несправедливостью и обыкновенной административной глупостью и косностью. Последние годы Гризодубова жила в Москве, неподалеку от станции метро «Аэропорт». Из окна ей был виден Центральный аэровокзал. Двери ее дома днем не закрывались. Валентина Степановна по-прежнему остро откликалась на все, что происходило вокруг, особенно на чужую беду. Постоянно ее окружали друзья, приходили музыканты, художники, журналисты. И, конечно, летчики. Она звонила по инстанциям, защищала обиженных, говорила чиновникам напрямую то, что думает, невзирая на должности и звания. В ее суждениях всегда была четкая гражданская позиция, подкрепленная очевидным здравомыслием. И нередко вмешательство Гризодубовой оказывало воздействие.
Хоронили Валентину Степановну с воинскими почестями. На панихиду — это было 4 мая 1993 года — пришли и ветераны авиации, и космонавты, и молодые летчики. День был безоблачным, солнечным. Новый Государственный флаг России — триколор — с траурным крепом развивался над зданием Военно-воздушной академии имени Жуковского.
А у гроба легендарной летчицы, у изголовья Валентины Степановны стояла старушка и оцепенелыми руками держала небольшое красное полотнище с серпом и молотом — флаг, которому честно служила Гризодубова. Все понимали — вместе с Валентиной Гризодубовой уходит целая эпоха — великая и трагичная. Лицо героини было спокойно. Она служила не символам, а своему Отечеству.
Отважный пилот Сергей Сергеевич Скорик прошел войну вначале в бомбардировочной, потом в штурмовой авиации, воевал вплоть до Дня Победы. И как воевал: три ордена Красного Знамени, ордена Суворова, Красной Звезды, боевые медали… Вернулся живым, но летать уже не смог — сказалась травма, полученная при неудачном парашютном прыжке. Скорик часто вспоминал своего тезку и лучшего друга юности — Сережу Курочкина.
«Бамовские» летчики, штурманы и радисты, кому довелось вернуться живыми, пока оставались силы, летали по заданиям изыскателей, работали в системах связи. И они оставались до конца уверенными, что придет время, когда осуществится мечта — БАМ войдет в полную силу и что «бамовская эскадрилья» будет помянута потомками тихим добрым словом.
…На Байкало-Амурской магистрали, у станции Таксимо, вблизи места гибели самолета АНТ-4 Сергея Курочкина, между новыми жилыми кварталами высится памятник, изображающий огромный двухмоторный аэроплан в стиле 1930-х годов. Это в память обо всех погибших летчиках-бамовцах. И мальчишки, увидев из окна вагона силуэт крылатой машины, кричат: «Смотри: самолет!..», удивляясь причудливой его конструкции и тому, как он вообще здесь оказался.
Памятник летчикам, погибшим на изысканиях трассы Байкало-Амурской магистрали. Забайкальские следопыты-поисковики подняли со дна озера Баранчеевского гидросамолет ТБ-1 (Г-1, бортовой номер СССР-Ж-10), потерпевший катастрофу при посадке. Обломки были переданы в Центральный авиационный музей в Монино, а на постамент у станции Таксимо водрузили уменьшенную копию туполевской машины.


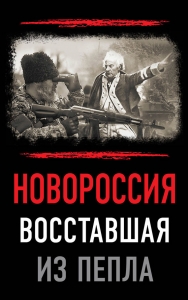
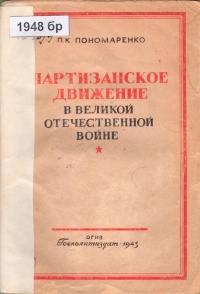
Комментарии к книге «Особая группа НКВД», Сергей Александрович Богатко
Всего 0 комментариев