Ко второму тому.
Во втором томе читатель найдет допросы знакомых ему по первому тому Протопопова, Андроникова, Васильева, но второй том пополняет галлерею деятелей царского режима целой группой сановников и проходимцев, матерых представителей правившей группы.
Тут столпы режима — Иван Григорьевич Щегловитов, последний председатель Государственного совета, долголетний министр юстиции, создатель «щегловитовской» юстиции, самодержавный глава ведомства со всеми замашками самодержца, в просторечии, втихомолку между подчиненными, «Ванька-Каин». Русское самодержавие нашло в нем своего сторожевого пса, лижущего руки хозяевам, бросающегося на всех непринадлежащих к семье. Призванный охранять незыблемость судебных уставов 1864 года, он расшатывал их от случая к случаю — по всяким поводам, крупным и мелким, — и расшатал совершенно. На знамени этого законника и юриста следовало бы написать лозунг: «Закон — что дышло; куда повернешь, туда и вышло». Этот министр юстиции входит в историю как творец и участник неправосудных процессов, как один из создателей (в 20 веке!) знаменитого ритуального процесса. Он подчинил свое ведомство, свои суды политике. Политикой пропитан каждый его шаг. Он защищал самодержавие и монархию до последнего издыхания. Его ответы на допросы в следственной комиссии, где он, юрист, стоял перед юристами же, серьезные, солидные, неуклончивые ответы точно бенгальским огнем освещают ту бездну, в которую погружались начала законности и правосудия накануне революции.
Его достойный соратник, Александр Александрович Макаров, министр внутренних дел, министр юстиции, государственный секретарь. Человек сухой, жесткий; формалист до мозга костей, за формализмом не видевший ни людей, ни жизни. Он не был так умен и так эластичен, как Щегловитов, но мертвую схему «конституционного самодержавия» он защищал с яростным напряжением и с закрытыми глазами. Русский рабочий класс будет долго помнить А. А. Макарова и его исторически бессовестные слова: «Так было и так будет». Полицией и войсками были расстреляны на ленских приисках рабочие, а вот на запрос в думе Макаров не только оправдал преступные даже с точки зрения щегловитовских законов действия властей, не только оправдал, но и благословил, и утвердил. «Так было и так будет» — сказал этот жесткий и сухой человек, просмотревший в своей схеме жизни одно начало — революцию.
Помельче, не такого крепкого устоя, не такая ядреная, но довольно пахучая фигура последнего министра юстиции царского режима Н. А. Добровольского. Он, правда, недолго был министром, месяца два с лишним, не успел развернуться, но его сенаторское прошлое, самый процесс получения им министерского портфеля говорят за то, что дай ему время, он раскрылся бы во всей неприглядной красоте своих корыстных и честолюбивых вожделений. Он был выдвинут на пост министра… ни много, ни мало… секретарем Распутина, пресловутым Симановичем и выдвинут исключительно по тому соображению, что человек, запутавшийся в долгах, в учетах и переучетах векселей (в том числе выданных и Симановичу), будет действительно преданным слугой всей распутинской шайки, а кроме того поправит и свои материальные обстоятельства. Чрезвычайная комиссия нашла материал для предъявления Добровольскому обвинения во взяточничестве, но направить это дело в суд не успела.
Князь Н. Д. Голицын — последний председатель совета министров — личность совершенно скромная и совсем не государственная. Он был выбран и намечен царицей как человек исполнительный и верный: способности его к государственной деятельности царица, должно быть, оценила во время совместной работы по комитету о военнопленных. Умилительное впечатление производит рассказ Голицына в следственной комиссии о том, как он отказывался от предлагаемого ему царем звания.
Генерал М. А. Беляев — последний военный министр, бесцветный чиновник, сухой и жесткий формалист — добился своего поста тоже через темные круги. Царица нашла в нем тоже преданного и готового на все слугу.
С этими деятелями тесно связана и замечательная фигура русского Рокамболя — Ивана Федоровича Манасевича-Мануйлова. Сыщик, агент по политическим делам, исполнитель всяких темных поручений, похититель дипломатических шифров, Мануйлов сумел стать необходимым, а при Штюрмере он стал его наперсником и получил специальное задание следить за Распутиным, не столько следить, сколько во время слежки охранять от всяких покушений расположение Распутина к Штюрмеру. Показания Мануйлова перед комиссией полны выдающегося интереса: наперсник не пощадил никого из тех, на чьем лоне он возлежал, и дал верную и блестящую картину развала правительства и престола в 1915–1916 годах.
П. Щеголев.Допросы и показания XII — XXVII
XII. Допрос А. Д. Протопопова. 8 апреля 1917 г.
Содержание: О сношениях Протопопова с Карлом Периным — хиромантом Charles Perrin.
* * *
Председатель. — А. Д. Протопопов, скажите, пожалуйста, знаете ли вы некоего Карла Перина, и, если знаете, когда, где и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились?
Протопопов. — Карл Перин?… Не знаю.
Председатель. — Карл Перин.
Протопопов. — Совершенно не знаю… Карл Перин… Нет! совершенно не знаю.
Председатель. — Вы можете это утверждать?
Протопопов. — Утверждаю, что я совершенно не помню его, совершенно не помню…
Председатель. — Т.-е. не помните, или вы его не знали никогда?
Протонов. — Никогда! Я прямо не помню даже такой фамилии… Прямо не помню, чтобы когда-нибудь слышал даже…
Председатель. — Это один из ваших стокгольмских знакомых…
Протопопов. — У меня нет знакомых в Стокгольме, совершенно нет…
Председатель. — Может быть, это одно из тех лиц, с которыми вы встречались в Стокгольме?
Протопопов. — Такая масса лиц там была, а я ведь всего одни сутки был в Стокгольме…
Председатель. — Может быть, вы встречались в гостинице?
Протопопов. — Может быть, он подошел ко мне в гостинице… Прошлый раз вы мне сказали про Бебутова: мне вспомнилось, что я там его видел, но раньше я его никогда не видал и встретился с ним тут в первый раз.
Председатель — Нам хотелось бы, чтобы вы вспомнили про Перина…
Протопопов. — Прямо, не могу вспомнить… Прямо говорю вам, г. председатель: я его не знаю!… Вот Ашберга я помню.
Председатель. — Значит, позвольте считать, что вы его не знаете?
Протопопов. — Пожалуйста!
Председатель. — Не то, что не знаете, но что не помните?
Протопопов. — Не помню… совершенно…
Смиттен. — Может быть, под другой фамилией вы его знали?
Протопопов. — Я помню фамилии: Ашберг, Бебутов… А Перин — не помню… Маркова помню, хорошо помню: это один из русских, который там живет…
(Перерыв заседания.)
После перерыва.
Протопопов. — Может быть, ошибка: Charles Perrin?
Председатель. — Да, да…
Протопопов. — Это не стокгольмский мой знакомый!… Он был здесь — в Петрограде, жил в Гранд-Отеле: Шарль Перрен!… Это гадатель, предсказыватель будущего, — это не то, что мой знакомый… Он читает мысли, повидимому, очень удачно! Я был у него, заплатил довольно дорого, и мы разошлись, так сказать, знакомыми… Но я только один раз и был у него в Петрограде. А затем, он часто про меня вспоминал…
Председатель. — Вы не встречались с ним заграницей?
Протопопов. — Ни разу. Я был с ним лишь в переписке. Он мне писал, когда я уже был министром, чрезвычайно любопытное письмо, — что он читает мысли и т. д.
Председатель. — А в Петрограде вы его видели, когда вы были уже министром?
Протопопов. — Нет, нет!… Года за два до того, а потом был в переписке…
Председатель. — А о чем была ваша переписка?
Протопопов. — Переписка — самая простая… (Его письма, вероятно, сохранились у меня на столе: они лежали с левой стороны…) Поразительные письма! Он меня всегда удивлял указанием дат, которые, действительно, совпадали с разными трудными для меня моментами!… Он мне предрекал великое будущее!… Он предлагал приехать сюда в Петроград. Мне и хотелось, чтобы он приехал… Я ему послал телеграмму, что буду ему очень рад, если он приедет… Тогда, через некоторое время, он, из Стокгольма уже, телеграфировал, что приехать не может. Директор департамента полиции сообщил мне, что генеральный штаб имел что-то против его приезда, что он на плохом счету… Я ответил Перрену, что, вследствие военных обстоятельств, он приехать не может.
Председатель. — Что значит: на плохом счету?
Протопопов. — Что он считался причастным к шпионству, — я так понимал…
Председатель. — И вот, после этого, что же вы сделали?
Протопопов. — Я сообщил ему, что приехать ему невозможно (английская была телеграмма)… Текста не помню, но я ответил, что, вследствие обстоятельств военного времени, его приезд невозможен.
Председатель. — Куда же вы адресовали эту телеграмму?
Протопопов. — Положительно не помню: либо в Норвегию, либо… Не помню, не помню куда!…
Председатель. — Когда вы послали такую телеграмму?
Протопопов. — Это было очень скоро после получения его первого письма, потому что через месяц он мог выехать, и доехал до Стокгольма. Он первый раз писал не из Стокгольма, а из Норвегии, где жил у какого-то господина… Этот Карл, доктор Карл Перрен — поразительный человек, в том смысле, что читает чужие мысли, отгадывает… Это — поразительный человек!… А насчет шпионажа — я знаю одно: мне было сообщено, что его сюда выписывать нельзя. Об этом мне сказал директор департамента полиции Васильев: «Лучше, говорит, не настаивать, оставить в покое»…
Председатель. — Что же, вы были близки с этим Перреном?
Протопопов. — Один раз в жизни его видел!… Затем и переписка прервалась. И вот, я получил от него письмо лишь тогда, когда я был назначен министром внутренних дел, письмо с предложением услуг…
Председатель. — Вы ответили письмом или телеграммой?
Протопопов. — Телеграммой… Больше ничего не было!
Председатель. — Вам известно было, что этот человек австрийский подданный?
Протопопов. — Нет, он — американец: мне говорили, что он английский подданный, а называл он себя американцем…
Председатель. — Вы можете утверждать, что вы его в Стокгольме не видели?
Протопопов. — Утверждаю, г. председатель, утверждаю!
Председатель. — Когда сообщил вам Васильев, что он имеет отношение к шпионству?
Протопопов. — Очень скоро… Дело было так. Я хотел, чтобы он приехал… На его предложение приехать я ему ответил (я не знал, что есть какие-нибудь препятствия к его приезду). Как только мне сказали, что есть препятствия со стороны генерального штаба, я сказал: «бог с ним, пусть не приезжает»… И ответил ему, что, в виду обстоятельств военного времени, приехать нельзя…
Председатель. — Почему заговорил с вами о нем Васильев?
Протопопов. — Потому что надо было достать паспорт, какое-то разрешение, которое он просил ему выслать…
Председатель. — Вас просил?
Протопопов. — Да… для ускорения. А потом, когда мне сказали, что нельзя, тогда это, конечно, отпало само собой!… Прежде он в Петрограде жил долго…
Председатель. — Вы не припомните, что вы послали ему эту телеграмму на миссию?
Протопопов. — Очень может быть… Адресовал на нашу миссию в Стокгольме? Может быть, вероятно… Я не помню.
Председатель. — Вы говорите: «может быть»… Но этого несомненно не должно было быть, чтобы министр внутренних дел, осведомившись, что этот человек заподозрен в шпионстве, через русскую миссию заграницу посылал для этого шпиона телеграмму!…
Протопопов. — Я же ему отказал!… Вероятно, я посылал через миссию… Я не помню, как это было, но во всяком случае я его сюда уже не приглашал… Совершенно понятно: как же это можно было!… Ведь, когда я его приглашал сюда, просил приехать, я совершенно не думал, что он шпион, этот человек, к которому ходила масса народа…
Председатель. — Зачем к нему ходили?
Протопопов. — Вот, — для отгадывания… Он по линиям руки и по мыслям отгадывал… Он понимал мысли: это поразительно было!… Нас было несколько человек вместе… А затем, я уже больше его не видел.
Председатель. — Скажите, пожалуйста, какую новость вы ему хотели сообщить?
Протопопов. — Я? Положительно никакой… Не помню.
Председатель. — Вот видите: в вашей телеграмме содержится такая фраза — «Ultérieurement manquerais pas de donner nouvelles»… и т. д.[*] Что это значит?
Протопопов. — Я не помню; вероятно, о том, что его предсказания совпали…
Председатель. — Ведь это значит: «я не премину несколько позже вас известить, уведомить, послать вам весточку» — такая фраза была?
Протопопов. — Вероятно, я предполагал сообщить ему, в каком положении мое здоровье, как совпали его предсказания… Г. председатель, разрешите мне определенно сказать, что тут никаких политических сношений нет и не было, решительно никаких! Это я вам совершенно определенно утверждаю.
Председатель. — А дальше: «et espère dans quelque temps réaliser mon désir écouter vos conseils»…[*]
Протопопов. — Вот это — да! Это я мог написать, потому что, действительно, я стал верить этому человеку… Он до такой степени правильно мне говорил…
Смиттен. — И это было после того, как вы получили от директора департамента полиции сведения, что он шпион и что его приезд невозможен?
Протопопов. — Да.
Смиттен. — Как же вы считали возможным продолжать какие-нибудь отношения, не прервали их окончательно?
Протопопов. — Совершенна верно! Я бы, конечно, их и прервал, но я должен совершенно откровенно вам сказать, что я не вполне доверял тому, что он шпион… Этому я не поверил!… Вы меня спросите: почему? Потому что вообще у нас в последнее время чрезвычайно легко говорят: шпион, шпион…
Председатель. — Простите, но не обязывало ли вас ваше положение исследовать этот вопрос, а до исследования — воздержаться от сношений с человеком, подозреваемым в шпионаже?
Протопопов. — Я прямо вам скажу, г. председатель: я это сделал, конечно, ничего не думая… Телеграмма эта только и есть… Больше ничего нет, никаких сношений у меня с ним не было.
Смиттен. — Но вы видели его один раз в жизни, следовательно, какая же, в ваших глазах, была гарантия, что сведения департамента полиции не должны быть приняты на веру?
Протопопов. — Я их принял в том смысле, что ему нельзя приехать… Я никаких сношений с ним не имел. Но мне было интересно получать от него письма…
Смиттен. — Даже, если бы он был шпионом?
Протопопов. — Нет, какой же это шпион?!…
Председатель. — Вы, вероятно, будете отрицать, что знали, кто он, а у нас нет пока данных утверждать, что вы знали… Но я вам скажу: это — человек, которого союзные с нами правительства, так сказать, считают шпионом, устанавливают за ним наблюдение… Как же русский министр внутренних дел попадает во время войны в такую историю: вступает в сношения, посылает такую, в высшей степени любезную телеграмму человеку, который, и по данным русской полиции, и по данным наших союзников, в том числе и англичан, — человек подозрительный, бывший австрийский подданный, недавно принявший американское подданство?
Протопопов. — Я не считал, что я состою с ним в сношениях… А что я ему ответил любезной телеграммой, это — правда: я ответил любезной телеграммой…
Председатель. — Теперь, когда мы текст телеграммы отчасти огласили, вы говорите, что ответили любезной телеграммой. Раньше вы нам ответили, что, получив неблагоприятные для Перрена сведения от департамента полиции, вы лишь сослались на военные обстоятельства и отказали ему во въезде в Россию.
Протопопов. — Правда, правда… Это я помню…
Председатель — Вы видите: телеграмма содержит в себе несколько иное ваше настроение, не ограничивается сухим отказом во въезде.
Протопопов. — Нет, сухого отказа не было, потому что у меня оставался интерес к некоторым предсказаниям… Это верно. Но, понятное дело, я с ним никаких сношений не мог иметь…
Смиттен.— Благоволите сказать, какую сумму вы заплатили ему за гадание?
Протопопов. — Двести рублей — за один сеанс… Но нас было несколько человек…
Руднев. — Не можете ли вы мне ответить, какого рода гадание, какой разговор происходил у вас, — если это не касалось вашей семейной жизни?
Протопопов. — Он смотрел на руку… По-английски разговор у нас происходил…
Руднев. — Но о чем?
Протопопов. — Ну, например, отгадал, как зовут мою мать: заставил меня думать, — и отгадал!… Я был с женой, дочерью, beau-frère'ом, — нас было несколько человек.
Председатель. — Вам известно, что этот человек ездил к русской границе для секретных свиданий с некоторыми русскими?
Протопопов. — Нет, не знаю… Подробностей я совершенно не знаю про него.
Председатель. — Это не подробность, и это факт!
Протопопов. — Мне это не было сообщено… Вообще про шпионаж в министерстве внутренних дел ничего не знали.
Смиттен. — Каким образом возник вопрос о выдаче ему паспорта для въезда в Россию?
Протопопов. — Вот это — через меня…
Смиттен. — Какие шаги вы предприняли в этом направлении?
Протопопов. — Никаких… Я просто сказал директору департамента полиции: «Нельзя ли устроить ему паспорт?»…
Смиттен. — Поручая такое дело директору департамента полиции, вы установили сначала, кто этот господин?
Протопопов. — Ведь, иначе нельзя!… Для того, чтобы приехать в Россию, нужно в генеральном штабе узнать, можно ли этому человеку приехать…
Смиттен. — Когда вы поручали выдать паспорт Перрену, вы знали, какой тут порядок?
Протопопов. — Нет, не знал. Я узнал, когда мне сказали…
Смиттен. — Значит, на том основании, что он вам гадал за два года перед тем, вы сочли возможным пустить его в Россию во время войны, не зная, кто он такой?
Протопопов. — Я не думал об этом…
Смиттен. — Ведь инициатива выдачи паспорта принадлежит вам?
Протопопов. — Вы, действительно, вопрос остро ставите!… Действительно, это верно… Но, во всяком случае, паспорт выдает ведь не министр внутренних дел, а выдает директор департамента полиции. Я туда и обратился: может он приехать или нет?… А уж там — они сами знают…
Смиттен. — Значит, вы обратились не императивно к департаменту полиции, чтобы устроить такой-то паспорт?…
Протопопов. — Нет, нет!…
Смиттен. — Вы лишь спрашивали, может ли он приехать?
Протопопов. — Не помню, в какой форме… Но, во всяком случае, как только было сказано, что нельзя…
Смиттен. — Не можете ли вы сказать, какому лицу вы передали вашу телеграмму к Перрену?
Протопопов. — Директору департамента полиции, тому же Васильеву.
Председатель. — Следует ли понимать вас таким образом, что, за исключением той телеграммы, часть которой я здесь огласил, вы не состояли ни в какой ни телеграфной, ни почтовой переписке с этим Карлом Перреном?
Протопопов. — Кажется, две или три телеграммы послал… В ответ на каждое его письмо я посылал телеграммы.
Председатель. — Значит, были и другие телеграммы?
Протопопов. — Раньше, — когда я думал, что он может приехать…
Председатель. — Нас интересует тот период вашей жизни, когда вы были министром.
Протопопов. — До этого времени у меня не было никаких письменных сношений с Перреном. Они начались, как только я был назначен министром внутренних дел. Он мне прислал необыкновенно хорошее письмо — необыкновенно хорошее!…
Председатель. — Вы думаете, что оно сохранилось?
Протопопов. — Я думаю, что сохранилось, вот тут (показывает на левую сторону стола).
Председатель. — Где, в министерстве внутренних дел или у вас на квартире?
Протопопов. — У меня на квартире. Я показывал многим лицам это письмо… Многим лицам показывал…
Председатель. — Значит, вы продолжаете утверждать, что, возвращаясь с русской депутацией в Россию, вы с Перреном в Стокгольме не виделись?
Протопопов. — Нет, не виделся.
Иванов. — Вы изволили один раз с ним видеться в Петрограде в Гранд-Отеле. Кто его вам рекомендовал? Откуда вы о нем узнали?
Протопопов. — Я в газетах вычитал, переговорил с ним по телефону, а вечером поехал…
Иванов. — А вы не знаете: он долго жил в Петрограде?
Протопопов. — Долго.
Председатель. — Почему вы думаете?
Протопопов. — Он мне сказал тогда, что долго жил…
Руднев. — Вы сказали, что он очень хорошее письмо прислал… Почему вы считаете это письмо хорошим?
Протопопов. — Например, он мне пишет: — вот такие-то дни (вообще, как гадальщик), такие-то дни для вас опасны, такие-то плохие, потом — Сатурн, Юпитер… Мне все это нравилось!…
Завадский. — Мне бы хотелось знать о времени посылки вами последней телеграммы?
Протопопов. — Не могу вам сказать, положительно не могу: так у меня в голове спутались сроки!…
Завадский. — Вы посылали телеграмму в то время, когда в Петрограде восстание началось?
Протопопов. — Нет… т.-е. какое восстание?
Завадский. — Февральские дни.
Протопопов. — Нет!
Завадский. — Есть сведения, что ваша телеграмма была послана 27 февраля…
Протопопов. — Господи Иисусе! как это может быть? Русского стиля?…
Завадский. — Вот это-то и любопытно…
Протопопов. — Русского стиля?… Нет, это положительно невозможно.
Председатель. - А по новому стилю возможно? Т.-е., что это было 14 февраля по нашему стилю…
Протопопов. — Нет, этого не может быть… Положительно невозможно!
Председатель. — Вопрос исчерпан.
XIII. Допрос кн. М. М. Андроникова. 8 апреля 1917 г.
Содержание: О военном министре Беляеве и его связях. Личные средства Андроникова, его общественное положение и профессия. Подношение икон и букетов министрам и их женам. Записка Сухомлиновой «Черные и желтые». Подношение Сухомлиновой денег Распутину и пожертвование на лазарет Вырубовой. Освобождение Сухомлинова от ареста. Адмирал Нилов. Мещерский. Бурдуков и ипотечные банки в Царстве Польском. Горемыкин и Распутин. Волжин. Донос Курлову на Андроникова. О назначении Протопопова. Генерал Горбатовский; генерал Беляев. Пропуск Андроникову в действующую армию. Донос Андроникова на Лукомского и Поливанова. Заграничные поездки Андроникова. Дружба с Шараповым.
* * *
Председатель. — Каковы были ваши отношения к военному министру Беляеву?
Андроников. — Министра Беляева я давно знал, еще когда он был в генеральном штабе при генерале Редигере. Я знал генерала Беляева за очень серьезного и прекрасного труженика… Дел у меня с ним не было никаких.
Председатель. — Вы знали, при каких обстоятельствах он получил портфель военного министра?
Андроников. — Нет… Эти обстоятельства мне не ясны. Но я знаю, что он давно уже намечался в военные министры, т.-е. это был один из кандидатов на пост военного министра, и когда ушел генерал Поливанов, тогда говорили, что будет назначен именно Беляев.
Председатель. — Что значит: «говорили»? Вы, как петербуржец, я, как россиянин, — мы знаем, как надо расшифровать это: какие силы, главным образом, провели Беляева?
Андроников. — Он был очень дружен, т.-е. не дружен, а знал хорошо Танеева. К Беляеву хорошо относился Воейков, который мне говорил, что это хороший работник… Затем, кто его провел в последнее время? — я достоверно не знаю, но знаю только, что я лично о нем очень часто говорил Воейкову… Очень много про него говорил и другим, писал в Ставку про него — генералу Кондзеровскому… И затем, даже не помню, писал ли я генералу Алексееву… Но, во всяком случае, я о Беляеве сам лично много говорил и, так сказать, его очень пропагандировал, как знающего человека; всюду, где было возможно, я о нем старался говорить! Он был назначен, кажется, в декабре 1916 г., и вот о назначении его я все же совершенно ничего не знал заранее… Он отсутствовал, и сразу его вызвали из Румынии и затем назначили… Так что уход генерала Шуваева был для меня новостью…
Председатель. — Маленький вопрос, который интересует комиссию и касается вас лично. Скажите, пожалуйста, каковы были ваши денежные средства?
Андроников. — Я имел от родственников… так сказать получал… А затем, впоследствии, у меня было несколько хороших, больших государственных дел… Последнее мое большое дело, это — дело оросительное предприятие, которое возникло по моей собственной инициативе, когда я просил еще министра Редигера… У меня от родственников кое-что оставалось. Эти средства были ограничены, но они все-таки были… И на них я жил…
Председатель. — Значит, эти государственные дела не имели отношения к вашим личным средствам?
Андроников. — Несомненно они, так сказать, все эти дела давали мне возможность жить гораздо лучше, чем я жил бы на свои скромные средства… Вот это оросительное предприятие, — если разрешите о нем, — оно было в самом начале; но это — многомиллионное дело в будущем! Я имел по этому делу соглашение с банком и кредиты…
Руднев. — А за то, что вели это дело, вы ничего не имели?
Андроников. — Оно еще не было организовано, но я участвовал в нем…
Руднев. — Не вносили никакого капитала?
Андроников. — Я внес свой труд… Я ездил, я вступил с банком в такое соглашение, что я в этом деле участвую и получаю.
Председатель. — На вашей записке значится, что вы чиновник особых поручений при святейшем Синоде…
Андроников. — Я хочу сказать, как это состоялось… Когда, при министерстве Маклакова, я был отчислен за то, что ничего не делал в течение 18 лет (я приписываю это Палеологу), я обратился к Саблеру или, вернее, я показал Горемыкину бумагу и сказал: «Что мне делать?» Он сказал: «Хотите, я вас причислю к себе?». Я просил этого не делать. Мы догадались, что лучше всего Саблеру причислить меня к святейшему Синоду… Саблер мне ответил, что — с удовольствием. Я поставил только условие, чтобы это не было ограничением моей деятельности, чтобы это меня ничем не связывало…
Председатель. — Скажите, пожалуйста, в чем же заключалась основная ваша деятельность? Кем вы сами себя считали или хотели, чтобы вас считали? И какой именно вашей деятельности могло мешать состояние чиновником особых поручений при Синоде?
Андроников. — Во-первых, у меня в голове было издание журнала… Я хотел посещать всех министров, которых, как чиновнику, не совсем удобно бы посещать…
Председатель. — Позвольте вам прямо поставить вопрос: в чем заключалась ваша деятельность? Кто вы?
Андроников. — Я ответил бы: человек, гражданин, желающий как можно больше принести пользы…
Председатель. — Это в сфере субъективной, в сфере идеалов. А конкретно, — кто вы? Какова ваша деятельность?
Андроников. — Это очень трудно… Я себе задавал часто этот вопрос и отвечал: «Благодатью божиею, я есть то, что есть: человек, в настоящем смысле этого слова, но интересующийся всеми вопросами государственной жизни, близко принимающий все и желающий принести как можно больше пользы!»
Руднев. — Когда вы журнал начали издавать?
Андроников. — Только в прошлом году. Но желание было уже давно!
Руднев. — Скажите, чем занимались вы, кроме журнала, до 1916 года?
Андроников. — Я занимался… меня интересовали все вопросы, касающиеся, так сказать…
Руднев. — Но как вы реализировали свой интерес к различным вопросам? Вы помещали свои статьи в журналы — корреспондентом были? Вы имели средства только от родственников — на что же вы жили? Ваша квартира была велика?
Андроников. — Я жил очень скромно в гостинице Бельвю 18 лет, в очень скромном номере…
Руднев. — Сколько вы платили?
Андроников. — Я не знаю: 3 рубля — 90 рублей в месяц — в этом роде… 100 рублей с чем-то в месяц… Я очень скромно жил…
Иванов. — Вы изволили сказать, что вы поставили условие, когда вы просили место чиновника особых поручений при святейшем Синоде, чтобы это не мешало вашим занятиям, чтобы не мешало вам посещать министров… Что это за занятие: посещение министров? Я не понимаю, что это значит: посещение министров? Может быть, вы немного это поясните?…
Андроников. — Вообще, был целый ряд государственных деятелей и министров, которые меня интересовали и у которых я бывал…
Иванов. — С какой точки зрения они вас интересовали?
Андроников. — Исключительно, как люди, поставленные у власти, могущие принести огромную пользу или большой вред!… И мне хотелось, в большинстве случаев, открывать им глаза на целый ряд неправильностей, которые, может быть, так или иначе до них не доходили, но о которых я слышал…
Иванов. — Т.-е. помогать им в управлении?
Андроников. — Это слишком широко — в управлении!… Но, во всяком случае, по целому ряду разговоров и ходатайств, которые у меня были, я иногда открывал глаза на целый ряд неурядиц… Словом, я чувствительно относился ко всем язвам общественной жизни…
Иванов. — Не содействовали ли вы в той или иной мере назначениям?
Андроников. — Нет.
Иванов. — В прошлом показании вы изволили говорить, что указывали: можно назначить такого-то и такого-то…
Андроников. — Т.-е. хороших, серьезных людей, которые мне такими казались… Я позволял себе часто говорить о них… Но очень часто это не принималось совершенно!…
Смиттен. — Будьте добры сказать: как вы определяете сейчас ваше материальное положение?
Андроников. — Это очень трудно сказать… Это все зависит от одного дела. Оно может быть очень большое, если будет реализовано, но оно может быть и очень скромное…
Смиттен. — А сейчас, до реализации, какими вы располагаете денежными средствами?
Андроников. — У меня есть банковские кредиты…
Смиттен. — Значит, вы живете в кредит?
Андроников. — Отчасти, да…
Смиттен. — Есть ли у вас денежные фонды, капитал или же определенные годовые доходы?
Андроников. — Капитала у меня определенного нет. Те десятки тысяч, которые я имел, я получал от банковских кредитов…
Смиттен. — Вы получали какие-нибудь денежные вознаграждения от тех лиц, за которых вы ходатайствовали перед министрами?
Андроников. — Нет. Это было принципиально.
Смиттен. — Какая сумма денег проходила через ваши руки в течение года?
Андроников. — Тысяч двадцать.
Смиттен. — Скажите, пожалуйста, вы делали подношения ценного характера должностным лицам?
Андроников. — Ценные… нет. Мои подношения состояли из образов: образ стоил рублей 50…
Смиттен. — Кому вы подносили: каждому вновь назначенному министру?
Андроников. — Нет! Только тем, с которыми я имел какие-нибудь личные отношения…
Смиттен. — А букеты цветов вы подносили женам министров?
Андроников. — Только тем, которых я знал.
Смиттен. — Другого рода подношений вы не делали?
Андроников. — Нет, другого рода — нет… А вот Сухомлиновой — да.
Председатель. — Это тогда, когда ваши отношения были хорошими?
Андроников. — Да, когда были хорошими.
Руднев. — В настоящее время капитал у вас в банке?
Андроников. — В Русско-Азиатском банке; там несколько тысяч… Я хотел добавить к моим показаниям следующее. Когда, в 1916 году, изменились мои отношения к Распутину и я совершенно с ним не виделся, тогда госпожа Сухомлинова вошла с ним в известные отношения и воспользовалась, так сказать, им, чтобы пройти к Вырубовой. Впоследствии, в мае, у нее было свидание с бывшей императрицей, и она передала тогда записку, под заглавием «Черные и Желтые». В этой записке она ругала почти все правительство, думу, и по моему адресу там тоже был ряд инсинуаций…
Председатель. — У вас не сохранилась эта записка или вы не могли бы ее получить?
Андроников. — Она была у меня временно в руках…
Председатель. — Откуда вы ее получили?
Андроников. — От кого-то из журнального мира… Сухомлинова эту записку пустила в газеты и просила, чтобы она была напечатана за хорошее вознаграждение, но ни одна газета ее не приняла. А потом она мне была дана на очень короткий срок для прочтения…
Председатель. — Вы не заметили ли, что к концу 1916 года фонды Сухомлинова в Царском Селе значительно поднялись?
Андроников. — Как же! несомненно…
Председатель. — В связи с какими обстоятельствами?
Андроников. — Говорят, благодаря Вырубовой и Распутину, — я не смею этого утверждать, у меня данных нет, но ходили упорные слухи, что Сухомлинова сделала крупное денежное подношение Распутину и затем дала много денег Вырубовой на ее лазареты…
Председатель. — Когда?
Андроников. — В период между февралем и маем 1916 г. Это укрепило отношения, и к осени 1916 года Сухомлинов был выпущен. Он был выпущен при Макарове, кажется, к 5-му октября. Я помню, что ранее у Макарова был доклад государю, и во время этого доклада было сказано, что мера пресечения остается та же самая по отношению к Сухомлинову…
Председатель. — Вам не известно, чтобы к концу 1916 года было предположение о назначении Сухомлинова членом государственного совета?
Андроников. — Нет, этого я не слышал…
Председатель. — На чем базировалась Сухомлинова, реабилитируя себя и своего мужа?
Андроников. — Она всем доказывала, что они честнейшие и порядочнейшие люди, а все остальные — никуда не годятся!…
Председатель. — А как же объяснялось обвинение, против них возникшее.
Андроников. — Обвинение возникло благодаря некоторым скверным личностям, которые там были. Из них первый был я и целый ряд других… Об этом было в записке: «Черные и Желтые»…
Председатель. — Но конкретный материал, который имеется в их деле, — как же с ним разделались?
Андроников. — Это очень просто аннулировать! Самый главный конек у нее был — Распутин, который говорил, как мне потом передавали, что нельзя ни с кем ссориться, что время такое, что нужно жить в мире со всеми… Тот же самый Распутин, который год тому назад, по целому ряду моих сообщений делал одно и ругал, главным образом, ее, Сухомлинову, — через год — какая-то совершилась метаморфоза! — и он сразу делается защитником Сухомлиновых, до того, что Сухомлинова выпускают из крепости и чуть ли не хотят аннулировать дело… А всех тех, кто был против него, чуть ли не предают анафеме…
Председатель. — Что вы хотели еще сообщить комиссии?
Андроников. — Относительно того, что меня не пускали… Это было совершенно не в интересах окружающих лиц, как Воейкова и других, меня пускать повыше, потому что они знали мой независимый язык: я мог бы наговорить гораздо больше, чем полагалось, и открыть глаза там, где этого вовсе не следовало…
Председатель. — Вы упоминали как-то о вашем письме на имя бывшей государыни. Почему вы писали бывшей государыне, а не бывшему императору?
Андроников. — Тогда как-то обстоятельства так сложились… Во-первых, я до того поднес бывшей государыне образ и даже не один, а, кажется, два, если не ошибаюсь… И Вырубова мне прямо говорила: если вы имеете что-нибудь, — напишите, я это передам. Это было гораздо проще…
Председатель. — Скажите, пожалуйста, вам не казалось, что для достижения известной цели лучше обращаться к Александре Федоровне, чем к императору?
Андроников. — Несомненно. Я знал, что она властолюбива, что она взяла бразды правления, что она, если чего-нибудь пожелает, то тут отказа не будет… А бывший император мог к этому отнестись более равнодушно… Перехожу к моим отношениям к адмиралу Нилову, которые были совершенно кратковременны. Я к нему не лез, а совершенно случайно вышло так, что я как-то осенью послал через Воейкова мой журнал бывшему государю. Впоследствии он сам, через Вольфа, официально абонировался на него. Но до того я посылал журнал через Воейкова. Воейкова не было в Ставке, он уезжал к себе и сказал мне, чтобы я посылал Нилову. Я тогда написал Нилову письмо и послал мой журнал. Тогда у нас с ним установились отношения. Когда бывший император приехал в Царское, то я счел своим долгом просить у Нилова разрешения приехать. И тут я с ним познакомился. Это было осенью 1916 года. Из разговора с ним я вынес впечатление, что он безусловно не пользуется, так сказать, симпатиями, не пользуется никаким влиянием, потому что к нему немилостива бывшая императрица и Вырубова, так как он отрицал какое бы то ни было значение Распутина. Он всегда был злейшим врагом Распутина. Это чрезвычайно характерно. Он, только Христа ради, держался на волоске!… Как он мне сам говорил: «В любой момент меня могут попросить вон…» По целым дням даже с ним не разговаривали…
Председатель. — Т.-е. кто не разговаривал?
Андроников. — Бывший государь, — в Ставке… Нилов, между прочим, чрезвычайно серьезно настаивал на ответственном министерстве (это он мне сам рассказывал). Но его слова не имели тогда никакого значения: дамская половина его совершенно не терпела и старалась его всячески оттуда устранить…
Председатель. — Он представлялся вам во время вашего знакомства с ним серьезным, понимающим государственные дела человеком?
Андроников. — Безусловно, он понимал… Потому что он много жил, постоянно находился при дворе, имел общение!… Он слыл за доброго пьяницу: очень любил вино… Но когда он не вкушал его, то в эти часы он был безусловно приятным, и насколько я понимал, если бы влияние его не было парализовано, то, несомненно, этот человек вреда никакого бы не принес… На мои некоторые статьи обращалось внимание. Там их подчеркивали… И в особенности — на последнюю статью, где я писал против Штюрмера, в декабре, после его отставки… Ранее была статья о нем, когда он еще был министром иностранных дел. Та была написана не мной, а одним из моих сотрудников — и очень ядовито! — о том, что он неправильно ведет министерство иностранных дел, что он не понимает истинного значения момента…
Председатель. — В чем заключалось, по мнению автора, это непонимание?
Андроников. — Тогда писали по вопросу о проливах, а у него были неправильные взгляды.
Председатель. — Какие у вас были отношения с Бурдуковым?
Андроников. — Всегда самые нехорошие… Я Бурдукову причинил много неприятностей, лишив его очень жирного и хорошего куша… Это было до войны — в 1914 г. Я узнал, что Бурдуков был всегда приживальщиком у князя Мещерского… А князя Мещерского я совершенно не знал прежде; я узнал его только в 1912 году, когда он меня прохватил в своем «Гражданине», написав, что есть «титулованные молодчики, которые подносят министрам конфеты, провожают их на вокзалы»… Злую статью написал! Я себя в ней узнал. И узнал, что это дело рук г. Палеолога и Бурдукова. Я этого так не оставил!… Палеолог очень испугался… Тогда Мещерский написал мне по-французски письмо, в котором пишет: «Vous vous sentez piqué? — ce n'est pas vous»[*] т.-е. что это совершенно не обо мне… Это письмо дало мне возможность поехать к Мещерскому и лично с ним объясниться. После этого я начал у него бывать, и там же я встречал Бурдукова. Он был шталмейстером, состоя при министерстве внутренних дел, и был чрезвычайно жадный на все должности, которые дают как можно больше денег, всякие комиссии и т. д., так что он изрядно получал, благодаря влиянию князя Мещерского!…
Председатель. — Что же, он состоял при нескольких министрах внутренних дел?
Андроников. — Да, при целом ряде!… Один министр только не имел с ним ничего общего — Макаров, который к Мещерскому относился отрицательно, который его не принимал… А Маклаков был его друг и приятель! В 1914 году, еще до войны я узнал, что Бурдуков хочет сделать, по моему мнению, величайшее преступление по отношению к порядку: он подал в кредитную канцелярию заявление, с просьбой выдать ему концессии на ипотечные банки в царстве Польском… Это право поляков иметь свой польский банк, это поляки свято хранили, как свое право, привилегию!… Вопрос этот разбирался в кредитной канцелярии и оттуда пошел за подписью министра финансов (или его товарища — не знаю) с запросом к варшавскому генерал-губернатору… Когда я об этом узнал, я позволил себе написать Горемыкину, зная, что он бывший большой деятель по польским делам, служил в царстве Польском и знает все эти отношения. Я обращал его благосклонное внимание на то, что в министерстве финансов находится такого рода прошение, что это идет несомненно вразрез с интересами поляков и испортит наши отношения с поляками… Горемыкин согласился со мной и послал министру финансов письмо. После этого Бурдуков не мог меня выносить!…
Председатель. — Каково было отношение Горемыкина к закулисным темным силам, к Распутину и Ко?
Андроников. — Я считаю, что у него было очень отрицательное отношение: он Мануйлова не пускал к себе, Распутин был у него раз, и то (мне пришлось присутствовать) разговор был ни к чему…
Председатель. — По чьей инициативе произошла эта встреча?
Андроников. — Это, кажется, было желание сверху, чтобы он побывал у Горемыкина, желание бывшей императрицы. Ему посоветовали… По крайней мере, Распутин мне заявил: «Как же мне сделать? Я желаю видеть Горемыкина… Мне посоветовали со старче божиим поговорить». Горемыкин тогда заявил: «Пусть обратится к секретарю». Тогда я вызвался: «Разрешите мне на этом знаменательном разговоре присутствовать?» Горемыкин улыбнулся и сказал: «Хорошо». Вот тут я и приехал к нему вместе с Распутиным. Встретил нас тогда секретарь Юрьев и состоящий при нем жандармский подполковник. Мы вошли вдвоем с Распутиным, Горемыкин попросил его сесть: «Ну, что скажете, Григорий Ефимович?» Распутин посмотрел на него долгим взглядом. Горемыкин ему отвечает: «Я вашего взора не боюсь! Говорите в чем дело?» Тогда он его — хлоп-с по ноге! — и говорит: «Старче божий, скажи мне: говоришь ли ты всю правду царю?» Тот опешил, посмотрел на меня вопросительным взглядом и говорит: «Да. Все то, что меня спрашивают, об этом я говорю»… Затем, Распутин говорил ему относительно подвоза хлеба из Сибири… Я не помню, что-то о железных дорогах. Это был в тот момент какой-то жгучий вопрос, — о нем много писали. Распутин, интересуясь этим, находил, что совершенно неправильно подвозят хлеб, что надо его подвести из Сибири, из какого-то уезда… Горемыкин отнесся чрезвычайно скептически: удивлялся, смотрел на Распутина. Оба смотрели друг другу в глаза. Горемыкин молчал. Наконец, Распутин сказал: «Ну, старче божий, на сегодня довольно!». Тем и кончилось. Мне чувствовалось, что это была рекогносцировка: посмотреть, что это за личность, и узнать, примет ли его Горемыкин или нет… Был целый ряд министров, которые Распутина не принимали, а другие принимали. Так вот у тех, у которых он не бывал, попробовали позондировать почву… Перехожу к дальнейшим знакомствам. С Волжиным я был в известном отношении, и он на меня смотрел как на чиновника особых поручений. Раева я совершенно не знал и ему даже не являлся. И когда я был в ссылке в Рязани, я в газетах прочел, что я был отчислен из чиновников особых поручений. Я был отчислен без всяких запросов!… Я забыл прошлый раз сказать, что был составлен протокол. Я как-то заехал в департамент общих дел, в ноябре: там среди некоторых моих знакомых чиновников был разговор на злобу дня… Я очень резко отозвался о Распутине, резко говорил о том, что в Царском Селе терпится это безобразие и что все это может кончиться тем, что царя за ноги стащат с престола. Я помню это мое выражение… Кем-то из присутствующих (я не знаю кем) было сейчас же донесено генералу Курлову, что я позволил говорить себе такие вещи… В ноябрьском свидании с Протопоповым и кн. Мышецкой Протопопов говорил мне: «У вас есть недоброжелатели в министерстве внутренних дел, мне про вас говорили, но я никакого внимания на это не обратил»… На самом же деле был составлен протокол, вызывали чиновников подтвердить, что я позволил себе резко порицать действия Распутина и покровительственное к нему отношение на верхах. Это показание, конечно, было доложено и усугубило мою высылку… Затем, я хотел добавить, что, как я понимал, Протопопов являлся чрезвычайно желанным кандидатом на пост министра внутренних дел, благодаря тому, что он был вице-президентом в государственной думе: он должен был оказаться trait d'union,[*] так сказать, мостиком между г. думой и правительством… Чего впоследствии, конечно, совершенно не оказалось…
Руднев. — Скажите, пожалуйста, с графиней Игнатьевой вы знакомы?
Андроников. — Нет, т.-е. встретил однажды у покойной Е. П. Соколовой,[*] у которой она крестила детей.
Руднев. — А она имела большое влияние на назначения?
Андроников. — Нет, никакого!
Руднев. — Но она близка была к Царскому Селу?
Андроников. — Она была близка — в прежние годы — к Марии Федоровне… Муж ее был кавалергардом… Насколько я помню, к ней даже несколько отрицательно относились в Царском Селе.
Завадский. — По какой причине вы ездили в Ригу во время войны?
Андроников. — Я ни разу не был в Риге… Но у меня был пропуск. Это в связи с приглашением генерала Беляева. Должен сказать, что генерала Беляева я знал, когда он был редактором «Русского Инвалида», и после того долго с ним не видался. Затем, он был начальником штаба у генерала Горбатовского. Генерала Горбатовского я знал еще, когда он был начальником Алексеевского училища, но мало. Когда он был начальником 12-ой армии, я его не видел, потому что он был в Риге. А когда он был назначен сюда, в Петроград, он здесь жил, и мне приходилось неоднократно видеть его. Я ведь с ним был в хороших отношениях, и он мне хвалил своего начальника штаба. У меня было несколько просьб к генералу Горбатовскому, — он их исполнил. Адъютанты генерала Горбатовского также ко мне обращались с маленькими пустячными просьбами, которые я старался исполнять: я просил, ходатайствовал… Когда генерал Горбатовский был назначен начальником 10-ой армии, приехал сюда, в Петроград, генерал Беляев и был у меня. Мы с ним неоднократно говорили: он мне рассказывал о своей деятельности, — как ему тяжело и как он ссорится с тамошним губернатором (не помню, кто тогда был губернатором). Он говорил о том, что у них там распри, говорил о целом ряде вопросов… Он мне говорит: «Не хотите ли приехать в Ригу и посмотреть, как я там дело наладил и как там хорошо?». Нужно сказать, что я воспитывался в Лифляндской губернии, у графа Берга, знал Ригу и мне было интересно посмотреть Ригу во время войны. Кроме того, недалеко от Риги стоял полк офицерской школы, в котором было много знакомых. Беляев и прислал мне пропуск. Но я пропуском этим не воспользовался, потому что фактически не было времени, не было возможности!… Затем, второй раз, он мне прислал пропуск после 10 января, когда я уже был в ссылке, так что я уже не мог воспользоваться…
Завадский. — Как это странно: пропуск штатскому человеку в расположение войск, во время войны, для простого любопытства!
Андроников. — Это было основано чисто на личных отношениях и решительно никакой задней мысли у меня не было… А у него, может быть, было желание видеть меня, так как я ему обещал приехать в Ригу, и он меня усиленно звал…
Председатель. — Как могли эти личные отношения привести к некоторому, так сказать, общественному или даже государственному шагу: во время войны дать частному человеку пропуск в армию?
Андроников. — Т.-е. не в армию, а в город… А чем он руководствовался? — я не знаю…
Председатель. — А чем вы руководствовались?
Андроников. — Просто любопытством…
Председатель. — Каким образом вы, частное лицо, получали в обмен на ваш журнал «Известия 12 армии»?
Андроников. — Я получил раз: генерал Горбатовский мне привез…
Председатель. — Нет не раз, а несколько раз вы получали: значит, вам высылались эти «Известия 12 армии»?
Андроников. — Несколько раз мне было прислано, потому что редактор этих известий был мой знакомый, подполковник Тулузаков,[*] который их издавал…
Председатель. — Ведь это вне правила, вероятно, чтобы «Известия 12 армии» присылались частному лицу?
Андроников. — Г. председатель! это — журнал совершенно безвредный!… Те номера, которые были у меня, ничего решительно не стоили… В этих номерах был помещен портрет Горбатовского и несколько стихотворений…
Завадский. — С бывшим военным министром у вас сначала были хорошие отношения, а потом испортились?
Андроников. — Да. Видите ли, эти отношения, конечно, всячески портил мне Сухомлинов… У меня отношения к генералу Поливанову были очень хорошие. Он был преподавателем в пажеском корпусе, так что я его давно знал и очень уважал. Затем, когда Сухомлинов начал выживать своего помощника Поливанова, он всячески натравливал, так сказать, меня против него. У нас были мелкие столкновения, которые впоследствии, однако, сгладились…
Завадский. — Был такой случай, что вы грозили Поливанову пожаловаться на него Сухомлинову за то, что он недостаточно почтительно поздоровался с вами?
Андроников. — Ох! это было… Не то — что «грозил», а это было так: приезжает Сухомлинов; я поехал его встречать на вокзал. Вижу, стоит А. Д. Поливанов;[*] я подхожу к нему, с ним здороваюсь, он мне еле отвечает: — палец, и никакого внимания!… Затем я к нему подхожу и что-то спрашиваю, — он мне резко что-то такое ответил… Я счел себя обиженным и написал ему письмо: «Чем я заслужил ваше такое недоброжелательное, так сказать, отношение, — я совершенно не знаю, и, конечно, об этом вашем таком нехорошем ко мне отношении я рассказал Сухомлинову»… Это я написал, — совершенно верно.
Завадский. — Я не могу понять, на каком основании частный человек, нигде не служащий, позволяет себе требовать от помощника военного министра почтительного к себе отношения?
Андроников. — Нет! Не то — что он был «непочтителен», но, одним словом, это было, — как вам сказать? была… этакая ошибка… Как человека, так сказать, независимого и благожелательно всегда относящегося к генералу Поливанову, меня, так сказать, обидело такое отношение, и я чистосердечно ему написал…
Завадский. — Это как раз было перед тем, когда Поливанов был устранен от должности помощника военного министра?
Андроников. — Нет, он ушел, если не ошибаюсь, весной, а этот инцидент был зимой… Это было за много месяцев до того!
Завадский. — Вы писали кому-нибудь письмо о том, что генерал Поливанов и генерал Лукомский — кадетствующие, что их нужно выгнать и заменить генералом Беляевым?
Андроников. — Что Лукомский — кадетствующий? Да.
Завадский. — Писали, что надо было уволить военного министра, помощника военного министра и заменить Поливанова ген. Беляевым?
Андроников. — Я написал, если не ошибаюсь, генералу Воейкову.
Завадский. — Вы сказали, что вы хорошо относились к генералу Поливанову…
Андроников. — А потом мы с ним разошлись…
Завадский. — По той причине, что он недостаточно хорошо вам кланялся?
Андроников. — Нет, нет! У меня серьезного ничего не было… А с его стороны был целый ряд проявлений недоброжелательного отношения. Я должен сказать, что в январе 1915 года я о том же самом генерале Поливанове писал в Ставку в. к. Николаю Николаевичу, что он — единственное лицо, которое может, по моему мнению, быть несомненно популярным… Затем, после этого, зная доброе отношение к генералу Поливанову со стороны В. Н. Коковцева, я просил, во что бы то ни стало, свидания с генералом Поливановым и звонил к нему по телефону… Он сам подошел к телефону, и было условлено, что я должен был через несколько дней к нему позвонить, — опять для того, чтобы назначить свидание. Тут он был очень любезен, много говорил о том, что В. Н. Коковцев ему передавал и что В. Н. Коковцев продолжает ворчать на то, что он продолжает бездействовать… Когда меня Коковцев спросил, говорил ли я с Поливановым, — я говорю: «Он, между прочим, сказал, что вы продолжаете ворчать на его бездействие»… Коковцев сейчас же передал Поливанову в обиженном виде, и произошло то, что когда я позвонил (как было условлено через несколько дней) — мне не пришлось с ним видеться… Затем, когда Поливанов был назначен министром, я ему написал: «Осеним себя крестным знамением! От всей души приветствую ваше назначение. Никогда еще правда не существовала так, как с назначением вашим. Вас Сухомлинов ел, а теперь же вы, слава богу! назначены»…
Завадский. — Значит, сначала вы его приветствуете, а потом пишете, что он должен быть заменен человеком, который знаком с Распутиным и кланяется ему, — генералом Беляевым?
Андроников. — Относительно того, что ген. Беляев был знаком с Распутиным, я не знал… Я только узнал в декабре, — единственный раз, когда я его видел после назначения, — что он знаком с Вырубовой, что он знаком с Танеевым, — это я знал. Но не знал, что он знаком с Распутиным… Затем, когда на мои неоднократные просьбы повидать генерала Поливанова, я никогда ответа не получал, а слышал, напротив, что он там обо мне недоброжелательно отзывается, у меня к нему совершенно переменилось отношение…
Завадский. — Мне интересно знать, как вы понимаете вашу задачу служения родине и ваши отношения к министрам. По частному, личному вопросу вы поссорились с генералом Поливановым, и ваша совесть была совершенно спокойна, когда вы пишете о том, что надо убрать из военных министров этого человека, вам лично неугодного?
Андроников. — Нет!… Конечно, это не было руководящим мотивом, безусловно нет!… Мне казалось, что генерал Поливанов неправильно ведет свое дело, — это было мне ясно… И, во всяком случае, не потому, что он меня не принимает, я посоветовал его убрать!… Потому что я не имел этой силы, меня бы и не послушались… Но мне было, конечно, досадно, что, так сказать, я не имею с ним никакого общения… Я, может быть, скорее в раздражении и написал о Лукомском… Я его совсем не знал, но Поливанов с ним был в добрых отношениях, и потому я и его приплел… Вот, я был грешен — и должен сказать, что дал слишком много свободы личному чувству!
Завадский. — У вас не было разговора с генералом Величко, которому вы указывали на то, как опасно быть недостаточно к вам внимательным?
Андроников. — Я генерала Величко очень давно видел, я у него был только раз или два, — и то по указанию полковника Ермолаева, который его очень хорошо знает… Но такого разговора я не припоминаю…
Завадский. — Отрицать не можете?
Андроников. — Я даже не могу себе представить, как я мог, явившись с какой-то просьбой к генералу Величко, указывать ему на что-нибудь подобное?
Завадский. — Однако, это иными так делается: когда желают, чтобы просьба была исполнена, показывают, что опасно ее не исполнить…
Андроников. — Г. сенатор!… Нет!… Этого у меня в характере нет!… Возвеличился я или нет, — но я не из чванливых…
Смиттен. — Вы указывали на то, что некоторые государственные дела вас интересовали, между прочим, вы указали на оросительное дело в Хиве.
Андроников. — В Хиве и Бухаре… Затем марганцевое предприятие на Кавказе, в Чиатурах. Это было одно из моих первых дел, но из него ничего не вышло!… Тут было очень много хлопот… Это было частное предприятие…
Смиттен. — Почему же вы придаете ему государственное значение?
Андроников. — Нет, я не придаю ему государственного значения. Государственное значение я придаю оросительному предприятию в Хиве и Бухаре…
Смиттен. — Где вы получили образование?
Андроников. — Я окончил пажеский корпус. Из старшего специального курса был по болезни уволен. Поступил в департамент духовных дел, где я служил недолго; затем поступил в департамент общих дел, где и состоял причисленным.
Смиттен. — В бытность военным министром Сухомлинова, вы никакого официального отношения к военному министру не имели?
Андроников. — Нет, никакого…
Смиттен. — Будьте добры осветить ваши поездки заграницу в бытность Сухомлинова военным министром.
Андроников. — Это были частные поездки, вместе с Шараповым…
Смиттен. — Какие же дела вас связывали с Шараповым?
Андроников. — С Шараповым у нас были очень дружеские, хорошие отношения, — чуть ли не с пажеских дней!… Он был моим учителем и, фактически, закончил мое образование. С Шараповым у нас было оросительное дело полковника Ермолаева, тоже в Туркестане: Шарапов принимал в нем участие… Шарапов и к моему делу хотел примкнуть, но оно было реализовано уже после его смерти.
Смиттен. — В бытность вашу вместе с Шараповым заграницей, в Париже, помещали ли вы в печати какие-нибудь статьи, благожелательные политике военного министра, — по вопросу о дислокации войск, о границах и т. д.?…
Андроников. — В бытность мою с Шараповым в Париже, мы посетили вместе с ним несколько государственных деятелей: Ганото, Делькассэ (Ганото был министром иностранных дел, а Делькассэ был тогда только депутатом)… Может быть, вы припомните?— это было как раз в то время, когда бывший император поехал в Потсдам перед назначением Сазонова… Тогда вся французская пресса чрезвычайно возмущалась тем, что министр иностранных дел сделал первый визит не Франции, а Германии… Словом, было по этому поводу масса криков и шуму! Шарапов, как политический деятель, принимавший близкое участие, завел на эту тему разговор. Оба они, и министр иностранных дел и Делькассэ, серьезно заявили, что угасают франко-русские симпатии… Делькассэ — в особенности: чуть ли не поколотил нас в палате, заявив: «Les imbecilités, que fait le Ministre de la Guerre!»…[*] Он сообщил, что у них во Франции было известно о том, что у нас в России уничтожают крепости… Шарапову стоило больших усилий доказать, что это не совсем так, и тогда, при помощи военного инженера, полковника Ермолаева, который объяснил Шарапову, Шарапов написал в «Temps» или — я не помню, в какой газете…
Смиттен. — Он писал по собственной инициативе или имел какое-нибудь поручение от военного министра Сухомлинова?
Андроников. — Боже упаси! Никакого поручения не было… Напротив, когда я послал вырезку Сухомлинову, он, при свидании со мной, сказал мне: «Совершенно напрасно! — я нисколько не нуждаюсь в услугах Шарапова»… Он был даже недоволен…
Председатель. — На сегодня вопросов больше нет.
XIV. Допрос А. Т. Васильева. 8 апреля 1917 г.
Содержание: Переписка Перрен с Протопоповым. Как наводились справки о шпионах в департаменте полиции.
* * *
Смиттен. — Меня интересует вопрос: по какому телеграфному проводу могли происходить переговоры во время войны, — как с заграничными пунктами, так и со Ставкой из Петрограда?
Васильев. — Я слышал о том, что для сношений со Ставкой есть прямой провод, но передаю это только, как слух.
Смиттен. — А для сношений с заграницей какой путь существовал?
Васильев. — Тот, который я уже позволил себе указать, — шифрованные телеграммы.
Смиттен. — Значит, департамент полиции никакого прямого провода, связывающего его с заграницей, не имел во время войны?
Васильев. — Нет. Мы шифровали и отправляли обыкновенным порядком, т.-е. через 35 почтовый отдел, который в самом департаменте существовал. Мы туда передавали; а как они передавали — я не знаю; но, по-моему, совершенно обыкновенным порядком…
Председатель. — Вы не припомните ли ваш разговор с бывшим министром внутренних дел по поводу некоего Шарля Перрена или Карла Перина?
Васильев. — Да, я помню.
Председатель. — Что же именно вы помните?
Васильев. — Видите ли, как это началось, я не могу в точности припомнить, но, словом, факт тот, что Шарль Перрен — какой-то знакомый Протопопова, повидимому, Протопопов его знал…
Председатель. — Откуда вы знаете, что он знакомый Протопопова?
Васильев. — Протопопов мне сам прямо говорил, что он его знает… А потом, Протопопов ему телеграмму писал.
Председатель. — А вы не имеете в голове даты? Вы 7-го июня 1915 г. были директором департамента?
Васильев. — Нет, я назначен директором 2 апреля 1916 г.…[*] Я не знаю точно и боюсь сказать, с чего началось… Кажется, Протопопову была телеграмма от Перрена, в которой он просил разрешить приехать сюда… Тогда была наведена справка по департаменту о Перрене. Справка дала неблагоприятные сведения…
Председатель. — А по какому отделу?
Васильев. — Справка по департаменту делается таким образом. Есть регистрационный отдел. Из этого отдела выписываются на листе бумаги все бумаги, в которых значится, например, фамилия Перрен… (Обыкновенно справка наводилась в особом отделе.) И вот, тогда собираются все сведения по номерам и делается сводка всех сведений, которые имелись по департаменту. Справка о Перрене была неприятна — в смысле шпионства: заподозрен он был военными властями…
Председатель. — Вы помните, примерно, время наведения этой справки?
Васильев. — Я думаю — ноябрь, но точно не могу сказать. Эта справка была дана, и переписка осталась у Протопопова… У него было письмо от Перрена, — чуть ли не на английском языке, — довольно длинное письмо… Затем, через некоторое время, может быть, через неделю-две, была повторная телеграмма от этого Перрена на имя Протопопова: Перрен вторично просил разрешения приехать. Вот тут я не могу точно сказать: были ли это письменные сношения, или же мне сказали на словах, что военные власти против приезда этого господина… И тогда Протопопов предложил написать телеграмму с отказом вежливым. Эту телеграмму составили у нас.
Председатель. — Когда это было?
Васильев. — Если первая телеграмма была в ноябре, то эта была в декабре… Но я абсолютно точно не могу сказать… Телеграмму переделал сам Протопопов на еще более вежливую, уклончивую: он надеется с ним встретиться впоследствии, теперь не такое время, — вот в таком смысле… Тут я боюсь ошибиться, ибо не помню, была ли одна телеграмма, или было их две…
Председатель. — Как велись справки о шпионах? Они регистрировались?
Васильев. — Нет. Это, кажется, было так: достаточно было слова «шпион», чтобы военные власти имели наблюдения — человек уже казался подозрительным…
Председатель. — Был у вас отдел специальных справок о шпионаже?
Васильев. — Нет. Имелись лишь некоторые сообщения.
Председатель. — Департамент полиции сосредоточивал ли у себя справки и расследования по делам о шпионаже?
Васильев. — Не всегда… Если были сведения, то иногда наводили справки, но принцип был такой, что — раз имеются сведения о шпионаже, то дело передавалось военным властям.
Председатель. — В контр-разведку?
Васильев. — Да. В департаменте боялись, что они, со своей стороны, наводят справку и могут столкнуться и перепутать…
Смиттен. — Не можете ли вы объяснить, что такое за учреждение Датский кабель?
Васильев. — Я этого не знаю.
XV. Допрос Н. А. Добровольского. 8 апреля 1917 г.
Содержание: О ненахождении Керенским письма в левом ящике письменного стола. О письме государя об увольнении Сухомлинова, о записке государя по поводу прекращения дела Манасевича-Мануйлова. Письмо Сухомлинова Мясоедову.
* * *
Председатель. — Я должен вам сказать, что А. Ф. Керенский не нашел письма, на которое вы указывали.
Добровольский. — У Носовича не спрашивали?
Председатель. — У В. П. Носовича — копия.
Добровольский. — Может быть, я только копию и видел.
Председатель. — В. П. Носович совершенно точно и ясно говорит, что, передавая эти бумаги, передал и это письмо, в особом конверте.
Добровольский. — Я припоминаю, что В. П. Носович мне дал небольшой пакет и говорил со мной исключительно о том плане, который я вам сообщил, и об этом письме. Это он мне говорил. Еще, впрочем, он говорил о телеграмме относительно прекращения дела Манасевича и показывал черновую к той записке, которую государь написал по этому поводу, или копию с нее. Теперь, после первого разговора с вами, я вспомнил, что письмо я его несомненно читал или мне его читали, я припоминаю…
Председатель. — Оно ходило в копиях?
Добровольский. — Оно ходило в копиях. Был ли это подлинник, я совершенно не в состоянии вспомнить. Содержание его наверное известно. Это было так, что Сухомлинов накануне был у государя, и государь ему, повидимому, ничего не говорил. А на следующий день он написал, что он должен быть уволен. Теперь, что касается того, видел ли я подлинник, имел ли его в руках или нет, то в моей памяти это сливается с тем, что я видел и читал еще другое письмо, и тоже не припоминаю, было ли оно в подлиннике или нет. Я разумею письмо, которое Сухомлинов написал Мясоедову после его увольнения, в котором он ему говорил, что он лично ничего против него не имеет и что, если бы от него зависело (я точно не могу вспомнить выражений), он, конечно, во всякое время взял бы его на службу. И это письмо, повидимому, господин Мясоедов предъявил, когда задумал вернуться опять на службу. Теперь я не могу сказать наверное, кто докладывал Носовичу это письмо, и проверял ли или читал, или давал прочесть. И не помню, не были ли эти два письма вместе. Но что я видел эти два письма, это наверное.
Председатель. — Значит, вы теперь не утверждаете того, что утверждали, что это письмо осталось в левом ящике письменного стола?
Добровольский. — Не могу вам сказать…
Председатель. — Вот это тот вопрос, который я должен был вам задать по настоянию сенатора Кузьмина.
XVI. Допрос И. Ф. Манасевича-Мануйлова 8 апреля 1917 г.
Содержание: История назначения Штюрмера. Знакомство с Питиримом. Питирим в курсе политических событий. Мануйлов и Штюрмер. Реакционные влияния возле Николая II помимо Распутина. Штюрмер и Питирим. Илья Гурлянд. Знакомство Манасевича с Распутиным. Манасевич о Распутине в «Новом Времени». История «покушения» Хвостова на Распутина. Предупреждение о «покушении» Манасевича. О Ржевском. Об инженере Гейне. Ордер от Хвостова на 60.000 рублей. «Безусловная» вина Хвостова. Жандарм Юденич.[*] Допрос Хвостова о 5-миллионнной выдаче Хвостову и Штюрмеру. Климович и Рейнбот. Герасимов. Дубровин. Нарышкина.
* * *
Председатель. — Вы желали ускорения допроса, желали иметь возможность дать ваши объяснения… Установим же известные рамки для ваших объяснений. По каким вопросам вы хотели высказаться?
Манасевич-Мануйлов. — Я не знаю, что собственно интересует Комиссию… Я готов ответить решительно на все…
Председатель. — Нас интересуют преступные по должности действия бывших министров и других высших должностных лиц.
Манасевич-Мануйлов. — Может быть, вы мне разрешите? Я могу говорить — с того времени, когда я был назначен состоять при Штюрмере… Как был назначен Штюрмер, — это интересует Комиссию?
Председатель. — Некоторые влияния при назначении Штюрмера должны быть выяснены.
Манасевич-Мануйлов. — Дело в том, что в этот период времени я был в кругу журналистов: я был не на службе, а был сотрудником «Нового Времени» и «Вечернего Времени». Как в обществе, так и в печати, ходили разговоры относительно того, что государственной думе грозит большая опасность и что Горемыкин хочет нанести ей окончательный удар…
Председатель. — Вы, значит, рассказываете нам о январе месяце 1916-го года?
Манасевич-Мануйлов. — У меня, с болезнью, ужасно путаются месяца… Вы, вероятно, вспомните… Этот вопрос — жизненный и интересовал всех и, между прочим, журнальные круги… Надо знать, что я был знаком раньше, как журналист, с Питиримом, который был тогда экзархом Грузии…
Председатель. — Когда именно вы познакомились с Питиримом?
Манасевич-Мануйлов. — Давно было… Когда он приезжал в Петроград, я был у него раз. Прошло много времени, и я его не видал. Когда он приехал в Петроград митрополитом, он сам возобновил свое знакомство со мной и даже приехал первый ко мне, желая, чтобы был человек, который давал бы сведения в «Новое Время» о нем, потому что я был сотрудником «Нового Времени»… Вот, желая знать подробнее, как стоит дело относительно государственной думы, я поехал к Питириму, зная, что он имеет влияние и что он, так сказать, находится в сношениях с Царским Селом…
Председатель. — Что вы тогда знали о сношении Питирима с Царским Селом? и почему по политическому вопросу о судьбе государственной думы вы обратились к духовному лицу — к Питириму?
Манасевич-Мануйлов.— Т.-е. я не обратился… Но мне казалось, что он может быть осведомлен, потому что я слышал относительно того, что в его назначении принял участие Григорий Распутин. Это была вещь известная, ходившая по всему городу и в редакции «Нового Времени»… Я тогда поехал к Питириму. До этого он был у меня (сношения уже были, не то, что я упал с неба к нему. Он был у меня, как я докладывал, и были сношения… Секретарь его, Осипенко, бывал у меня, приносил разные заметки для «Нового Времени» относительно разных посещений, которые Питирим делал)… Вот, я и поехал к нему. Это было часов в 5 вечера, — как сейчас помню… Он очень хорошо меня принял, расспрашивал меня относительно газет, очень интересовался всем. Затем, начался разговор на общие политические темы и, между прочим, относительно Горемыкина. Он знал вполне то, что происходит, в смысле, так сказать, похода против государственной думы и всего того, что делала реакционная партия…
Председатель. — Он был в курсе?
Манасевич-Мануйлов. — Он был в курсе — и относился к этому крайне отрицательно, говоря, что закрытие государственной думы и вообще тот курс, который взял Горемыкин, приведет к печальному концу и может стоить трона… Между прочим, он говорил, что Горемыкин не может оставаться на своем посту при этом положении вещей и что теперь идут поиски нового председателя Совета министров. Я тогда прямо задал вопрос: — «Кто намечается?» Тогда сидевший тут секретарь Осипенко говорит: «Я знаю, кто», — он назвал фамилию Штюрмера…
Председатель. — Почему это: вы обратились к Питириму, а отвечает вам Осипенко?
Манасевич-Мануйлов. — Осипенко? — он свой человек: как сын у него… Мы втроем сидели. Он держал себя совершенно не так, как секретарь, а как самый близкий человек… Питирим говорил, что он воспитывал его, с детства знает… Он называл фамилию Штюрмера, — я был удивлен. Я Штюрмера знал много лет тому назад, но прошел такой период времени, когда я его несколько лет подряд совершенно не видал. Я говорю: «Как — Штюрмера?». Он говорит: «Да, да! я знаю из достоверных источников»… И Питирим качал головой, подтверждая заявление, сделанное мне Осипенко… Тогда Питирим говорит: «Вы его знаете?» Я говорю: «Да». (Когда я был чиновником особых поручений при Плеве, в это время Штюрмер был директором департамента общих дел, и мне приходилось с ним встречаться и бывать у него…).
Председатель. — Скажите, разве только с этих пор началось ваше знакомство со Штюрмером? Ранее вы не были знакомы?
Манасевич-Мануйлов. — Только с момента, когда он был директором департамента общих дел… Тогда меня Питирим спрашивает: «Какого направления Штюрмер?». Я говорю: «Как я его знаю, он человек — очень практический и всегда старался лавировать, хотя у него были похождения реакционного характера», и вспомнил историю Тверского земства… «Но, — говорю, — кажется, он настолько человек ловкий, что сумеет лавировать»… Тогда Питирим мне сказал, что «— вот, раз вы с ним знакомы, вы, как журналист, можете его повидать, поговорить с ним и выяснить, как он, собственно, смотрит на данный момент, вообще, что это за фигура теперь»…
Председатель. — Почему же это интересовало его?
Манасевич-Мануйлов. — Почему интересовало Питирима? — потому что, очевидно, он… Я в дальнейшем скажу: это будет вам понятно…
Председатель. — Раз вы кончаете изложение этого эпизода, — я хотел бы, чтобы вы сообщили, как вы себе представляли в момент беседы: кто же, собственно говоря, выдвигает кандидатуру Штюрмера?
Манасевич-Мануйлов. — Видно было по всему, — Осипенко проронил это слово, — тот же Распутин… Потом я вам доложу… Этим закончился разговор. Это страшно заинтересовало меня. Я думал: как же? сколько лет не видал человека… — И решил позвонить к Штюрмеру… Когда я подошел к телефону, его вначале не было дома, он был в Английском клубе. Я тогда ему говорю: «Борис Владимирович, это говорит Мануйлов… — «А,— говорит, — вы меня забыли»… Я говорю: «Борис Владимирович, я знаю все». — Тогда он говорит: «Что все?» Я говорю: «Я знаю все». — Тогда он говорит: «Вы приезжайте ко мне»…
Председатель. — Он не стал расспрашивать? Он понял, что именно вы знаете, — и вы видели, что он понял?
Манасевич-Мануйлов. — Мы это говорили по телефону… Я его в тот же вечер и увидел. Он сказал: «Вы заезжайте», — я к нему заехал, рассказал ему всю беседу, которая была с Питиримом, и говорю, что вопрос идет относительно назначения, и как он смотрит на думу… Тогда он в категорической форме сказал, что иначе не понимает управления Россией, как с государственной думой, что он идет совершенно навстречу думе и не понимает Горемыкина, который напролом лезет против общественного течения, и что это, так сказать, очень опасный путь… Одним словом, очень — для Штюрмера — либерально говорил… Я ему сказал, что заинтересован в этом деле, очевидно, Питирим.
Председатель. — Т.-е. в каком смысле — заинтересован?
Манасевич-Мануйлов. — Так сказать, что в деле назначения председателя совета министров принимает несомненное участие Питирим… Это было ясно из всего разговора с Питиримом, из всего, что мне пришлось там слышать…
Председатель. — Значит, вопросы Питирима о том, как вы смотрите на Штюрмера, нужно понимать в том смысле, что Питирим, принимая участие в выставлении кандидатуры Штюрмера, хотел знать ваше мнение об этом кандидате?
Манасевич-Мануйлов. — Он именно и просил меня поговорить со Штюрмером, чтобы выяснить основные вопросы — является ли он таким же реакционером, как Горемыкин (в смысле вопроса о государственной думе)… Питирим сказал: «Если Штюрмер придерживается тактики Горемыкина, то его кандидатуру я, Питирим, поддерживать не намерен»…
Председатель. — Значит, распутинский кандидат в данном случае обсуждался Питиримом?
Манасевич-Мануйлов. — Да.
Председатель. — А ваша беседа со Штюрмером чем окончилась?
Манасевич-Мануйлов. — Штюрмер сказал, что он решительно ничего не знает, что для него это новость… Я ему сказал: «Но, кажется, Распутин поддерживает вашу кандидатуру?». Он сказал: «Распутина я несколько раз в жизни видел…», — и замолчал… Одним словом, о Распутине не хотел говорить со мной…
Председатель. — Что же, вы поверили ему?
Манасевич-Мануйлов. — Нет, безусловно, не поверил… (Я потом узнал, что налгал.) Тогда — на завтра или на послезавтра — я был у Питирима и рассказал ему всю беседу, которую имел со Штюрмером. Питирим очень настаивал, относительно вопроса о государственной думе: как он смотрит?… Он его не знал совершенно, — никогда не видал Штюрмера… Он говорит мне: «Что же? во всяком случае, я бы хотел его повидать, я буду рад его видеть»… Я тогда сказал Штюрмеру, чтобы он заехал к Питириму, что Питирим очень хочет его видеть. — Он был у Питирима…
Председатель. — В вашем присутствии или без вас?
Манасевич-Мануйлов. — Нет, без меня… После этого Питирим — не знаю, от кого — еще имел очень подробные сведения, относительно всего того, что происходит в политических кругах, — в смысле брожения, — в смысле, так сказать, того, что решаются в Царском Селе итти против думы… Государь в это время находился в Ставке.
Председатель. — Вы говорите: Питирим знал, — как выяснилось из разговоров с ним — о том, что в Царском злоумышляют против думы… Пожалуйста, остановитесь на этом: что же именно знал Питирим?
Манасевич-Мануйлов. — Он говорил, что есть безусловно влияния (не Распутина, — он подчеркивал это), которые во что бы то ни стало хотят закрыть государственную думу, считая, что время такое, что нельзя созывать государственную думу, и что правильнее было бы даже создать военную диктатуру…
Председатель. — Т.-е. такова была точка зрения Царского Села?
Манасевич-Мануйлов. — Не Царского, а известной группы, воздействовавшей на Царское Село… Питирим говорил, что для него неясно, кто именно влияет в этом направлении… При чем он говорил таким образом: — что два течения есть, — более реакционное течение возле государя было в тот момент (потому что эта вещь менялась: в тот момент, как он говорил — возле государя)… Государь, как я вам докладывал, находился в Ставке. Тогда Питирим говорит, что «раз положение такое серьезное, хотя это не прямое мое дело, как духовного лица, но я вмешиваюсь в это дело!…» Он уже видел Штюрмера, и Штюрмер на него произвел впечатление хорошее, хотя его смущала очень его немецкая фамилия…
Председатель. — Вы сказали: в тот момент более реакционное течение сосредоточилось около бывшего императора… А лица — Питирим не называл?
Манасевич-Мануйлов. — Нет, он не знал и сам это, — спрашивал даже: «Не слышали ли, — а кто там?…»
Председатель. — Итак, Питирим сказал, что он решил принять участие в этом?…
Манасевич-Мануйлов. — Принять участие, — и послал телеграмму государю, относительно того, что он просит быть принятым…
Председатель. — Это было за несколько дней до назначения Штюрмера? — Как вы думаете?
Манасевич-Мануйлов. — Это было, я думаю, дней за 10–12, потому что тут, после этого, он, значит, послал эту телеграмму, и назавтра, кажется, или в тот же самый вечер получил ответ от государя за его подписью о том, что он очень рад будет его видеть в Ставке. В Ставке он подал докладную записку, которую он не читал, но о которой говорил, что много трудился над составлением ее… Именно (как он тогда рассказывал) он доказывал в ней необходимость существования государственной думы и назначения, — как он тогда выразился, — «практического» председателя совета министров, «практика»…
Председатель. — А как вы себе представляете: Питирим в состоянии был сам составлять записки или кто-нибудь другой ему составлял?
Манасевич-Мануйлов. — Вряд ли сам… Хотя он человек интеллигентный, кончивший, кажется, академию… Ему помогал некий Мудролюбов, — это был его секретарь. (В составлении этой записки я не принимал никакого участия…) Тогда он повез эту записку и сейчас же вернулся обратно.
Председатель. — После этого вы его видели, и он вам что-нибудь рассказывал?
Манасевич-Мануйлов. — Да, я его увидел, и он сказал, что государь решил, что, во всяком случае, государственная дума должна существовать… Питирим был в большом от этого восторге. Что касается назначения Штюрмера, то государь говорил, что уже многие лица называли Штюрмера, и он его давно знает, но что тут его несколько смущает немецкая фамилия. Вскоре пошел разговор относительно того, что Штюрмер будто изменил фамилию, — не помню хорошо, — Панин?…
Председатель. — Эта перемена фамилии как раз тогда и произошла?
Манасевич-Мануйлов. — Да, незадолго до этого… Питирим сказал государю о том, что Штюрмер мог бы изменить фамилию, но государь сказал, что будет неудобно… Затем, вскоре, царь приехал сюда, и Штюрмер опять был у Питирима — узнать, как его поездка; что было между ними, — я не знаю, меня не было…
Председатель. — А вам не рассказывали ни Питирим, ни сотрудники его?
Манасевич-Мануйлов. — Нет, я не знаю, что было… Но, во всяком случае, государь приехал сюда, и вечером… Да, нет: виноват, — я не то говорю!… Штюрмер был у Питирима после поездки в Ставку. Затем он мне сказал: «Я еду (кажется, это было в 6 часов) к Питириму, и от Питирима, если вы будете дома, я к вам заеду»… — И, действительно, около 7 или 8 часов вечера, он ко мне приехал и сказал о том, что Питирим хорошо съездил, и как будто его кандидатура находит отклик со стороны государя; но что вопрос еще не решон и что он, во всяком случае, ничего не знает по этому поводу: il fait la sourde oreille,[*] — так сказать, не вмешивается в это дело, совершенно остается в стороне… И он просил, чтобы не попало что-нибудь по этому поводу в газеты… Потом приехал, значит, государь. И, я помню, я был в «Новом Времени» (это было около 12 час. ночи), приходит человек и говорит: «Вас просят к телефону с Конюшенной» (он жил еще на Конюшенной). Я подошел к телефону: оказалось — Штюрмер, который мне говорил, что он только что получил записку от царя, что царь его зовет в Царское Село — на завтра. — «Если можно, сообщите это Питириму…» — Я говорю: «Уже поздно». — «Но завтра утром, во всяком случае, передайте!». Я назавтра передал Питириму. Назавтра Штюрмер съездил в Царское Село. Что было между царем и Штюрмером, я точно не знаю; но в тот день я видел Штюрмера, и он сказал, что вопрос стоит хорошо; но что он, в течение нескольких дней, не может ни с кем разговаривать, даже со мной, с Питиримом, — решительно ни с кем, — что он дал слово государю… У него даже трубка была не повешена в эти дни… Затем состоялось его назначение. Нужно сказать, что в период этих разговоров он говорил относительно меня, что он просил, чтобы я состоял при нем так же, как я состоял при гр. Витте… Его назначили, и с первого же момента его назначения очень властным и полным хозяином себя держал Илья Гурлянд, который являлся его ближайшим помощником, составителем всех его бумаг, — решительно всем!…
Председатель. — В какой должности?
Манасевич-Мануйлов. — Он был членом совета министра внутренних дел и сейчас же был назначен директором телеграфного агентства.
Председатель. — А членом совета он был еще до того, или он был назначен со вступлением в министерство Штюрмера?
Манасевич-Мануйлов. — Не могу вам сказать, — я не помню совершенно… Дело в том, что министр вн. д. А. Н. Хвостов был в приятельских отношениях с тем же Гурляндом, так что очень может быть, что он раньше был назначен, — я не могу вам сказать… Отношения Гурлянда со Штюрмером — давнишние и, как говорили в чиновничьем мире его товарищи, Штюрмер был в интимных отношениях с мадам Гурлянд, и это, так сказать, их сблизило… Значит, началось правление Штюрмера. Тут я увидел, что мне ужиться с Гурляндом невозможно…
Председатель. — Почему?
Манасевич-Мануйлов. — Потому, что он был полным хозяином! Я ведь мог быть, главным образом, полезным в области журнальной, с этой стороны, в сношениях с печатью, о чем я говорил Штюрмеру: это, с первого же момента, так было решено между мною и Штюрмером, что он будет приглашать представителей печати, что будет устраивать чай… Сейчас же это было перерешено Штюрмером, — 3 часа спустя после того, как он говорил с Гурляндом!… Так что я понял, что мне здесь нечего делать у него… Теперь, я думаю, наиболее интересным для вас… Но, быть может, у вас есть вопросы?…
Председатель. — Нас интересуют некоторые выдающиеся моменты политической карьеры Штюрмера. Штюрмер получил власть: как же он отнесся, в связи с своим назначением, к Питириму, к Распутину?
Манасевич-Мануйлов. — Он сейчас же поехал к Питириму и говорил ему (это мне уже рассказывал Питирим и секретарь его), что он всецело ему обязан, что он знает то участие и влияние, которое он имел в этом назначении, что он этого никогда не забудет, что он будет слушаться, прислушиваться, вернее, одним словом, стараться всячески итти по тому пути, который ему подскажет Питирим!… О Распутине вообще он говорил очень мало. Нужно сказать, что я Распутина знал, как представитель «Нового Времени»: однажды он приехал сюда в Петроград (тогда Петербург), и М. А. Суворин поручил мне его повидать… Я пришел совершенно как незнакомый человек (он жил тогда у Сазонова: такой есть публицист — Сазонов). Я тогда написал интервью с ним, которое наделало очень много шуму, было переведено на французский и английский языки: оно появилось в «Новом Времени», — знаменитая его история о банях, где он рассказывал подробно…
Председатель. — Может быть, вы в двух словах изложите смысл этой истории?
Манасевич-Мануйлов. — Дело в том, что он рассказывал мне следующее: «Будучи в Сибири, у меня было много поклонниц, и среди этих поклонниц есть (можно сказать это, потому что это было напечатано) — среди этих поклонниц есть дамы, очень близкие ко двору. Вот, — говорит, — они приехали все ко мне туда (т.-е. в Сибирь), и тогда, — говорит, — они хотели приблизиться к богу… Приблизиться к богу можно только самоунижением. И вот, я тогда повел всех великосветских дам — в бриллиантах, в дорогих платьях, — повел их всех в баню (их было 7 женщин), всех их раздел и заставил меня мыть. Вот они унизились перед богом, и этим унижением, так сказать…
Председатель. — К какому времени относится ваше с ним знакомство?
Манасевич-Мануйлов. — Это было несколько лет тому назад, — я не помню… После того, как появилось это интервью, Распутин был страшно на меня обозлен: ему объяснили, что он сделал большую ошибку, что он рассказал, и он был страшно против меня восстановлен… Он говорил, что вышлет, сошлет меня!… После этого, я его совершенно не видел. К периоду назначения Штюрмера, когда Штюрмер был назначен, — мне кажется, уже я слышал и знал о том влиянии, которое имел Распутин. Меня во всем этом заинтересовало больше всего, как журналиста, — войти в этот мир, ознакомиться, и современем написать воспоминания, о чем я и говорил моему приятелю — Бурцеву… Я тогда решил найти какой-нибудь путь для того, чтобы повидать этого Распутина, — и после этого инцидента со статьей о бане… Я знал, что он бывает у некоторых журналистов. (Нужно сказать, что Штюрмер был уже председателем совета министров.) Я знал, что Распутин бывает у одного репортера Снарского (такой молодой человек), что там бывают ужины, на которые приезжает Распутин… Снарский мне сказал: «Завтра у меня будет Распутин: если хотите, приезжайте»… Я приехал около 12 часов ночи; помню, были какие-то две женщины, которых привез Распутин, был Снарский… Распутин меня встретил очень холодно и так посмотрел неприязненно… Но затем начали разговаривать, и он вдруг обращается ко мне и говорит: «Ты знаешь? меня на-днях убьют!». Я говорю: «Кто же?». — «Да! все, все готово для того, чтобы меня убить»… Я говорю: «Если ты знаешь, то наверное принимаешь меры»… — «Так! — говорит, — вот рука!… Вот видишь? — моя рука: вот эту руку поцеловал министр, и он хочет меня убить»… Так как он был выпивши, то, я думал, что просто — странная история… Назавтра, придя, я продолжал работать в «Новом Времени», и кто-то такой из репортеров говорит, что будто бы раскрыто покушение на жизнь Распутина… Начали тут расспрашивать: то, другое, — никаких подтверждений этого не было… Проходит несколько дней после этого, — мне звонит по телефону некий Симанович (этого Симановича я встречал в клубе литературно-художественном)…
Председатель. — Позвольте вас прервать: этот министр был А. Н. Хвостов?
Манасевич-Мануйлов. — Да.
Председатель. — Пожалуйста, продолжайте.
Манасевич-Мануйлов. — Звонит Симанович, что ему нужно меня видеть, и назначает мне время. Он является ко мне и говорит: «Вот, вы состоите при председателе совета министров, а ведь вы знаете, что готовится покушение на Распутина и что в этом деле принимает живое участие ни кто иной, как А. Н. Хвостов?
Председатель. — Позвольте вас спросить, чтобы покончить с этой встречей между вами и Распутиным: что там происходило — попойка, разговоры?
Манасевич-Мануйлов. — Нет, он держал себя очень властно. Говорил о том, что он может — все!… Но он был пьян, так что его словам я не придал значения… О Распутине я много вам расскажу для вас интересных вещей…
Председатель. — Итак, у вас был разговор с Симановичем…
Манасевич-Мануйлов. — Это в газетах не появится?
Председатель. — Нет.
Манасевич-Мануйлов.— Не потому, что я боюсь, а потому, что этим материалом я хочу воспользоваться…
Председатель. — Я вам сказал, что не появится.
Манасевич-Мануйлов. — Симанович рассказывает, что некий Ржевский должен совершить это убийство… Я говорю: «Какой Ржевский? кто такой? — сотрудник газеты?». (Дело в том, что я сейчас же вспомнил, что у нас, в «Вечернем Времени», был господин Ржевский, который появлялся в форме болгарского офицера, и, в конце концов, М. А. Суворин узнал целый ряд очень некрасивых деяний этого господина, и он был удален из редакции…) Оказалось, что этот самый и есть. Симанович очень путано, но, во всяком случае, установил факт, что Хвостов находится в сношениях с Ржевским и что хотят убить Распутина… Я счел нужным сейчас же доложить об этом Штюрмеру, и (помню, — это было в 12 часов ночи, — именно, ночью) я ему докладывал и спешил с этим, так как назавтра у Штюрмера был доклад у царя… Штюрмер отнесся к этому крайне недоверчиво: говорил: что это фантазия и, вероятно, — как он сказал, — какие-нибудь жидовские происки и шантаж против Хвостова, который ненавидит жидов… Я ему сказал, что я счел нужным доложить, — «затем, я думаю, что вам было бы полезно выслушать этого Симановича». Он говорит, что утром у него доклад и, если он найдет нужным, скажет об этом государю; но чтобы я привел этого Симановича, что он хочет от него услышать кое-что… Утром Штюрмер уехал в Царское Село. Днем я привез к нему этого Симановича. Симанович рассказал то же…
Председатель. — Уже по возвращении Штюрмера из Царского?
Манасевич-Мануйлов. — По возвращении, — да… Симанович рассказал ему, но Штюрмер продолжал относиться недоверчиво к этому делу. Между прочим, тут, у Штюрмера, Симанович назвал фамилию инженера Гейне — В. В. Гейне, — который, будто, более подробно знает все это дело… Штюрмер обратился ко мне и говорит: «Я вас прошу, частным совершенно образом переговорить, т.-е. допросить этого Гейне»… В тот же день вечером я видел Гейне, который мне подробно уже рассказал следующее: что некоторое время тому назад Ржевский, находившийся уже раньше в сношениях с А. Н. Хвостовым, однажды зовет Гейне к себе и говорит ему: — «Ну теперь, — слава богу! — нужда наша прекратится, и у меня будут не такие маленькие деньги, как вы видели, — по тысяче рублей, по две тысячи рублей, которые мне давал Хвостов, — а что теперь будут у меня большие суммы!… Я должен совершить путешествие заграницу, с особыми полномочиями, и после этого, если все удастся, — то я буду хозяином положения!» Гейне на это его спрашивает, — он сразу не говорит, но Гейне уже было известно, что действительно Хвостов находился в постоянных сношениях с Ржевским (при чем раздавались звонки по телефону от А. Н. Хвостова, который вызывал Ржевского к себе, разговаривал и т. д.)… Затем Гейне рассказал, что вскоре после этой беседы Ржевский показал сравнительно большие деньги и сказал: «Вот, Хвостов мне дал деньги, а затем, — говорит, — я завтра вам покажу уже документик настоящий!»… (Это была его фраза.) «Назавтра, — рассказывает Гейне, — действительно» (это была суббота)…
Председатель (прерывает). — Следующий день была суббота?
Манасевич-Мануйлов. — Суббота (почему я это запомнил? — потому что, как я сказал, я хочу все это восстановить)… Назавтра Ржевский поехал к Хвостову, и Гейне ждал его… Затем Ржевский выступил в очень жизнерадостном настроении и сказал: «Все сделано: бумажка у меня!…». — Рассказал Гейне, что эта бумажка ни что иное, как ордер, выписанный министром вн. д. на Кредитную канцелярию (кажется, на Кредитную канцелярию, а может быть, и на канцелярию м-ва вн. д.), — ордер на 60.000 р. Ржевский играл в карты, и он сказал: «Назавтра я еду в Христианию: сегодня надо крупно сыграть… Но из тех денег, которые я вам показал, я не хочу тратить, — вот, разменяемте этот самый ордер…». — И он отправился, кажется, один, без Гейне, во Французский банк к Рубинштейну, предлагая разменять ордер и давая большие проценты. Рубинштейн, увидав: «По приказанию министра вн. д.», отказал… Далее, Гейне рассказывает, что Ржевский уехал в Христианию, что он сознался во всем, раскрыл весь план… План состоял в следующем… Я бы просил Комиссию обратить на это внимание, потому что это вещь очень важная!…
Председатель. — Пожалуйста, если можно, изложите это покороче…
Смиттен. — Вы видели этот ордер на 60.000 р.?
Манасевич-Мануйлов. — Да, да, да!… (Потом я расскажу… Я думаю, что это важно, потому что это устанавливает безусловную вину Хвостова…) Да, так он раскрыл весь план, который заключался в следующем: он должен поехать в Христианию к Илиодору; убийство Распутина должно быть совершено под флагом Илиодора, при чем совершить убийство должны были лица, которые приехали из Царицына… Вот, что говорил Гейне. Подробностей я не буду говорить, но это — суть… Затем он возвращается… Причем Хвостов сказал Ржевскому, как объяснить это путешествие: если его спросят, то он должен рассказать (во всяком случае, если это выплывет наружу), — рассказать, что он, Ржевский, командирован действительно Хвостовым для покупки книги о Распутине, которую написал Илиодор… Тут произошла следующая история, которая осталась, так сказать, довольно нераскрытой… Ржевский был арестован. Ржевский был арестован по приказу Белецкого. В этот день, я помню, я был, по приказу Штюрмера, у Белецкого по какому-то пустому делу (справка, относительно какого-то господина, который подавал прошение), и среди присутствующих там лиц я увидел Ржевского, который был очень нервен… Скоро он был позван в кабинет Белецкого, и оттуда раздавались очень сильные крики — возгласы Белецкого, который кричал на Ржевского… Затем Ржевский был арестован. Когда Гейне дал мне свои показания, я счел нужным их довести до сведения председателя совета министров. Распутин звонит ко мне и говорит, что он должен меня видеть: он приехал ко мне, был страшно взволнован. Говорит, что убийство, безусловно, должно состояться и что Хвостов — организатор этого убийства, что царица уже знает обо всем, но что все дело поручено Штюрмеру для расследования. Действительно, Штюрмер был послан к царю.
Председатель. — Т.-е. специально по этому поводу? И не так, как в ту поездку, о которой вы говорили и для которой вы ему сообщали сведения?
Манасевич-Мануйлов. — Нет, нет. Он поехал туда и, возвратившись, говорит, что, действительно, Ржевский был уже арестован и сидел в охранном отделении.
Завадский. — Кем же он был арестован?
Манасевич-Мануйлов. — Он был арестован по приказанию Белецкого.
Завадский. — Это интересно.
Манасевич-Мануйлов. — Я докладываю: тут для меня непонятная вещь произошла, но потом это послужило поводом к большому раздору между Белецким и Хвостовым. Когда, одним словом, было поручено расследование этого дела Штюрмеру, — Штюрмер страшно растерялся…
Председатель. — Кем было поручено, государыней или бывшим императором?
Манасевич-Мануйлов. — Да… но, кажется, и царица была при этом…
Председатель. — Так что же вам передавал Штюрмер?
Манасевич-Мануйлов. — Тогда к этому делу был привлечен Гурлянд, без которого он ничего не делал. Гурлянд находился в самых близких отношениях с А. Н. Хвостовым. Был позван Ржевский, переведен несколько раз из охранного отделения к Штюрмеру. И он рассказывал все подробности того, как это должно было осуществиться, и т. д.… Затем, в один прекрасный день, Ржевский остался один с Гурляндом. Штюрмер ушел в другую комнату. Ему предложили, разрешили позавтракать, пригласили к завтраку у председателя. (Но Штюрмер ушел в другую комнату.) А после этого завтрака Гурлянда с Ржевским Ржевский изменил свои показания… Вот, так сказать, то, что было известно… Однако, Штюрмер мне приказал допросить сожительницу Ржевского, которая и была мною допрошена (я фамилии ее не помню; она жила на Жуковской улице, 45/7, где жил Ржевский). Она подробно рассказала всю эту историю: как он должен был убить, как он пришел от Хвостова; рассказывала, что Хвостов ему сказал, что он должен убить Распутина… Он (Ржевский) пришел страшно взволнованный, не спал всю ночь, не знал, что делать, — должен был назавтра дать окончательный ответ… Одним словом, — все подробности. И протокол был мною передан председателю совета министров.
Иванов. — За подписью Ржевского?
Манасевич-Мануйлов. — За подписью госпожи…
Председатель. — Кто допрашивал эту госпожу?
Манасевич-Мануйлов. — Я и офицер Юденич.[*]
Председатель. — Который арестовал ее?
Манасевич-Мануйлов. — Она не была арестована: просто была допрошена.
Председатель. — Кто этот Юденич?[*]
Манасевич-Мануйлов. — Жандармский офицер при охранном отделении.
Иванов. — Он при Штюрмере был?
Манасевич-Мануйлов. — Нет, при охранном отделении… Затем Хвостов А. Н. страшно был взволнован и обратился ко мне через своего родственника Ивана Хвостова, которого я видел (он был на посылках у него)… Тот приехал ко мне и говорит, что просит непременно Алексей Николаевич повидаться с ним, но не у него, а у графа Татищева. На квартире у графа Татищева, на Миллионной, было мое свидание с А. Н. Хвостовым. Об этом свидании знал Штюрмер…
Председатель. — Вы его предупредили?
Манасевич-Мануйлов. — Да, счел нужным предупредить… Хвостов начал говорить о том, что Ржевский врет, что это не верно… Путался страшно сам в своих показаниях: говорил относительно того, что эти деньги были предназначены для покупки книги… Между тем, книга эта уже вышла давно, что было установлено Бурцевым! Так что вопрос о книге совершенно не шел. (Бурцев эту историю знает, — если вы его спросите…) Затем Хвостов был несколько раз допрошен самим Штюрмером и, как говорил Штюрмер, давал ему очень сбивчивые показания…
Председатель. — Что же, имеется протокол допроса Хвостова?
Манасевич-Мануйлов. — Думаю, нет…
Председатель. — Значит, премьер-министр допрашивает министра внутренних дел о причастности его к приготовлению убийства этого Распутина?
Манасевич-Мануйлов. — Да, да! Вся картина была совершенно ясна…
Председатель. — Что же, Штюрмер, по поводу этого допроса, сносился с Белецким?
Манасевич-Мануйлов. — Он, кажется, спрашивал Белецкого, и Белецкий тогда сказал ему, сколько я помню, что Ржевский действовал помимо него, что он находился в личных сношениях с министром внутренних дел…
Председатель. — Белецкий при вас допрашивал арестованного Ржевского?
Манасевич-Мануйлов. — Не при мне: я только слышал, как он на него кричал… Во всяком случае, насколько я помню, Штюрмер говорил с Белецким, и Белецкий говорил, что Хвостов действовал за свой страх…
Председатель. — Затем, к вам приезжал Распутин, бледный, волновался, говорил, что будет убит?
Манасевич-Мануйлов. — Он приехал и спрашивает, что ему делать?… Просил, чтобы я сказал Штюрмеру, чтобы принять какие-нибудь меры более энергичные, так как он боится быть убитым…
Председатель. — Значит, история с банями была забыта?… После этого важного свидания у Снарского, в связи с последующими событиями, — Распутин подошел к вам?
Манасевич-Мануйлов. — Да, уже были сношения… Потом, после этого, Хвостов пожелал дать объяснения по всему этому делу, и, как я слышал от Распутина, он являлся к Вырубовой и на коленях давал свои объяснения…
Председатель. — Это когда вам Распутин говорил?
Манасевич-Мануйлов. — Тогда же, в тот же период времени…
Председатель. — Во время своего приезда к вам?
Манасевич-Мануйлов. — После того… Между прочим, характеристика эта (данная Хвостову Распутиным) оказалась совершенно верной, потому что, действительно, Хвостов целовал руку у Распутина: когда был обед, по случаю назначения Хвостова, то подали уху, и он сказал Распутину, что не будет есть, пока тот не благословит, — тогда тот благословил, и Хвостов поцеловал руку…
Смиттен. — Публично поцеловал, при всех присутствующих?
Манасевич-Мануйлов. — Это был обед у Распутина.
Смиттен. — Кто присутствовал?
Манасевич-Мануйлов. — Вырубова была, Андроников… После этого Хвостов был удален некоторое время с поста. В Петроград приезжала с письмами Илиодора жена Илиодора, в письмах подробно рассказывался весь план убийства… Если вас интересует, как его должны были убить, я расскажу…
Председатель. — Нет, это нас не интересует… Скажите, Ржевский не доехал до Илиодора?
Манасевич-Мануйлов. — Он был арестован на обратном пути… Вот, этот эпизод… Затем, интересный эпизод, который, между прочим, я не знаю, — приходилось ли вам сталкиваться с вопросом относительно 5 миллионов, которые были ассигнованы Хвостому.[*] — По этому поводу, я, так сказать, только слышал об этом, но подробности этого дела вам может рассказать Белецкий…
Председатель. — А то, что вам известно по этому делу, вы знаете это от Белецкого?
Манасевич-Мануйлов. — Не от Белецкого: там, вокруг Штюрмера, слышно было…
Председатель. — Что же вы слышали «вокруг Штюрмера» о 5-ти миллионах?
Манасевич-Мануйлов. — Что эти деньги были назначены на подкуп печати и на предвыборную агитацию… Тогда так смеялись, что хотел наложить лапу на эти деньги Алексей Хвостов, а вырвал эти деньги Штюрмер!… Подробностей я не знаю, но знаю, что…
Иванов. — Деньги были получены?
Манасевич-Мануйлов. — Кажется, что да…
Председатель. — Почему вы склоняетесь к этому утверждению?
Манасевич-Мануйлов. — Потому что я слышал, что Гурлянд составляет доклад по этому поводу… Мне, кажется, и Белецкий говорил относительно того, что Штюрмеру удалось выхватить эту сумму у бывшего царя… Во всяком случае, в этом деле принимал живейшее участие Гурлянд…
Председатель. — Пожалуйста, продолжайте.
Манасевич-Мануйлов. — Затем эпизод, который, мне кажется, может интересовать Комиссию, это — следующее. Директором департамента полиции был Климович. В один прекрасный день ко мне приехал Рейнбот (это бывший московский градоначальник). Он хотел быть принятым Штюрмером, но у Штюрмера был большой прием. Тогда он мне позвонил на другой день и сказал: «Хотел бы видеть Бориса Владимировича Штюрмера, и не мог его видеть… Хочу ему выразить свое удивление по поводу того, как он может держать Климовича директором департамента полиции»… (Штюрмер был уже тогда министром внутренних дел, а также и председателем.) Я говорю: «Почему же?» — «А потому, что Климович участвовал в убийстве Иолоса…»[*] — И Рейнбот рассказал мне относительно того, что это убийство было совершено при участии московского охранного отделения, московского генерал-губернатора Гершельмана и чиновника особых поручений при генерал-губернаторе графа Бугсгевдена. Рейнбот говорил тогда, что к нему являлся Климович, который с ужасом рассказывал относительно прогрессирующего движения революционного и усиливающихся террористических партий, что по его, Климовича, мнению, на террор нужно отвечать террором…
Председатель. — К какому времени Рейнбот относил свой разговор с Климовичем?
Манасевич-Мануйлов. — Как раз к тому времени — перед убийством Иолоса…[*] Тогда Рейнбот говорил Климовичу, что он не считает возможным, чтобы был террор справа, что это может привести к полному развалу государства и что одинаково карается законом как убийство справа, так и убийство слева. Как он мне рассказал, — был очень неприятный разговор по этому поводу; но Рейнбот узнал относительно того, что охранное отделение принимает живейшее участие в этом…
Председатель. — В чем?
Манасевич-Мануйлов. — В организации убийств — Иолоса,[*] Герценштейна и целого ряда лиц… Вы понимаете, разговор этот, все то, что рассказал Рейнбот, было настолько серьезно, что я тогда составил записку и представил ее Штюрмеру…
Председатель. — Записку о Климовиче и Рейнботе, которые, так сказать, оба принимали косвенное участие в этих убийствах?
Манасевич-Мануйлов. — Рейнбот говорил, что, наоборот, он был против этого, но что не мог справиться с охранным отделением…
Председатель. — Не мог справиться? А он рассказал, как он пытался справиться?
Манасевич-Мануйлов. — Он говорил, что вызывал Климовича и говорил, что — «этого не делайте!» — но что в Петрограде это движение находило живой отклик… И, действительно, я это знаю, что тогда этому покровительствовали…
Председатель. — Кто покровительствовал?
Манасевич-Мануйлов. — Генерал Герасимов, который был начальником охранного отделения, и целый ряд еще лиц, которых я не знаю… Одним словом, это все шло, и во главе этого стоял Дубровин.
Председатель. — Рейнбот вам говорил, что он доносил в Петроград о том, что террор справа организуется московским охранным отделением?
Манасевич-Мануйлов. — Так я понял из его слов…
Председатель. — Вы в эту записку, которую представили Штюрмеру, поместили это?
Манасевич-Мануйлов. — Да, я написал подробно.
Председатель. — Эта записка была направлена против Климовича и против Рейнбота?
Манасевич-Мануйлов. — Против Рейнбота? — Нет, я указывал, что Рейнбот, с своей стороны, тогда противодействовал; но что его голосу не вняли; что это было прямо направление правительственное… Тогда же хотели убить Витте, как вы помните…
Председатель. — Кто был тогда директором департамента полиции и товарищем министра, заведующим полицией?
Манасевич-Мануйлов. — Министром был Дурново, П. Н.
Завадский. — Это — 1916 год?[*]
Манасевич-Мануйлов. — Не помню… Эта моя записка была представлена. Но тогда, Штюрмер сказал, что он вообще имеет очень отрицательные сведения о Климовиче, но что он не может пока с ним расстаться, по некоторым высшим соображениям…
Председатель. — А какие это были высшие соображения? Вам не приходилось говорить с Распутиным о Климовиче?
Манасевич-Мануйлов. — Да… Распутин был против Климовича одно время потому, что он говорил, будто бы Климович следит за его амурными похождениями…
Председатель. — Так Распутин и говорил?
Манасевич-Мануйлов. — Он это и не скрывал, — свои похождения… Но что затем, будто бы, он изменился, и у них были свидания: так сказать, отношения стали хорошие… Теперь, может быть, у вас вопросы есть?
Председатель. — Вы, может быть, устали?
Манасевич-Мануйлов. — Нет, ничего, — пожалуйста… Я еще полчаса могу… Может быть, вы некоторые вопросы зададите?
Председатель. — У нас есть вопросы. В следующий раз, мы их зададим.
Манасевич-Мануйлов. — Интересно все Распутинское?
Председатель. — Да. И все о Штюрмере, о Белецком…
Манасевич-Мануйлов. — О Распутине я вам дам много интересного. Между прочим, я не знаю: вы имеете сведения относительно Елизаветы Алексеевны Нарышкиной? Вы спрашивали о реакционном влиянии, — она, несомненно, имела реакционное влияние…
Председатель. — Нам приходится прервать допрос…
XVII. Допрос И. Ф. Манасевича-Мануйлова. 10 апреля 1917 г.
Содержание: Отношение Штюрмера к Распутину. Питирим, Волжин и Нарышкина. Распутин о Щегловитове и о Крыжановском. Опора Ставки. Интриги Крыжановского. Вырубова о Штюрмере. Штюрмер — министр иностранных дел. Фактически управляла императрица. Скрытая роль Гурлянда. Русское направление. Мнения Распутина о войне. Отношение к войне Александры Федоровны. Царь в характеристике Распутина. Приезд царя в думу. О Сухомлинове. Влияние Распутина на царя. Назначение Щегловитова председателем государственного совета. Распутин о Щегловитове как министре иностранных дел. Царь — «негож». Политика регентства. Список «правых». Чаплинский. Маклаков. Трепов. Макаров и Распутин. Дело Сухомлинова и Рубинштейна. История Добровольского. «Заурядный мошенник». Протопопов. Распутин о Протопопове. Назначение Раева. Обер-прокурор св. синода Кульчицкий.[*] Борьба Царского Села со Ставкой. Отношение Распутина к Бадмаеву. «Генерал Калинин». Воскресная «уха» у Распутина. Распутин и Мануйлов. «Занятия» Мануйлова. Охрана Распутина. Жалованье Мануйлова. Поездки Распутина в Царское. Распутин и Белецкий. Дело Петца. Князь Бебутов. Княгиня Тарханова. После убийства Распутина. Места свиданий Распутина со Штюрмером. Заграничная агентура. Штюрмер — «крамольный человек». Ржевский и А. Н. Хвостов. Спиридович и отношения с ним Мануйлова. Важное поручение заграницу. Служба Мануйлова в Риме. Заграничная печать. Наблюдение за нею. Наследство, полученное Мануйловым. Переписка с Карро, отношения с ним Мануйлова. На квартире Распутина после его исчезновения. Прекращение дела Мануйлова. Источник денежных получений Распутина. Отношение Распутина к женской половине Царского Села. Близость Протопопова к Распутину.
* * *
Председатель (обращаясь к Манасевичу-Мануйлову). — Пожалуйста, благоволите занять место. Так вот, нам хотелось бы остаться при нашем прежнем предположении, дать вам в известных рамках, которые мы в прошлый раз наметили, свободно высказать все то, что вы знаете. Вы, вероятно, вспомнили ваше показание для себя, а может быть и для нас вспомнили пробел этого показания.
Мануйлов. — Дело в том, что я хотел сказать относительно соотношения, которое было между Штюрмером и Распутиным уже после назначения Штюрмера. У Распутина и Штюрмера здесь, в крепости, были свидания.
Председатель. — Как вы говорите, когда?
Мануйлов. — После назначения Штюрмера председателем совета министров. Были свидания у них с Распутиным здесь, в крепости, у коменданта крепости, генерала Никитина. Дочь генерала Никитина играла очень большую роль. Это — фрейлина Никитина; она была посредницей между Штюрмером и Распутиным. Кажется, два свидания, насколько я помню, произошли у Питирима. Я знаю, что это было неприятно Питириму, но этого желал непременно Распутин, чтобы свидания имели место именно в лавре. Питириму это было неприятно, и поэтому только первые свидания были у Питирима, а потом уже у коменданта крепости. Дело в том, что с первых же свиданий Распутин стал выказывать недовольство против Штюрмера, главным образом потому, что из того, что он передавал во время свидания здесь, у Никитина, не все было выполнено Штюрмером, несмотря на то, что, как он говорил, Штюрмер должен был исполнять решительно все, что он хотел, так как это было условием первого свидания после назначения.
Председатель. — Кто это вам говорил?
Мануйлов. — Распутин говорил.
Председатель. — Как о том, что были установлены условия?…
Мануйлов. — Что был установлен известный модус.
Председатель. — Так и о том, что Штюрмер условия эти не исполнял?
Мануйлов. — Да, не исполнял. Дело в том, что когда Распутин сказал относительно Штюрмера, — как он называл его «старикашка» — что он не исполняет своих обещаний, тогда я ему говорю: «Но ведь не ты же способствовал его назначению, по крайней мере, Штюрмер это отрицает». Вы изволите помнить, я говорил об этом. А на это Распутин говорит: «Нет, — говорит, — он, старикашка, врет, я много сделал, я не только… Он ко мне ездил со своей женой, когда я жил еще на Английском проспекте». Он жил раньше на Английском проспекте. И тогда уже он хлопотал о нем.
Председатель. — У кого был?
Мануйлов. — У него на квартире. «Тогда уже, — говорит, я хлопотал о нем, я просил царицу и царя, чтобы его назначили в оберы», т.-е. в обер-прокуроры св. Синода. Так что Распутин в категорической форме говорил о том, что он сыграл большую роль в его назначении. Я думаю, что оно так и есть, потому что, если вы припомните, когда я первый раз приехал к Питириму, то секретарь его, Осипенко, говорил, что именно Штюрмер предполагается председателем совета министров, так как уговорил Распутин. Следовательно, отношения между Распутиным и Штюрмером стали холодными, несмотря на то, что фрейлина Никитина всячески старалась улаживать эти отношения. Она являлась к Распутину ежедневно и ездила часто в Царское Село к Вырубовой, служа, так сказать, посредницей между Распутиным, Штюрмером и Вырубовой. Теперь я хочу сказать…
Председатель. — Простите, а какая связь была между Никитиной и Штюрмером? Я понимаю связь Никитиной с Вырубовой на почве некоторых отношений с Распутиным. Но какая связь Никитиной со Штюрмером?
Мануйлов. — Дело в том, что сам генерал Никитин — давнишний приятель Штюрмера, и Штюрмер сам способствовал назначению его в коменданты.
Председатель. — Теперь скажите, пожалуйста, кто вам говорил о свиданиях Распутина со Штюрмером здесь, в Петропавловской крепости?
Мануйлов. — Это не было тайной.
Председатель. — Вы сами участвовали в этих свиданиях?
Мануйлов. — Никогда не участвовал. Это исключительно делалось так, что Распутин приезжал прямо сюда на автомобиле, за ним заезжала фрейлина Никитина; но меня тут не было. А вот на свидании, которое произошло…
Председатель. — То-есть два свидания?
Мануйлов. — Да, я говорю, оба раза я был там. Одно было очень характерное, где Распутин кричал на Штюрмера.
Председатель. — Вы сами были этому свидетелем?
Мануйлов. — Я сам слышал.
Председатель. — Почему же Распутин кричал?
Мануйлов. — Он кричал потому… Дело в том, что эти свидания происходили так: когда он приезжал, Распутин находился уже там, у Питирима, и они оставались вдвоем, т.-е. втроем — Питирим, Распутин и Штюрмер, а я уходил в соседнюю комнату и находился с секретарем митрополита Осипенко. Затем Питирим вышел, и остался тогда один Штюрмер с Распутиным… Г. председатель, можно одну минутку обождать? Мне нездоровится сегодня.
Председатель. — Пожалуйста. Может быть отложить допрос?
Мануйлов. — Нет, пожалуйста. Мне там так тяжело быть.
Председатель. — Вам воды, может быть? Вы удобно сидите?
Мануйлов. — Благодарю… Тогда вышел Питирим, и мы сидим втроем. Раздался крик очень сильный Распутина: «Ты не смеешь итти против желания мамаши!» Надо сказать, что мамаша и папаша, это — царь бывший и царица, это кличка, которую им дал Распутин, — мать земли русской и отец земли русской. Вот, собственно, под этими двумя кличками они были. Питирим очень удивился этому крику и тому, что там происходит.
Председатель. — Разве Питирим не был там?
Мануйлов. — Нет. Затем опять отдельные возгласы, и Распутин говорит: «Смотри, чтобы я от тебя не отошел, тогда тебе — крышка». Затем он еще говорил, но я не знал, в чем дело. Конечно, меня заинтересовало, что там произошло, и, когда Штюрмер уехал, а Распутин остался на некоторое время, и я вместе с ним вышел, я его спросил: «Что ты так кричал на старика?» — «Он не повинуется мамаше, стал сам прыгать». Вот его точное выражение: «Он, старикашка, должен ходить на веревочке, а если это не так будет, то ему шея будет сломана».
Председатель. — Это вскоре было после назначения Штюрмера председателем совета министров?
Мануйлов. — Это было вскоре. Я думаю, дней через 8–10, такой промежуток времени.
Председатель. — Это — некоторый формальный ответ, который дал на ваш вопрос Распутин, а по существу, в чем заключалось то, что Штюрмер пошел против воли бывшей императрицы?
Мануйлов. — Я думаю, все это было на почве их прошений, главным образом, потому, что всякий раз, как с чем-нибудь приходил Распутин, он всегда говорил, что это желание мамаши. Я не могу точно вам сказать, но у меня было такое впечатление, что это не на почве политической, а на почве такой… Затем отношение Распутина к Питириму…
Председатель. — Нет, позвольте немного остановиться на этом. Скажите, пожалуйста, как часто происходили эти свидания, вот здесь, у коменданта Петропавловской крепости?
Мануйлов. — Я думаю, раз в неделю, раз в 10 дней.
Председатель. — Они носили некоторую периодичность? Может быть, определенный был час и день?
Мануйлов. — Нет, периодичности не было. Последнее время я знаю, что Распутин уже тяготился этими свиданиями, не хотел ездить. Я вам это расскажу впоследствии. Тут я хочу перейти к этому хронологически. Питирим, как я вам говорил, очень надеялся на Штюрмера в смысле того, что он найдет единомышленника в политическом отношении, при чем его очень волновал в тот момент вопрос о приходе.
Председатель. — Кого волновал?
Мануйлов. — Питирима. И Штюрмер, когда были прелиминарные переговоры, в категорической форме обещал поддерживать всячески Питирима в этом направлении.
Председатель. — В каком направлении это должно было итти?
Мануйлов. — Осуществление прихода? Этому он придавал большое значение, и Питирим имел по этому поводу много свиданий даже с депутатами государств. думы. Но тут, вдруг, на пути встретился обер-прокурор св. Синода, не вдруг, но это естественно, конечно, встретился обер-прокурор св. Синода Волжин, который взял очень резкий тон против Питирима. Тогда сейчас же Питирим обратился к Штюрмеру, в надежде, что Штюрмер его поддержит, как его ставленник. Но Штюрмер всячески стал увиливать, и сразу отношения у них испортились. Штюрмер, однако, не мог итти против Волжина, так как ему покровительствовала Е. А. Нарышкина, статс-дама.
Председатель. — Т.-е. Волжину покровительствовала Нарышкина?
Мануйлов. — Да, да. Так что у них сразу стали отношения не важны, и Штюрмер отвиливал, только по телефону спрашивал о здоровьи митрополита и увиливал от какого бы то ни было свидания. Как я уже сказал, и отношения с Распутиным стали неважные, в виду того, что Штюрмер не исполнял его желаний.
Председатель. — Вы сказали несколько раньше, что Распутин тяготился свиданиями со Штюрмером?
Мануйлов. — Это уже под конец. Тут будет для вас много интересного, я думаю. И вот дело в том, что у Распутина были приемы, до 70 человек являлось к нему с просьбами, с прошениями, при чем было много вещей, которые он делал даром, а за многое он брал деньги, при чем он брал столько, сколько давали. Много и мало. У него не было какой-нибудь таксы определенной, никаких требований, но, конечно, денежные дела он настойчивее проводил, и вот, когда Штюрмер был назначен министром внутренних дел, а тут опять-таки Распутин способствовал назначению, потому что вышел конфликт с А. Н. Хвостовым, и тогда Распутин поехал к бывшей царице. Я был как раз у него в тот момент, когда он уезжал, и он говорил: «Вот сегодня утром Аннушка (это — Вырубова) звонила и говорила: «Кого же назначить министром внутренних дел?». Потом я вам расскажу, как произошло это назначение. «Я сам, — говорит, — не знаю, кого. Щегловитов хочет; но он — разбойник». Я вам доподлинные слова Распутина говорю. «Крыжановский меня тащит обедать, он хочет, но он — плут». Я могу рассказывать так, как он говорил?
Председатель. — Да, пожалуйста, именно так и нужно.
Мануйлов. — «Затем Белецкий хочет. Он, если меня не убивал, то наверное убил бы. А уж старикашка сидит, пусть он один и правит». Это значит — министр внутренних дел. Доподлинные его слова. И с этим он уехал в Царское, и вскоре, кажется, через два или три дня, состоялось назначение Штюрмера. Когда он был назначен министром внутренних дел, тогда Распутин считал поле для себя уже более широким, именно для этих прошений и для удовлетворения этих ходатайств. Но тут произошло то, чего он не ожидал. А именно, что Штюрмер совсем почти не откликался на его просьбы.
Председатель. — Почему?
Мануйлов. — Думаю, что он считал себя достаточно крепким потому, что во время его поездок в Ставку верховного командования он был очень хорошо встречаем всегда, и тот же Распутин говорил, что Штюрмер — второй царь.
Председатель. — Про Штюрмера?
Мануйлов. — Да, про Штюрмера. Так как против него был один Алексеев, который его не любит, а остальных он сумел обойти.
Председатель. — Это Распутин говорил?
Мануйлов. — Распутин.
Председатель. — Распутин, повидимому, великолепно разбирался в этих вопросах?
Мануйлов. — Он был очень умный. Он был великий комедиант. Но все-таки Штюрмер боялся без Распутина, т.-е. боялся, что Распутин может ему испортить, и поэтому настаивал на свиданиях.
Председатель. — В качестве меры предупредительной?…
Мануйлов. — Предупредительной. В это время уже многие сановники стали интриговать, было свидание Крыжановского с Распутиным, при чем это свидание было обставлено очень таинственно. Я совершенно случайно об этом узнал. Это было в поезде железной дороги, между Петроградом и Москвой. Крыжановский ехал нарочно в имение, когда Распутин уехал отсюда. Затем, недовольство Штюрмером росло, но кого назначить, он боялся рекомендовать.
Председатель. — Кто боялся рекомендовать?
Мануйлов. — Распутин боялся. Недовольство росло у Распутина и одновременно у Вырубовой. Я Вырубову встречал у Распутина раза четыре-пять, может быть. Не стесняясь, она отзывалась очень нехорошо о Штюрмере.
Председатель. — На какой почве?
Мануйлов. — Т.-е., что он неверный человек, что на него нельзя положиться, не считается достаточно с мамашей — с царицей бывшей.
Председатель. — Это Вырубова выразилась так? И уже после назначения Штюрмера на пост министра внутренних дел?
Мануйлов. — Да, да. Так что дамская половина, вместе с Распутиным, шла против Штюрмера; очень рельефно это сквозило. Тут однажды произошел прямо переполох. Штюрмер уехал в Ставку верховного главнокомандующего, при чем никто не знал о том, что он едет, как-то таинственно было обставлено это, — даже Распутин не знал, следовательно, не знала и царица бывшая, раз Распутин не знал. Возвратившись оттуда, он стал министром иностранных дел. Я именно подчеркиваю переполох, потому что этого никто не знал, и Распутин рвал и метал.
Председатель. — Почему?
Мануйлов. — Потому что, как он мог уйти из министерства внутренних дел и стал во главе министерства иностранных дел, в котором он ничего не понимает?
Председатель. — Это Распутин вам говорил?
Мануйлов. — Да он кричал, кулаком ударяя по столу: «Этот старикашка совсем с ума сошел. Итти в министры иностранных дел, когда ни черта в них не понимает, и мамаша кричала». А он, бывало, 3–4 раза в неделю ездил в Царское Село, к Александре Федоровне. Так что это было на другой день после его посещения Царского. — «Как он может браться за это дело и, кроме того, еще с немецкой фамилией!»
Председатель. — Это говорил Распутин?
Мануйлов. — Распутин. Так что тут было большое недовольство Штюрмером, и Штюрмер стал реже ездить к императрице Александре Федоровне. До этого он довольно часто ездил к ней.
Председатель. — А как часто?
Мануйлов. — Два-три раза.
Председатель. — Чаще, чем к бывшему императору?
Мануйлов. — Да. Фактически, собственно, управляла делами она, несомненно.
Председатель. — Вы не знаете, со слов Распутина и со слов Штюрмера, как же они собственно объясняли, с какой целью Штюрмер ездил два раза в неделю к бывшей императрице?
Мануйлов. — Он, во-первых, держал ее в курсе решительно всех дел.
Председатель. — Откуда вы знаете?
Мануйлов. — Сам Штюрмер говорил, и Распутин говорил, и Вырубова говорила, что императрица решительно всем интересуется, что она в курсе всего.
Председатель. — В курсе всех государственных дел?
Мануйлов. — Да. При чем каждый раз беседа касалась Распутина, когда бывал Штюрмер, и она всячески просила прислушиваться к голосу Распутина, потому что она считала, что он несомненно находится в непосредственных отношениях с благодатью божиею.
Председатель. — Так. Это вам рассказывал Штюрмер, что во время этих бесед ему говорили, чтобы он считался?
Мануйлов. — Да, чтобы прислушивался.
Председатель. — Таким образом, эти встречи Штюрмера с Распутиным до некоторой степени были подсказаны Штюрмеру в Царском, Александрой Федоровной?
Мануйлов. — Несомненно.
Председатель. — Стало быть, они носили до некоторой степени и государственный характер?
Мануйлов. — Безусловно. Я в дальнейшем расскажу. Значит, это назначение было очень неприятно встречено, и образовался такой холод между дамской половиной и Штюрмером.
Председатель. — А вам Штюрмер не говорил, зачем ему нужно было это назначение и вообще получение этого портфеля?
Мануйлов. — Наоборот, он скрывал. Я был у него по его возвращении из Ставки, когда еще не было назначения А. А. Хвостова на пост министра внутренних дел. Я как раз был у него, и он ни одного слова не говорил о том, что он будет министром иностранных дел. Нужно вам сказать, что давно уже, когда он был еще директором департамента общих дел, и я у него бывал, он всегда мечтал быть послом или даже посланником, он считал себя почему-то способным к дипломатической службе. Давно был такой разговор: «А вот, если бы меня послали в Париж или в Рим, Берлин…» Так что, очевидно… Единственный человек, который был решительно в курсе всего, это был, как я уже вам говорил, Гурлянд. Он от него не скрывал ничего. Так что это назначение было встречено сразу, так сказать, нехорошо, и отношения как будто бы даже испортились между Распутиным и Штюрмером. Хотя он видел его несколько раз и после назначения его министром иностранных дел, здесь, в крепости. Он здесь с ним встречался.
Председатель. — Что, эти свидания были наедине? Или при ком-нибудь?
Мануйлов. — Я думаю, начинались они при всех, а потом они наверное уходили. Я так думаю потому, что даже у Питирима, как я вам говорил, сам Питирим вышел.
Председатель. — Вы видите в этом уходе Питирима некоторый общий прием?
Мануйлов. — Да. Питирим более близкий человек, чем генерал Никитин, более посвященный, значит, наверное свидания были один-на-один, при чем Распутин всегда тащил с собой прошения разные. Когда же случился этот скандал в государственной думе…? Позвольте вспомнить…
Председатель. — А вы что-нибудь о состоянии Штюрмера министром иностранных дел знаете?
Мануйлов. — Дело в том, что когда он был назначен, Распутин говорил, что после свидания здесь, в крепости, ему Штюрмер сказал, что он изменит все, что было у Сазонова.
Председатель. — Распутин сказал?
Мануйлов. — Да, что будут назначены новые люди, и будет чисто русское направление.
Председатель. — Что это значит — чисто русское направление?
Мануйлов. — Тогда как раз убрали Шимкевича.[*] Была целая кампания против немецкого влияния. Шимкевич[*] был директором канцелярии у Сазонова.
Председатель. — Т.-е. русское направление нужно понимать так, что Штюрмер и лица с русскими фамилиями будут вести это русское направление?
Мануйлов. — Тот же Распутин отнесся очень отрицательно к этому заявлению Штюрмера и сказал: «Он ничего путного не сделает, полез в это дело, и это будет для него крышка».
Председатель. — Это в разговоре с вами говорил Распутин?
Мануйлов. — Да, теперь я перейду к Распутину.
Председатель. — Нет, скажите, пожалуйста, еще, что говорил Распутин о своем отношении к миру с Германией?
Мануйлов. — Дело в том, что совершенно несправедливо в публике думали, что Распутин стоит за немцев. Это не верно. Он говорил так: «Если бы я был здесь, войны не было бы, я бы не допустил войны, потому что нельзя проливать кровь, когда мы не готовы, но раз уж началась война, надо вести ее до конца, потому что если война — надо вести до конца, потому что если ссора — так ссорьтесь, а полуссора, это — не дело, потому что опять будет ссора». Это у меня даже записано.
Председатель. — Это отношение Распутина к войне, а каково было отношение к войне Штюрмера?
Мануйлов. — Я лично несколько раз спрашивал его, и он всегда избегал говорить относительно этого. Он человек очень хитрый и в высшей степени двуличный.
Председатель. — И очень сдержанный?
Мануйлов. — В высшей степени сдержанный.
Председатель. — Раз вы были в отношениях с Распутиным, вы не знаете, каково было отношение Александры Федоровны к войне, в передаче Распутина?
Мануйлов. — Он говорил, что она стоит страшно за продолжение войны и что про нее говорят неправду, что она стоит за мир; что ей, конечно, тяжело было, были, говорят, моменты, когда она плакала, говоря о том, что брата ее убили или ранили (я не помню); но она всецело стояла за войну. Это он мне много раз говорил искренно, потому что была такая обстановка, что он не врал, — я глубоко убежден в этом. На царя, наоборот, он смотрел так, что царь ненадежный, и царь скорее может уступить, чем она.
Председатель. — Пожалуйста, остановитесь несколько на этом вопросе и постарайтесь вспомнить, что он вам говорил об отношении бывшего императора к войне?
Мануйлов. — Он давал вообще такую характеристику царя, что он врет: «Он тебе перекрестится, будет креститься 10 раз, и соврет. Его слову верить нельзя. Он, — говорит, — меня двадцать тысяч раз обманывал. По одному делу, которое мне нужно было (мне он не сказал по какому делу), я ему сказал: «Ты, парень, перекрестись», и он перекрестился. Я ему сказал: «Ведь ты опять соврешь». Я позвал княжен…»
Председатель. — Дочерей?
Мануйлов. — Да… «Позвал княжен и сказал ему: «Вот ты при них перекрестись», и он при них перекрестился. И тут действительно исполнил то, что я его просил». Так что он считал его человеком в высшей степени ненадежным.
Председатель. — На мой специальный вопрос о том, каково, по словам Распутина, было отношение к войне бывшего императора, вы ответили общим положением о том, что Распутин считал царя человеком ненадежным. Но не помните ли вы, из ваших бесед с Распутиным, как в частности?…
Мануйлов. — Он говорил, что когда жил в Сибири и когда была объявлена война, он был страшно удивлен, как царь решился на подобную вещь: «Я, — говорит, — был убежден, что в последнюю минуту он все-таки не решится». Тогда я ему говорю, что теперь, конечно, будут вести войну до конца. Он говорит: «Ты думаешь так? А разве на него можно надеяться? Он может изменить каждую минуту, он несчастный человек, у него внутри недостает». Вот его фраза.
Председатель. — Теперь давайте вспомним, какая у вас была следующая предполагаемая тема?
Мануйлов. — Я хочу рассказать интересную вещь о Распутине, о том, какое было его влияние на Царское Село; это для вас интересно. Он говорит как-то раз: «Я имею больше влияния на царя, чем на нее». Я говорю: «А говорят — больше на нее». «Нет, я больше на него, я ему все говорю, и у нас были такие сцены, что он кидался на меня, хотел меня бить, а потом просил прощения со слезами». Это между ним и царем были такие сцены. Когда Штюрмер был уже председателем, то снова пошли разговоры относительно того, что реакционная партия работает против думы. Тогда у меня был Бурцев, и мы разговаривали по этому поводу. Бурцев очень волновался и говорил, что из всех этих разговоров может что-нибудь произойти; нужно что-нибудь такое сильное, чтобы разбить эту волну, которая начинается. Тогда я говорю Бурцеву: «А что если царь приедет в думу?» Он говорит: «Это — невозможная вещь; во-первых, он в Ставке, а затем, как это сделать?» Тогда я говорю: «А через Распутина?» «Не знаю, как думаете, но это будет очень полезно». Я поехал к Распутину и говорю: «Вот, слушай, так и так, говорят против думы». «Да, да, это все клопы, которые ворочаются против думы, но клопы кусаются и могут наделать бед». Я говорю ему: «Ты имеешь влияние, устрой так, чтобы папаша приехал в думу». Он стал бегать по комнате, а потом говорит: «Ну, ладно, папаша приедет в думу, ты скажи этому старикашке (Штюрмеру), что папаша будет в думе, и если его спросят, чтобы он не артачился». Я тогда сказал Штюрмеру, что есть такое предположение, что, вероятно, будет царь. Он отнесся очень сочувственно. И представьте себе, через 4–5 дней царь был в думе. Вот это в смысле того, какое он имел влияние.
Председатель. — Так что эта мысль возникла в разговоре Бурцева с вами?
Мануйлов. — Да, это, так сказать, историческое. Затем я хочу рассказать по поводу Сухомлинова; это будет для вас интересно. Если я немножко перебегаю, вы меня простите. Дело в том, что Распутин был против Сухомлинова; он, главным образом, способствовал его удалению. Он был, главным образом, под влиянием кн. М. М. Андроникова, который был сначала в дружбе, а потом стал врагом. Вы, вероятно, всю эту историю знаете?
Председатель. — На какой почве он стал врагом Сухомлинова?
Мануйлов. — Он поссорился с мадам Сухомлиновой. Дело в том, что Андроников стал разыгрывать домашнего друга и стал раскрывать Сухомлинову истинную подкладку отношений Манташева к мадам Сухомлиновой. Тогда Сухомлинов стал расспрашивать, бросился к нему на шею, благодарил; но потом, как всегда бывает, муж рассказал все жене, и Андроникова выгнали. Вот на этой почве вышла ссора.
Председатель. — Значит, вы остановились на том, что Распутин был против Сухомлинова?
Мануйлов. — Да, он способствовал его удалению. Затем мадам Сухомлинова стала посещать Распутина, и Распутин в нее влюбился. Он говорил: «Только две женщины в мире украли мое сердце, это — Вырубова и Сухомлинова». Так и говорил: «украли мое сердце». Говорили даже, что мадам Сухомлинова была в близких отношениях с ним.
Председатель. — Он говорил?
Мануйлов. — Вокруг говорили, он не говорил. Он только говорил, что она украла его сердце. Вот после того уже произошло это освобождение Сухомлинова, после того, как установились отношения мадам Сухомлиновой к Распутину. Затем, по поводу влияния Распутина на царя, могу вам рассказать еще один факт, это — назначение генерала Рузского. В Петрограде проживает один господин по фамилии Миклос. Он — темный человек, и я его совершенно не знаю. Были разговоры даже о том, что он чуть ли не шпион. У него был вечер, на котором было много офицеров, был Распутин, и эта группа офицеров стала говорить Распутину о необходимости назначения генерала Рузского.
Председатель. — На какой пост?
Мануйлов. — На пост, который он занимал, — командующего северным фронтом. Он так волновался, что тут же написал царю телеграмму, которая начиналась так: «Народ глядит всеми глазами на генерала Рузского, коли народ глядит, гляди и ты». И несколько дней спустя Рузский был назначен. Когда он был назначен, Григорий Распутин хотел, чтобы Рузский с ним свиделся и чтобы у них установились отношения. Но Рузский отклонил это. Затем назначение Щегловитова председателем государственного совета было сделано исключительно Распутиным, который говорил: «Он будет старшой в государственном совете».
Председатель. — Он вам говорил это до назначения Щегловитова?
Мануйлов. — Да, может быть, за месяц. При мне Распутин звонил Щегловитову по телефону и говорил: «Вчера был у мамаши, все сделано, как ты хошь».
Председатель. — А как это вязалось с тем, что вы слышали от Распутина, что «Щегловитов хочет, но он разбойник?»
Мануйлов. — Он говорил относительно того, что государственный совет пошел влево тогда и что нужен человек, который бы, так сказать, придержал. Вот он на такую роль и шел.
Председатель. — Так что на эту роль годился и разбойник?
Мануйлов. — Он с большим презрением говорил о Щегловитове: «Мне сказали, что его называют Ванька-Каин, у него и морда такая».
Председатель. — А что вы знаете про отношения Щегловитова к Распутину? Эта фраза: «Щегловитов хочет, но он разбойник», по-моему свидетельствует, что Щегловитов искал ходов к Распутину, и даже они виделись. Что вам известно по этому поводу, когда и как Щегловитов стал ходить к Распутину?
Мануйлов. — Я думаю, что было очень незадолго до его убийства.
Председатель. — Вы считаете, что это было за месяц?
Мануйлов. — Даже больше, но это не давнишнее отношение, потому что это было только в последнее время, когда я захаживал, или мадам Щегловитова звонила, или он. Я знаю, что Распутин был у Щегловитова.
Председатель. — Когда вы захаживали к Распутину?
Мануйлов. — Однажды, когда я зашел, он спросил: «Ты его знаешь?» (Я его не знаю.) Я говорю: «Знаю, как политическую фигуру». — «А что если он станет во главе иностранных?» Я отвечаю: «Это немыслимая вещь, но раз Штюрмер может, то может и Щегловитов и кто угодно».
Председатель. — Простите, я не понимаю, вы говорите: «немыслимая вещь». Почему — раз Штюрмер может, то может Щегловитов и кто угодно?
Мануйлов. — Раз Штюрмер может, кто угодно может. И была мысль о назначении его министром иностранных дел. Одним словом, эта мысль у Щегловитова: — или внутренних дел, или председателем государственного совета. Очевидно, в этой области и были разговоры.
Председатель. — Почему вы высказываете это предположение?
Мануйлов. — Потому, что он говорил, что Щегловитов хочет быть министром внутренних дел.
Смиттен. — А что вас убедило в том, что Распутин, сообщая о возможном назначении Щегловитова председателем государственного совета, подразумевал свою собственную инициативу. Может быть, он передавал, что кандидатура Щегловитова выдвинута в Царском Селе? Какие признаки были, что это ведет Распутин, что вас в этом убедило?
Мануйлов. — Он сам мне говорил, что он хлопочет для Щегловитова.
Председатель. — Скажите, вы не углублялись в эту историю? Ведь Щегловитов все-таки не обращался некоторое время к Распутину, что же это был за момент, когда Щегловитов все-таки решил к нему обратиться? Это не пришлось вам установить?
Мануйлов. — Так по крайней мере Распутин говорил, так можно было понять. Он был человек некультурный, неинтеллигентный, все говорил полуслова. Время было такое — большое политическое брожение, и выдвигались фигуры реакционные. Распутин, между прочим, говорил о том, что группа государственного совета усиливается правыми элементами, и его толкают на то, чтобы провести несколько правых…
Председатель. — Это Распутин говорил?…
Мануйлов.— В государственный совет, для того, чтобы усилить; но Распутин говорил: «Какого чорта от них толку? Все равно — что права, что лева, — папаша ничего не понимает». Он все упирал на то, что царь негож.
Председатель. — Т.-е. это в связи с той мыслью, что Александра Федоровна должна быть Екатериной II.
Мануйлов. — Несомненно, в тайниках души вопрос шел о регентше.
Председатель. — О низвержении Николая II и о регентстве Александры Федоровны?
Мануйлов. — Это чувствовалось. Он был очень ловкий человек и не договаривал.
Председатель. — Я поставил вопрос, на который вы не вполне ответили, — не можете ли вы нам осветить, как Щегловитов, который некоторое время, повидимому, не опирался на Распутина, пришел к мысли опереться на него, т.-е. искать у Распутина?
Мануйлов. — Я думаю, тут не в Распутине было дело, а нужно было наложить руку на Александру Федоровну через Распутина.
Председатель. — Значит, все эти назначения, которые были в государственном совете, и все перемены, которые произошли в связи с 1-м января, после смерти Распутина, они, в сущности, были намечены при Распутине и Распутиным; это, так сказать, его кандидатура?
Мануйлов. — Я знаю, что он передал список, который ему кто-то дал. Но он сказал так: «Я эту бумажонку отдаю, но руку не прикладываю, пусть они, — т.-е. царица, — решают, как хотят. Я руку не прикладываю потому, что правые тоже дураки. Все равно они ничего не сделают». В эту группу должен был войти Трусевич.
Смиттен. — Вы этот список видели?
Мануйлов. — Я видел мельком.
Председатель. — Кто был в этом списке?
Мануйлов. — Был Трусевич, его проводил Щегловитов потому, что он женат на его дочери.
Председатель. — Кто еще был в этом списке?
Мануйлов. — Кривцов, Римский-Корсаков, Шаховской, кажется.
Председатель. — А были там Разумовский и Чаплинский?
Мануйлов. — Чаплинский был. Это тот, который вел дело Бейлиса, и Распутин говорил: «На этом кровь».
Председатель. — Это он говорил, когда передавал список?
Мануйлов. — Да.
Смиттен. — Чьим почерком был написан этот список, вы не знаете?
Мануйлов. — Женский почерк.
Председатель. — Около этого времени, очевидно, и происходит сближение Распутина с некоторой группой правых, в той форме, что группа правых решила использовать Распутина?
Мануйлов. — Тут же делаются ходы, через кого — не знаю, по поводу Маклакова, и Распутин мне говорил: «Вот на меня напирают, чтобы этот шут гороховый был председателем совета министров, но пока я жив, я этого шута не пущу».
Председатель. — Может быть, относительно Маклакова была чья-нибудь личная просьба?
Мануйлов. — Нет, об этом он помянул, когда показывал этот список.
Председатель. — Ах, вот как!
Мануйлов. — Именно, что выдвигают Маклакова, который имел секретное свидание с Николаем II.
Председатель. — Когда?
Мануйлов. — Это относится к тому же периоду времени, а потом Маклаков уехал в деревню, чтобы в случае, если будет что-нибудь, то как будто остаться в стороне.
Председатель. — Кто вам говорил про это секретное свидание?
Мануйлов. — Григорий Распутин.
Председатель. — Значит, вопреки ему?
Мануйлов. — Да, вопреки.
Смиттен. — В чем состояла секретность этого свидания?
Мануйлов. — В том, что никто не знал, т.-е. не через гофмаршальскую часть.
Председатель. — Вы вели довольно правильно хронологическую линию, но потом оборвали ее, — я хочу спросить относительно Штюрмера. Значит, было недовольство назначением Штюрмера министром иностранных дел, не правда ли? Как же это случилось? Ведь не раз бывало, что дума нападала на министра и, тем не менее, министр оставался. Как случилось, что эти речи первого ноября повели за собою отставку Штюрмера?
Мануйлов. — Дело в том, что царица его не поддержала. Ведь он, главным образом, как я вам говорю, опирался на Распутина и на царицу. Тут они его вовсе не поддержали. Когда он поехал в Ставку, то он был принят царем очень сухо, и сам предложил уйти. Он рекомендовал Трепова. Это мне рассказывал Распутин, так как царица прочитала Распутину письмо своего мужа, где царь сообщал, как произошла отставка Штюрмера.
Председатель. — Какие были отношения у Штюрмера с Треповым?
Мануйлов. — Штюрмер знал, что Трепов хочет сесть на его место. Он об этом с первых дней мне сказал по-французски. Как-то раз Трепов вышел у него из кабинета, он и сказал: «Celui-là veut s'asseoir sur ma chaise».[*]
Председатель. — Это было в начале 1916 г.?
Мануйлов. — Да, тут он его и рекомендовал.
Председатель. — Вы не знаете, отношения Штюрмера с Треповым имели некоторую эволюцию? Сначала соперник, а потом он его рекомендовал?
Мануйлов. — Очевидно, он считал возможным его рекомендовать. Тут интересная вещь. Назначение Трепова было очень неприятно Распутину, хотя родственник Трепова, генерал Мосолов, Александр Александрович, который управлял Кабинетом, кажется, он стал ездить к Распутину и говорить ему о том, чтобы сладить отношения и устроить мир между ними.
Председатель. — Почему же Распутин был недоволен назначением Трепова?
Мануйлов. — Он считал его врагом.
Председатель. — Своим?
Мануйлов. — Своим личным. Но тут произошла следующая интересная вещь. Генерал Мосолов приехал однажды к Распутину и сказал, что Трепов, который теперь назначен председателем совета министров, не хочет, чтобы «ты, Григорий, занимался всякими делами и вмешивался в политику. Он, с одной стороны, знает, что ты нуждаешься в деньгах, поэтому готов пойти тебе навстречу, и даст тебе 200.000 руб., только ты не вмешивайся в политику и не мешай Трепову».
Председатель. — Это было вскоре после назначения Трепова?
Мануйлов. — Несколько дней спустя после назначения Трепова. Тогда Распутин говорит: «Что же, я соглашаюсь, только я должен посоветоваться с одним близким человеком. Ты приезжай на завтра или на после. Я тебе тогда скажу, и деньги с собой вези. Если этот мой человечек мне скажет, я возьму». Он в тот же день был у царя (царь был здесь) и рассказал ему эту историю. Царь ему, конечно, сказал, чтобы он денег никаких не брал. Назавтра приехал Мосолов. Распутин говорит, что «человечек этот, царь Николай второй, он не велел мне».
Председатель. — Вы были при этой сцене или вам рассказывали?
Мануйлов. — Рассказывал мне Распутин. У него много народа сидело, так что, вероятно…
Председатель. — Вы не припомните, кто еще был?
Мануйлов. — Был Симанович. Тот самый, который у него бывал, потом несколько женщин, которых я не знаю. Так что, одним словом, он из этого не делал секрета. Я думаю, многие этот факт знают.
Председатель. — Скажите, что же, вы заметили работу Распутина против Трепова?
Мануйлов. — Я думаю, что да, несомненно.
Председатель. — Простите, это ваше предположение или вы знаете?
Мануйлов. — Нет, так, фактов у меня никаких нет.
Председатель. — Хотя бы и по рассказам Распутина?
Мануйлов. — Да. Безусловно. Он говорил царице, что нельзя держать Трепова, что он негож, что фамилия эта несчастливая. Это он мне сам рассказывал. Я помню. Теперь я хочу рассказать по поводу назначения Добровольского.
Председатель. — Пожалуйста.
Мануйлов. — Дело в том, что присутствие Макарова в министерстве юстиции было очень неприятно Распутину, и нужно сказать, что охлаждению со Штюрмером значительно способствовало назначение Макарова. Дело в том, что Макаров, когда был министром внутренних дел, в этот период времени, настоял на высылке Распутина из Петрограда, и Распутин, узнав о том, что снова назначен Макаров министром юстиции, рвал и метал.
Председатель. — Значит, Макаров был назначен министром юстиции без Распутина?
Мануйлов. — Без Распутина. Это сделал сам Штюрмер. Вообще Макаров имел большое влияние на Штюрмера в смысле политическом. Одним словом, присутствие Макарова в министерстве юстиции было очень неприятно Распутину, главным образом, из-за двух дел: из-за дела Сухомлинова и из-за дела Рубинштейна, которое перешло от военных властей в министерство юстиции. Поэтому было решено найти, как там говорили, своего министра юстиции.
Председатель. — Где говорили?
Мануйлов. — У Распутина.
Председатель. — Решено было кем? Может быть, и вы были там, так что можете сами свидетельствовать об этом?
Мануйлов. — Нет, нет. Одним словом, Распутин говорил, что нужно, чтобы министр юстиции был свой, что юстиция должна быть своя. Тогда Симанович стал говорить о том, что у него имеется подходящий на такое амплуа человек — Добровольский, при чем он говорил, что Добровольский такой человек, который пойдет на что угодно, лишь бы быть у власти, так как его денежные дела очень запутаны.
Председатель. — Откуда его знал Симанович?
Мануйлов. — Симанович лично знал и, кажется, учитывал ему векселя, — говорил, что учитывает векселя Добровольскому. Тогда произошло несколько свиданий между Добровольским и Распутиным; Распутин был у Добровольского, на Каменноостровском. Он сам мне рассказывал, что далеко ездил, на Каменноостровский. Он ему не особенно понравился. Произвел на него отрицательное впечатление, но Симанович всячески настаивал на том, что это та самая юстиция, которая нужна.
Председатель. — А что же Распутину не понравилось?
Мануйлов. — Физически, внешне он не понравился.
Председатель. — А как он говорил? Вы часто передаете его подлинные слова?
Мануйлов. — Говорил, что у него глаза мошеннические, что он не смотрит, не может смотреть прямо, вообще говорил, что это человек неважный. Но Рубинштейн настаивал, и тут шел вопрос о большом материальном вознаграждении: насколько я слышал, более ста тысяч Рубинштейн дал Распутину за свое освобождение и был освобожден. И тогда сделали так, что Добровольскому было устроено свидание с императрицей. Он был вызван то же самое, как я сказал, секретным образом, т.-е. по телефону. Дежурный камер-лакей вызвал его в Царское. Он поехал. Затем уже было все налажено к назначению Добровольского.
Председатель. — Это свидание состоялось между Добровольским и бывшей императрицей?
Мануйлов. — Да, состоялось. И не одно, а кажется два свидания подряд. Затем, когда я приехал к Распутину, он был ужасно встревожен и говорит: «Подумайте, какого рода дело! Симанович-то привел юстицию, хотел привести прямо заурядного мошенника». Он так и сказал, это — его подлинные слова.
Председатель. — Так он делал разницу между заурядным мошенником и незаурядным?
Мануйлов. — «Заурядный мошенник». Вот так он сказал. Я говорю, — в чем же дело? — «Да вот, у императрицы получены сведения, что Добровольский брал взятки, будучи в Сенате, и гроши брал, и много брал, сколько ни давали, все брал». Распутин так говорил.
Председатель. — Это еще до назначения было?
Мануйлов. — До назначения. И говорит опять: «Да, — говорит, — теперь все пропало, все пропало».
Председатель. — То-есть?
Мануйлов. — Т.-е. это назначение не может состояться, и Макаров остается, так как не было кандидатов. Был кандидат у государя в Ставке в то время, я забыл, сенатор… Трегубов. Тогда произошел, как я говорил, переполох по этому поводу.
Председатель. — Значит, этот человек, этот «заурядный мошенник», как выразился Распутин, еще не назначен, стало быть, можно его еще и не назначить?
Мануйлов. — Можно не назначить. Некоторое время спустя Распутин сказал: «Одним словом, о Добровольском и думать нечего». Затем, несколько дней спустя, он рассказывает, что Добровольского поддерживает великий князь Михаил Александрович, который выдвигает всячески его кандидатуру, и что те сведения, которые были у царицы, часть их не подтвердилась, но что во всяком случае он на себя никакой ответственности брать не хочет, и если пройдет Добровольский, пусть пройдет, а если нет — так и нет. И он был уже назначен после смерти, после убийства Распутина. Теперь, может быть, вы зададите вопросы?
Председатель. — А какие отношения у Добровольского были с Михаилом Александровичем? Почему Михаил Александрович поддерживал его кандидатуру?
Мануйлов. — Тогда он говорил о георгиевском комитете: в георгиевском комитете Добровольский — товарищ председателя.
Председатель. — Сегодня, давая показания по довольно существенным вопросам, вы высказались так, что, повидимому, вы отличаете существенное от несущественного. Что же еще осталось вам сказать из того, что вы знаете?
Мануйлов. — Так много вопросов. Я не знаю, что вас интересует.
Председатель. — Что вы знаете о действиях этих лиц? Вы о Штюрмере уже говорили; может быть, вы знаете что-нибудь об отношении к этим лицам Протопопова?
Мануйлов. — Вот я и хочу по поводу Протопопова. Дело в том, что Протопопов всячески искал сближения с Распутиным и бывал у одного господина по фамилии Книрша. Такой подозрительный господин, у которого бывали вечера. Я никогда не был на этих вечерах и всегда избегал этого Книршу. Там были большие пиры, пьянства, и там бывал Протопопов.
Председатель. — Бывал и Распутин?
Мануйлов. — Да. Протопопов был в это время вице-председателем государственной думы.
Председатель. — А кто такой Книрша? Каково его общественное положение?
Мануйлов. — Он — альфонс, на содержании у женщины. Вообще очень темный господин.
Председатель. — А внешне какое у него было положение? Его position sociale?
Мануйлов. — Он в страховом обществе был. У него Протопопов и встречался. Надо вам сказать, что я Протопопова знал как журналист и несколько раз был у него от «Вечернего Времени», и затем, когда я был назначен при Штюрмере, он как раз вернулся из-за границы и просил меня доложить о том, что он желает с ним видеться. Тогда Штюрмер пригласил его обедать.
Председатель. — Через вас, значит, он просил?
Мануйлов. — Да. Во всяком случае я только сказал, что я видел вице-председателя государственной думы Протопопова, который желал бы вас видеть. Когда вы можете его увидеть? Он мне сказал: «Завтра или послезавтра, к обеду, в 8 ч. На Елагином Острове». Он жил на Елагином Острове. Я позвонил Протопопову. Вот, в чем была моя роль.
Председатель. — Вы знаете имя, отчество Книрша?
Мануйлов. — Забыл.
Смиттен. — Где Протопопов к вам обратился с этим вопросом, что он желает видеть Штюрмера?
Мануйлов. — Это было, кажется, у Кюба. Я его встретил.
Смиттен. — Случайно?
Мануйлов. — Случайно. Он говорил, что как раз хотел позвонить председателю совета министров и хотел спросить.
Председатель. — Вы завтракали с ним у Кюба?
Мануйлов. — Нет. Я отдельно был. Я его встретил. После этого свидания Штюрмер уехал в Ставку, а затем Протопопов был вызван в Ставку и сделал доклад свой относительно путешествия. Затем, относительно назначения Протопопова я ничего не могу сказать потому, что я не знаю. Дело в том, что о сближении с Распутиным я ничего не знаю потому, что в этот период времени я был арестован.
Председатель. — Вы когда были арестованы?
Мануйлов. — Я был арестован 19 августа. И уже в предварительном заключении, в «Правительственном Вестнике», смотрю — Протопопов министр внутренних дел. Я даже не думал, что это может быть тот самый Протопопов.
Председатель. — Когда вы были освобождены?
Мануйлов. — 2-го октября, благодаря сенатору Завадскому. У меня был тогда удар. И в 24 часа я был освобожден. Так что я даже не думал, что это тот самый…
Председатель. — Значит, этот удар у вас был до суда?
Мануйлов. — Нет, у меня было два удара. Один, а затем, опять после суда, второй раз. Я ведь за это время пережил невероятные вещи.
Председатель. — Пожалуйста, вы лучше не волнуйтесь. Продолжайте.
Мануйлов. — Да, относительно Протопопова.
Председатель. — Вот выясняется, почему вы от назначения Штюрмера министром иностранных дел скакнули прямо к ноябрю, — вы были в заключении.
Мануйлов. — Да, я прочитал и не думал, что это тот самый Протопопов — министр внутренних дел, — потому что я знал, что он мечтал всегда быть министром торговли и промышленности. Когда я вышел из предварительного заключения…
Председатель. — Скажите, вам сколько лет?
Мануйлов. — Сорок восемь. Когда я вышел из предварительного заключения, то несколько дней спустя, когда мне немного легче стало, я поехал к Распутину. Первое, что я узнал — что Протопопов — министр внутренних дел, т.-е. я раньше знал, но что тут, одним словом, только и говорили, что о Протопопове. Он сказал: «Вот, пока ты там сидел на замке, Протопопов назначен, теперь Россия здесь держится» (показывает на руку). Я спрашиваю: «Как это произошло, скажите мне?». Он говорит: «Это я сделал, ведь надо же и для государственной думы что-нибудь, надо из государственной думы брать. Мы ошиблись на толстопузом (он так называл Хвостова А. Н.)… на толстопузом, потому что он тоже из этих дураков, правых. Я тебе говорю, все правые дураки. Вот теперь мы взяли между правыми и левыми — Протопопова».
Председатель. — Скажите, раз вы говорили о том, что происходило без вас с Распутиным, так не сказал ли он вам более конкретно, как это произошло, что Протопопова назначили? Как произошло его сближение с Распутиным?
Мануйлов. — Протопопов, как я вам говорил, уже давно искал этих путей, и, когда он со мной говорил относительно свидания со Штюрмером, я говорю: «Александр Дмитриевич, в городе все говорят, что вы будете министром торговли». Он говорит: «Что вы! Я не прочь. Да ведь надо с Григорием поговорить». Он так ответил. Очевидно, он подумал, что я тут могу быть полезен, но я совершенно отклонился и больше ничего не знал. Распутин мне рассказывал, что он сблизился с Протопоповым через… старушка есть, княгиня Тарханова.
Председатель. — Это кто вам рассказывал?
Мануйлов. — Распутин. Она большая приятельница Протопопова и большая приятельница Симановича. Теперь я хотел рассказать относительно назначения Раева. Вас, может быть, интересует вопрос о назначении его в обер-прокуроры св. Синода?
Председатель. — Да, пожалуйста.
Мануйлов. — Дело в том, что, когда были раздоры Волжина с Питиримом, тут возник вопрос относительно заместителя, и тогда Распутин собирал сведения, бывал и обедал, одним словом, готовился к назначению Кульчицкого, который был впоследствии министром народного просвещения.
Председатель. — Распутин готовился?
Мануйлов. — Да. Распутин, так сказать, проводил.
Председатель. — Почему Кульчицкий являлся кандидатом Распутина?
Мануйлов. — Я не знаю. Я слышал, что он бывал там. Одним словом, Кульчицкий бывал у Питирима, и вопрос был решон, но в последний момент почему-то не прошло, и тогда вот явился Раев, который тоже был кандидатом Распутина.
Председатель. — Так что, значит, Кульчицкий прочился раньше на пост прокурора св. Синода? Скажите пожалуйста, какая связь между Раевым и Распутиным?
Мануйлов. — Раев тоже был рекомендован Распутиным.
Председатель. — А Распутину кем?
Мануйлов. — Не могу сказать. Я рассказываю то, что знаю. Раев — сын митрополита петроградского — Палладия. Теперь я хочу рассказать относительно влияния. Моментами было влияние Царского, т.-е. царицы больше, чем Ставки. Затем Ставка брала верх, и затем, один момент, когда состоялось назначение Хвостова, А. А., на пост министра внутренних дел, а Штюрмера на пост министра иностранных дел, то, как я вам докладывал, был переполох у Распутина и у Вырубовой, очевидно и у царицы. Я царицу никогда не видел и не знаю. Так что, судя по всему, они не ожидали этого и видели в этих назначениях перевес Ставки. Тогда Распутин был очень мрачен, вечером уехал в 6 часов в Царское и вернулся только в 2 часа ночи. И в 2 часа ночи раздался его звонок по телефону. Я спал, меня разбудили: «Экстренно приезжай, я тебе новость сообщу». Я тогда приехал к нему, и он говорит: «Решено папашу больше одного не оставлять, папаша наделал глупостей, и поэтому мамаша едет туда». Было решено, что она будет жить в Ставке.
Председатель. — Это когда?
Мануйлов. — Вот, когда был назначен А. А. Хвостов министром внутренних дел, а Штюрмер министром иностранных дел.
Председатель. — Эти два момента, кажется, не совпадают.
Мануйлов. — Совпадают. Хвостов, А. А., был министром внутренних дел вместо Штюрмера, Штюрмер — министр иностранных дел.
Председатель. — А. А. Хвостов?
Мануйлов. — Да, не толстопузый, как говорил Распутин, а тот, который был министром юстиции. Так что боязнь Ставки была большая в том смысле, что там влияние будет больше. В Ставке, судя по всему, имел большое влияние Воейков, которого Распутин называл «Воейка».
Председатель. — Так что, когда говорили — влияние Ставки, нужно было понимать влияние, главным образом, Воейкова?
Мануйлов. — Воейкова, Нилова и Саблера.[*] Помимо этих лиц, на Ставку очень влиял Алексеев, когда он там был, но кроме того господа из правых, как Римский-Корсаков. Это крайние правые, они попадали туда, т.-е., главным образом, попадали их записки, с которыми бывший царь считался. Так что, значит, был момент, когда Царское имело больше влияния, и царица всегда брала верх, и, во всяком случае, если бывал перевес там, она немедленно ехала туда или царь сюда вызывался, и таким образом бразды правления не выпускались. Затем, может быть, у вас есть еще вопросы?…
Председатель. — Да, вот из главных действующих лиц, про отношения Маклакова с Распутиным вам ничего не известно?
Мануйлов. — Позвольте мне продолжать. Мы остановились на Протопопове. И вот, когда я явился, то там, в этом кругу, говорили о Протопопове, что это действительно их человек, что это человек глубоко предан царице и готов сделать все для того, чтобы ей угодить. Надо вам сказать, что свидания Распутина с Протопоповым происходили довольно часто в квартире П. А. Бадмаева, тибетского доктора; Бадмаев имел на него большое влияние. Бадмаев был друг Курлова. Распутин не особенно верил Бадмаеву и говорил: «Этот китаец за грош продаст», но ездил с Протопоповым и предостерегал его от Бадмаева. А Бадмаев был очень связан с Протопоповым и с Курловым: Курлов ему деньги должен. Протопопов был известен под кличкой «генерала Калинина».
Председатель. — Почему?
Мануйлов. — Когда он говорил по телефону, он всегда говорил «генерал Калинин». Я узнал об этом его псевдониме только после убийства Распутина. Я думал, что это какое-нибудь самостоятельное лицо, но оказалось, что это был псевдоним. Это мне сказали девочки, дочери Распутина. Протопопов действительно делал все для Распутина. Потом я узнал, что он бывал даже и ночью у Распутина на квартире. Как потом оказалось, за час до того, как Сумароков-Эльстон приехал, Протопопов был у него на квартире.
Председатель. — Как это оказалось? Кто вам это сказал?
Мануйлов. — Мне это сказали девочки. Последнее время, незадолго до убийства, Распутин был, однако, недоволен Протопоповым из-за государственной думы. Он говорил так: «Он из того же мешка вышел, а пошел против, значит может пойти и против царицы в конце концов; у него честь эластичная»; он другое еще слово сказал, я сейчас не помню.
Председатель. — Это не подлинные его слова?
Мануйлов. — Его подлинные слова: «Честь его тянется, как подвязка». Кроме того, он говорил, что он путает очень по продовольственному вопросу. «Он сам, — говорит, — ко мне прибежал, просил, чтобы продовольственный вопрос ему дать, а когда папаша и мамаша согласились, то он струсил. Когда министр — трус, он не может быть на своем месте». Это уже были моменты недовольства им, но все-таки он считал его самым близким человеком. Был недоволен Распутин тем, что Протопопов хочет непременно быть председателем совета министров и сосредоточить всю власть в своих руках.
Председатель. — Почему он был недоволен, как он это высказывал?
Мануйлов. — Он говорил о том, что была ошибка делать Штюрмера министром внутренних дел. Нужен председатель без портфеля, что тут опасность для престола, что можно захватить всю власть при таком слабом царе. Конечно, все это он иначе говорил, но суть была такая.
Председатель. — Скажите об отношениях Распутина к Маклакову.
Мануйлов. — Здесь я много сказать не могу, я знаю только то, что я уже сказал, что он считал его несерьезным человеком. Теперь про отношения Распутина к Вырубовой?
Председатель. — Это может иметь интерес.
Мануйлов. — Несомненно. Были три женщины, по-моему, может быть я ошибаюсь, психически ненормальные, которые были при Распутине: Вырубова, сестра милосердия Акилина Лахтинская[*] и Мария Головина. Это безусловно психопатки чисто половой формы.
Председатель. — Т.-е. вы думаете, что их связывали с Распутиным половые отношения?
Мануйлов. — Нет, но я думаю, что это был половой психоз. По поводу Вырубовой я могу сказать следующее: по воскресеньям у Распутина была так называемая «уха», на которую приходили его знакомые. Сидело за столом человек 20, по крайней мере. Так — сидит Распутин, так — Вырубова. Начинается о чем-то разговор, потом Распутин говорит: «Вот ты, Аннушка, само добро, от тебя добро идет». И начинает на эту тему говорить. Она смотрит на него совершенно дикими глазами, впивается в него и каждое его слово ловит, потом хватает его руку и при всех (тут были самые подозрительные дамы) целует ее. Я присутствовал несколько раз. Ее я видел раза четыре. Два раза я слышал, как Распутин на нее кричал так, как не позволит себе кричать даже на горничную или на кухарку кто бы то ни было, и она сносила это. Тут было полное подчинение, и она была аннулирована. Такое же отношение было к царице. Присутствовавший при такой сцене епископ Исидор рассказывал мне, что он кричал на императрицу, и она не смела ни одного слова сказать. Так что эти женщины были у него в полном повиновении.
Председатель. — Скажите, пожалуйста, какие у вас были отношения с Распутиным?
Мануйлов. — Никаких; никогда он мне никаких дел не устраивал, ни наград. Я ничем не воспользовался в его отношениях ко мне.
Председатель. — Но во всяком случае фактически это были довольно тесные отношения?
Мануйлов. — Как я докладывал, сначала были враждебные отношения, затем, когда я поступил к Штюрмеру, я приблизился. Меня страшно интересовал этот мир, и я не жалею, что я это видел, потому что много интересного узнал. Никаких особенно интимных отношений у нас не было, ни в каких кутежах его я не участвовал. Одно время я почти каждый день у него бывал.
Председатель. — Это какое время?
Мануйлов. — Когда был Штюрмер.
Председатель. — Т.-е., когда Штюрмер был у власти?
Мануйлов. — До августа, когда я был арестован.
Председатель. — Какое внешнее положение ваше было у Распутна? Кто вы были?
Мануйлов. — Там бывала такая масса народа, — приходят, даже и не спрашивают, кто и что, садятся, пьют чай и уходят.
Смиттен. — Скажите, пожалуйста, у вас были известные обязанности, вы состояли на службе; как же это сочеталось с вашими служебными обязанностями?
Мануйлов. — У меня никаких обязанностей не было.
Смиттен. — Это не вызывало порицания, что вы отвлекаетесь Распутиным от службы?
Мануйлов. — Я к Штюрмеру приезжал, когда хотел; у меня не было часов для занятий. Я продолжал писать в «Вечернем Времени», где был занят от 12 до 2-х.
Смиттен. — А никаких поручений, связанных с личностью Распутина, у вас не было, вы не получали от Штюрмера?
Мануйлов. — Было несколько раз. Один раз он был очень смущен холодным приемом у царицы и просил узнать, в чем дело.
Председатель. — Когда это было?
Мануйлов. — Это было в самом начале. Оказалось, что ничего серьезного не было.
Смиттен. — Вы спрашивали по этому поводу Распутина?
Мануйлов. — Да. Оказалось ничего особенного, она просто была чем-то расстроена, но не против Штюрмера.
Смиттен. — И Штюрмер вас просил справиться у Распутина, не знает ли он причины?
Мануйлов. — Да. Затем надо было что-то узнать в Царском Селе. Но все это были мелочи.
Иванов. — Распутин находился под особой охраной?
Мануйлов. — Об этом я и хочу сказать. Когда я впервые вошел туда, тогда был начальник охраны ген. Комиссаров, который и заведывал его охраной. Затем произошел такой скандал, который совпал как раз с историей Ржевского. Комиссаров наговорил каких-то дерзостей Распутину, и тот жаловался и громко говорил о том, что Комиссаров его обидел и т. д. Тогда больше Комиссарова не было, и его охраняло охранное отделение. При чем во время охраны Комиссарова дежурство несли, кажется, шесть или восемь сыщиков и постоянный автомобиль на углу.
Председатель. — А во время охраны охранным отделением?
Мануйлов. — Меньше было наблюдения. Между прочим, Распутин просил устроить ему автомобиль.
Председатель. — Кого просил?
Мануйлов. — Чтобы был постоянный автомобиль. Тогда я сказал Штюрмеру, но Штюрмер не захотел, говоря, что это неудобно. Тогда ему царица сказала, спустя некоторое время, что нужно отцу Григорию (как она его называла) дать автомобиль.
Председатель. — Какого ведомства был дан автомобиль?
Мануйлов. — Охранного отделения.
Председатель. — А какой военный автомобиль полагался ему?
Мануйлов. — Это не верно.
Председатель. — Вы не ездили с Распутиным в военном автомобиле?
Мануйлов. — Это было один раз. Тогда мне дал автомобиль генерал Секретев. Тогда нужно было Распутину поехать в Царское Село, а до этого он заезжал куда-то на Пушкинскую или на Знаменскую, я хорошо не помню.
Председатель. — Вместе с вами?
Мануйлов. — Я не заходил. Я довез и оставил.
Председатель. — Какая связь между генералом Секретевым и вами, или между генералом Секретевым и Распутиным?
Мануйлов. — Я знал генерала Секретева, потому и попросил. Штюрмеру полагалось несколько автомобилей. Между прочим, я говорил генералу Секретеву, что если у вас есть лишний автомобиль, которым не пользуется председатель, дайте мне его на несколько дней. Мне нужно было, у меня были разные дела. Он мне дал, но потом взял обратно.
Председатель. — Это был военный автомобиль?
Мануйлов. — Военной автомобильной школы.
Председатель. — Вы ездили с Распутиным на Знаменскую и затем в Царское Село?
Мануйлов. — Нет, я только довез его до царскосельского вокзала.
Ольденбург. — Вам не известно, чтобы Распутин пользовался этим автомобилем, принадлежавшим председателю совета министров, но числившимся в военном ведомстве, для каких-нибудь других поездок?
Мануйлов. — Нет. Дело в том, что я ездил несколько раз даже ночью на военном автомобиле, который принадлежал одному офицеру автомобильной школы. Тогда все это смешали, и генералу Поливанову рассказали эту историю.
Председатель. — Сколько вы получали содержания по должности состоящего при Штюрмере?
Мануйлов. — Сначала я получал 500 руб., потом Алексей Николаевич Хвостов прибавил мне тысячу. 1.500 рублей в месяц, на все расходы, которые у меня были, потому что прежде полагалось всем, состоящим при председателе совета министров, представлять расходы, а тут, чтобы никаких расходов не представлять. Затем это жалованье было уменьшено до 500 рублей.
Председатель. — Т.-е. до 6 тысяч в год? А разве вам не приходилось представлять в департамент полиции какие-то счета, в связи с Распутиным?
Мануйлов. — Когда вопрос шел относительно его поездок в Царское Село, царица не пожелала, чтобы он ездил по железной дороге, так как его знали, и это вызывало разговоры, заметки, и тогда было приказано нанимать автомобиль.
Председатель. — Через кого она выразила свое нежелание?
Мануйлов. — Она сказала Штюрмеру.
Председатель. — Во время доклада? Какое же было распоряжение?
Мануйлов. — Было распоряжение нанимать ему автомобиль. Он нанимал и счет давал мне. Я платил из своих денег и затем представлял эти счета, которых, кажется, было три или четыре.
Председатель. — Куда?
Мануйлов. — В департамент полиции.
Председатель. — Почему департамент полиции должен был оплачивать поездки по вызову Александры Федоровны?
Мануйлов. — Это Штюрмер сделал такое распоряжение; так же было и после Штюрмера, при Протопопове. Это всегда из секретных сумм платилось.
Председатель. — То-есть при Протопопове было, что Распутина возили не по железной дороге, а в автомобиле, и что это оплачивалось из средств департамента полиции?
Мануйлов. — Это сам Распутин говорил.
Председатель. — Кроме того, и вы сами можете удостоверить, так как вы представляли эти счета.
Мануйлов. — Я говорю, что я платил раза четыре.
Смиттен. — Такой расход, как автомобиль, оплачивался из секретных сумм департамента полиции. Значит, та сумма, которую вы получали, составляла чисто ваше жалованье?
Мануйлов. — Состоящие при председателе и прежде, при графе Витте, на всевозможные расходы, на извозчиков, на посылки по министерству — курьерам, постоянно представляли счета.
Смиттен. — У председателя совета министров Штюрмера не было никакого секретаря, который бы заведывал мелкими расходами по канцелярии, по рассылке курьеров? Все это лежало на обязанности состоящего при нем лица?
Мануйлов. — К председателю совета министров были прикомандированы лица от министерства внутренних дел. И я был прикомандирован от министерства внутренних дел, но мы не касались канцелярии совета министров.
Смиттен. — Каких же курьеров вы оплачивали?
Мануйлов. — Пустяки. Почти все это жалованье шло мне.
Смиттен. — Значит, было время, когда вы получали 18 тысяч в год?
Мануйлов. — Это было 2 месяца.
Смиттен. — Было 2 месяца, когда вы получали по 1.500 рублей в месяц, т.-е. 18 тысяч в год. Ведь это почти министерское жалованье.
Председатель. — В какие месяцы это было?
Мануйлов. — Я не помню, это в начале назначения Штюрмера.
Смиттен. — Не можете ли вы пояснить точнее, какие же ваши высокие государственные обязанности оплачивались так щедро?
Мануйлов. — Я не могу сказать. Мне назначили, и я не отказался от этого. При графе Витте я то же самое получал тысячу рублей в месяц, а Рачковский, который состоял при министре внутренних дел, при Горемыкине, получал 2.000 рублей.
Председатель. — Какие у вас были отношения с Белецким?
Мануйлов. — Хорошие.
Председатель. — Когда вы с ним познакомились?
Мануйлов. — Я познакомился с ним, когда он был вице-директором департамента полиции, когда Столыпин был председателем.
Председатель. — Как затем складывались ваши отношения?
Мануйлов. — У меня все время были хорошие отношения с ним.
Председатель. — Каковы были отношения у Белецкого с Распутиным?
Мануйлов. — Хорошие отношения. Белецкий бывал у Распутина, и затем они встречались в некоторых домах. Распутин мне об этом говорил. Они встречались у жены полковника Свечина.
Председатель. — А какова история того, как Белецкий хотел быть министром внутренних дел через Распутина?
Мануйлов. — Я не могу вам этого сказать. Я только знаю, что у них были переговоры по этому поводу, но после истории Ржевского Распутин относился недоверчиво к Белецкому. Хотя Белецкий говорил, что он тут не при чем, но у Распутина осталось против него скорее неприязненное отношение.
Председатель. — Что вам известно об аресте Петца?
Мануйлов. — Я знаю близко эту историю. Дело Петца собственно касалось меня. Рассказать вам?
Председатель. — Пожалуйста, только вкратце.
Мануйлов. — Дело в том, что одна близкая мне женщина сошлась с этим Петцем в Райволе. Я об этом узнал. Одновременно я имел сведения о том, что этот Петц пользуется очень нехорошей репутацией в Райволе и говорил прислуге, которая мне об этом передавала, что он хочет меня убить и что у него постоянно револьвер.
Председатель. — Что значит: в Райволе пользовался дурной репутацией?
Мануйлов. — Он слывет за кота.
Председатель. — А какое его положение общественное?
Мануйлов. — Никакого. Он недоучка, он держал лошадей.
Председатель. — Что значит: держал лошадей?
Мануйлов. — У него была конюшня, и он давал лошадей. Я просил эту даму прекратить эти отношения; но она не прекращала, и однажды, когда я от нее ушел и потом через 10 минут вернулся, этот молодой человек через задний ход убежал, так что я его видел.
Председатель. — Это было в котором году?
Мануйлов. — Насчет годов я не помню, я года путаю. Белецкий был тогда товарищем министра. Я рассказываю Белецкому про этого молодого человека и говорю, что опасаюсь, как бы не вышло какой-нибудь истории, и прошу, нельзя ли узнать подробно, кто этот господин и т. д. Тогда он мне сказал, что наведет справки. Несколько дней спустя, он мне сказал о том, что репутация этого господина очень нехорошая, что у него имеются сведения от 6-й армии, сведения отрицательные.
Председатель. — А какое отношение имел Белецкий к 6-й армии?
Мануйлов. — Не знаю, но одним словом, какие-то секретные сведения из 6-й армии. Затем проходит несколько дней, и я узнаю о том, что этот молодой человек арестован. Один его приятель, Макаров, звонит и просит, не могу ли я помочь в этом деле, что он ни в чем неповинен и т. д. Тогда я попросил Белецкого освободить его и рассмотреть это дело. Белецкий сказал, что он занялся этим делом, и через шесть дней этот молодой человек был освобожден.
Председатель. — Таким образом, вы имели отношение к освобождению Петца, но не имели отношения к его аресту?
Мануйлов. — Никакого.
Председатель. — Тем не менее вы не отрицаете, что личные отношения Петца послужили основанием к аресту, в связи с теми сведениями, которые раньше о нем были и которые лишь послужили поводом?
Мануйлов. — Очень может быть, что на него обратили внимание, но репутация его была очень плохая, так что, как мне говорили, местная власть очень отрицательно о нем отзывалась.
Смиттен. — Когда вы говорили о Белецком, вы указывали на то, что в 6-й армии имеются неблагоприятные сведения?
Мануйлов. — Нет.
Смиттен. — Вы указывали только на ваши личные отношения?
Мануйлов. — Я указал, что этот молодой человек грозит меня убить, что у него очень нехорошая репутация, что она дала слово с ним не видеться, что эта история продолжается и что я прошу, так как у меня не хватает характера порвать, прошу меня оградить от этой истории. Он мне сказал: «Я это дело рассмотрю». Потом, несколько дней спустя, сказал о том, что у него имеются отрицательные сведения.
Смиттен. — Вы в то время состояли при Штюрмере?
Мануйлов. — Нет.
Смиттен. — Кем же вы были?
Мануйлов. — Сотрудником газет.
Смиттен. — Не можете ли вы сказать, почему такого рода обращение, в качестве сотрудника газеты, к Белецкому побудило заняться личностью этого Петца?
Мануйлов. — Личные отношения мои с Белецким.
Председатель. — Какие у вас были отношения с князем Бебутовым?
Мануйлов. — Князя Бебутова я много лет знаю. Были отношения самые хорошие. Никаких других не было.
Председатель. — Сколько лет вы Бебутова знаете?
Мануйлов. — Я его знаю 20 лет. Вы говорите про Давида Осиповича Бебутова, который был в кадетской партии?
Председатель. — Да. Вы виделись с ним в России или и заграницей?
Мануйлов. — Он, кажется, приехал в Париж. Я его видел в Париже тоже.
Председатель. — Чем занимался князь Бебутов?
Мануйлов. — Вот для меня всегда было тайной, чем занимался князь Бебутов.
Председатель. — А эта тайна не была подозрительна?
Мануйлов. — Да. Одно время он был у Плеве. Тогда был такой М. В. Набоков. Он был управляющим канцелярией министерства земледелия. Он умер. Этот Набоков был приятелем Бебутова. Затем, как-то раз, я приехал из-за границы и вечером был позван к Плеве и случайно вдруг вижу Бебутова выходящим от Плеве. Я был очень удивлен потому, что Бебутов слыл за крайнего либерала.
Председатель. — А Плеве был в то время министром внутренних дел?
Мануйлов. — Да. И он мне рассказал, что у него какие-то дела. Я не знаю. Потом в Париже он мне говорил, сам мне рассказывал, что он несколько раз был у Плеве, что это были, так сказать, такие дела, которые политического характера не имели.
Председатель. — А вам не известно, что князь Бебутов был осведомителем министерства внутренних дел?
Мануйлов. — Нет.
Председатель. — На мой вопрос вы сказали, что денежные средства князя Бебутова были для вас тайной. Я вас спросил, эта тайна не казалась вам подозрительной, и вы, как будто, были склонны ответить, что это было подозрительно для вас, но вы не выяснили из разговора с Бебутовым?
Мануйлов. — Нет, он мне говорил, что у него какие-то дела в Англии. Между прочим, одно время здесь появился некий грек Мицакис.[*] Этот Мицакис был с ним в деловых отношениях. Мицакис этот, как я потом узнал, был агентом Рачковского заграницей.
Председатель. — Значит, грек Мицакис, агент Рачковского, заграницей был лицом близким Бебутову?
Мануйлов. — Близким я не скажу, но был в сношениях.
Председатель. — Вы тоже были в довольно близких отношениях с Бебутовым?
Мануйлов. — Я с ним встречался у Набокова. Затем, одно время, он стал меня посещать довольно часто. Затем приехал в Париж, был у меня в Париже, потом он скрывался некоторое время, потом снова заезжал, потом снова скрывался. Вообще был всегда таинственным. Когда приходил ко мне, раньше звонил по телефону, спрашивал: «Никого у вас нет?» — «Нет». Ну, тогда он приходил и рассказывал о том, что оказывает очень большие услуги кадетской фракции, что он большие свои деньги потратил на это дело.
Председатель. — Вы имели с ним отношения до самого последнего времени?
Мануйлов. — Я его давно не видел, я думаю, года четыре.
Председатель. — Скажите, до войны вы виделись с ним, а после войны не виделись?
Мануйлов. — Нет, не виделся после войны.
Председатель. — Не будем ли мы считать, что грань — год войны?
Мануйлов. — Я видел его до войны.
Председатель. — Незадолго до начала войны?
Мануйлов. — Не помню хорошо.
Председатель. — Где вы его видели?
Мануйлов. — Он был у меня в Петрограде, я был у него, кажется, раза два в Петрограде. Я был очень удивлен. Он, между прочим, мне рассказывал, что у него какое-то большое дело заграницей, а потом из газет я узнал, что он ездил по делу графа Орлова-Давыдова. Ведь он был в процессе Пуаре и Орлова-Давыдова. Роль его весьма неважная. Я был очень удивлен. Вообще источник его материального состояния мне всегда казался странным.
Председатель. — Между тем, благополучие материальное было довольно значительное?
Мануйлов. — Он жил довольно хорошо.
Председатель. — Скажите, пожалуйста, почему вы заговорили с дочерьми Распутина о том, кто такой генерал Калинин?
Мануйлов. — Потому что они говорили о том, что расследование об убийстве их отца непосредственно ведет сам генерал Калинин. Я тогда спросил, кто такой генерал Калинин? Они говорят: «Разве вы не знаете? Это — А. Д. Протопопов».
Председатель. — Это вам совершенно ясно? И вы совершенно категорически можете удостоверить?
Мануйлов. — Да.
Председатель. — Скажите, на чем основано ваше утверждение, что княгиня Тарханова сблизила Протопопова с Распутиным, в той части, где, значит, вы утверждаете, что княгиня Тарханова была в некоторых отношениях с Распутиным?
Мануйлов. — Дело в том, что когда я последнее время бывал у Распутина, то она постоянно там бывала. Почти каждый раз, как я там был, я видел княгиню Тарханову, затем она мне сама сказала, что она 38 лет в дружбе с А. Д. Протопоповым, и затем княгиня Тарханова в самых близких отношениях с Симановичем. Так что это было очевидно, что это был один из каналов сближения.
Председатель. — Так. Вот теперь я бы хотел задать вопрос, касающийся ваших отношений с Вырубовой. Вы уже несколько выяснили этот вопрос. Скажите, вы собственно говорили, что вы довольно близко стояли к Вырубовой?
Мануйлов. — Нет, нет, я этого не мог сказать. Я у Вырубовой был в Царском всего два раза.
Председатель. — Скажите, что это за история с письмом на имя Вырубовой, напечатанным в «Новом Времени», вы помните эту историю?
Мануйлов. — Нет, не помню.
Председатель. — Может быть, вы припомните. Письмо, посланное в Царское Село на имя Вырубовой, напечатано в «Вечернем Времени», не в «Новом Времени», а в «Вечернем»?
Мануйлов. — К какому времени это относится?
Председатель. — Сейчас я этого не могу сказать. Надо навести справку.
Мануйлов. — Нет, не помню. Я не имею никакого касательства.
Председатель. — Скажите, как сложились ваши отношения с Протопоповым после убийства Распутина?
Мануйлов. — Я не видел Протопопова по выходе из предварительного заключения. Я с ним ни разу не виделся, а только раз по телефону говорил с ним. Дело в том, что тогда как раз разыскивались убийцы, и еще не было выяснено все дело Распутина, т.-е. при каких обстоятельствах. Вот была у меня опять-таки Вырубова и говорит, что она видела одно лицо, пользующееся доверием, которое удостоверяет, — лицо, чуть ли не принадлежащее к судебному ведомству, как она сказала, — которое удостоверяет, что будто бы Распутин жив и они его держат, как заложника. Это сведение мне показалось интересным, и я тогда позвонил к Протопопову и сообщил ему это сведение. Я ему позвонил единственный раз, когда был этот разговор, и он сказал, что не верит.
Председатель. — А какое письмо вы писали Протопопову после убийства Распутина?
Мануйлов. — Никакого письма я не писал. Я писал относительно дела моего личного, которое должно было появиться в суде. Я просил, так как в печати писали невероятные вещи, и против меня подготовлялось общественное мнение, сочиняли, бог знает что, и я просил нельзя ли, чтобы не печатали таких вещей. Вот какого рода письмо.
Председатель. — Вы имеете какое-нибудь отношение к Ярославлю, или имели в прошлом?
Мануйлов. — Не был никогда.
Председатель. — Вы там не служили никогда?
Мануйлов. — Никогда. Вы думаете про мои отношения со Штюрмером? Нет. Я со Штюрмером познакомился, когда он был директором департамента общих дел.
Председатель. — Это действительно вам совершенно ясно? Вы категорически можете сказать?
Мануйлов. — Категорически.
Председатель. — Скажите, пожалуйста, вот что. Не происходили ли свидания Распутина со Штюрмером еще в одном месте, на квартире лица вам довольно близкого?
Мануйлов. — Да, это было один раз. Это было на третий день его назначения. Дело в том, что Распутин тогда у меня на квартире еще не бывал.
Председатель. — Вы просто не хотели этого?
Мануйлов. — Не хотел. Тогда Штюрмер говорит: «Нужно видеть непременно Распутина, где бы можно было его видеть?» Я говорю: «Есть одно место, там никого не бывает. Если хотите, приезжайте». И он приехал на Бассейную, 36.
Председатель. — Эта квартира Лерма.
Мануйлов. — Да. Это единственный раз. Это было через три дня после назначения.
Смиттен. — Вы присутствовали при этом свидании?
Мануйлов. — Я был в другой комнате.
Председатель. — Была квартира предоставлена, а лица, которому принадлежала эта квартира, не было?
Мануйлов. — Нет, не было. Он, когда прощались, расцеловался с Распутиным.
Председатель. — Штюрмер?
Мануйлов. — Да, я был в столовой.
Смиттен. — Скажите, в то время наблюдение за Распутиным, филерское, производилось уже?
Мануйлов. — Да, я думаю.
Смиттен. — Так что посещение квартиры Лерма должно быть филерами зафиксировано?
Мануйлов. — Да.
Смиттен. — Кем велось наблюдение? Охранным отделением?
Мануйлов. — Нет, Комиссаровым, т.-е. его так называемым летучим отрядом.
Председатель. — Теперь расскажите о предположениях Штюрмера создать в Петрограде бюро заграничной агентуры с вами во главе. Вот этот инцидент нам хотелось бы осветить.
Мануйлов. — Нет, это не так. Я вам скажу сейчас. Дело в том, что заграничная агентура, в то время, как, по крайней мере, говорил Штюрмер, не давала никаких сведений, а расходовались очень большие деньги. Как-то раз я был у него, кажется, незадолго до его назначения министром внутренних дел. Я ему говорю: «Обратите ваше внимание на то, что расходуются колоссальные деньги, и теперь совсем не по тому пути идет агентура. Агентура заграничная должна быть направлена на борьбу с шпионажем и с врагами государства».
Председатель. — Это была ваша мысль?
Мануйлов. — Моя мысль. А не то, что мы наблюдаем за какими-то странными революционерами, которые переезжают из одной квартиры в другую, и продолжаем воровать их письма, как это делалось всегда представителями заграничной агентуры. Я ему рассказал все, что я знал по моему пребыванию в Париже. Как организована Sûreté générale,[*] в смысле борьбы с контр-шпионажем, и говорю: «Вот, на что нам следовало бы обратить внимание». Когда война началась, «Новое Время» командировало меня заграницу. Я объездил все страны, конечно, за исключением вражеских, и видел ту колоссальную работу, которая была сделана в Германии в смысле воздействия на печать, и говорю: «Вот, куда должно быть направлено все».
Председатель. — А как же в вашем сознании стоял вопрос о том, что в сущности это дело контр-шпионажа находится в руках военного ведомства?
Мануйлов. — Нет. Дело в том, что во Франции контр-шпионаж разделен на две части. Есть в министерстве внутренних дел так называемое Sûreté générale,[*] специальное отделение, которое ведает контр-шпионажем, и есть военный шпионаж, который ведет главный штаб. Контр-шпионаж есть наблюдение за военными агентами, за посольствами, так что там это разделено. Я ему все рассказал и говорю: «Конечно, теперь несколько поздно, потому что война. Но это — вещь, которая была бы нам очень полезна, и совершенно бесполезно теряем мы время в наблюдениях за социал-демократами». Действительно, кажется, он заинтересовался, хотя он рамольный человек, только моментами хотел создать что-то и говорил по этому поводу. Тем дело и кончилось, так что, собственно, это не вылилось ни в какую форму.
Председатель. — Вы, значит, должны были, реорганизуя иностранную агентуру, переехать в Париж или остаться здесь?
Мануйлов. — Я говорил в общих чертах.
Председатель. — Но во всяком случае вы должны были заменить этого самого Красильникова?
Мануйлов. — Нет, нет.
Председатель. — Вот вы только что называли Штюрмера рамольным человеком, но вы не замечали, что этот человек был с некоторой внешней выдержкой?
Мануйлов. — У него была очень большая выдержка. Он умел молчать, и казалось, что это молчание очень глубокомысленно. Но он рамольный, и только утром, в 8 часов, когда он назначал мне свидания, тогда и можно было с ним говорить. Потом я его видел в 4 часа, в 5 часов. Это был совершенно конченный человек, он засыпал несколько раз при мне, и мне лично казался очень усталым. Так что за этот период, что я его видел, он как-то умственно очень понизился, но это очень хитрый был человек.
Председатель. — Вы отрицаете, что вы производили по поручению Штюрмера расследование о поездке Ржевского и о связи Ржевского с А. Н. Хвостовым?
Мануйлов. — Нет, я этого не отрицал.
Председатель. — Скажите, такое поручение вы действительно имели?
Мануйлов. — Дело в том, что следствие вел Гурлянд, а мне было поручено одновременно также заняться этим делом, и, как я вам докладывал, я допрашивал Гейне, потом любовницу Ржевского. От нее и получил этот ордер. Ордер этот был на канцелярию министра (обращаясь к Б. М. Смиттену) — вы меня тогда спрашивали, — не на министерство внутренних дел, не на кредитную канцелярию, а на канцелярию министра внутренних дел.
Смиттен. — На 60 тысяч?
Мануйлов. — Да.
Председатель. — А какое участие в этом было Осипенко?
Мануйлов. — Дело в том, что этот Гейне, которого я допрашивал, его разыскивал тогда Симанович целый день, и в конце концов разыскал его на частной квартире у той дамы, у которой я был. Там случайно находился Осипенко. Так как мне было приказано самым частным образом, то я говорил, он записывал… и Осипенко там был.
Председатель. — Т.-е. Гейне и Осипенко были найдены в квартире?
Мануйлов. — Нет, нет. Дело в том, что Гейне Симанович привез на квартиру, а там, на квартире, находился Осипенко.
Председатель. — Симанович привез Гейне на квартиру Лерма?
Мануйлов. — Где я находился.
Председатель. — А Осипенко?
Мануйлов. — А Осипенко был там случайно, он просто приехал вечером случайно. А вас не интересует Андроников?
Председатель. — Да, интересует. Что вы можете сказать о нем?
Мануйлов. — Я хотел обратить внимание, что Андроников имеет значение.
Председатель. — Какое, по вашему мнению, он имеет значение?
Мануйлов. — Дело в том, что назначение А. Н. Хвостова было сделано через Андроникова. Андроников был посредником между А. Н. Хвостовым и Григорием Распутиным.
Председатель. — А в каких отношениях, по тому, что вы знаете, находился Андроников с Распутиным?
Мануйлов. — Он был в очень близких отношениях. Андроников бывал там, а потом что-то такое там произошло, и последнее время Распутин его ненавидел и даже способствовал его высылке из Петрограда. Ведь он был выслан из Петрограда.
Председатель. — Скажите, кто это Дексбах, и в каких отношениях вы были с ним?
Мануйлов. — Дексбах состоял при Столыпине и при Коковцове. Я с ним ни в каких отношениях не был.
Председатель. — А Деканози вы знаете?
Мануйлов. — Нет. Не знаю.
Председатель. — Каковы были ваши отношения со Спиридовичем?
Мануйлов. — Спиридовича я знаю давно. Дело в том, что, когда я приехал из-за границы, я был у покойной матери. Она жила в Киеве, и там был Спиридович начальником охранного отделения.
Председатель. — Когда это было?
Мануйлов. — Много лет тому назад. За эту болезнь я все забыл. Когда министром был Плеве, по-моему, тогда я его видел. Затем я его видел в Петрограде, когда он был при Воейкове заведующим политической агентурой.
Председатель. — При Воейкове заведующим политической агентурой дворцового ведомства? Это называется заведующим дворцовой охраной? А какие у вас с ним были отношения?
Мануйлов. — Отношения были добрые, самые обыкновенные. Он бывал у меня иногда; я очень редко бывал у него, очень редко.
Председатель. — А какая миссия вам устраивалась заграницу? Вы знаете этот инцидент?
Мануйлов. — Вот такого рода вещь. Я получил письмо от Спиридовича, когда Штюрмер был министром иностранных дел. В этом письме он, между прочим, писал: «Меня спрашивают, кто бы мог быть нам полезен для исполнения очень важного поручения заграницей? Я назвал вас и Базили». Базили тогда заведывал дипломатической частью в Ставке. С этим он уехал в Петроград. Меня очень интересовал этот вопрос, и я тогда спросил Штюрмера, что это такое, не известно ли ему? Он сказал, что он ничего не знает, и этот вопрос больше никогда не поднимался. Что это такое было, я не знаю, потому что я был потом арестован и Спиридовича не видел совсем.
Председатель. — Как же вы понимали это слово в письме: «спрашивали», кто спрашивал?
Мануйлов. — Может быть, царь, я не знаю. Так — спрашивали. Может быть, Базили спрашивал.
Завадский. — Какие же у вас отношения были со Спиридовичем раньше?
Мануйлов. — Я просто много лет его знал.
Завадский. — Значит, Спиридович никогда никаких дипломатических поручений не нес, а только охрану?
Мануйлов. — Только.
Завадский. — Следовательно, Спиридовича о миссии дипломатической и спрашивать не могли?
Мануйлов. — Я до сих пор не знаю, в чем дело. Я его с тех пор не видел. Этот разговор мог быть в области предположений. Это письмо я получил за четыре дня до ареста, и это письмо Спиридовича было найдено тогда при аресте. Меня потом по этому поводу спрашивали в контр-разведочном отделении.
Смиттен. — Откуда было прислано письмо?
Мануйлов. — Из Ставки.
Председатель. — Скажите, пожалуйста, вы вообще можете рассказать в нескольких словах ваше прошлое? Вы служили в Риме? Когда это было?
Мануйлов. — Когда был директором духовных дел Мосолов; потом он был членом государственного совета. Он умер.
Председатель. — Какие были ваши функции?
Мануйлов. — У нас католическое духовенство не имеет права прямых сношений с Ватиканом, и тогда агенты по духовным делам, которые являются посредниками между Ватиканом и нашим католическим духовенством, передают всевозможные бумаги. Бракоразводные процессы проходят через эту контору.
Председатель. — Этот агент по духовным делам состоит при после?
Мануйлов. — От министерства внутренних дел, но в ведении посла.
Председатель. — Значит, в Петрограде он связан с министерством внутренних дел по департаменту духовных дел, а там — с послом. Это было ваше внешнее положение, но какие еще вы приняли на себя функции?
Мануйлов. — В виду того, что в это время там был кардинал Ледоховский и велась очень сильная униатская пропаганда, министры иностранных дел и внутренних дел обратили внимание на эту часть и вообще на польскую агитацию, так как весь вопрос был в том, чтобы полонизировать костел.
Председатель. — В какой период времени вы были?
Мануйлов. — Я был при Плеве.
Председатель. — Я спрашиваю, кроме официального положения, какие вы приняли на себя функции?
Мануйлов. — Наблюдение за пропагандой католицизма.
Председатель. — Т.-е. за влиянием Рима на Россию?
Мануйлов. — На Привислинский край. Тогда, между прочим, был очень серьезный вопрос о минских приходах.
Председатель. — Вы были высланы из Италии?
Мануйлов. — Ничего подобного, никогда. Это все газетные глупости. Наоборот, я теперь был в Италии.
Председатель. — Вы состояли некоторое время в контр-разведке?
Мануйлов. — Никогда.
Завадский. — Никакого касательства не имели?
Мануйлов. — Здесь? Нет.
Смиттен. — Вы говорите «здесь — нет», а в другом месте?
Мануйлов. — Где же я мог?
Председатель. — Вы не работали по осведомлению, по агентуре, по министерству внутренних дел?
Мануйлов. — Одно время мне была поручена заграничная печать.
Председатель. — Когда это — одно время?
Мануйлов. — Это было при Плеве. Тогда я из Рима поехал в Париж с сохранением моего места в Риме и ведал этой частью. Но по осведомлению никогда не работал.
Председатель. — Скажите, пожалуйста, какое было ваше вознаграждение не в 1916 г., а раньше, в 1914–1915 годах?
Мануйлов. — Дело в том, что в Риме я получал около 12 тысяч рублей. Затем, в Париже, когда мне была поручена печать (Лопухин был тогда директором департамента полиции, а Плеве был министром внутренних дел), тогда я получал 1.500 рублей в месяц. Кроме того, давались деньги на газеты, при чем давались так, что мы брали абонементы на известное количество номеров газеты, например, «Фигаро», в виде компенсации за помещение статей.
Председатель. — А в последние годы, 1913–14–15?
Мануйлов. — Последние годы я не служил совершенно.
Председатель. — Какие ваши средства в настоящее время?
Мануйлов. — В последние годы я довольно удачно играл на бирже. Вообще же я получил наследство от отца, довольно большое.
Председатель. — В котором году и какое по размерам?
Мануйлов. — Наследство в 200 тысяч, при чем духовное завещание отца было составлено так, что я получаю деньги, когда мне минет 35 лет.
Председатель. — Т.-е. 13 лет тому назад?
Мануйлов. — И до 35-летнего возраста пользовался процентами с капитала.
Председатель. — Где утверждено это духовное завещание?
Мануйлов. — Здесь.
Председатель. — Как зовут вашего отца?
Мануйлов. — Федор Иванович.
Смиттен. — Это — нотариальное завещание?
Мануйлов. — Кажется, нет.
Председатель. — Где хранились эти деньги?
Мануйлов. — В Сибирском банке.
Председатель. — Когда он умер?
Мануйлов. — Давно, лет 25 тому назад.
Смиттен. — Копию с этого духовного завещания вам приходилось когда-нибудь снимать?
Мануйлов. — Нет, я его читал. Дело в том, что это духовное завещание читал председатель суда Рейнбот, который говорил моему адвокату Аронсону, что на него произвело хорошее впечатление это духовное завещание.
Председатель. — Значит, эти деньги вы получили через Сибирский банк лет 13 тому назад?
Мануйлов. — Эти деньги пошли потом в государственный банк.
Председатель. — Значит, вы их получили?
Мануйлов. — К сожалению, не получил, у меня были долги и я получил сравнительно очень немного.
Председатель. — Сколько вы получили?
Мануйлов. — Кажется, 15 тысяч мне очистилось.
Председатель. — Значит, на 185 тысяч вы сделали долгов?
Мануйлов. — Одним словом, я попал в руки ростовщиков и остался без всяких средств.
Председатель. — В настоящее время как велики ваши средства?
Мануйлов. — После этого я составил себе капитал игрой на бирже.
Председатель. — Через какой банк?
Мануйлов. — Тогда я играл в нескольких банках, в конторе Жданова. Ее теперь нет. Там была биржевая горячка. Потом у меня опять почти ничего не осталось. Но я зарабатывал очень много в газетах и затем, в последние годы, опять составил себе состояние тоже на бирже.
Председатель. — Где хранятся ваши средства в настоящее время?
Мануйлов. — В настоящее время в Лионском кредите.
Председатель. — Как они велики?
Мануйлов. — Теперь до 200 тысяч. Все это было следователем проверено, все бумаги.
Председатель. — Вы получили 25 тысяч от Хвостова. Скажите, в каком отношении к получению этих 25 тысяч стоял Штюрмер?
Мануйлов. — Ни в каком.
Председатель. — У вас не было в этом отношении беседы со следователем Середой?
Мануйлов. — Я только говорил Середе относительно того, что Штюрмер в курсе моих отношений к Хвостову.
Председатель. — Т.-е. денежных отношений?
Мануйлов. — Нет, я не говорил Штюрмеру.
Председатель. — Что же знал Штюрмер?
Мануйлов. — Штюрмер действительно знал, что Хвостов хочет начать кампанию с графом Татищевым, и затем знал, что Алексей Николаевич Хвостов хочет со мной видеться, одним словом, что они стараются всячески завязать отношения со мной. А о деньгах я ничего не мог сказать. Вопрос о деньгах не был решон между мною и Хвостовым.
Председатель. — Вы были допрошены прикомандированным к штабу Петроградского округа Лебедевым? Это было в сентябре 1916 года.
Мануйлов. — Нет, не в сентябре.
Председатель. — Я это могу доказать документально, что это было в сентябре 1916 г. Вероятно, вы были под арестом?
Мануйлов. — Да.
Председатель. — Вам задавался вопрос, не вели ли вы переписки с Карро, и вы это обстоятельство отрицали.
Мануйлов. — Нет, не отрицал. Не я ему писал, а Карро писал мне.
Председатель. — Когда спрашивают о переписке, это значит, что оба человека друг другу писали.
Мануйлов. — Я никогда не писал Карро, но Карро мне писал.
Председатель. — Вы говорили о том, что во всяком случае эта переписка была самая незначительная.
Мануйлов. — Нет, это не так. Карро корреспондент «Нового Времени» в Копенгагене, и он мне присылал письма.
Председатель. — Я спрашиваю по формальному вопросу, что вы говорили и чего не говорили. Вы отрицали, что были в переписке с Карро, кроме самой незначительной.
Мануйлов. — Я не знаю. По-моему я, кроме телеграмм, ничего ему не посылал по поручению Суворина.
Председатель. — Но вы отрицали, что Карро вам когда-нибудь писал про Карла Рене?
Мануйлов. — Нет, я этого не помню.
Председатель. — Вы этого не помните?
Мануйлов. — Про Карла Рене я говорил следователю, что эта фамилия мне известна. Очевидно, это не так записано.
Председатель. — Теперь вы расскажите по существу про ваши отношения с Карро. Карро — французский журналист, сотрудник «Матэн», которого вы, по поручению «Нового Времени», привлекли в качестве сотрудника.
Мануйлов. — Карро был корреспондентом в «Матэн» и посещал «Новое Время». В один прекрасный День Карро было отказано, и он остался без места. Я в это время был в Париже и получил от Карро телеграмму: «Нахожусь в очень тяжелом положении; что мне делать? Не можете ли вы переговорить в «Матэн»?» Я переговорил. Там не хотели о нем слушать. Когда я возвратился, я предложил Суворину взять его в качестве корреспондента. Его послали в Копенгаген.
Председатель. — И он там стал жить. Какие были ваши сношения с Карро, относящиеся к лету 1916 г.?
Мануйлов. — Он мне присылал письма относительно того, что происходит в Копенгагене, для осведомления редакции, то, что неудобно было печатать, и, между прочим, несколько писем, которые были мною переданы Суворину. Суворин читал эти письма и многим воспользовался.
Председатель. — Это менее всего нас интересует. Он писал, вы передавали в «Новое Время». Но какие были еще у вас отношения с Карро?
Мануйлов. — Никаких отношений не было. Затем он мне написал письмо, в котором говорил о Рене.
Председатель. — Для вас ясно, что такое Рене?
Мануйлов. — Я тогда говорил следователю, что я вспомнил, что, когда я был заграницей (это было во времена Плеве), то в Берлине был какой-то Рене, которого рекомендовал генерал фон-Валь.
Председатель. — Рекомендовал кому?
Мануйлов. — Министру внутренних дел Плеве.
Председатель. — Рекомендовал консула Рене?
Мануйлов. — Нет, он кажется немец, он был нашим агентом в Берлине по печати. Об этом вам может дать сведения некто Гольмстрем, который заведует иностранной печатью в главном управлении по делам печати. Он знает это подробно, так как это было в его ведении, при Плеве. Когда Лебедев спросил меня, я сказал, что фамилию Рене помню, но не знаю, тот ли это Рене. Я его никогда не видел.
Председатель. — Я повторяю вопрос, в каких же отношениях вы были с Карро летом 1916 года?
Мануйлов. — Я от Карро получил несколько писем для редакции, и больше ничего. Я ему написал, кажется, 2 телеграммы, но писем никогда не писал. Он до сих пор корреспондент «Нового Времени», насколько я знаю.
Председатель. — Где сейчас находится Карро?
Мануйлов. — Он корреспондент «Нового Времени» в Копенгагене.
Председатель. — Когда вы его последний раз видели?
Мануйлов. — Когда я был здесь, года три тому назад.
Председатель. — До войны или после?
Мануйлов. — До войны, а может быть и после, когда «Новое Время» его командировало.
Председатель. — Давно вы живете на улице Жуковского?
Мануйлов. — Лет 12.
Смиттен. — Скажите, какими способами осуществлялись наблюдения ваши в Риме за движением католицизма в России или за пропагандой униатства?
Мануйлов. — Мы там пользовались в этом случае французской миссией, там тоже были наблюдения.
Смиттен. — Какими способами? Официально вам этих сведений Рим не дал бы, вы должны были прибегать к неофициальным.
Мануйлов. — У нас было несколько человек, которые нам помогали.
Смиттен. — Как они именовались? Была какая-нибудь агентура?
Мануйлов. — Это были агенты.
Смиттен. — Так что в ваших руках было сосредоточено руководство этой агентуры по добыванию в Риме, в Ватикане этих сведений?
Мануйлов. — Относительно пропаганды фиде, это — специальный отдел при Ватикане.
Смиттен. — Вы получали оттуда сведения, значит, это шло секретным путем. Какое количество агентов находилось в вашем ведении?
Мануйлов. — Было несколько человек, при чем двое были французы, которые давали сведения совершенно безвозмездно, те же, которые указывали и французской миссии.
Председатель. — Вы в оживленной переписке были с Карро?
Мануйлов. — Я ему не писал, но он довольно часто писал мне. Много телеграмм присылал, когда задерживали его деньги в «Новом Времени».
Председатель. — Где эти письма и телеграммы Карро?
Мануйлов. — Я их не берег, я не придавал значения. Карро считается человеком корректным, с ним никогда ничего не было.
Смиттен. — Какое же тут затруднение представлялось для Карро в непосредственном обращении в «Новое Время»?
Мануйлов. — Я заведывал иностранным отделением, и ко мне поступали заявления не от одного Карро, но и от других. Например, почему такая-то статья не прошла, почему задержка и т. п.
Смиттен. — Значит, более или менее официального характера?
Мануйлов. — Безусловно.
Председатель. — В котором году закрылась контора Жданова?
Мануйлов. — Несколько лет тому назад, думаю, лет 6.
Председатель. — С тех пор, где вы держали ваш капитал, в каком банке?
Мануйлов. — В Лионском кредите.
Председатель. — Это было на следствии Середой проверено?
Завадский. — Вы Риве знаете? Кто это?
Мануйлов. — Да, знаю. Иностранный корреспондент.
Завадский. — Он написал какую-нибудь книгу?
Мануйлов. — Он говорил, что хотел писать.
Завадский. — С этой книгой не была связана какая-нибудь тревога Штюрмера?
Мануйлов. — Не знаю. Я знаю только, что после того, как я был арестован, ко мне позвонил Риве и сказал, что он был арестован и сидел чуть ли не в крепости (боюсь теперь спутать). Тогда я спросил, — в чем дело. Он рассказал, что всю эту историю наделал один корреспондент, по фамилии Кюрц, который был в сношениях с разведкой.
Завадский. — Это — румын, подозреваемый в шпионстве.[*] Нет, есть такой рассказ, что Штюрмеру пришлось выкупать книгу Риве.
Мануйлов. — Этого я не слыхал. Вообще Штюрмер не был откровенен со мной. Очень может быть, что он сделал это помимо меня.
Завадский. — Нет, он сам впоследствии рассказывал, что он вместе с вами получал деньги от Штюрмера.
Мануйлов. — Нет, никогда. Я даю честное слово, никогда этого не было.
Завадский. — Вы были у Распутина на квартире утром, после того, как он в ночь исчез?
Мануйлов. — Был.
Завадский. — Что вы там делали? Он в ночь на субботу исчез, а 17-го утром вы были у него?
Мануйлов. — Был.
Завадский. — Что вы там делали, почему вы явились туда?
Мануйлов. — Я звонил утром на квартиру Распутина, и мне, кажется, Головина сказала по телефону: «Мы не знаем, что с Распутиным, приезжайте». Я приехал; там был переполох. Там ждали, звонили всюду, затем приехал Симанович вместе с епископом Исидором и рассказал о том, что они были у пристава той части, где это произошло, и рассказывали все подробности.
Завадский. — Вы его бумаги не разбирали?
Мануйлов. — Никаких.
Завадский. — Не касались?
Мануйлов. — Нет.
Смиттен. — А министр внутренних дел при вас посетил квартиру Распутина?
Мануйлов. — Протопопова при мне не было.
Завадский. — Когда дело ваше шло еще у судебного следователя, вы следователю Середе говорили о том, что Макарова должен заменить Добровольский; это было недели за три до этой перемены. Почему вы это знали?
Мануйлов. — Об этом были разговоры у Распутина. Я уже об этом докладывал.
Завадский. — И вы сообщили это Середе. Вы рассказывали как достоверный факт; значит, вы Распутину всегда доверяли?
Мануйлов. — Я видел, что он делает, что хочет; я вам приводил факты.
Завадский. — Ни от кого, как от Распутина, вы больше не слышали?
Мануйлов. — Нет.
Завадский. — Вы знали в то же время, что бывшая императрица возражала против Добровольского, и, тем не менее, вы считали, что раз Распутин хочет…
Мануйлов. — Когда я говорил следователю, очевидно, тогда не было истории относительно взяточничества Добровольского.
Завадский. — Вы можете объяснить, какими путями вы или ваши друзья добились требования царицы о прекращении вашего дела, а потом высочайшего повеления?
Мануйлов. — Когда это дело шло, я был освобожден, и Распутин мне сказал: «Дело твое нельзя рассматривать, потому что начнется страшный шум в печати, я сказал царице, и она написала сама министру юстиции письмо, или ее секретарь».
Председатель. — Сама написала или секретарь?
Мануйлов. — Кажется, секретарь от ее имени. А затем, когда было уже назначено, то Распутин мне сказал, что императрица послала телеграмму царю о том, что дела не будет.
Председатель. — Скажите, какого именно шума в связи с этим делом боялся Распутин?
Мануйлов. — Он боялся газетной кампании, одним словом, того, чтобы его имя как-нибудь не всплыло в этом деле.
Завадский. — А как же оно в этом деле могло всплыть?
Мануйлов. — Я бывал у него очень часто. Затем, главным образом, они боялись, что на суде откроются все подробности дела Ржевского. Вот что их пугало. Вы не думайте, что они защищали только меня. Тут вопрос шел об истории Хвостова, и они боялись, что откроется вся история Хвостова и его назначение. Я помню, даже Распутин просил, чтобы Аронсон приехал к нему и дал ему слово, что о нем не будут говорить.
Завадский. — Они боялись, что вы на суде будете говорить?
Мануйлов. — Конечно. Они боялись, как бы я не раскрыл. Тут все это было сделано не столько из-за меня, сколько из-за самоохраны.
Завадский. — От вас или от ваших единомышленников исходила угроза, что вы будете говорить и требовать себе помилования?
Мануйлов. — Никогда не угрожали.
Председатель. — Так что вы утверждаете, что вопрос о помиловании, т.-е. инициатива вопроса о помиловании, принадлежала Распутину?
Мануйлов. — Безусловно Распутину.
Завадский. — Почему вы знали про телеграмму царя министру юстиции о вашем помиловании раньше, чем телеграмму получил министр юстиции?
Мануйлов. — Вот как было. Распутин позвонил мне по телефону и говорит: «Сейчас мне из дворца звонили, у мамы есть телеграмма от мужа, о том, что этому делу не быть». Так что я от него это узнал. Это было ночью, когда я узнал.
Смиттен. — Скажите, вы обращались к митрополиту Питириму с просьбой содействовать прекращению вашего дела?
Мануйлов. — Нет. Прекращению — нет. Относительно помилования теперь, это — да.
Смиттен. — Как вы можете объяснить его ходатайство?
Мануйлов. — Тут опять-таки Осипенко был свидетелем по моему делу. Он как раз находился в момент моего ареста, и это смущало их страшно, что ему придется быть на суде.
Председатель. — Вы что-то хотели сказать о жизни Распутина. Об образе жизни. Эта материя довольно бесконечная, но, может быть, вы просто в нескольких словах изложите, что вы хотели сказать Комиссии, что именно имели в виду.
Мануйлов. — Я хотел обратить внимание на то, что, во-первых, вам интересно, на то, кто давал деньги Распутину. Он получал их из министерства внутренних дел.
Председатель. — В каком количестве?
Мануйлов. — Кажется, 1000 рублей в месяц давал министр внутренних дел лично.
Председатель. — Т.-е. генерал Калинин?
Мануйлов. — Генерал Калинин. А затем Штюрмер.[*]
Председатель. — А с каких пор завелась эта выдача?
Мануйлов. — При А. Н. Хвостове. Больше всех давал ему Хвостов.
Председатель. — Из каких сумм?
Мануйлов. — Вот, из секретных. Затем, что я еще хотел сказать? О кутежах его вы знаете, это не представляет интереса теперь, раз он умер. Может быть, у вас есть вопросы?
Председатель. — Так как вы были с ним в довольно тесных отношениях, вы можете сказать, как он относился к женской половине Царского Села во время этих кутежей? Ведь вы считали его развратным человеком?
Мануйлов. — Я думаю, он был больной человек.
Председатель. — Т.-е. на половой почве?
Мануйлов. — Да, безусловно, и больше воображением, чем действительностью. Такое впечатление, так мне представляется. Дело в том, что я во время кутежей, как я вам докладывал, не бывал, но все-таки знал, что происходило, от других лиц. Разговоры о том, что он хвастал своей близостью к Царскому Селу — не верны. Наоборот, он скрывал, особенно перед мало знакомыми лицами. Он очень осторожно говорил о бывшем царе и царице.
Председатель. — А когда он выпивал бутылку мадеры или какого-нибудь вина?
Мануйлов. — Он о них, вообще, не говорил. Он говорил о том, что может сделать то-то, добиться того-то, но старался точек на i не ставить.
Председатель. — Вы не присутствовали при том, как он хвастался своим отношением к Ольге Николаевне, великой княжне?
Мануйлов. — Нет. Но он много раз говорил: «Девки меня любят» (он их называл так). «Девки меня любят, и царевич любит очень, и без меня, что бы там министры ни делали, что бы они там ни говорили, они без меня обойтись не могут».
Председатель. — Нет, чтобы он ссылался на близкие отношения с той самой великой княжной, которая к нему относилась отрицательно?
Мануйлов. — Нет, это неправда. Это неверно.
Смиттен. — Скажите, пожалуйста, генерал Калинин, это — псевдоним министра внутренних дел Протопопова? Были ли еще какие-нибудь другие видные лица, занимавшие видные государственные посты, которые в домашнем быту Распутина назывались бы условными кличками? Или он составлял исключение?
Мануйлов. — Нет. Протопопов был с ним ближе всего.
Смиттен. — Когда и как возникли эти отношения?
Мануйлов. — Меня в это время не было.
Председатель. — Вы были под арестом?
Мануйлов. — Да, когда я вышел, уже это был расцвет отношений. Протопопов звонил туда, они звонили Протопопову, и даже дети звонили к нему. Одним словом, тут постоянные были сношения. Кроме того, эта княжна Тарханова постоянно туда ездила.[*]
Председатель. — А как реализовались эти отношения, как происходили эти свидания с Протопоповым на нейтральной почве?
Мануйлов. — У П. А. Бадмаева. Другого места я не знаю.
Смиттен. — В вашем распоряжении не было какого-нибудь кадра лиц, который бы вел какое-нибудь наблюдение за Распутиным?
Мануйлов. — Нет, никогда. Там было постоянное наблюдение охранного отделения.
Председатель. — Между прочим, вы должны сказать вашей жене, что ведь вы сейчас находитесь под судебным арестом, т.-е. под арестом по постановлению суда, так что имейте в виду, что вам нужно хлопотать там, если вы хотите, об изменении меры пресечения.
Мануйлов. — Я хотел просить вас, я ведь совсем больной, вы сами видите, человек.
Председатель. — Мы не властны в данном случае. Я уже не говорю, что вы значитесь за министром юстиции, значит, за двумя учреждениями — за министром юстиции и за окружным судом. Здесь прежде всего вам придется считаться с судебным арестом, который безусловно имеет и значительную силу.
Мануйлов. — Там сказали, что многое от вас зависит.
Председатель. — Мы не можем отменить определения суда о вашем аресте. Сейчас, если бы даже мы хотели сделать постановление о вашем освобождении, мы этого не можем сделать. А вот, когда вы дождетесь снятия судебного ареста, тогда другое дело — тогда вы будете зависеть от одного лица — от министра юстиции, и тогда мы можем содействовать…
Мануйлов. — Г. председатель, я совершенно больной человек, вы сами видите.
Председатель. — Я вам должен был разъяснить это в виду того, что ваша жена не понимает этого. Она не хочет усвоить того, что вы находитесь под судебным арестом, сложение которого зависит от окружного суда, так что мера пресечения безусловно зависит от него.
XVIII. Допрос А. А. Макарова. 14 апреля 1917 г.
Содержание: Постановка агентуры в бытность Макарова товарищем министра внутренних дел. Азеф. Департамент полиции, охранные отделения и губ. жандармские управления. Сотрудники охраны и члены партий. Отношение Макарова к провокации. Доклады директора департамента полиции в присутствии товарища министра. Трусевич. Преимущественный интерес Столыпина к террористической деятельности партии с.-р. Два рода террористических актов. Приготовление к покушению на Щегловитова и в. кн. Николая Николаевича. Осведомление о заграничном съезде с.-р. Данные, которые должны были указывать на существование провокации. Герасимов. Важный агент-провокатор в распоряжении Гершельмана и Герасимова. Разоблачение Азефа и уход Герасимова. Уход Трусевича. Жученко. Климович. Ленские события. Три течения среди властей в отношении к событиям на Лене. Оценка самого Макарова речи о Ленских событиях, произнесенной им в государственной думе. Белецкий и Золотарев. Доклад о Ленских событиях Белецкого. Предписание Макарова местному губернатору о «твердости без колебаний». Вопрос о вмешательстве министерства внутренних дел и департамента полиции в московские выборы в государственную думу по рабочей курии. Белецкий и Золотарев. Виссарионов и его поездка в Москву. Малиновский и департамент полиции. Малиновский и Белецкий. Отношение Макарова к крайним левым и более умеренным течениям в государственной думе. Малиновский и Джунковский. Белецкий и Столыпин. Отношение Макарова к союзу русского народа. Участники съезда союза русского народа. Отношение Макарова к Распутину. Штюрмер, А. А. Хвостов, Вырубова, Воейков, Андроников. Причина ухода Макарова из министерства юстиции. Высочайшее повеление о прекращении дела Сухомлинова и Манасевича-Мануйлова. Увольнение Макарова в связи с вопросом о прекращении дела Манасевича-Мануйлова. Законопроекты, проводившиеся по 87 статье. Вмешательство Макарова в выборы в государственную думу. Агитация Харузина. Назначение Маклакова министром внутренних дел. Выборы в Черниговской и Нижегородской губерниях. Секретный фонд. Выборы в государственную думу в 1908 и в 1912 г. г.
* * *
Председатель. — Александр Александрович, вам известно, что вы находитесь в заседании Чрезвычайной Следственной Комиссии. Впоследствии вы будете допрошены следователем — или в качестве свидетеля, или в качестве обвиняемого, и, если будут какие-нибудь обвинения, у вас будет право не отвечать на те или иные вопросы, которые вам будут ставить. Но сейчас мы просим от вас объяснений по некоторым интересующим нас фактам.
Макаров. — Я не скрою от Комиссии того, что мне известно.
Председатель. — Мы начнем довольно издалека. По обстоятельствам дела нам нужно знать некоторые моменты, относящиеся к вашей деятельности в качестве товарища министра внутренних дел. Как вы, вероятно, помните, вы были товарищем министра внутренних дел с 18-го мая 1906 г. Вы были тогда и заведующим департаментом полиции.
Макаров. — Не только департаментом полиции, но и департаментом духовных дел иностранных исповеданий.
Председатель. — Если вы имеете что-нибудь сказать относительно других департаментов, то благоволите это сказать. Но нас интересует, главным образом, вопрос о департаменте полиции. Если вы хотите, чтобы я поставил вам частные вопросы, то ближайший из этих вопросов заключается в следующем: что вам известно было в то время относительно существования так называемой секретной агентуры и провокации, с этим связанной.
Макаров. — С тех пор, конечно, прошло очень много времени — 11 лет, и я не могу изложить вам какие-нибудь отдельные факты. Если Комиссии благоугодно будет обратить свое внимание на какие-нибудь подробности или отдельные обстоятельства, — все, что я припомню, я, конечно, изложу Комиссии с полной правдивостью, насколько мне память не изменит. По отношению к секретной сумме, то, насколько мне известно…
Председатель. — Я вас просил сказать относительно секретной службы, а не секретной суммы. Я говорю о секретном сотрудничестве, — так сказать, о политическом сыске, политическом шпионаже.
Макаров. — Слушаю-с. Секретная служба стояла довольно далеко от товарища министра, ибо, в сущности, секретные сотрудники, даже самые главные из них, были совершенно неизвестны товарищу министра. Об Азефе, например, я первое время понятия не имел. Дело в том, что секретной службы, насколько мне память не изменяет, в то время при департаменте не существовало, т.-е. секретных сотрудников департаментских я, по крайней мере, не знал, и думаю, что их не было. Секретные сотрудники были или у начальников губернских жандармских управлений или, главным образом, у начальников охранных отделений. У начальников губернских жандармских управлений они были, главным образом, в тех губерниях, в которых охранных отделений не было, потому что охранные отделения были распространены не на все губернии. Но главное сосредоточение секретных сотрудников было у начальников охранных отделений. Я говорю — главное, потому что хотя начальники губернских жандармских управлений обычно и имели секретных сотрудников, но эта секретная агентура была в общем довольно случайная. Что касается начальников охранных отделений, то они пользовались секретной агентурой в гораздо большей степени. Но кто у них был сотрудниками — это мне совершенно неизвестно. Думается, что в большинстве случаев это было неизвестно и департаменту. Может быть, директор департамента и знал кого-нибудь из более выдающихся сотрудников охранного отделения, преимущественно петроградского, потому что он был здесь налицо, он докладывал, он чаще других какие-нибудь сведения департаменту давал. Но у товарища министра никаких таких сведений не было.
Председатель. — Я дал вам возможность высказаться по этому вопросу, но Комиссия интересуется, главным образом, вопросом не об отдельных сотрудниках, а о принципиальной постановке дела.
Макаров. — Постановка дела сводилась к тому, что начальникам охранных отделений и начальникам губернских жандармских управлений полагалась известная, определяемая департаментом полиции сумма на уплату секретным сотрудникам.
Председатель. — Т.-е. лицам, которые доставляли сведения, состоя членами различных партий, партийных групп и т. п.?
Макаров. — Вероятно, некоторые были, другие не были членами партий; но несомненно были и такие сотрудники, которые состояли членами партий, — этого отрицать нельзя.
Председатель. — Скажите, а не возникал у вас, как у товарища министра внутренних дел, прошедшего перед тем службу в рядах судебного ведомства, вопрос о законности такого порядка?
Макаров. — Видите ли, он у меня, конечно, возникал, но в этом отношении у меня была все-таки некоторая аналогия, потому что в сыскной полиции, — в некоторых сыскных полициях, — тоже есть лица, принадлежащие к подонкам общества, — к тем же ворам, скупщикам краденого и т. п., которые, благодаря своим связям с воровским элементом, дают сыскной полиции те или иные сведения. Но я не знаю ближайшим образом действия этих сотрудников. Устремляя все свое внимание, главным образом, на то, чтобы не было провокации, — это я подчеркиваю, — я никогда своего сочувствия в этом направлении не давал и в тех случаях, которые доходили до меня, принимал все меры против провокации.
Председатель. — Что именно вы подразумеваете под провокацией?
Макаров. — Под провокацией я подразумеваю участие сотрудников в каких бы то ни было революционных действиях. Ведь не секрет, — от времени до времени это, быть может, бывало и при мне, — что, например, лицо, принадлежащее к партии, принимало участие в тех или иных партийных действиях, ну, скажем, в постановке типографии для печати, вообще в тех преступных действиях, которые вменялись в вину этому лицу. Вот такого рода действия я и называю провокацией и против такого рода действий я всегда восставал.
Председатель. — А вы не находите здесь внутреннего противоречия? Ведь, с одной стороны, вы сами сказали несколько раньше, что в составе секретных сотрудников были и лица, состоявшие членами партий…
Макаров. — Я допускаю это; но я сотрудников не знал, — не знал, насколько это партийные люди.
Председатель. — С другой стороны, участие сотрудника в таком партийном действии, как постановка типографии, вы считаете недопустимой провокацией. Нет ли тут противоречия? Вы признаете, что ставить типографию — это будет недопустимой провокацией, и вместе с тем, вы говорите, что, не зная, в качестве товарища министра внутренних дел, отдельных сотрудников, вы тем не менее знали, что в составе сотрудников были члены партий.
Макаров. — Я предполагаю это.
Председатель. — Но вы не видите противоречия в этих двух положениях?
Макаров. — Я полагаю, что такого рода действия начальников охранных отделений вызвали бы осуждение с моей стороны. Если бы я увидел, что начальники охранных отделений пользуются такими сотрудниками, я бы употребил свое влияние, свою власть, я бы сказал им: «Вы участвуете в провокационных действиях. Это недопустимо».
Председатель. — Но ведь иначе нельзя себе и представить пользования сотрудником, состоящим членом партии. Ведь состоять в партии и значит участвовать в некоторых партийных действиях.
Макаров. — Я допускаю сотрудничество партийного деятеля лишь в качестве осведомителя, исключительно.
Председатель. — Это одна сторона дела — поскольку сотрудник есть агент власти. Но поскольку агент власти является в то же время членом революционной партии…
Макаров. — Видите ли, до тех пор, пока член революционной партии не проявлял себя в каких-нибудь внешних незаконных действиях, он является лицом ненаказуемым. Поэтому, такой сотрудник, который, с одной стороны, участвовал в действиях, караемых уголовным законом, а с другой стороны, не допускал никаких провокационных действий, ограничивая свою деятельность исключительно осведомлением, — такой сотрудник…
Председатель. — Но не думаете ли вы, что такой член партии и не нужен совершенно для власти, ибо действие закона считает членом партии лишь участвующего в ней, как в организации? Только такой член организации может принести пользу департаменту полиции, — если можно это назвать пользой.
Макаров. — Не всегда, я думаю, потому что член партии, скажем с.-р., не участвуя в какой-нибудь конкретной организации, тем не менее мог близко стоять к лицам, в ней участвующим, и давать о них известные сведения.
Председатель. — Это теоретически, но конкретно говоря, разве вы не чувствовали, как товарищ министра, что некоторые сведения, которые вам сообщались, не могли не исходить именно от активных членов партии?
Макаров. — Так как я не знал, в большинстве случаев, не только сотрудников, но и тех источников, из которых исходят эти сведения, то представлять себе конкретно, что давал тот или другой член партии, — скажем, начальнику охранного отделения, я не мог.
Председатель. — Во всяком случае, для докладов тогдашнему министру внутренних дел вы пользовались теми данными, которые вы получали через департамент полиции и которые поступали в департамент полиции от отдельных сотрудников.
Макаров. — Не совсем так. Порядок был несколько иной. Министру внутренних дел докладывал непосредственно директор департамента полиции, а не товарищ министра. Товарищ министра лишь присутствовал при такого рода докладах, — для того, чтобы быть осведомленным. Так было при П. А. Столыпине, так было и при мне, когда я был министром внутренних дел.
Председатель. — А когда вы были товарищем министра внутренних дел?
Макаров. — Я присутствовал при докладах директора департамента полиции министру внутренних дел, т.-е. П. А. Столыпину, но я лично не докладывал.
Председатель. — Значит, можем сказать, что директор департамента полиции делал доклад одновременно министру внутренних дел и товарищу министра. Можно сказать и иначе, — что докладывалось министру в присутствии товарища министра.
Макаров. — Это будет вернее, потому что с решающим голосом в этом отношении является министр внутренних дел. Это происходило обычно 2 раза в неделю.
Председатель. — Значит, 2 раза в неделю вы воспринимали с министром те сведения, которые докладывал вам директор департамента полиции?
Макаров. — Не совсем. Насколько мне известно, раз в неделю начальник петроградского охранного отделения бывал у министра внутренних дел лично и уже не в моем присутствии, а, так сказать, с-глазу-на-глаз докладывал ему об обстоятельствах, его собственно касающихся.
Председатель. — Теперь благоволите вспомнить более конкретные обстоятельства. Доклады министру внутренних дел и вам по вопросам о с.-р. партии и с.-р. организации делались тогдашним директором департамента полиции Трусевичем. Что вам докладывал об этом Трусевич?
Макаров. — Главное внимание министра внутренних дел обращалось тогда на террористическую деятельность. Организация с.-р. интересовала министра внутренних дел в той мере, в которой она участвовала в террористических действиях, но главные террористические действия и так называемые экспроприации производились максималистами. Вот эти-то действия, главным образом, и интересовали П. А. Столыпина; например, взрыв на Аптекарском острове, который был произведен организацией максималистов с Соколовым во главе. Затем разбойное нападение, выражаясь юридически, на Екатерининском канале, на углу Фонарного переулка. Вот какие посягательства интересовали, главным образом, министерство, а нормальной деятельностью пропаганды с.-р. оно нисколько не интересовалось.
Председатель. — Будьте добры вспомнить те террористические действия, которые исходили из партии с.-р. в то время, когда вы состояли товарищем министра внутренних дел.
Макаров. — Таких, по-моему, не было. Максималисты действовали как отделившаяся от с.-р. величина, а чисто с.-р. действий я не припомню; думаю, что их не было.
Председатель. — Позвольте мне вам напомнить, например, покушение на ген.-губернатора Гершельмана в Москве.
Макаров. — Да, это верно.
Председатель. — Затем покушение на московского градоначальника Рейнбота.
Макаров. — Это тоже при мне было.
Председатель. — Затем, в Петрограде убийство фон-дер-Лауница.
Макаров. — Да, это дело я близко знаю.
Председатель. — Покушение на ген.-майора Мина.
Макаров. — Это, кажется, сделала Коноплянникова на станции железной дороги.
Председатель. — Затем убийство начальника главного тюремного управления.
Макаров. — Максимовского.
Председатель. — Таким образом, — вы помните, — целый ряд террористических актов был при вас.
Макаром. — Да. Я затрудняюсь вам сказать теперь, — времени много прошло с тех пор, — в какой мере все эти действия или, по крайней мере, часть их могла быть отнесена к партийным действиям с.-р.
Председатель. — Вы, как и члены Комиссии, знаете приблизительно русскую политическую историю. Разве вы не помните, что те действия, которые я перечислил, были актами партии с.-р.?
Макаров. — Да, но дело в том, что в то время отдельные террористические действия, исходящие от с.-р., — если только они верно освещались и докладывались в то время в присутствии моем П. А. Столыпину, — должны были делиться на 2 категории: первое, это — партийные действия, т.-е. такого рода действия, которые санкционировались комитетом партии с.-р.
Председатель.— Т.-е. боевой организации.
Макаров. — Другие действия предпринимались на свой риск и страх отдельными представителями партии с.-р., — без санкции центрального комитета или боевой организации, правильнее говоря, иногда по предварительному совету с тем или иным членом центрального комитета.
Председатель. — Это факты, но какое значение придаете вы этим фактам?
Макаров. — Я полагаю, что такого рода единичные выступления, когда они исполнены лицом, принадлежащим к партии с.-р., но не санкционированы центральным комитетом, не могут считаться партийными действиями.
Председатель. — Позвольте мне напомнить вам факт. Ведь при вас была история с 7-ю повешенными, которая дала повод Леониду Андрееву написать свой рассказ.
Макаров. — Какое это дело?
Председатель. — Это, кажется, приготовление к покушению на Щегловитова и вел. кн. Николая Николаевича. Затем при вас было дело о приготовлении цареубийства — дело лейтенанта Никитенко — и другие.
Макаров. — Это дело мимо меня шло, потому что оно рассматривалось военным судом; так как Никитенко принадлежал к военным, оно мало шло по департаменту полиции.
Председатель. — Однако, там были и гражданские лица привлечены.
Макаров. — Да, были, но я не знаю близко этого дела.
Председатель. — Теперь позвольте задать вопрос: вы видели из докладов Трусевича, что, как директор департамента полиции, он является крайне осведомленным в делах партии с.-р. вообще и боевой организации, в частности?
Макаров. — Это немножко трудно сказать. Да, они известную осведомленность проявляли, но в тех делах, которые не получили строгой проверки в судебном порядке, очень трудно сказать, насколько эта осведомленность была точна.
Председатель. — Я напомню вам об одном обстоятельстве. Вы помните, что к тому времени, как вы состояли товарищем министра внутренних дел, относится заграничный съезд партии с.-р.?
Макаров. — Этого я не припомню точно. Вероятно, да.
Председатель. — Вы не припомните, что спустя ничтожное количество дней после этого съезда, едва достаточное для того, чтобы письмо дошло из Лондона в Петроград, вы были уже осведомлены об обстоятельствах этого съезда и даже, как товарищ министра, выражали некоторое удивление по поводу того, что так быстро имели возможность узнать о работах этого съезда?
Макаров. — О работах съезда всегда легче узнавать, потому что на съездах принимает участие значительное число лиц и предполагается, что среди них у департамента полиции или начальников охранных отделений могут иметься сотрудники. Следовательно, получение таких сведений всегда возможно. А вот, например, осведомленности о деятельности партии максималистов никакой первоначально не было. Взрыв на Аптекарском острове — это было совершенно неожиданно.
Председатель. — Меня интересует в данном случае вопрос об осведомлении касательно партии с.-р. Значит, вам было известно, что осведомленность подчиненных вам лиц о деятельности партии с.-р. действительно была большая? В частности, не помните ли вы, что вам были доложены не только постановления, вынесенные съездом, но и те постановления руководящего органа этого съезда, которые, в интересах партийной конспирации, вовсе не оглашались на съезде?
Макаров. — Этого я теперь припомнить не могу, но допускаю.
Председатель. — Вы допускаете. Но как вязалась в вашем представлении, с одной стороны, такая большая осведомленность в этом деле подчиненных вам органов, а с другой стороны, ряд террористических актов, которые не могли миновать боевую организацию, — ибо вы сами говорите, что нужно различать эти две группы?
Макаров. — Я объяснял это себе таким образом, что не в департаменте полиции, а у начальника петроградского охранного отделения имеется, повидимому, очень крупный сотрудник в партии с.-р., который стоит в центре и дает всякие сведения по этому предмету.
Председатель. — Вы так себе объясняли?
Макаров. — Да, потому что иначе такой осведомленности не могло быть. Но с другой стороны, те террористические действия, на которые вы мне изволили указать, объяснялись, по крайней мере с точки зрения начальника охранного отделения, как это докладывалось министру внутренних дел, тем, что это не есть действия террористические, исходящие из центра, из боевой организации, а более или менее самочинные действия второстепенных членов партии с.-р. Впрочем, не отрицаю, что одно из этих действий, насколько я припоминаю, было сделано в согласии с одним из очень высоко стоящих членов партии с.-р., — если не ошибаюсь с Натансоном; так мне говорили. Но во всяком случае это не есть террористические действия, исходящие из боевой организации с.-р. Это, конечно, можно объяснить себе и тем, что начальник охранного отделения, не предупредивший такого рода террористических действий, целый ряд которых окончился смертью должностных лиц, должен был так или иначе оправдать себя. Потому что иначе можно было бы сказать: «Что же вы смотрите, у вас никакой осведомленности нет». Вот как я объяснил себе это.
Председатель. — Несомненно, что подчиненный вам начальник петроградского охранного отделения старался оправдать себя этим. Но подчинявший его себе товарищ министра внутренних дел разве не старался его в этом отношении проверить? Разве товарищ министра внутренних дел, имея перед собою факт приготовления и даже покушения целой группы лиц, скажем — семерки, на жизнь Щегловитова, который занимал тогда пост министра юстиции, на жизнь вел. кн. Николая Николаевича, который был тогда командующим войсками петроградского военного округа не старался его проверить, исходя из того предположения, что столь крупный террористический акт не мог быть решон помимо боевой центральной организации партии?
Макаров. — Для этого у товарища министра внутренних дел нет никаких средств. Товарищ министра внутренних дел не может его проверить. Начальник охранного отделения говорит, что это есть единичное выступление, а не решение центра. Впрочем, по отношению, скажем, к этим 7 лицам, готовившим покушение на убийство Щегловитова и вел. кн. Николая Николаевича, я должен доложить, что тут у начальника охранного отделения надлежащей осведомленности не было.
Председатель. — Александр Александрович, вы лучше не ручайтесь за Герасимова, потому что Герасимов, как, я думаю, вам известно…
Макаров. — Я не ручаюсь, я говорю только потому, что это через меня проходило. Я должен сказать, что Герасимов не знал участников этого покушения (так он, по крайней мере, мне докладывал), настолько не знал, что в декабре месяце, в конце, и потом 1 января, он, как я знаю, всячески настаивал, чтобы вел. кн. Николай Николаевич не ехал 1 января в Царское Село, потому что у него нити нет…
Председседатель. — Но это свидетельствует об осведомленности или об отсутствии осведомленности?
Макаров. — Об отсутствии осведомленности.
Председатель. — Может быть, и об осведомленности? Ибо почему же начальник охранного отделения думал, что Николай Николаевич не может ехать 1 января? Очевидно, он усматривал в этом опасность?
Макаров. — Он говорил, что какая-то организация существует, что-то готовится.
Председатель. — Нужно прибавить: что-то готовится на первое января, готовится против вел. кн. Николая Николаевича. Иначе, почему вел. князю 1-го января не нужно ехать, а 2-го января можно?
Макаров. — Нет, и 2-го не нужно ехать. Чтобы вообще в это время сидел дома.
Председатель. — В это время?
Макаров. — Да, потому что при появлении его на улице может быть брошена бомба.
Председатель. — Это свидетельствует о некоторой, хотя и неполной, судя по докладу, осведомленности.
Макаров. — О некоторой осведомленности в том, что террористические действия направляются на вел. князя. Но откуда эти действия исходят — ему неизвестно, и только потом, путем наблюдений…
Председатель. — Вот меня и интересует положение товарища министра. Происходит целый ряд террористических действий, которые являются удачными в том смысле, что поставляемая ими цель, так сказать, достигнута. Происходят они на территории г. Петрограда. В Петрограде имеется петроградское охранное отделение, во главе которого стоит Герасимов. Герасимов, если не великолепно, то достаточно осведомлен о действиях партии с.-р. И вдруг указывается, что, будучи осведомленным об этих действиях, Герасимов ничего не мог сделать против целого ряда следующих друг за другом террористических актов. Каково же было ваше отношение к этому?
Макаров. — Я, конечно, этим был совершенно неудовлетворен. Но, тем не менее, установить что-нибудь взамен этого я был лишен возможности.
Председатель. — Но не вызывало ли это в вас желания уволить Герасимова, заменить генерала Трусевича?[*]
Макаров. — На этом вопросе останавливался и Трусевич, который, кажется, был не в особенных ладах с Герасимовым. Тем не менее, мне кажется, Петр Аркадьевич Столыпин, с которым мы об этом говорили, находил, что в такое боевое время все-таки опасно менять начальника петроградского охранного отделения, потому что всякое новое лицо, хотя бы и очень деятельное, тем не менее, пока войдет в курс дела, может упустить такие моменты, которые могут вызвать осложнения.
Председатель. — Вы можете утверждать, что часть докладов по политическому сыску начальник петроградского охранного отделения делал министру внутренних дел в ваше отсутствие?
Макаров. — Да, я могу это утверждать. Раз в неделю, если не ошибаюсь, — если не встречалось другой надобности.
Председатель. — А в докладах директора департамента полиции или этого самого Герасимова не указывалось, что в распоряжении Гершельмана[*] и департамента полиции имеется одно или несколько лиц, стоящих в центре с.-р. партии и даже боевой организации? Не указывалось это, как факт?
Макаров. — По отношению к департаменту полиции этого сказать нельзя, потому что у департамента полиции в то время агентуры вообще не было; такая центральная агентура была у Гершельмана[*] и у начальника петроградского охранного отделения, и, конечно, совокупность всех указанных обстоятельств наводила на мысль…
Председатель. — Это вы уже изволили сказать, но меня не это интересует, а просто — не сообщал ли Герасимов во время этих докладов, как факт, что агентура имеется в самом центре?
Макаров. — Может быть, когда-нибудь Герасимов этого и не скрывал, — я этого отрицать не могу.
Председатель. — Но не можете ли вы вспомнить об этих обстоятельствах точнее? Ведь это яркий факт. Трудно представить себе, чтобы возможно было его забыть.
Макаров. — Мне кажется, что он мне об этом говорил. Я припоминаю.
Председатель. — Говорил! Как же вы относились к этому вопросу?
Макаров. — Я относился к этому так, как относился вообще к агентуре, т.-е. в зависимости от того, в каком смысле данное лицо являлось агентом. Относительно боевой организации я этого не знал, ибо этого мне Герасимов не говорил, — он говорил о центре. Я относился так, что если этот агент не занимается террористическими действиями, вообще такого рода делами, которые явно подводят его под уголовные законы…
Председатель. — Но как укладывались в вашем сознании, в сознании товарища министра внутренних дел, вот эти два факта: факт вашего отрицательного отношения к провокации с такой щепетильностью, что вы считали недопустимой провокацию по постановке типографии, и на-ряду с этим тот факт, что у вас имеется агент в центре — ибо агент в центре это не есть просто агент в партии, в организации или вне организации, что даже не преступно. Агент в центре, это — несомненно преступно.
Макаров. — Я себе не представлял в точности положение этого агента. Я не разумел в точности, что этот агент есть член центральной организации с.-р. Я разумел, что это лицо — близкое к центру, а каково его значение, его положение в партии, — этого я не знал.
Председатель. — Когда вы узнали об Азефе?
Макаров. — Об Азефе я узнал незадолго перед тем, как разыгралась вся эта история с его разоблачением и его провалом, с речью Столыпина в гос. думе. Незадолго перед этим.
Председатель. — Тогда вы были уже…
Макаров. — Я был товарищем министра.
Председатель. — Вы были товарищем министра. Но как же вы реагировали на это?
Макаров. — В то время реагировать, в сущности, уже не было надобности. Я относился к этому в высокой степени отрицательно, раз я узнал, что Азеф принимал участие в таких действиях, как действия террористические. Но в то время Азеф из нашей сферы уже вышел, потому что в качестве провалившегося агента он исчез.
Председатель. — Азеф вышел из вашей сферы, но из вашей сферы не вышли те должностные лица, которые ведали Азефом?
Макаров. — Да.
Председатель. — Что же было сделано вами в отношении этих должностных лиц?
Макаров. — Видите ли, мне кажется, что Герасимов после этого ушел. Это было в самом конце моей деятельности. Я думаю, что это было в декабре 1908 г. Я точно не припомню, но это можно установить по дате речи П. А. Столыпина. Я не припомню, когда именно это было в государственной думе, но знаю, что в самом конце моей деятельности. 1-го января я ушел.
Председатель. — Значит, за такое крупное явление, в провокационном смысле, каким является Азеф, оказывался ответственным только один человек — Герасимов и никто больше?
Макаров. — Да. Потому что Азеф не был никогда ни в каких сношениях с департаментом полиции.
Председатель. — Но ведь Герасимов был в сношениях с департаментом полиции?
Макаров. — Герасимов скрывал Азефа. Он один сносился с ним. Азеф никогда не имел сношений ни с департаментом полиции, ни с вице-директором, ни с начальником особого отдела, — никаких сношений.
Председатель. — Но ведь Герасимов является подчиненным лицом. Герасимов имел над собой начальство, которое следило за его действиями.
Макаров. — Конечно. Вообще это должен был решать не я, а министр внутренних дел. Я думаю, что этот вопрос сам собой разрешился: Азеф исчез и перестал появляться, Герасимов ушел, и Трусевич после 1 января 1909 г. тоже ушел.
Председатель. — Простите, Александр Александрович, но ведь Герасимов ушел не на скамью подсудимых, а в отставку, и даже не в отставку…
Макаров. — Это было распоряжение П. А. Столыпина, — в то время, когда я уже не был товарищем министра.
Председатель. — Трусевич ушел не на скамью подсудимых, а в Сенат, и получал сенаторское жалованье.
Макаров. — Я не буду защищать Трусевича перед Комиссией, но я должен сказать, что в сущности вина Трусевича, с моей точки зрения, представляется весьма мало доказанной, потому что Трусевич никакого отношения по существу к Азефу не имел. Это были исключительно отношения Герасимова.
Председатель. — Так скажите, в частности, что вы знали по докладу Герасимова, и если что-нибудь знали, — то об отношении Азефа к покушению на Гершельмана и Рейнбота?
Макаров. — Нет, ничего не знаю.
Председатель. — А известна была вам фамилия, или, по крайней мере, факт существования очень выдающегося агента по партии с.-р. у начальника московского охранного отделения вашего периода, г-жи Жученко?
Макаров. — Я потом слышал о ней, по донесениям, когда уже был министром внутренних дел и когда она агентом не состояла. Она была провалена.
Председатель. — Но в бытность вашу товарищем министра?
Макаров. — Нет.
Председатель. — По донесениям тогдашнего начальника московского охранного отделения, Климовича, вы не усмотрели существования крупной агентурной силы около террористических актов, произведенных в Москве?
Макаров. — Нет, на меня такого впечатления это не производило.
Председатель. — А не отмечали вы большой осведомленности в отношении партии с.-р. и вообще террористических актов у московского охранного отделения и его начальника?
Макаров. — Нет. Вообще, я ведь не мог, в качестве товарища министра, вплотную следить за делами департамента полиции. Это было дело директора департамента полиции. Отдельных докладов у товарища министра директор департамента полиции не делал; товарищ министра лишь присутствовал при этих докладах. Может быть, министр иногда посоветуется о чем-нибудь. Затем товарищ министра, в качестве заведующего департаментом полиции, имел распорядительную деятельность, утверждал распоряжения, но за розыскной деятельностью, непосредственно, шаг за шагом, он не следил. Крупные факты он, конечно, должен был знать.
Председатель. — У господ членов Комиссии по этой части нет никаких вопросов?… Нет. Тогда мы перейдем к другому моменту, который нас интересует, именно — к 1912 г., когда вы изволили быть уже министром внутренних дел, и в частности к тому моменту вашей служебной деятельности, который касается Ленских событий. Будьте добры передать, в нескольких словах, очень сжато, что вам было известно, как министру внутренних дел, о Ленских событиях. Пожалуйста, только сжато, потому что тут у нас имеются стенограммы.
Макаров. — Видите ли, всех обстоятельств я не припомню.
Председатель. — Главным образом с точки зрения той позиции, которую вы заняли по отношению к этим событиям.
Макаров. — Я помню, что Ленское дело началось с забастовки, которая крайне затянулась. Затем последние события разыгрались без моего участия, а всю переписку трудно припомнить.
Председатель. — Я желал бы так поставить вопрос: в отношении Ленских событий было, как вам известно, несколько течений: одно было представлено Тульчинским, значит, министром торговли; другое течение было представлено местным губернатором, который делал известные распоряжения; третье течение представлялось ротмистром Трещенковым и жандармским управлением в связи с центром. Так вот вам, как руководителю такого центра, как заведующему полицией, нужно было избрать позицию по отношению к этим событиям, т.-е. выработать свой взгляд на это дело. Какой именно взгляд вы выработали на это дело?
Макаров. — Видите ли, экономическая сторона этого дела, т.-е. применительно к вашему выражению, направляемая Тульчинским, была мне чрезвычайно мало известна. Она лишь впоследствии, в объяснениях министра торговли и промышленности, а затем по ревизии сенатора Манухина, развернулась во всю ширь и получила достаточное уяснение. А события первоначально, если мне память не изменяет, событий эти в сведениях министерства внутренних дел были очень слабо представлены. Я очень опасаюсь, как бы не запамятовать. Итак, министр торговли и промышленности в Петрограде не освещал экономического, так сказать, положения рабочих в достаточной мере. Я, по крайней мере, никаких сведений по этому поводу, сколько мне помнится, от тогдашнего министра торговли и промышленности, Тимашева, не получал. А за сим, все сводилось, значит, к тем докладам департамента полиции, которые мне по этому поводу делались.
Председатель. — Но не было ли такого фактора, который определял бы ваше положение к делу, и также образ действий местной власти, например, местного губернатора?
Макаров. — Я бы сказал, что местная власть очень мало действовала. Моя точка зрения сводится к тому, что местная власть совершенно не вступила в свои права и не в достаточной мере прониклась серьезностью этого дела. Я говорю о серьезности вообще, — не только с точки зрения департамента полиции, с политической точки зрения, — нет. Тут была и экономическая, так сказать, серьезность. Я не знаю, и обвинять никого не хочу, но мне казалось, — это настолько серьезное событие, что оно должно было бы вызвать выезд губернатора на место для того, чтобы разъяснить все своей авторитетной властью, уладить, установить отношения, принять соответствующие меры. Этого не было.
Председатель. — Александр Александрович, вы, быть может, помните, что эти события, кончившиеся большим количеством смертей, взбудоражили русскую общественную жизнь и русский рабочий класс. В то время существовала государственная дума. Вам, как министру внутренних дел, надлежало высказать взгляд правительства на эти крупнейшие события, так сказать, с государственной точки зрения. Теперь вы мне говорите, что все сводилось к докладу департамента полиции. Позвольте спросить вас: каким образом представитель правительства, решаясь на такой важный акт, как выступление в государственной думе по вопросу государственной важности, по делу, имевшему такие последствия, ибо оно окончилось массовыми смертями, — каким образом, решаясь на такой важный акт, русский министр внутренних дел оказывается целиком во власти департамента полиции? Разве у министра внутренних дел не было, во имя внутреннего долга, побуждения разорвать эти путы, выйти за пределы этих сведений департамента полиции?
Макаров. — Вы изволили коснуться очень больного, конечно, для меня вопроса. Защищать своей речи, произнесенной в государственной думе, я не могу. Я сознаю, что я был односторонен, был самонадеян, был вследствие этого ложен в моей речи. Но я должен вам сказать, что это все-таки объясняется в значительной мере обстоятельствами, непосредственно предшествовавшими этой речи. Дело в том, что… — я вот не припомню хорошенько чисел, мне кажется, что Пасха совпала в том году с 25 марта, и перерыв занятий государственной думы был на 3 недели. Так это или нет?
Председатель. — Я вам могу сказать, что речь свою вы произнесли 11 апреля 1912 г., а справки относительно Пасхи у меня, к сожалению, нет сейчас.
Макаров. — Видите ли, у меня сердце не совсем в порядке, и от времени до времени этот недуг осложняется. Получается такого рода состояние, которое требует отдыха, и вот в великом посту у меня эти сердечные припадки возобновились. Я и просил тогда разрешения воспользоваться перерывом занятий в гос. думе и совете и уехать в Крым.
Председатель. — Пасхальным перерывом, как вы помните?
Макаров. — Да, перерывом занятий гос. думы и гос. совета. Если не ошибаюсь, перерыв был на три недели. Я получил на это разрешение с тем, чтобы текущие дела велись товарищем министра по принадлежности.[*] И вот в субботу на 6-й неделе…
Председатель. — Кто был тогда вашим товарищем?
Макаров. — Золотарев. И вот, в субботу на 6-й неделе, — я считаю, что это было 17 марта месяца, — я уехал в Крым и оставался там до получения ужасной телеграммы о том прискорбном и ужасном событии, которое произошло на Ленских приисках. Эту телеграмму я получил 6-го апреля, 7-го я выехал, 9-го приехал в Петроград, а 11-го выступал уже в государственной думе. Таким образом, уже краткий срок не давал мне возможности собрать по этому предмету более обстоятельные сведения и, быть может, даже вдуматься несколько серьезнее в те события и в тот ответ, который я дал государственной думе. Кроме того, в совете министров решено было, что выступят два министра, как впоследствии это и было: министр внутренних дел и министр торговли и промышленности. Вот почему, собственно, вся экономическая сторона этого дела от меня отпала, как подлежащая ведению министра торговли и промышленности, и у меня создалось впечатление — совершенно ошибочное, как я теперь сознаю и каюсь в этом, — что я должен отвечать только, так сказать, с полицейской точки зрения, даже не с точки зрения министерства внутренних дел. Вот чем объясняется содержание этой моей речи. А за те три недели, которые я пробыл в отсутствии, я ни одной телеграммы ни с Ленских приисков, ни из Иркутска не получал. Все донесения и телеграммы направлялись в министерство внутренних дел. И я, с своей стороны, ни единой телеграммы, ни одной бумаги ни ген.-губернатору Князеву, ни губернатору, ни ротмистру Трещенкову не писал. Вот что я должен удостоверить. Так что безусловно весь тот фазис события, который привел к таким ужасным последствиям, остался совершенно вне моего ведения.
Председатель. — Вы уехали в Крым, по вашим расчетам, когда?
Макаров. — 17-го марта, а вернулся 9-го апреля.
Председатель. — Директором департамента полиции в то время был кто?
Макаров. — Белецкий.
Председатель. — А ваши обязанности исполнял кто?
Макаров. — Золотарев. Я оговариваюсь, — это оформлено не было. Я получил разрешение государя уехать в Крым на лечение с тем, чтобы текущие дела вел товарищ министра по принадлежности.
Председатель. — Значит, вы утверждаете, что никаких распоряжений местным властям в связи с этими событиями вы не давали?
Макаров. — Не давал. Я за это время в Крыму получил одну телеграмму от Золотарева, а местным властям… — я ничего не знаю.
Председатель. — Не помните вы, чтобы директор департамента докладывал вам о некоторых мерах, которые принял иркутский губернатор?
Макаров. — Директор департамента не мог мне докладывать, так как он в Крым не приезжал.
Председатель. — Может быть, несколько позже, по приезде в Петроград, вы получили доклад о том, что иркутский губернатор дал ротмистру Трещенкову некоторые указания.
Макаров. — Это могло быть только до моего отъезда.
Председатель. — А вы не помните, чтобы вы задним числом приняли от директора департамента полиции Белецкого (он тогда исполнял эти обязанности) некоторый доклад по этому поводу? Я говорю — задним числом в том смысле, что вам, по возвращении, мог быть сделан доклад, составленный в ваше отсутствие.
Макаров. — Это я допускаю, потому что я приехал в понедельник, 9-го апреля… Решив выступать в государственной думе 11-го, т.-е. через день, и придавая громадное значение тому, что нужно выступить немедленно, я выслушал доклад по этому делу со всеми сведениями, которые в департаменте были, вероятно, в понедельник, а может быть, дополнительно, и во вторник.
Председатель. — Значит 9-го или 10-го?
Макаров. — Уже после того, когда все это произошло. Этот доклад имел значение в смысле осведомления меня — предоставления мне материалов для объяснений в государственной думе.
Председатель. — Я сейчас предъявляю вам — к сожалению, в копии — один документ. На этом документе имеется надпись — резолюция министра внутренних дел. Вот, благоволите по содержанию этого документа и по содержанию этой надписи, — хотя и по копии, — вспомнить: вы делали эту надпись или ее делал кто-нибудь другой?
Макаров. — Пожалуйста (рассматривает документ). Я чрезвычайно затрудняюсь сказать, так как 31-го марта я не был в Петрограде, это для меня совершенно ясно. Каким образом я мог положить эту резолюцию, если на подлинном действительно имеется резолюция министра внутренних дел, а не И. М. Золотарева? Я ничего не утверждаю; может быть, это и моя резолюция, но каким образом?
Председатель. — Но ведь это ваша надпись. По характеру резолюции, по содержанию бумаги она не могла быть сделана 9–10-го апреля.
Макаров. — Повидимому. Может быть, память мне изменяет, но 31-го марта этого не могло быть, я только 6-го апреля выехал из Крыма.
Председатель. — Может быть, вам в Крым посылали эту бумагу или как-нибудь с вами снеслись? Почему они пишут «министр внутренних дел»?
Макаров. — Вот этого обстоятельства я совершенно не помню. Я помню, что мне прислана была одна телеграмма Золотарева, но это обстоятельство у меня совершенно вышло из головы. Это можно было бы установить, потому что когда я клал резолюцию, я всегда обычно ставил число, — так что если это доклад от 31 марта, а моя резолюция, скажем, 3-го апреля, то можно допустить, что этот доклад ходил ко мне в Крым.
Председатель. — Но, к сожалению, этот доклад без даты.
Макаров. — Этого у меня никогда не бывало.
Председатель. — Мы затребуем подлинник. Значит, вы теперь не можете не признать, что ваши сведения, те факты, которые вы излагали, или некоторые из этих фактов, главным же образом освещение событий в вашей речи, действительности не соответствовали и что произошло это потому, что вы изображали дело по данным департамента полиции?
Иванов. — Исключительно по данным, вам доложенным?
Макаров. — В пределах доклада. Я ручаюсь, что все то, что мною было сказано, соответствовало докладу, не исключая даже той ошибки, которая приписывается в моей речи одному из членов второй гос. думы.
Иванов. — Это не соответствует данным, сообщенным вам департаментом полиции.
Макаров. — Я руководствовался только теми данными, которые имелись в департаменте полиции и которые мне были доложены.
Председатель. — Значит, на Лене расстреляли сотню рабочих, — то-есть не расстреляли, ибо стреляли, в смысле ответственности, не солдаты, а расстрелял ротмистр Трещенков. Это было 4-го апреля 1912 года. Каким образом вы могли, после вашего возвращения, телеграфировать местному губернатору о том, чтобы его распоряжения по этому делу отличались надлежащею твердостью и совершенной определенностью, не допускающими никаких колебаний? То-есть каким образом после этого расстрела вы делали еще распоряжения о твердости, о недопущении никаких колебаний в действиях властей относительно рабочих?
Макаров. — Твердость твердости рознь. Если твердость проявляется в пределах законных, не доходящих до такого рода явлений, как расстрел, происшедший 4-го апреля, то против этой твердости ничего нельзя сказать.
Председатель. — Против такой твердости ничего нельзя сказать. Но твердость, приведшая к расстрелу… Я не понял вас и ужаснулся.
Макаров. — Боже сохрани! Напротив, твердость в смысле строгого соблюдения закона по отношению к тем явлениям, которые будут иметь место. Во всяком случае, это обстоятельство уже не имело тогда особого значения в моих глазах, потому что через несколько дней после этого была назначена ревизия сенатора Манухина, и все это дело, в смысле расследования, передавалось в его руки.
Председатель. — Будьте добры, посмотрите, вы давали телеграмму такого содержания 10-го апреля? (Макаров смотрит.)
Макаров. Я хотел сказать, о какой твердости здесь говорится.
Председатель. Позвольте, я сейчас оглашу телеграмму. Она от 10-го апреля, а речь, которую произнес А. А. Макаров, была 11 -го апреля. Значит, Познанскому запрещается давать ротмистру Трещенкову какие-нибудь распоряжения без ведома губернатора. «Никаких сведений ротмистру Трещенкову не давалось департаментом полиции».
Макаров. — Очевидно, губернатор возбуждал вопрос…
Председатель (читает телеграмму). — Иркутск. Губернатору…
Шифр.
На № 34. Одновременно с сим департаментом полиции по моему поручению предложено полковнику Познанскому никаких непосредственных указаний ротмистру Трещенкову по делу Лензото не давать без ведома вашего превосходительства точка. Таких непосредственных указаний ротмистру Трещенкову не давалось и департаментом полиции точка. Признавая необходимым сосредоточить всю власть по этому делу до возвращения генерал-губернатора в ваших руках, я вместе с тем не могу освободить начальника жандармского управления от обязанности держать в курсе всего происходящего центральную власть точка. Вместе с тем прошу ваше превосходительство иметь в виду, что все дальнейшие распоряжения ваши по этому делу должны отличаться надлежащей твердостью и совершенной определенностью, не допускающей никаких колебаний. Ожидаю от вас также дальнейших сообщений о ходе забастовки и принимаемых вами мерах. № 189.
Подписал: министр внутренних дел Макаров.
Я бы хотел спросить следующее. Из содержания этой телеграммы видно, что в смысле властей там не все благополучно, что они сваливают друг на друга. А вы находите нужным Познанского до известной степени устранить, — чтобы на него не было ссылок, — губернатору сказать, чтобы он руководил ротмистром Трещенковым, и, вместе с тем, дать понять ему, что неправильно валить все на департамент полиции. Все это происходит 10-го апреля. Каким образом, раз вы были осведомлены по рапорту департамента полиции о некоторой неразберихе среди тамошних властей, — каким образом вы, Александр Александрович, так определенно стали в своей речи на защиту этих властей и так определенно выдвинули обвинение против толпы, которая будто бы напала на войско? Вы понимаете, в чем тут заключается вопрос? Ведь те события, которые вы излагали, они идут от этих властей. Ваша телеграмма констатирует разногласие и вообще неблагополучие в среде этих властей. Каким образом вы, как министр внутренних дел, придаете полную веру изложению событий этими властями?
Макаров. — Откуда же у министра внутренних дел могут быть сведения, как не от местных властей?
Председатель. — Вы отвечаете не на мой вопрос. Ведь если у министра внутренних дел нет сведений, — он скажет: «у меня нет сведений». Но каким образом, констатируя разногласие властей, министр внутренних дел в такой ответственный момент государственной жизни объявляет непререкаемость событий и фактов, сообщаемых ему в освещении этих властей? Министерство внутренних дел признает неверность источника, а министр внутренних дел, вступая на кафедру гос. думы, говорит: «вот что было» — без всяких оговорок.
Макаров. — Я толкую эту телеграмму не в том смысле, что министр внутренних дел признает неверность источника…
Председатель. — Ненадежность источника.
Макаров. — Я скажу — недостаточность. Я с точностью припомнить не могу, но так как тут написано № 34, то это есть ответ на телеграмму губернатора. Очевидно, губернатор жаловался на то, что ротмистр Трещенков находится вне сферы его действий, а получает указания от начальника губернского жандармского управления Познанского, неведомого ему, начальнику губернии.[*] И кроме того, Трещенков руководствуется указаниями, получаемыми из департамента полиции. Вот на это министр внутренних дел и говорит: «Познанский, не суйся, эти указания должен давать губернатор, ничего, помимо губернатора, делаться не может». Затем министр внутренних дел устраняет нарекания на департамент полиции. По докладу департамента полиции непосредственных указаний ротмистру Трещенкову департамент полиции не давал. Затем министр говорит: при таких условиях вы являетесь распорядителем всего дела, распоряжайтесь же им твердо, без колебаний. — Вот смысл этой телеграммы. «Твердость без колебаний» — потому что нельзя не признать, что в таком деле колебания только осложняют дело, ухудшают его и делают положение администрации более затруднительным. Тут говорится не только о твердости, тут говорится о «твердости без колебаний»; то-есть: выработайте себе известную определенную точку зрения и без колебания ее проводите, а для того, чтобы вы имели возможность это делать, департамент полиции не будет сноситься с Трещенковым, никаких указаний ему давать не будет; Познанский устраняется, и все его обязанности сводятся к тому, что он может осведомлять о том, что произошло, департамент полиции.
Председатель. — Позвольте поставить вопрос. Ведь вы, как министр внутренних дел, не могли не знать того, что известно всякому интеллигентному человеку, не могли не знать всех недостатков ваших местных властей, особенно властей, рассеянных по глухим окраинам России. Каким же образом после того, как эти власти искрошили там более сотни человеческих жизней, вы даете этим властям, да еще после телеграммы № 34, неизвестного, но предполагаемого вами содержания, такое распоряжение: «о надлежащей твердости» и «совершенной определенности», не допускающих никаких колебаний?
Макаров. — С моей точки зрения, самое большое зло в такого рода случаях может заключаться в том, что лица, заведующие каким-нибудь делом, сегодня принимают одну меру, а завтра — противоположную.
Председатель. — Вы не отрицаете знания вами того, что я определял, как общеизвестное. Каким же образом вы, как министр внутренних дел, не поставили тогда большого вопросительного знака над деятельностью этих властей, в руках которых находились рабочие Бодайбинских приисков?
Макаров. — У меня даже не вопросительный знак, а совершенно определенное убеждение было, что ни генерал-губернатор, ни губернатор не были на высоте своего положения. И если губернатор не ушел оттуда непосредственно после всего совершившегося, не был заменен другим лицом, более подходящим для этого, то лишь потому, что там была назначена ревизия сенатора Манухина и признано было неудобным при этой ревизии удалять губернатора, потому что губернатор должен был дать сенатору интересующие его сведения. Скажу более: увольнение губернатора при таких условиях могло бы указывать на то, что министерство внутренних дел хочет скрыть что-то от ревизующего сенатора, хочет убрать то лицо, которое могло бы осведомить его в смысле неблагоприятном для деятельности министерства внутренних дел и т. д. Затем я должен доложить, что осенью, уже после ревизии, начались небольшие, но, слава богу, счастливо окончившиеся осложнения на Ленских приисках. Я потребовал, чтобы губернатор выехал на место. Генерал-губернатор этого не захотел. Затем это тянулось, я на этом настаивал, и в конце концов губернатор написал, что этого уже сделать нельзя. Тогда я вызвал губернатора и хотел, чтобы он ушел.
Председатель. — Это было значительно позже?
Макаров. — Да.
Председатель. — Я слышал ваш ответ о том, что генерал-губернатор и губернатор не были на своем месте. Я невольно подумал: что же, вы считали, что только ротмистр Трещенков был на своем месте?
Макаров. — О, боже избави!
Председатель. — Вы этого не считали?
Макаров. — Нет.
Председатель. — Каким же образом вы в своей речи в гос. думе оправдывали ротмистра Трещенкова, объявляли действия его правильными?
Макаров. — Я уже сказал, что я своей речи не защищаю.
Председатель. — Вы ее не защищаете?
Макаров. — Я ее защищать не буду.
Председатель. — Значит, мы договорились. На этом и нужно прекратить. Но чтобы у нас не было ничего неясного, скажите — откуда у вас эта знаменитая фраза: «так было и так будет впредь»? Каково ее происхождение? Как вам пришло в голову сделать такой, по существу неправильный…
Макаров. — Я никогда своих речей не писал, а намечал себе что-нибудь в уме. Так что это вышло у меня совершенно случайно. С другой стороны, это было сказано не в том смысле, — отнюдь не в общем. Впоследствии придали этой несчастной фразе слишком, по-моему, распространительное толкование. А касалась она того, что если на маленькую воинскую часть, которой поставлена задача охранять порядок, наступает громадная толпа в несколько тысяч человек, то она находится в таком положении, что может быть этой толпой смята, и ей приходится стрелять. Вот смысл.
Председатель. — Имеются еще вопросы по поводу инцидента?… — Вопросы исчерпаны. Теперь мы перейдем к следующему пункту, относительно которого нам хотелось бы получить от вас исчерпывающее разъяснение. Вы помните, что в октябре 1912 года, когда вы занимали пост министра внутренних дел, в Москве происходили выборы в гос. думу?
Макаров. — Да, конечно, я помню.
Председатель. — Что вы можете припомнить по поводу отношения к этим выборам министерства внутренних дел и, в частности, департамента полиции?
Макаров. — Министр внутренних дел никакого участия в выборах не принимал. Думается мне, что департамент полиции не должен был принимать участия в выборах. Если вы назовете мне какой-нибудь определенный факт вмешательства в выборы, я вам скажу, знал ли я об этом или нет.
Председатель. — Мне хочется, чтобы вы сами припомнили. Я вам скажу несколько более конкретно. Дело идет о выборах от рабочей курии по Московской губ.
Макаров. — Я не принимал никаких мер к устранению кандидатов от рабочей курии.
Председатель. — Вы не принимали никаких мер к устранению кандидатов, но не принимали ли вы каких-нибудь мер к проведению кандидатов от рабочей курии?
Макаров. — Нет, и вообще в выборах никакого участия не принимал.
Председатель. — Но министерство внутренних дел? Департамент полиции?
Макаров. — Мне, по крайней мере, это неизвестно, я этого не знаю, совершенно не знаю.
Председатель. — Вы помните, что во время этих выборов директором департамента полиции был у вас С. П. Белецкий?
Макаров. — Да.
Председатель. — А товарищем министра внутренних дел, заведующим департаментом полиции?
Макаров. — Золотарев, Игнатий Михайлович.
Председатель. — В то время, когда ушел Курлов, вам известен был вице-директор департамента полиции, Сергей Евлампиевич Виссарионов?
Макаров. — Да.
Председатель. — Вы не припомните его служебную поездку в Москву, в связи с выборами?
Макаров. — Виссарионов довольно часто совершал различные поездки, — не только в Москву. Он ревизовал охранное отделение.[*] Но такой поездки, которая была бы в связи с выборами, не было.
Председатель. — Вы не припомните никакого доклада, сделанного вам директором департамента полиции в связи с выборами по рабочей курии?
Макаров. — Нет, не припомню.
Председатель. — Вам не известна фамилия Малиновского?
Макаров. — Известна. Это — член государственной думы.
Председатель. — А тогда была известна?
Макаров. — Нет, потом сделалась известна.
Председатель. — Когда?
Макаров. — Значительно позднее; незадолго перед тем, как он ушел из гос. думы.
Председатель. — Вы были в какой должности, когда он ушел из гос. думы?
Макаров. — Кажется, я уже был членом гос. совета.
Председатель. — Каким же образом и что именно стало вам известно об его уходе?
Макаров. — Мне стало известно, что он, будто бы, имел отношение к департаменту полиции, состоял его агентом, — что-то в этом роде. Мне стало известно, что он был в известных отношениях к департаменту полиции.
Председатель. — Вам только тогда стало это известно, когда…
Макаров. — Нет, мне это стало известно несколько ранее. Я стараюсь припомнить в точности, мне кажется, что это стало мне известно в конце министерства.
Председатель. — В конце вашего министерства?
Макаров. — Да.
Председатель. — Значит вы узнали это в конце 1912 г.?
Макаров. — В декабре месяце, вероятно. Ведь тут…
Председатель. — Александр Александрович, будьте добры вспомнить, при каких обстоятельствах вам стало известно это, потому что это обстоятельство довольно важное во многих отношениях.
Макаров. — Мне стало это известно, если не ошибаюсь, из разговора, скорее всего, с Белецким.
Председатель. — Скажем, из доклада Белецкого. Скажите, был такой доклад Белецкого?
Макаров. — Я постараюсь вспомнить. Я только могу утверждать, что по поводу выборов мне от Белецкого совершенно не было известно, кто он такой — этот Малиновский, какое он имеет отношение к департаменту полиции. Этого я совершенно не знал. А потом уже, может быть в декабре, вероятно в декабре, или после этого, как я ушел из министерства, — в точности припомнить не могу, но мне кажется все-таки в декабре, — мне стало известно.
Председатель. — Что именно?
Макаров. — Кажется мне, оттого я и сказал «из разговора», что не припомню, был ли это разговор официальный, т.-е. в то время, когда Белецкий был у меня с докладом по департаменту полиции, или же это был частный разговор. Я знаю одно: было так, что Белецкий не удержался и похвастал, как хорошо освещена социал-демократическая организация, потому что у него есть человек, чрезвычайно осведомленный даже и в думских делах социал-демократической фракции. Имени не называл и при каких условиях — тоже не говорил. Вот, что несомненно было, это я помню: именно такая форма, как я вам докладываю. Такая форма могла укладываться в докладе и, как я уже сейчас сказал, в разговоре.
Председатель. — Итак, вы были осведомлены от директора департамента полиции о том, что в числе агентов имеется член гос. думы?
Макаров. — Да, но я говорю, что не знаю, когда я был осведомлен: в качестве ли министра внутренних дел или после. Я не утверждаю…
Председатель. — Безразлично, во всяком случае вы сказали, что вы были осведомлены до вашего ухода из министерства внутренних дел.
Макаров. — Нет, я говорю, что форма, в которой директор департамента полиции сообщил мне это, допускает возможность осведомления меня и в качестве министра, и после.
Председатель. — Нет, позвольте, Александр Александрович, мне кажется, вы сказали, что были осведомлены об этом именно несколько ранее, в конце вашего пребывания в министерстве.
Макаров. — Повидимому, установить это в памяти точно не могу, но во всяком случае — это было в самые последние дни. Так оно и должно быть, потому что ведь, кажется, гос. дума была созвана 1-го ноября, а я этого долгое время не знал, так что это и могло быть в самые последние дни моего министерства.
Председатель. — Как же вы реагировали на это?
Макаров. — Да совсем не реагировал, потому что я не знал, в какой мере это факт и какое значение это имеет.
Председатель. — Вы не знали, в какой мере этот факт справедлив? Но когда директор департамента полиции докладывал вам о событиях на Лене, вы не ставили себе вопроса, насколько это справедливо, и гордо докладывали о них с трибуны. Когда же директор департамента полиции хвастает, что у него есть агент в гос. думе, вы объясняете свое ничегонеделание, непринятие никаких мер тем, что, может быть, сообщение это неосновательно, хотя для сомнения у вас не было никаких оснований.
Макаров. — Совершенно верно, оснований к сомнению не было, но в какой мере это — агент, в какой мере он получает деньги…
Председатель. — Хотя бы и в самой малой мере.
Макаров. — Я кредита никакого не ассигновал. Я не знал о Малиновском. Я не знал, в какой мере он является изменником своего собственного дела, той партии, которую он в то время представлял. Я не касался этого вопроса. Надо было все-таки считаться с тем, что он член гос. думы.
Председатель. — Вас не касался вопрос о том, не совершает ли этот человек преступления и не пользуется ли этим преступлением директор департамента полиции? Быть может даже, не вызывал ли он этого преступления?
Макаров. — Я этого не скажу. Потому что ведь, если он и был агентом директора департамента полиции, то обязанности его, как члена гос. думы фракции эс-эров, т.-е. социал-демократов, совершенно другие. Это было очень грязно, очень нечистоплотно с нравственной стороны, но каким образом он подходил бы под уголовное…
Председатель. — Вы следили, как министр внутренних дел, за деятельностью гос. думы, за выступлением ораторов?
Макаров. — Конечно, до известной степени.
Председатель. — До вашего внимания, или, по крайней мере, до вашего сознания дошли резко-революционные выступления, по открытии гос. думы, члена гос. думы Малиновского?
Макаров. — Я тогда понятия не имел о Малиновском.
Председатель. — Но во всяком случае в круг вашего внимания, как министра внутренних дел, входили также и выступления крайних левых в гос. думе?
Макаров. — Несомненно, но я не знал, что Малиновский является…
Председатель. — Так позвольте, я говорю о моменте, когда вы узнали, наконец, что этот революционер, призывающий рабочие массы к революционной деятельности с трибуны гос. думы, этот человек есть агент департамента полиции.
Макаров. — Но ведь со времени его выступления прошло тогда уже полтора месяца… Выступление Малиновского совершенно не казалось мне… Я не помню такого обстоятельства, чтобы резкие выступления социал-демократа…
Председатель. — Вы теперь не помните. А в декабре?
Макаров. — И тогда… не припомню…
Председатель. — Почему вы думаете, что и тогда не припомнили бы?
Макаров. — Потому что, если бы я тогда помнил, я обратил бы на это внимание. Но я внимания особого не обратил, потому что резкое выступление со стороны социал-демократов…
Председатель. — Простите, вам было известно, что Малиновский — лидер социал-демократической фракции?
Макаров. — Я этого не знал и вообще за деятельностью Малиновского не следил.
Председатель. — Не за деятельностью Малиновского, а за деятельностью думы. Ведь вы же министр внутренних дел были. Как же министр внутренних дел, который интересуется деятельностью департамента полиции, т.-е. деятельностью крайних партий, не знает лидеров фракций, в том числе и революционных?
Макаров. — Я вам скажу откровенно, что в деятельности думы меня лично интересовали не крайние течения.
Председатель. — Вас лично. Но как министра внутренних дел?
Макаров. — Как министра вн. дел меня интересовали общественные настроения более умеренные, потому что крайние левые — они, так сказать, находятся в особливом положении, и резкие выступления крайних левых уже совершенно естественны.
Председатель. — Простите, Александр Александрович, но я не понимаю, министр внутренних дел, повидимому, придает большое значение так называемому при старом режиме «спокойствию»; так называемое «спокойствие» нарушается, по терминологии старого режима, деятельностью революционных партий; член гос. думы, лидер одной из фракций гос. думы, призывает в своей речи к революционной деятельности, и вдруг оказывается, что обстоятельство это не только не интересовало министра вн. дел, но даже прошло мимо его сознания.
Макаров. — Нет, несомненно, в свое время это было прочтено, но весь вопрос в отношении к тому или иному из прочтенного: одно — то, что интересно, — должно остаться в памяти совершенно твердо и определенно, другое — то, что менее интересно, — забывается скорее. Выступления левых групп менее интересовали меня, как министра вн. дел, чем выступления более умеренных партий, оказывающих влияние на более распространенное общественное настроение. Мне тогда казалось, что так и полагается, чтобы эти выступления были резкие, а потому эти резкие выступления, хотя я о них и прочел в свое время, особенных следов в моей памяти не оставляли; настолько не оставляли, что — скажу вам совершенно по совести — я, например, даже не знал, что Малиновский — лидер левых с.-д.… Я припоминаю, что лидером был Чхеидзе и те из членов гос. думы, которые и в настоящее время…
Председатель. — Вам не известно, при каких условиях Малиновский должен был уйти из членов гос. думы?
Макаров. — Это было в то время, когда я уже не был министром вн. дел.
Председатель. — Но как член гос. совета, вы знали, что товарищ министра вн. дел, заведывавший в то время полицией, узнав о том, что агент директора департамента полиции является членом гос. думы, воспротивился пребыванию этого агента в составе гос. думы, — и агент департамента полиции, по требованию этого товарища министра вн. дел, сложил с себя полномочия члена гос. думы?
Макаров. — Нет, не знал. Это Золотарев — товарищ министра вн. дел?
Председатель. — Нет, дело идет о Джунковском.
Макаров. — Нет, в то время я уже министром внутренних дел не был, так что это обстоятельство мне совершенно неизвестно.
Председатель. — Александр Александрович, постарайтесь припомнить. Так сказать, напрягите в этом отношении вашу память.
Макаров. — Я стараюсь, но все это так давно было.
Председатель. — Не известно ли вам было еще до избрания Малиновского в члены гос. думы о том, что он агент департамента полиции?
Макаров. — Безусловно нет, безусловно нет. Я могу удостоверить это совершенно твердо и определенно.
Председатель. — Вам было известно тогда или, может быть, стало известно после, что вот этот самый агент департамента полиции, лидер фракции гос. думы, отбывал наказание за кражу со взломом из обитаемого помещения?
Макаров. — Нет.
Председатель. — Вы не припомните, не говорил ли, не докладывал ли вам кто-нибудь об этом обстоятельстве?
Макаров. — Нет.
Председатель. — Т.-е. вы припоминаете, что не докладывал?— Ну, покончим с этим пунктом. (Обращаясь к членам коммисии: — «Г.г., по этому вопросу не угодно спрашивать? — Нет».) Перейдем к другому вопросу. Скажите, пожалуйста, Александр Александрович, как вы относились к директору департамента полиции Белецкому?
Макаров. — Я Белецкого лично ведь совершенно не знал. Совершенно не знал. Белецкий служил в Западном крае, был известен Петру Аркадьевичу Столыпину, затем дослужился до вице-губернатора в Самаре и был взят Петром Аркадьевичем, после моего ухода, в тов. министра или в самом конце 1908 года или, вернее, в начале 1909 года.
Председатель. — Был взят в качестве?
Макаров. — Был переведен вице-директором департамента полиции. Так что я лично ни с предыдущей его деятельностью, ни с деятельностью его по департаменту полиции знаком не был.
Председатель. — Значит, до того, как он стал директором департамента, он года три подряд был вице-директором департамента полиции?
Макаров. — Да, с начала 1909 г. до конца 1912 г.
Председатель. — Нет, до февраля 1912 г., потому что, как вы припомните потом, Белецкий был во время Ленских событий.
Макаров. — Да, исправлял должность, 6-го декабря 1912 г., кажется, он исправлял должность вице-директора.[*]
Председатель. — Следующий вопрос.
Макаров. — Видите ли, я совершенно откровенно должен сказать, что Белецкий такой человек… Я допустил его к исправлению должности директора департамента полиции по двум соображениям: во-первых, он действительно редкий работник и работать может очень много, хотя для того, чтобы он не уклонялся в сторону, ни вправо, ни влево, надо держать его вот как. Так как я хорошо знал департамент полиции по должности своей, в качестве товарища министра, то я знал, что в этом отношении, в смысле возможности наблюдения за ним, Белецкий мне особенных затруднений не представит и что можно будет поручать ему разработать какой-нибудь вопрос, положение какое-нибудь, потому что, повторяю, это был работник, который чрезвычайно успешно и добросовестно работал. Таким образом, при мне он не позволил бы себе и, насколько мне известно, и не позволял себе уклоняться в сферу, скажем, не свойственную директору департамента полиции.
Родичев. — Считаете ли вы Белецкого способным сказать неправду?
Макаров. — Да, допускаю.
Председатель. — Потом скажите, пожалуйста, какое было ваше отношение к союзу русского народа?
Макаров. — Никакого отношения в существе. Т.-е., видите ли, относительно союза это неверно. Я бы сказал: к Дубровину никакого отношения. Марков у меня бывал, к Дубровину никакого отношения не было.
Председатель. — Это вы об отдельном человеке, а к организации?
Макаров. — Нет, не имел отношения.
Председатель. — Но чем же вы объясните ваше присутствие на съезде?
Макаров. — На съезде я был вероятно 20 минут, — по большой просьбе, — для того, чтобы своим отсутствием не причинить им демонстративно неприятностей. Потому что я был против этого съезда. Я находил его совершенно не кстати, потому что он раздражал общее настроение, создавал разлад в обществе, тогда как, напротив, все стремление наше должно было быть направлено к соединению русского общества, а не к разрыву. Когда были по этому поводу совещания между некоторыми лицами, я на одном из них присутствовал и высказывал мнение о том, что съезда этого собирать не следует.
Председатель. — Это был обмен мнений между кем и когда?
Макаров. — Тут был Левашев, тут был, кажется, Щегловитов, Марков, не знаю, — может быть, Римский-Корсаков.
Председатель. — Щегловитов, Марков, может быть, Римский-Корсаков… Это было когда?
Макаров. — Не могу вам сказать, но я знаю, что ко мне Левашев приехал — меня звать. Я только раз был и высказал свое мнение против съезда. Затем я приехал и определенно сказал, что они не должны обижаться, что я буду держаться в стороне, потому что этому делу не сочувствую. Несмотря на то, что я такого рода отношение проявил в совершенно определенной форме, несмотря на мое категорическое заявление, что в съезде я не участвую, меня выбрали в совет, против чего я протестовал. Я заранее им сказал, что никакого участия в съезде не приму.
Председатель. — Вы протестовали публично?
Макаров. — Нет, не публично, не выступал, а в разговоре им заявил. И в результате было то, что меня из этого совета вычеркнули, — потому что я им сказал, что участвовать не буду. Если вы просмотрите брошюрку, которая была тогда издана, то вы увидите, что в этой брошюрке моей фамилии нет.
Председатель. — Тем не менее, в газетах было объявлено о вас.
Макаров. — Да, я был избран, но на открытии я не был, уклонился. Несмотря на то, что я категорически заявил, что съезду не сочувствую и никакой деятельности не проявлю, на другой день я узнал…
Председатель. — Из газет?
Макаров. — Из газет. Я поехал и заявил, что совершенно напрасно, что я их предупреждал и что покорнейше прошу не считать меня членом совета. В результате и было то, что, в качестве члена совета, в брошюре, которая была издана, я не значусь.
Председатель. — Скажите, пожалуйста, почему вы считали нужным быть на предсъездном совещании Щегловитова, Римского-Корсакова?…
Макаров. — Я был на этом совещании, потому что я ведь примыкал к правой группе членов гос. совета. Собирались представители правой группы членов гос. совета и правой группы членов гос. думы.
Председатель. — Кто там был еще, кроме Римского-Корсакова?
Макаров. — Кажется, больше никто.
Председатель. — Замысловский был?
Макаров. — Замысловский, кажется, был.
Председатель. — Еще?
Макаров. — Не помню.
Председатель. — Не было ли приезжих из Москвы?
Макаров. — Кажется, Пеликан был. Из Москвы никого не было, а одесский Пеликан, кажется, был.
Председатель. — Вы говорите, что правые члены гос. совета и гос. думы были. Но ведь дело шло о созыве съезда союза русского народа, т.-е. политической организации. Какая же тут связь собственно, как вы себе тогда представляли?
Макаров. — Я понял так, что это было совещание правых политических деятелей о том, надлежит ли созывать съезд или не надлежит — с точки зрения правых. И вот я высказал откровенно, что я против съезда, считаю его несвоевременным, нежелательным. Этим кончилось мое присутствие на этом совещании.
Председатель. — Так что вы тем самым проявили некоторую деятельность, как член союза русского народа. Вы значитесь или не значитесь в списках союза русского народа?
Макаров. — Никогда, никогда.
Председатель. — Так что это было совещание некоторых правых деятелей по вопросу о том, надлежит ли созвать съезд организации, в которую некоторые из совещавшихся и не входили?
Макаров. — Я считал, что это политическое событие, может быть, очень мелкое, касающееся жизни правых групп, правых политических деятелей. Это было собрание лиц, которые не участвовали в самом союзе, но которые должны были высказать свой взгляд по вопросу о том, своевременно ли выступление с такого рода актами с точки зрения тактики правых. Я, по крайней мере, считал так, потому что никогда к союзу русского народа не принадлежал…
Председатель. — Почему вы считаете, что ваше отсутствие на съезде было бы демонстративной неприятностью?
Макаров. — По крайней мере, так они объяснили мне, упрашивая меня заглянуть на съезд хотя бы на полчаса, хотя бы на открытие.
Председатель. — Вы говорите, что вы не принадлежали к членам союза русского народа?
Макаров. — Я думаю, что большинство или очень многие — не члены. Я не знаю, был ли Щегловитов членом союза, я думаю — нет, а он был председателем съезда.
Председатель. — Вы знаете бытовое понятие последних лет старого режима, — бытовой термин «темная сила» и вы приблизительно знаете, какой смысл вкладывается в этот термин. С какими из этих темных сил у вас были известные отношения?
Макаров. — Я начну с самой главной темной силы — с Распутина. Никогда в жизни я его не видел, никогда с ним никакого дела не имел, всегда относился к нему совершенно отрицательно, несмотря на делаемые им попытки так или иначе получить свидание со мной. Я всегда эти попытки отвергал. Повторяю, я никогда в жизни его не видел.
Председатель. — Александр Александрович, когда вы были назначены на пост министра юстиции?
Макаров. — 7-го апреля 1916 года.[*]
Председатель. — И пробыли на этом посту до…
Макаров. — До 19-го декабря.
Председатель. — Скажите, чем определяется и чем, собственно говоря, объясняется ваше назначение на пост министра юстиции? Как случилось, что вы были назначены?
Макаров. — Отнюдь не темными силами.
Председатель. — Но как же все-таки? Для нас, русских граждан, ясно, что это был результат некоторых, может быть, перекрещивающихся влияний темных сил.
Макаров. — Эти силы относились ко мне всегда отрицательно.
Председатель. — Значит, не через посредство темных сил вы были назначены, а как же?
Макаров. — Я знаю, что предложил меня в качестве министра юстиции Штюрмер, а государь согласился на это.
Председатель. — Вы сменили какого министра?
Макаров. — Хвостова, который ушел в министерство внутренних дел, при чем открылось место министра юстиции. Штюрмер знал меня в качестве члена государственного совета.
Председатель. — Вам известно, при каких условиях состоялся переход Хвостова в министерство внутренних дел?
Макаров. — Тоже, вероятно, по докладу Штюрмера.
Председатель. — Вам не известны были внутренние отношения Штюрмера и Хвостова, которые заставляли Штюрмера добиваться перехода Хвостова из министерства юстиции в министерство внутренних дел?
Макаров. — Я думаю, что эти отношения потом создались, когда Хвостов был министром внутренних дел, а в то время, когда он был министром юстиции, таких отношений не было. Так я объясняю себе, от последующего переходя к предыдущему, потому что в то время я стоял вне политики.
Председатель. — Вам неизвестно, что сам А. А. Хвостов предполагал, что его перевод в другое министерство есть путь к его выбытию из состава министров?
Макаров. — Нет, не думаю. Я думаю, что он к этому выводу пришел потому, что по состоянию своего здоровья и по прежней своей деятельности он знал, что долго остаться министром внутренних дел он не сможет. Отсюда в качестве вывода он приходил к тому, что он скоро уйдет.
Председатель. — Вы рассказали о своих отношениях к Распутину,- т.-е., вернее, об отсутствии каких-либо отношений. А к другим силам?
Макаров. — Кто же еще? К Вырубовой, например, — никаких. Никогда у нее не был, никогда писем не получал и сам не писал.
Председатель. — А Воейков?
Макаров. — С Воейковым чисто официальные отношения были. Близких отношений не было.
Председатель. — Давно ли вы знакомы со Штюрмером?
Макаров. — Со Штюрмером сравнительно недавно. Я с ним знаком со времени назначения моего государственным секретарем, т.-е., значит, с 1-го января 1909 года. Это было знакомство по государственному совету. С тех пор, как я с ним знаком, мы встречались довольно часто. Первое время только по гос. совету, затем он у меня бывал.
Председатель. — Скажите, каковы были ваши отношения с кн. Андрониковым?
Макаров. — С кн. Андрониковым у меня были отношения. Князь Андроников оказал мне одну услугу чисто семейного характера: по поводу определения в учебное заведение моего единственного сына. Я вам должен сказать, что этот единственный сын — это почти все, что у меня в жизни есть. И вот это обстоятельство приблизило ко мне кн. Андроникова и дало ему возможность посещать меня, а мне преградило возможность прервать с ним отношения. Но должен сказать, что Андроников никогда меня ни о чем не просил, ни одной его просьбы я не исполнял, и все наши отношения сводились к тому, что он приходил и, по свойственной ему привычке, очень часто болтал, а я терял время, — что делать, — слушая его, и иногда вставлял какое-нибудь мелкое замечание. Вот это все мои отношения к нему, ибо я знал, что это человек, с которым нужно быть очень осторожным.
Председатель. — Нужно быть осторожным? К какому времени это относится?
Макаров. — Я еще был государственным секретарем.
Председатель. — Скажите, каким образом вам, государственному секретарю, оказывает поддержку в вашем семейном деле такой не занимающий никакого официального положения человек, как кн. Андроников?
Макаров. — Он имел тогда отношение к Мраморному дворцу.
Председатель. — Что это значит?
Макаров. — К Константину Константиновичу. А так как вопрос шел о поступлении моего сына в учебное заведение, то он мог оказать мне эту поддержку, на что я сам не пошел бы.
Председатель. — Скажите, вы были в переписке с кн. Андрониковым?
Макаров. — Он меня поздравлял со днем ангела, я его благодарил. Затем — единственное письмо, которое я от него получил, не поздравительного характера, было получено мной, я думаю, когда он начал издавать свой еженедельный журнал «Голос России». Тогда он мне написал письмо, что не соблаговолю ли я в первом номере выпустить какую-нибудь статью. Я написал, что благодарю, что не располагаю временем.
Председатель. — Скажите, вы не замечали, чтобы кн. Андроников стремился использовать свои отношения с вами?
Макаров. — Я этого не замечал.
Председатель. — Вы говорите, что вы смотрели на него, как на человека, к которому нужно относиться с осторожностью. Почему?
Макаров. — Потому что это из его разговоров вытекало. Он передавал разные сведения, от других министров исходящие, разные характеристики, более или менее откровенные, не всегда соответствовавшие действительности. Поэтому посвящать его в какие-либо дела — государственные или государственной Канцелярии — конечно, не приходилось, потому что он мог сделать из этого какое-нибудь употребление, не подходящее, с моей точки зрения, хотя бы в том смысле, что в своих разглагольствованиях он мог бы распространять то, что хотя и не составляло секрета, но разглашению не подлежало.
Председатель. — Так что вы считали себя обязанным держать его в стороне от ваших дел и от того, что входило в деловую сферу, т.-е. документов, бумаг и т. д.?
Макаров. — Бесспорно.
Председатель. — Каким же образом к этому Андроникову попали эти два официальных документа? Будьте добры объяснить это.
Макаров. — Я ему их не передавал.
Председатель. — Но вы убеждаетесь в том, что эти документы относятся к некоему факту, к которому вы имели отношение в качестве министра внутренних дел?
Макаров. — Ведь эти документы могли быть у меня и у В. Н. Коковцова, а откуда они попали к Андроникову — я не знаю. Могу только засвидетельствовать, что я ему этих документов, как и вообще никаких документов, не давал.
Председатель. — Не убеждают ли вас эти поправки (вы их не просмотрели достаточно) — поправки, сделанные вашей рукой, что эти документы взяты не у В. Н. Коковцова?
Макаров. — Я не говорю, что они взяты у Коковцова. Я говорю, что они могли быть взяты из двух источников. Эта поправка указывает на то, что он извлек их из министерства внутр. дел, потому что с такого рода поправками это могло быть, в качестве черновика, только в министерстве вн. дел. Но эти же поправки служат, по-моему, лучшим доказательством тому, что эти документы получены не от меня. Потому что, если бы он получил их от меня, он получил бы их, как копию, в той окончательной редакции, в какой они пошли из министерства внутренних дел к председателю совета министров. Очевидно, кто-то или он сам произвел изыскания в департаменте.
Председатель. — В каком?
Макаров. — В департаменте общих дел. Это по поводу Салазкина, — кажется, я теперь перепутал, — хотя это главное управление по делам местного хозяйства. Очевидно, ему кто-нибудь переписал их с теми поправками, которые существуют. А какое отношение он имел к департаменту или главному управлению, какие он там ходы имел, как мог он это сделать, — этого я не могу сказать. Очевидно, если бы эти документы могли исходить от меня, они были бы без поправок, и я утверждаю совершенно определенно, что я ему ни этих документов, ни каких-либо других не давал.
Председатель. — Вы изволили сказать, что вследствие личного одолжения, которое он вам сделал, вы не находили возможным разорвать эти отношения и даже в известной степени поддерживали их. Не приходилось ли вам отвечать ему тоже оказанием некоторых услуг?
Макаров. — Я припоминаю один такой случай. Когда я был министром внутренних дел, он передал мне один раз прошение о разрешении или, правильнее, о продолжении разрешения жительства в г. Петрограде одному еврею. Так как этот еврей проживал в Петрограде уже значительное количество лет, но ему выдавалось всегда разрешение на один год, то такого же рода распоряжение о разрешении еще на год я дал. Вот единственное прошение, которое у меня осталось в памяти.
Председатель. — А не принимали ли вы в 1914 году участия в личной судьбе кн. Андроникова?
Макаров. — Нет. По поводу чего?
Председатель. — Я имею в виду тот случай, когда его выставляли, так сказать, из министерства внутренних дел.
Макаров. — Безусловно нет.
Председатель. — Не помогали ли вы ему устроиться у Саблера в качестве чиновника особых поручений?
Макаров. — Нет, нет. Я с Саблером ни слова не говорил, я к нему не обращался.
Председатель. — Вы говорите, что переписка ваша носила совершенно личный характер. Не писал ли вам Андроников писем в связи с государственными делами?
Макаров. — Я этого не припомню. Но он всегда носился с разными государственными делами в своих разговорах. Может быть, он что-нибудь и написал, но несомненно ответа не получил от меня.
Председатель. — Какое у него было общественное положение?
Макаров. — Никакого. Чиновник особых поручений пятого или шестого класса при министерстве внутренних дел, потом пятого класса — при обер-прокуроре св. Синода. Он на меня лично производил впечатление человека, занимающегося какими-то делами или, вернее, проведением каких-то дел. Но каких дел? Так как я в эти дела не вникал и он ко мне не обращался, то я не могу сказать. Думается мне, что для поднятия своего авторитета, необходимого при такого рода деятельности, он и похвалялся тем, что может пойти то к одному, то к другому министру.
Председатель. — Но указание ваше на то, что он был чиновником особых поручений сперва при министерстве внутренних дел, потом при обер-прокуроре — это есть ответ на вопрос, чего он не делал, ибо по этим должностям ему делать ничего не приходилось. Позвольте считать ответом на вопрос, что он делал, ваше указание на то, что он занимался проведением каких-то дел.
Макаров. — Это мое предположение, потому что утверждать это я мог бы, лишь зная дела, которые он вел. Но он ко мне ни с чем не обращался, единственное дело, которое я знал, это — о каких-то орошаемых землях или о чем-то в этом роде, в Туркестане, где он получил какие-то земли от эмира Бухарского. Это мне известно, но только это. А чем он еще занимался, я не знаю и ничего не знал.
Председатель. — Был он с вами в переписке, когда вы были членом гос. совета, — в переписке по государственным вопросам?
Макаров. — Трудно сказать. Я могу удостоверить только, что я не находился с ним в переписке, а что он посылал мне какие-нибудь письма — это я затрудняюсь отрицать. Может быть, он посылал мне письма со своими соображениями по государственным вопросам, — это меня не интересовало.
Председатель. — Я должен вас спросить в интересах справедливости: вы ушли из министерства юстиции вследствие того, что представили бывшему государю ваши соображения о невозможности прекратить без суда дело Манасевича-Мануйлова?
Макаров. — Тут был целый ряд причин. Во-первых, я считаю, что мое положение к Распутину, совершенно мною не скрываемое, вызывало неудовольствие по отношению ко мне государыни императрицы. Вступая в министерство юстиции, я чувствовал, что, вероятно, недолго останусь, потому что это неудовольствие было и раньше, когда я был министром внутренних дел. Затем, к этому присоединился ряд ходатайств, — повидимому, исходивших от Распутина, как это чувствовалось, — о помиловании по разным делам. Некоторые из этих ходатайств поддерживались письмами ко мне по поручению ее величества. Дела эти были не такими, которые вызывали возможность помилования. Мною составлялись доклады в отрицательном смысле. Это, конечно, вновь создавало почву для неудовольствий. Засим, независимо от этого, я получил два высочайших повеления, которые по существу не исполнил: о прекращении дела Сухомлинова и о прекращении дела Манасевича-Мануйлова. При таких условиях оставаться министром юстиции не приходилось.
Председатель. — Пожалуйста, расскажите сжато, при каких обстоятельствах вы получили распоряжение о прекращении дела Сухомлинова.
Макаров. — Я получил высочайшую телеграмму.
Председатель. — Когда?
Макаров. — Она пришла на другой день после назначения Трепова председателем совета министров. Числа не помню, — кажется, в начале ноября. Это я помню потому, что я получил в этот день телеграмму от Трепова и догадался, что он назначен председателем совета министров. Он хотел меня видеть, просил меня к нему заехать; я заехал, поднес ему телеграмму и говорю: «Вот для вашего первого дебюта какого рода высочайшее повеление я получил». Мы по этому поводу беседовали, и решено было, что этого исполнить нельзя и что нужно принять все меры к тому, чтобы дело Сухомлинова не было прекращено. Мы согласились на том, что, так как он и я предполагали скоро ехать в Ставку со всеподданнейшим докладом, то он пошлет телеграмму государю о том, чтобы разрешено было не исполнять этого высочайшего повеления впредь до нашего совместного доклада. Такая телеграмма была написана и послана. Засим мы поехали туда 14 ноября, и там Трепов заготовил письменный доклад, который находится в министерстве юстиции. По этому докладу высочайшее повеление было оставлено без исполнения. Докладывал об этом Трепов, докладывал об этом и я.
Председатель. — В каких выражениях была составлена та телеграмма, которую вы получили?
Макаров. — Я затрудняюсь сказать, но подлинник вы найдете в министерстве юстиции. Второе высочайшее повеление было о прекращении дела Манасевича-Мануйлова. На это я написал всеподданнейшую докладную записку о том, что я прошу не приводить в исполнение этого высочайшего повеления впредь до моего личного доклада. Ответа на эту всеподданнейшую записку я не получил. Затем, по приезде государя сюда, я был уволен, так и не получив ответа.
Председатель. — Скажите, где находится эта записка, которую бы написали?
Макаров. — Тоже в министерстве юстиции.
Председатель. — По поводу невозможности исполнить?
Макаров. — Я не говорил о невозможности, я говорил о том, что прошу разрешения не исполнять впредь до моего доклада.
Председатель. — Я говорю про дело Манасевича-Мануйлова.
Макаров. — Да, я так и написал, что дело это отложено и что я прошу разрешить мне представить мои соображения.
Председатель. — В бытность вашу министром юстиции были такие дела, прекращения которых добивались до суда и по которым вы делали бы доклады бывшему императору в положительном смысле, т.-е. в смысле прекращения этих дел до суда?
Макаров. — Нет. Что касается дела Манасевича-Мануйлова, то в переписке министерства юстиции вы найдете письмо графа Ростовцева,[*] который пишет мне, что государыня императрица выразила желание или повеление о том, чтобы это дело было направлено к прекращению по 277 статье. На это я ответил, что считаю это незаконным.
Председатель. — Скажите, пожалуйста, какие наиболее рельефные случаи в отношении законопроектов были проводимы в бытность вашу министром юстиции по 87 статье?
Макаров. — По 87 статье?… Их не так много. Это был вопрос квартирный, затем о конфискации имуществ при обвинении в государственной измене, потом целый ряд законов об ограничении землевладения иностранных подданных, немецких выходцев, с дополнительными разъяснениями.
Председатель. — Это наиболее главные?
Макаров. — Да.
Родичев. — Выборы в Государственную Думу в 1912 году производились во время вашего министерства. Тут был план кампании вмешательства в выборы, который несомненно составлен заранее. Он составлен под вашим руководством?
Макаров. — Собственно, прямого вмешательства в выборы я не уполномочивал производить.
Родичев. — Но ведь вы сделали предположение, что будет известная кандидатура. Были сделаны предположения о том, что известное количество мест будет предоставлено духовенству?
Макаров. — Нет.
Родичев. — Вы этого не сделали. Но план кампании существовал во всяком случае?
Макаров. — Я скажу откровенно: план кампании был самый общий; план кампании сводился к тому, чтобы выбирать тех, кто сильнее в данной местности. Может быть с успехом проведен всякий от октябристов и правее. Вот что я должен с полной откровенностью сказать. Там, где октябристы достаточно сильны, — они и шли; где они были слабее, — шли националисты.
Родичев. — При помощи каких средств?
Макаров. — При помощи участия духовенства, должен сознаться.
Родичев. — А при помощи назначения выборов не в воскресные дни? При помощи вызова для объяснения чиновников?
Макаров. — Этого я не касался. Это уже губернаторы злоупотребляли, так сказать.
Родичев. — А скажите: злоупотребляя, эти губернаторы могли рассчитывать на снисходительное отношение министерства? На то, что министерство закроет глаза на эти злоупотребления?
Макаров. — Не скажу, что всегда. Потому что некоторые из тех действий, которые так предпринимались, — потом, когда многое выяснилось (ведь из Петрограда не видишь, что делается в Нижнем Новгороде или других губерниях), — конечно, вызывали осуждение.
Родичев. — Они вызывали осуждение. Но вам известно, что среди губернаторов, да и не среди губернаторов только, а вообще среди избирателей, составилось убеждение, что статья закона, карающая за злоупотребления по выборам, не будет действовать?
Макаров. — Я не знаю, на каком основании. Может быть, и создалось такое убеждение, но мне это неизвестно.
Родичев. — Скажите, вы следили в качестве министра внутренних дел за общественным мнением по этому вопросу или не следили?
Макаров. — Я следил. Но могу одно сказать, что, с моей стороны, никогда никаких намеков на то, чтобы эта статья прекратила свое действие, не было и быть не могло.
Родичев. — Скажите, пожалуйста, не было ли среди губернаторов убеждения в том, что участие в выборах, в оборудовании выборов в желательном для правительства смысле есть залог успеха по службе, и наоборот?
Макаров. — Может быть. Я этого не отрицаю.
Родичев. — Как же вы относились к этому общественному мнению? Содействовали ли вы образованию его или, наоборот, воздерживались от вмешательства в выборы, — противодействовали этому?
Макаров. — Я могу сказать, что я этому не содействовал. А противодействовать — нет, я не мог.
Родичев. — И той агитации, которая исходила из министерства внутренних дел, тоже не противодействовали?
Макаров. — У министерства внутренних дел агитации почти не было.
Родичев. — Вы значит отрицаете агитацию Харузина?
Макаров. — А в чем же она выразилась?
Родичев. — В распределении избирательных округов. Ведь губернаторам были даны инструкции.
Макаров. — Это не агитация, а деление на курии.
Родичев. — Назовем это выборным мошенничеством, как везде на собраниях это называлось.
Макаров. — Это выражение более соответствует, чем слово агитация.
Родичев. — Извиняюсь за неправильное выражение.
Макаров. — Простите, я не в таком положении…
Председатель. — Александр Александрович, ведь это вас не обидело. Я думаю, что выражение, которое употребил Ф. И. Родичев, не должно было нисколько вас обидеть, так как он употреблял его именно, как общеупотребительное выражение.
Родичев. — Это перевод французского выражения fronde électorale.[*] Ведь такое распределение округов, чтобы такой-то избиратель, действующий в видах правительства, очутился в округе, а избиратель, действующий не в видах правительства, очутился вне того округа, где он имеет влияние, — ведь такое распределение округов и губерний делалось с ведома министра?
Макаров. — Нет.
Родичев. — Нет? Это было, значит, без его ведома? Вы значит, игнорировали?
Макаров. — Я не игнорировал. Единственное участие, которое министерство внутренних дел принимало в выборах, это деление куриальное, но это по закону предоставляется министру внутренних дел.
Родичев. — А сокрытие! Были, например, получены сведения, что такой-то выборщик судился за кражу, и полиция сообщает эти сведения. Но выборщик этот желателен правительству — и лицо, сообщающее эти сведения, получает инструкцию: «молчи». Считали ли вы возможными подобные случаи?
Макаров. — Нет, я не знал. Но считаю возможным. В этих случаях, в этих злоупотреблениях участия не принимал.
Родичев. — Вы не принимали участия, т.-е., если бы такие случаи оказались возможными, то вы участия в них не приняли бы?
Макаров. — Нет.
Родичев. — Конечно, очень трудно утверждать отрицательное обстоятельство, как и отрицать его. Но не припомните ли вы вот какого обстоятельства, касающегося московских выборов: я утверждаю, что в министерстве внутренних дел было сообщено о выборщике, что он судился за кражу…
Макаров. — Малиновский?
Родичев. — И было издано распоряжение не противодействовать выборам.
Макаров. — Я этого распоряжения не делал. Больше ничего сказать не могу.
Родичев. — А если бы какое-нибудь лицо, давшее это распоряжение и принадлежавшее к министерству внутренних дел, сообщило вам, что оно вам об этом докладывало?
Макаров. — Я все-таки скажу вам «нет», потому что я такого обстоятельства не помню и утверждаю, что его не было.
Родичев. — Каково было ваше отношение к действиям губернатора Маклакова по Черниговской губернии? Были у вас жалобы?
Макаров. — В истории черниговских выборов и в истории столкновения Маклакова с председателем губернской управы Савицким я был не на стороне Маклакова. И даже больше вам скажу: я его вызывал. Но когда я его вызвал, то оказывается, — он был сделан министром внутренних дел, как раз в это время. Я его сам вызвал.
Родичев. — Там-то именно, в Черниговской губ., и случилось, что октябристам противодействовали, что октябристов, принимавших участие в выборах, выперли. Теперь я задам, с вашего разрешения, вопрос относительно выборов нижегородских. До вас доходили сведения о деятельности губернатора Хвостова?
Макаров. — Потом — да.
Родичев. — А в то время?
Макаров. — Во время выборов — нет, кроме дела Салазкина, которое я знал и которое рассматривал исключительно с юридической точки зрения.
Родичев. — И высылки?
Макаров. — Нет, не высылки. А в смысле возбуждения уголовного преследования.
Родичев. — О высылке во время выборов вы ничего не слыхали?
Макаров. — Нет. Я потом слышал.
Родичей. — После того, как она состоялась?
Макаров. — Нет.
Председатель. — Какие средства, на какие надобности и в каком порядке тратило правительство на выборы в ваше время? И сколько оно тратило?
Макаров. — Это очень трудно сказать, потому что те средства, из которых они тратились… Я, не скрывая, говорю вполне откровенно, что средства из этого фонда должны были итти на самые разнообразные потребности; для примера скажу: на грядковые культуры Демчинского, на издание газеты. Так что я затрудняюсь вам сказать цифры даже приблизительно. Могу сказать только одно: это документально подтверждено, что ни одна копейка у меня из этих денег не осталась.
Председатель. — Нет, нет, Александр Александрович. Но мне только хочется знать, на какие потребности это шло?
Макаров. — Могу вам удостоверить, что на известного рода потребности эти деньги не давались и не могли быть даны. Ну, скажем, покупки фиктивных цензов не было. Это я могу удостоверить совершенно категорически, потому что такие случаи, во-первых, совершенно неизвестны мне, а во-вторых, деньги эти мною были ассигнованы, я думаю, в конце октября, в начале ноября, может быть, в декабре 1911 г. При этих условиях тратить их на покупку ценза было невозможно, ибо по закону надо было владеть недвижимостью в течение года для того, чтобы иметь право на участие в выборах. Значит, уже одно это обстоятельство исключает возможность покупки ценза. Случаев подкупа я ни одного не знаю, но не могу отрицать. Может быть, что-нибудь в губерниях и делалось по этой части, — я этого не знаю.
Председатель. — В чье распоряжение ассигновывались эти суммы и какой отчет требовался от тех лиц, которым эти суммы ассигновывались?
Макаров. — Отчета не требовалось. Эти суммы были, в сущности, довольно ничтожны: на губернию — несколько тысяч.
Председатель. — А в совокупности, какую же сумму это составляло?
Макаров. — Трудно определить, потому что тут была масса других расходов. Трудно даже на глазомер определить.
Председатель. — Александр Александрович, вы пережили ведь двое выборов: выборы 1908 и выборы 1912 г.г.?
Макаров. — Да. В выборах 1908 г. я никакого участия не принимал. Там Крыжановский заведывал, товарищ министра.
Председатель. — Крыжановский был тогда товарищем министра?
Макаров. — Да. А тут, в 1912 г., заведывал ближайшим образом Харузин. Он докладывал мне то, что представлялось более или менее важным.
Председатель. — Александр Александрович, будьте добры, дайте мне, пожалуйста, указания, откуда можно вытребовать это производство? Где оно находится, где у вас оно в министерстве хранилось?
Макаров. — В министерстве было особое производство по выборам.
Председатель. — По какому столу?
Макаров. — Совершенно отдельно было. Заведывал тогда, кажется, чиновник, который имел отношение к главному управлению по делам местного хозяйства. Может быть, это департамент общих дел. Я не знаю, ведь это у товарища министра было, так что мне это неизвестно.
Председатель. — Так, значит, это было у товарища министра?
Макаров. — Да, у Харузина.
Смиттен. — До вас не доходили впоследствии сведения о том, что А. Н. Хвостов сделал распоряжение на имя губернаторов уничтожить, сжечь указания, касающиеся выборов?
Макаров. — Я читал. Но ни того, что было в газетах, ни того, что было в речах государственной думы, — я не удостоверяю.
Смиттен. — Вы не удостоверяете действительности такого обстоятельства?
Макаров. — Нет. Это как раз совпало с моим уходом. Государственная дума собралась в ноябре, а в декабре я ушел. Может быть, я ушел после этого.
Председатель. — Александр Александрович, тут есть еще некоторые обстоятельства. Они будут расследованы, и потом, через некоторое время, мы сделаем соответствующие выводы. Пока до-свидания.
XIX. Допрос К. Д. Кафафова. 14 апреля 1917 г.
Содержание: Циркуляр о еврейских кознях и их пресечении. Резолюция Белецкого. Роль Смирнова и Броецкого. Отзывы о Белецком и Хвостове. Почему циркуляр о евреях подписан одним Кафафовым. Распоряжение Штюрмера о выступлениях в думе Кафафова. Распоряжения департамента полиции о предотвращении еврейских погромов за время деятельности Кафафова. Ссылка на телеграммы о евреях, переданные в министерство внутр. дел, членом думы и ее председателем. О циркуляре Брюн-де-Сент-Ипполита насчет большевиков и меньшевиков.
* * *
Председатель. — К. Д. Кафафов, вы находитесь перед Следственной Комиссией, которая требует от вас объяснений, пользуясь правами 1 департамента государственного совета; вы своевременно будете допрошены судебным следователем в качестве обвиняемого или свидетеля. Там, где вы будете допрашиваться в качестве обвиняемого или в качестве свидетеля, вам будет предоставлено право не говорить того, что вас уличает; здесь же, так как мы вас спрашиваем в порядке затребования от вас объяснений, нет оснований от нас что-либо скрывать.
Кафафов. — Нет… Я готов.
Председатель. — Вы подали прошение на имя председателя. В нем изложены некоторые обстоятельства существа дела, обстоятельства вашей службы, — вы их подтверждаете целиком?
Кафафов. — Целиком.
Председатель. — Вы здесь правильно охарактеризовали свою службу и ваше отношение к ней?
Кафафов. — Да.
Председатель. — Я вам задал этот вопрос для того, чтобы не тратить время на повторение, — если вы подтвердите все, что заключается в этой бумаге… Вопрос, который мы вам ставим сейчас, который в данный момент нас интересует, это — вопрос о вашем отношении к известному циркуляру от 9 января 1916 года. Я боюсь, что вы в точности забыли его содержание, потому я вам сейчас его прочту…
Кафафов. — Я помню…
Председатель. — Я предпочитаю все же его огласить: он послужит нам в качестве канвы… «Губернаторам, градоначальникам, начальникам областей и губернским жандармским управлениям. По полученным в департаменте полиции сведениям, евреи посредством многочисленных подпольных организаций в настоящее время усиленно заняты революционною пропагандою, при чем, с целью возбуждения общего недовольства в России, они, помимо преступной агитации в войсках и крупных промышленных и заводских центрах Империи, а равно и подстрекательств к забастовкам, избрали еще два важных фактора — искусственное вздорожание предметов первой необходимости и исчезновение из обращения звонкой монеты. Исходя из тех соображений, что ни военные неудачи, ни революционная агитация не оказывают серьезного влияния на народные массы, революционеры и их вдохновители евреи, а также тайные сторонники Германии, намереваются вызвать общее недовольство и протест против войны путем голода и чрезмерного вздорожания жизненных продуктов. В этих видах злонамеренные коммерсанты несомненно скрывают товары, замедляют их доставку на места и, насколько возможно, задерживают разгрузку товаров на железнодорожных станциях. Благодаря недостатку звонкой монеты в обращении, евреи стремятся внушить населению недоверие к русским деньгам, обесценить таковые и заставить, таким образом, вкладчиков брать свои сбережения из государственных кредитных учреждений и сберегательных касс, а металлическую монету, как единственную якобы имеющую ценность, прятать. По поводу выпуска разменных марок евреи усиленно распространяют среди населения слухи, что русское правительство обанкротилось, так как не имеет металла даже для монет. Вместе с тем, еврейские агенты повсеместно скупают по повышенной цене серебряную и медную монету. По тем же сведениям, широкое участие евреев в описанной преступной деятельности, повидимому, объясняется стремлением их добиться отмены черты еврейской оседлости, так как и настоящий момент они считают наиболее благоприятным для достижения своих целей путем поддержания смуты в стране. Об изложенном департамент полиции сообщает вам для сведения. И. д. директора Кафафов. За делопроизводителя Броецкий. И. д. регистратора Виноградов». Благоволите вкратце изложить происхождение этого циркуляра: каково его значение, по каким основаниям, с какими целями, в пределах отправления какой служебной функции, с какими служебными задачами вы пустили этот циркуляр?
Кафафов. — Позвольте вам доложить, что я политики департамента не знал. Обычно я в департаменте политическим отделом не ведал, т.-е. в то время, когда я исполнял должность директора департамента (как старший по назначению вице-директор), политический отдел руководствовался распоряжениями товарища министра.
Председатель. — Кто был товарищем министра при вас?
Кафафов. — Много их было, а в то время — Белецкий (Моллов ушел: он три месяца пробыл директором при Хвостове и Белецком; тут началась война, и решили, что как болгарину ему нельзя оставаться)… Был назначен директором департамента Климович, который и вступил в исполнение своей должности в конце ноября или в начале ноября, точно сказать вам не могу… Тогда было получено из Ставки верховного командующего сообщение… (если не ошибаюсь, от штаба верховного командования 12-й армии и кажется на имя министра…). Изложено было таким образом: «Из штаба (кажется, 12-й армии) — из вполне достоверных сведений», и затем вот это сообщение, вошедшее в циркуляр…
Председатель. — Т.-е. как? Целиком все это?
Кафафов. — Целиком. Это было все изложено. Может быть, была перефразировка в департаменте полиции, но я сравнивал, когда запрос был в государственной думе, и обратил внимание…
Председатель. — Для какого же назначения, с какой целью была прислана эта бумага?
Кафафов. — Не то к сведению, не то на распоряжение, — от штаба верховного главнокомандующего. При чем было написано: «препровождаю на вашего высокопревосходительства распоряжение» или к «сведению», — я точно не помню…
Председатель. — К сведению, или на распоряжение кого? Министра внутренних дел А. Н. Хвостова?
Кафафов. — Да, А. Н. Хвостова. 26 ноября была эта бумага получена из штаба верховного командующего. И, как все бумаги такого рода — серьезные, — она поступила к товарищу министра Белецкому. И он положил на нее резолюцию. Я вам, конечно, слово в слово сказать не могу, но я ее проверял, и я вам смысл резолюции точно передаю. Было написано следующее: «немедленно секретным циркуляром сообщить это губернаторам и начальникам губернских и жандармских управлений, предложить им принять все меры к пресечению сего, а затем копию сего сообщить в департамент общих дел, как ведающий еврейские дела…» Тогда политическим вице-директором был Смирнов, И. К., а делопроизводителем, т.-е. заведующим особым отделом (так назывался тогда политический отдел) — Броецкий. Остальное делопроизводство называлось по номерам: № 1, 2, и так далее, политическое же делопроизводство меняло название: тогда, кажется, это было «особое отделение» департамента, и делопроизводителем был Броецкий. Когда он мне предъявил…
Председатель. — Простите, установим точнее эти подробности: И. К. Смирнов был кем?
Кафафов. — Он был вице-директором политическим.
Председатель. — Так он и назывался? И значит в его распоряжение поступали подобные дела?
Кафафов. — Большую часть департамента составлял этот особый отдел.
Председатель. — Кто заведывал этим особым отделом?
Кафафов. — Особым отделом заведывал Броецкий.
Председатель. — А вы не ошибаетесь? Здесь подписано: «за делопроизводителя»…
Кафафов. — Он — чиновник особых поручений. Тогда, должно быть, это называлось «особым отделением»: Климович его называл «особым отделением», Джунковский называл его «6-м делопроизводством»… Во всяком случае Броецкий был на правах делопроизводителя. Именно он принес это сообщение штаба и мне передал. Когда я прочитал эту резолюцию, я говорю, что этого исполнить нельзя. Зная губернаторов (от вас я скрывать не буду), я был в ужасе. Я политики не ведал… Я прошу, если можно, спросить их, — единственная моя просьба: в моем присутствии!…
Председатель. — Кого спросить?
Кафафов. — Смирнова и Броецкого.
Председатель. — Значит, эту резолюцию Белецкого принесли вам Смирнов и Броецкий?
Кафафов. — Я не помню. Кажется, оба вместе… Я говорю: «Исполнить нельзя, — зная губернаторов; если мы им пошлем сведения с указанием, что они сообщены из Ставки верховного главнокомандующего, да еще с предложением им принять меры к пресечению сего, то что из этого произойдет?». Я боялся тогда эксцессов, эксцессов чисто добросовестных… А провокации я никогда не предполагал. Я откровенным образом объяснял государственной думе о провокации: о ней я не думал. Но я боялся, зная губернаторов, которые иногда меня спрашивали, куда направить немцев, можно ли направить через румынскую границу, когда началась война. Если такую вещь спрашивали, то что же сделает такой губернатор с циркуляром со сведениями, сообщенными из Ставки верховного командующего, и с предложением министра внутренних дел принять решительные меры? Тогда я взял этот циркуляр, эту резолюцию для доклада Белецкому. Но нужно вам заметить, что докладывать Белецкому было чрезвычайно трудно. Он все время отвлекался телефонами, которые беспрестанно звонили, затем в перерывах подписывал бумаги, делал распоряжения. Это человек с чрезвычайной энергией…
Председатель. — Энергией сверх меры?
Кафафов. — Сверх меры и недюжинной энергией. Это было соединение двух лиц с необыкновенной энергией, это были два вулкана, которые извергали, так сказать, свою лаву в то время, — А. Н. Хвостов и он!…
Председатель. — А. Н. Хвостов и Белецкий — два вулкана, которые извергали лаву?
Кафафов. — Да. Это время, вы не можете себе представить, действительно, это было самое тяжелое время! Правда, 3 месяца правил Моллов. Когда я вступил, ведь это не был департамент полиции, это было министерство внутренних дел: оно делало все, все распоряжения были сосредоточены на нас!… Тут был и приказ составить какой-то продовольственный план, тут был приказ мне составить доклад о законопроекте об увеличении содержания чинам полиции… Ведь это кажется просто, а между тем, это — работа колоссальная! Надо было рассчитывать, сколько прибавить каждому. Приказано было: от 25% до 50%…
Председатель. — Вы не находите, К. Д., что вы уклоняетесь несколько от темы?
Кафафов. — Я уклонился, да… Я говорю: трудно было докладывать Белецкому, потому что он отвлекался, и телефоны, и распоряжения, и у него постоянно бывала масса народа на приеме — человек до 70… Тем не менее я ему доложил… (Я был с ним на «ты»: я поступил при Макарове и он был назначен при Макарове, тогда был товарищем министра Золотарев. Иногда мы вместе обедали, — так он и предложил мне быть на «ты»… По домам особенного знакомства не было, но относился он ко мне хорошо — отрицать этого я не буду…) — «Вот какая вещь!» — Я ему говорю: «этого исполнить нельзя, это вызовет большие затруднения!…» — «Тогда что же? — отвечает он, — не можем же мы складывать сведения, да еще такие!…» — «Департамент, — говорю, — есть учреждение, где сосредоточены всякие сведения, — следовательно, поэтому…» — «Ну, — говорит, — тогда сообщи…» — «к сведению», только к «сведению», — без «распоряжения»… Таков был приказ. Я вернулся, вызвал Броецкого и Смирнова и говорю: «Я докладывал товарищу министра, он приказал написать: «к сведению». Они говорят: «А как же? А вот тут резолюция!».— Я говорю: «Не исполнять ее». Я сам вспомнил эту его резолюцию и написал: «к сведению»… Я говорил, что, по моему, этого делать не нужно; я убеждал (это могут подтвердить!), что этого, по-моему, делать не следовало, — и «к сведению» — совсем не следовало!… Прошло некоторое время. Об этом циркуляре я забыл. Но вот, вероятно, 9 января, они пришли ко мне оба и говорят: «Надо исполнить. Чего же вы боитесь? Ведь мы сообщаем «к сведению», а не «на распоряжение»… Сведения эти мы получили из такого авторитетного источника, как Ставка верховного командующего, — ничего сделать нельзя! Распоряжения товарища министра вам известны… Это обычный прием департамента полиции: сведения, которые получены, если не требуется распоряжения, то минимум, что можно сделать, — сообщить к сведению. Ведь это секретный циркуляр… В циркуляре сказано: «получены сведения из авторитетного источника»… — Так они говорили. Я спросил Смирнова, он подтвердил. И я подписал. Броецкий мне указал, что так принято, как минимум, что делает департамент: получивший сведения сообщает их только к указанию, а не для распоряжений. Я говорил (и Смирнов подтвердит вам, что я лично говорил), что, по моему мнению, этого делать не стоит, но в виду того, что такое распоряжение было, и в виду настояния, — я подписал… О том, что я был против этого вообще, я говорю теперь не впервые: я это говорил и в департаменте, и ближайшие мои сотрудники подтвердят это, что я говорил, что циркуляр этот был издан вопреки моему желанию… Вы можете спросить делопроизводителя первого департамента Курлова (не генерала Курлова) и Волчанинова. Это более близкие люди, с которыми я обменивался мнениями и которые подтвердят, что я лично был против циркуляра… Должен заметить, что было два циркуляра, которые были изданы против моего желания. Другой циркуляр не имеет такого значения: это циркуляр «о русских талантах»… Когда мне принесли этот циркуляр, то я сказал Белецкому, что мы попадем в юмористический журнал, — это буквальные мои слова были. Циркуляр этот при докладе д. ст. с. Волкова был послан Белецкому…
Председатель. — Этот циркуляр относится к какому времени?
Кафафов. — Одновременно.
Председатель. — Тоже при Хвостове и Белецком?
Кафафов. — Да. Я говорю, что я два циркуляра подписал, за которые я страдал. Тот я скрепил, а подписал Хвостов: циркуляр о том, чтобы полиция разыскала таланты! Я говорил, что мы в «Стрекозу» попадем…
Председатель. — В каком смысле «таланты»?
Иванов. — В смысле талантливых людей…
Кафафов. — Это было высмеяно депутатом Милюковым в государственной думе, а затем Аверченко написал статью.
Иванов. — В какой области разыскивались таланты?
Кафафов. — В области искусства, литературы, музыки.
Председатель. — Вы не знаете происхождение этого циркуляра: каким образом товарищу министра могло прийти это в голову?
Кафафов. — Мне лично представляется, что эта мысль пришла старому чиновнику Волкову. Когда я получил этот циркуляр, он исполнял должность вице-директора. Он написал доклад Белецкому. Белецкий написал: «Согласен, представить к подписи самого министра». Бумаги, которые подписывал министр, скреплять должен был директор. Бумаги, которые подписывал товарищ министра, скреплял вице-директор…
Председатель. — Почему первый циркуляр — о евреях — не подписан ни министром, ни товарищем министра?
Кафафов. — Я сейчас доложу. В этом мое несчастье! Если бы я не возражал против резолюции, то циркуляр был бы подписан за министра Белецким и скреплен вице-директором, и я бы здесь не сидел. Тот циркуляр «о талантах» был исполнительный, т.-е. требовал известных рассмотрений и распоряжений… Распоряжение губернаторам и предложение может делать министр и за министра товарищ министра, а осведомительный циркуляр, т.-е., когда сообщается что-нибудь «к сведению», — подписывается начальником департамента. Так что, если бы была исполнена первая резолюция, против которой я возражал, было бы хуже для дела, а для меня было бы лучше… Но я тогда этого не предвидел. Этот же, второй циркуляр требовал распоряжений, чтобы полиция искала таланты, чтобы она их обнаружила. Это есть распорядительные действия. Белецкий считал, что это очень талантливая вещь, и поэтому решил, что лучше, если бы подписал министр, и министр подписал.
Председатель. — Почему ему самому было не подписать такую талантливую резолюцию?
Кафафов. — Его резолюция была — подать к подписи министру…
Председатель. — А не было у него мысли такую талантливую вещь перевалить на другого?
Кафафов. — Я не знаю…
Председатель. — Что Белецкий — глупый или умный человек?
Кафафов. — Он человек очень хитрый, очень талантливый и, как малоросс, упрямый.
Председатель. — И очень умный?
Кафафов. — Он не очень развит.
Председатель. — Вы очень волнуетесь… На чем вы остановились?
Кафафов. — Я остановился на том, что два циркуляра было издано вопреки моему желанию, не за моей подписью, и я об этом говорю всем. Теперь, значит, по отношению к первому циркуляру. Второй циркуляр был только смешон, и потому он был отменен, — я просил оба отменить, но отменили этот один.
Иванов. — Он был не послан?
Председатель. — Посланный был отменен, т.-е. поискали таланты некоторое время, но эти поиски министром были прекращены.
Кафафов. — Так вот обстоятельства, при которых первый циркуляр был послан. Затем появился запрос в государственной думе. Алексей Николаевич Хвостов хотел лично дать объяснения по этому циркуляру.
Председатель. — По еврейскому?
Кафафов. — Да. Но как раз, на счастье или на несчастье, он ушел из министерства в это время. Тогда вступил министром Штюрмер, который приказал мне выступить… единственно, что я мог сделать, так как я знал, в чем обвиняют, — я приказал собрать мне сведения: неужели в департаменте не было случая, чтобы предписывалось принять решительные меры к пресечению погромов? Я помнил хорошо, что такой циркуляр я подписал сам, исправляя должность; помнил потому, что это было в день, кажется, моего маленького семейного праздника, именин дочери и моих — 21-го мая. Действительно отыскали циркуляр 21-го мая 1915 года, когда директором был Брюн де-Сент-Ипполит, и, как оказалось, он уехал в Крым, увозя семью: в этот промежуток и был издан такой циркуляр. Я просил за 5 лет найти мне… Второй был от 9-го февраля 1916 года, из которого было видно, что он предписывал начальнику…
Председатель. — Т.-е. второй циркуляр?
Кафафов. — Нет, не циркуляр, а сепаратное распоряжение. Это второе было распоряжение начальнику полтавского жандармского управления, от 9-го февраля 1916 года. Были получены сведения, что ожидается погром, и ему было поручено принять меры и сообщить губернатору, чтобы пресечь возникновение этих погромов. Обе эти бумаги оказались во время исполнения мною должности директора. Других бумаг найдено не было…
Председатель. — А вы подписывали и другие?
Кафафов. — Циркуляр подписал я, а бумагу начальнику жандармского управления подписал Смирнов, не во время исполнения мною должности. Кажется, Смирнов подписал…
Председатель. — Когда вы выступали в государственной думе?
Кафафов. — Кажется, 11-го марта 1916 года. Конечно, я не говорил в думе о степени моего участия в этом циркуляре, потому что я не мог говорить: весь вопрос был не в этом, а в том, почему был издан такой циркуляр… Между прочим, я говорил (уже после того, как запрос был снят в думе), говорил В. А. Маклакову, с которым я встретился у товарища министра Степанова в приемной…
Председатель. — Запрос был снят после вашего выступления в государственной думе?
Кафафов. — В государственной думе я совершенно искренно объяснял те мотивы, которыми была вызвана посылка этого циркуляра. В отчетах это есть. Насколько были искренни мои объяснения в думе, вы можете спросить членов государственной думы, из которых многие потом обращались ко мне (не из правых); они мне подчеркивали эту искренность и полную откровенность моих объяснений, которые некоторым не понравились.
Председатель. — Когда вы давали объяснения, то товарищем министра продолжал быть Белецкий?
Кафафов. — Нет, его не было, он ушел раньше Хвостова, а в это время и Хвостова не было…
Смиттен. — Отношение штаба главнокомандующего, на которое вы ссылались, должно находиться в особом отделении департамента полиции?
Кафафов. — Непременно. Я его брал, когда шел в думу, и его видел Хвостов…
Председатель. — Почему этот циркуляр был без номера?
Кафафов. — Этого я не могу сказать. Он оставался в особом отделении и номер должен быть…
Председатель. — Как же вы дали свою подпись на этом циркуляре?
Кафафов. — В этом моя вина… Ведь мне говорят: «Из Ставки верховного главнокомандующего получены сведения. Что с ними делать?» Они говорят: в таких случаях минимум, что можно сделать, это сообщить власти на местах секретным циркуляром эти сведения…
Председатель. — Почему это минимум того, что можно сделать? Эти сведения на имя министра внутренних дел посылаются к сведению и, стало быть, министру внутренних дел предоставляется свободный выбор дать какое угодно ему употребление этим сведениям…
Кафафов. — Я говорю: за министра товарищ министра положил резолюцию: «сообщить с требованием принять меры».
Председатель. — Какие же меры здесь мыслил товарищ министра?
Кафафов. — Я не знаю… вероятно, проверку…
Председатель. — Меры не есть проверка. На языке бюрократии вряд ли можно не различать понятие — «принять меры» от понятия — «проверить».
Кафафов. — Предварительно, вероятно, проверивши…
Председатель. — Я просил бы вас изложить факты: вы по поводу циркуляра, который вас тревожил, имели беседу с Белецким. Постарайтесь вспомнить эту беседу.
Кафафов. — Я говорю, что резолюция положена такая, и это может вызвать нежелательные эксцессы. Он говорит: «сообщите к сведению». Он был очень занят вообще, и я даже не спрашивал, что он предполагает под этим…
Председатель. — Вы сознавали, что здесь ряд отрицательных явлений русской жизни, как-то: «задержка разгрузки товаров», «сокрытие товаров», «обесценение монеты», «обесценение русской валюты» и т. д. — все это взваливается на еврейскую нацию, и притом на нацию, по отношению к представителям которой были уже погромы: вы же отдавали себе отчет, какой это ужас?
Кафафов. — Верно… Дело в том, теперь я припоминаю, они мне указывали еще на следующее…
Председатель. — Кто они?
Кафафов. — Или Белецкий, или в особом отделении…
Председатель. — Т.-е. или Белецкий или Смирнов?
Кафафов. — Даже принесли мне телеграмму одного члена государственной думы на имя председателя думы, переданную ими на распоряжение министра: в этой телеграмме говорилось, что евреи скрывают золото или что-то в роде этого…
Председатель. — Кто этот член думы?
Кафафов. — Фамилию я сейчас не помню… Затем вторая бумага была на имя председателя думы от казака Екатеринославской губернии, тоже присланная на распоряжение министра председателем думы: там было сказано таким образом: «Тогда как мы проливаем кровь за родину, наши земли скупаются и т. д.». Мне они показывают: «Вот какие сведения получаются!» Это они послали на поверку губернатору…
Председатель. — Вы согласны, как человек, получивший высшее образование, что эти две телеграммы не давали ни малейшего основания делать выводы вопреки разуму?
Кафафов. — Я не говорю, что они давали основание, — я говорю, что эти сведения взяты из сообщений…
Председатель. — Но вы излагаете так, как будто сообщения этих двух лиц в ваших глазах оправдывали содержание циркуляра, который ничем оправдан быть не может.
Кафафов. — Нет… Но что получаются такие сведения…
Председатель. — По поводу запроса о ваших действиях были какие-нибудь расследования в недрах департамента полиции, или нет?
Кафафов. — Нет.
Председатель. — Вы говорили, что в департамент общих дел была послана к сведению копия этой бумаги из Ставки?
Кафафов. — Нет, это первоначальная резолюция.
Председатель. — Значит, в департаменте общих дел никаких сведений об этом не находится?
Кафафов. — Первая резолюция не была исполнена. Вы задавали мне вопрос по поводу содержания этого. Ведь я начал с того, что я был против посылки, даже против сообщения к сведению…
Председатель. — Какие дела были вообще в вашем ведении, — вы это объясняете в вашем прошении, но в данном случае, по существу, вы имели отношение к этому?…
Кафафов. — Никакого отношения! Только как исполняющий должность, когда подписывал те бумаги, которые мне давал при резолюции товарищ министра, например, к дворцовому коменданту. А остальные, более серьезные бумаги подписывал вице-директор. Я никакого отношения не имел…
Смиттен. — В бытность вашу в департаменте полиции, когда министром внутренних дел был Макаров, какой создан был порядок распоряжений, исходящих от Макарова? Он давал распоряжения в устной форме для исполнений, или в особых случаях излагал свои распоряжения письменно, в виде резолюции?
Кафафов. — Я должен сказать, что я этого хорошо не знаю. Я был назначен при Макарове, но я был внове; я вступил в апреле, а в ноябре он ушел. И мне было поручено расследовать действия начальника сыскной полиции в Харькове… Но я думаю, что все распоряжения Макарова были письменными. Что касается Маклакова, то это был министр-лирик, у него не было никаких резолюций, кроме: «неужели», «когда же», «доколе это будет», «неужели нельзя принять меры» и т. д.; рядом — резолюция Джунковского: «к делу». Что касается Хвостова, он, кажется, ни одной резолюции не дал. Все дела были у Белецкого. Белецкий, наоборот, большие резолюции делал. А. Н. Хвостов пробыл очень недолго. Он относился очень вдумчиво к вопросам.
Председатель. — 16 сентября 1914 года вы служили в департаменте полиции?
Кафафов. — Служил.
Председатель. — Вы имели какое-нибудь отношение к циркуляру, подписанному Брюн де-Сент-Ипполит, рекомендующему секретным агентам, находящимся в с.-д. партии, способствовать непримирению двух частей партий — большевиков и меньшевиков?[*]
Кафафов. — Когда я исполнял должность директора, мне эти вещи не доверялись… Простите, это не будет оглашено?
Председатель. — Мы не можем входить с вами ни в какие отношения по подобным вопросам. Я, однако, отвечу вам: сейчас это не будет оглашено. Но должен вам напомнить, что никаких тайн между вами и Комиссией быть не должно.
Кафафов. — Я хочу сказать, что когда я исправлял должность директора, то давались распоряжения политическому вице-директору докладывать непосредственно товарищу министра. Так было, например, при Джунковском. Когда Брюн де-Сент-Ипполит уезжал, был Васильев. Когда я вступил в департамент, политическим вице-директором был Виссарионов, и его, при Джунковском, сменил Васильев, впоследствии директор. Так вот, когда уезжал директор, я исполнял должность, и делалось так, что все по департаменту шло через меня, а по особому отделению — личные доклады.
Председатель. — В момент издания циркуляра, подписанного Брюн де-Сент-Ипполитом и скрепленного делопроизводителем Броецким, кто в это время был политическим вице-директором?
Кафафов. — Васильев.
Председатель. — По общему ходу дел в департаменте, политический вице-директор должен был иметь отношение к содержанию такого циркуляра?
Кафафов. — Вне всякого сомнения. Подписал он потому, что должны быть две подписи. Когда подписывал бумагу основную директор, скреплял делопроизводитель, как здесь. Если подписывает министр, скрепляет директор. Если подписывает товарищ министра, тогда сбоку должно быть подписано «вице-директор». Ни одна бумага не идет к директору, если на ней сбоку нет букв «в. д.» (вице-директор). Ни одна бумага не могла итти к вице-директору, если на ней сбоку нет буквы «К».
Председатель. — Так что на этом циркуляре, о котором я вас спрашиваю, должны быть буквы политического вице-директора Васильева?
Кафафов. — Да, — в углу, миновать этого не могло…
Председатель. — Нам хотелось бы знать, кем вы были до того, как вы поступили в департамент полиции?
Кафафов. — Я 24 года служил по судебному ведомству; затем был членом судебной палаты в Москве, а затем служил товарищем прокурора и оттуда меня пригласили сюда…
Председатель. — По вашему прошению?
Завадский. — Всякий человек, у которого несменяемая должность, назначается в порядке: «согласно прошению», которое фактически никогда не подается.
Председатель. — Но ведь это некоторое понижение: я тогда понимал, что это было по вашему ходатайству?
Кафафов. — Не по моему ходатайству, но так как я всегда служил в прокурорском надзоре, меня министр перевел.
Председатель. — Вы при каком министре перешли из членов палаты?
Кафафов. — При том же, при Щегловитове. Материально это было лучше: больше было содержание…
Иванов. — Вы, в качестве прокурора палаты, занимались по политическим делам?
Кафафов. — Я никогда политикой не ведал. Обвинения мне поручались, я был переведен в Москву, как обвинитель…
Председатель. — Вы были обвинитель по уголовным делам? Вот все вопросы, которые мы имели вам предложить…
XX. Допрос А. Д. Протопопова. 14 апреля 1917 г.
Содержание: Прозвище Протопопова в Царском Селе — Калинин. Обычай дворца называть приближенных прозвищами. Прозвища давал Распутин. Отношения Протопопова с Распутиным. Объяснение Протопопова по поводу прошений, написанных им в заключении. Протопопов и Балк в дни революции. Дополнение по вопросу об отношении Протопопова к Перрену. Благодарность корпусу жандармов за действия в дни революции. Телеграмма Балку от государя. Предупреждение Риттиха Протопопову относительно «рока» и влияние этих слов.
* * *
Председатель (обращаясь к Протопопову). — Сейчас у нас только один вопрос к вам. В ближайшем будущем мы зададим вам несколько вопросов, потому что здесь есть несколько новых обстоятельств, которые требуют ваших объяснений. Но сегодня один вопрос. Вы, может быть, не будете отрицать того, что в некоторых ваших сношениях там вы носили имя генерала Калинина?
Протопопов. — Калинина — да, но не генерала. Это было не в сношениях, а это прозвище было мне дано в Царском.
Председатель. — Кем?
Протопопов. — Затрудняюсь сказать, но думаю, что так меня прозвал Распутин.
Председатель. — Но вы говорите — в Царском. Распутин, хотя и имел отношение к Царскому, жил в Петрограде.
Протопопов. — Совершенно верно. Кто же мог меня звать Калининым? Это именно там, то-есть у Распутина, у Вырубовой или в придворных кругах.
Председатель. — Значит, и у Воейкова?
Протопопов. — У Воейкова? Не думаю. Может быть.
Председатель. — Зачем нужно было вашим знакомым или лицам, встречающимся с вами при дворе, называть вас не Александром Дмитриевичем, а генералом Калининым?
Протопопов. — Нет, господин председатель, генералом не называли, а просто Калининым. Это обычай такой был там: многих называли там тем или другим прозвищем.
Председатель. — Где? В Царском или у Распутина был этот обычай?
Протопопов. — Распутин ведь только являлся туда. Ну, быть может, и те, и другие прозвища выдумывал. Это он делал часто, а потом так и приклеивалось к человеку.
Председатель. — Вы не припомните, когда вас назвали этим именем?
Протопопов. — Решительно не знаю. Я узнал об этом только в самое последнее время.
Председатель. — Откуда вы это узнали?
Протопопов. — Не помню. Меня все так называли. Я это наверное знаю.
Председатель. — Вы говорите, что обычай таков был. Но каковы корни, каково происхождение этого обычая?
Протопопов. — Цели я не понимаю, не знаю, но обыкновенно так это делалось.
Председатель. — То-есть как обыкновенно?
Протопопов. — Так в разговоре называли.
Председатель. — В разговоре кого и с кем?
Протопопов. — И очень высоко даже.
Председатель. — То-есть?
Протопопов. — Я думаю, цари.
Председатель. — То-есть государь и бывшая государыня называли вас Калининым?
Протопопов. — Да.
Председатель. — Александр Дмитриевич, ведь дача прозвищ это также обычай тайных кружков. Это бывает принято в кругу людей, которые желают скрыть свои отношения.
Протопопов. — Тут, я думаю, не было такой цели. Нет, нет, думаю, нет.
Председатель. — Какая же другая цель могла быть?
Протопопов. — Мне кажется, просто такое остроумие, что-то такое в этом роде, шутка.
Председатель. — Но вы допускаете, что это прозвище дано было вам Распутиным?
Протопопов. — Да ведь Распутин всех постоянно называл, не меня одного.
Председатель. — Например?
Протопопов. — Я помню слово «Маленький», которое я слышал по отношению к одному из больших людей, к Юсупову.
Председатель. — К какому Юсупову, сыну, Феликсу?
Протопопов. — Они оба Феликсы.
Смиттен. — Сыну бывшего московского градоначальника?[*]
Протопопов. — Да. А потом, я не припомню сейчас, но постоянно были прозвища. Например, «Хвост» — Хвостов.
Председатель. — Какой Хвостов? Алексей Николаевич?
Протопопов. — Да, Алексей Николаевич.
Председатель. — Ну, а Штюрмера не называл ли он «Стариком»?
Протопопов. — Не помню прозвища, но оно было.
Председатель. — А Белецкого?
Протопопов. — Тоже было, не помню, какое. Но ведь наверху его не знали.
Председатель. — Но Распутин его хорошо знал?
Протопопов. — Да.
Иванов. — С какого момента вы получили это прозвище? С момента назначения министром?
Протопопов. — Не знаю.
Иванов. — И по телефону вас так называли?
Протопопов. — Кто? Никогда.
Иванов. — Распутин.
Протопопов. — Распутин ни единого раза не звонил.
Иванов. — А вы к Распутину звонили?
Протопопов. — Нет, не звонил ни единого раза.
Иванов. — Вырубовой вы называли себя своей фамилией?
Протопопов. — Конечно. Ведь это была приклейка какая-то к человеку, прозвище…
Иванов. — Так что вы всегда под своей фамилией звонили по телефону Вырубовой?
Протопопов. — Всегда.
Председатель. — Когда вы узнали, что и при дворе, очень высоко, как вы говорите, и у Распутина существовал обычай давать прозвища?
Протопопов. — Я не могу сказать, чтобы это было у Распутина, потому что я в кружке Распутина не бывал. Как я вам сказал первый раз, я Распутина видел раз 15–16. Я долго думал, и положительно это так и есть. Вообще моя близость к Распутину в значительной мере преувеличена.
Председатель. — Вы это говорили уже. Но не можете ли вы припомнить, при каких обстоятельствах вам была дана кличка «Калинин»? И когда вы узнали, что вообще существует обычай давать клички?
Протопопов. — Это постепенно так вышло. Постепенно я увидел, что дают разные клички.
Председатель. — Увидели при встречах с кем?
Протопопов. — То с одним, то с другим.
Председатель. — То-есть с кем? С членами государственной думы?
Протопопов. — Нет.
Председатель. — Александр Дмитриевич, отвечайте же прямо. При встречах с кем, у кого?
Протопопов. — У Вырубовой. Сестра была в лазарете старшая.
Председатель. — В каком лазарете?
Протопопов. — В Царском.
Смиттен. — Сестра Воскобойникова?
Протопопов. — Да. Она мне сказала, что есть несколько кличек.
Председатель. — А при встречах с бывшей императрицей?
Протопопов. — Императрица меня звала Калининым. Это факт, я это знаю.
Председатель. — Почему вы знаете?
Протопопов. — Потому что она сама, улыбаясь, мне говорила.
Председатель. — Постарайтесь припомнить, в какой связи.
Протопопов. — Вырубова в записках называла меня Калининым.
Председатель. — В какой связи императрица вам сказала, улыбаясь, что вы носите кличку Калинина?
Протопопов. — Я не припомню, но я знаю, что она называла меня Калининым.
Иванов. — А у Вырубовой какая была кличка?
Протопопов. — Я хочу сказать — Аня, но не знаю, Аня или нет.
Иванов. — А дети Распутина как вас называли?
Протопопов. — Я у них никогда не бывал.
Председатель. — А у самой императрицы была какая-нибудь кличка?
Протопопов. — Ее называл Распутин мамой, это знали и другие лица. Точно так же, как государя — папой.
Председатель. — А кто назывался Саной?
Протопопов. — Сана? Не знаю.
Председатель. — Будем считать, что этот вопрос выяснен.
Протопопов. — Господин председатель, может быть, вы мне разрешите сказать по прошлому вопросу?
Председатель. — По какому вопросу?
Протопопов. — О Перрене.
Председатель. — Это то, что есть в вашем прошении?
Протопопов. — Я сегодня стал писать другое прошение.
Председатель. — Я получил одно прошение, где вы говорите о Перрене; затем, что вы сделали?
Протопопов. — Я подписал приказ по корпусу жандармов. Это верно. А кроме того я припомнил, что в день, кажется 25-го или 26-го… в день, когда, я 27-го пошел в государственную думу, а это было накануне… Было уже очень большое движение, революция была в разгаре… И вот мне, в Мариинский дворец, позвонил Балк и говорит, что он думает с частью конных городовых, которые остались, пробиться в Царское Село. Буквально он мне сказал — «пробиться».
Председатель. — Это было какого числа?
Протопопов. — Кажется, 26-го. Это было в то время, когда мы были в Мариинском дворце.
Иванов. — В тот день, когда вы ночевали в государственном контроле?
Протопопов. — Да, в контроле. А в день, когда я ушел, — это было 26-го, — мне позвонил Балк в Мариинский дворец и говорит, что он думает пробиться. Я говорю: «А командующий войсками где? Отчего вы его не спросите?» Он сказал, что не может его найти. Тогда я ему посоветовал, — ведь я совершенно не был причастен к этим бывшим распоряжениям, —посоветовал так: «Как же вы, градоначальник, думаете уйти из Петрограда? Что же это такое будет?» Я посоветовал остаться. Он тогда сказал: «Я остаюсь».
Председатель. — Вот этот инцидент вы и хотели рассказать?
Протопопов. — Вот это я и хотел дополнить. А потом относительно Перрена: все отношения, которые у меня с ним были, они остались письменно, они должны существовать в тех письмах, которые я от него получал. В первом письме он мне написал… думается мне, что это в первом письме есть такое выражение: «С первого раза, как я вас увидел…» Он написал по-английски, а так как я затруднялся писать по-английски, то это письмо перевели в канцелярии, и в канцелярии оно должно быть.
Председатель. — В какой канцелярии?
Протопопов. — Министерства внутренних дел. Полный перевод, потому что у меня был русский перевод.
Председатель. — В каком же деле это может быть?
Протопопов. — Надо спросить Писаренкова. Он это помнит несомненно. Он составил ответ, который я послал Перрену. В первом письме он мне пишет: «Первый раз, как я вас видел». Отсюда ясно видно, что этого человека я не знал. Совершенно ясно! Он мне преподносил страшно хвалебные вещи; необыкновенные.
Председатель. — То-есть по вашему адресу?
Протопопов. — Дифирамбы мне говорил. Затем говорил, что моя планета — Юпитер, которая проходит под Сатурном, и разные гороскопические вещи. Это меня всегда трогало. Предсказания эти были всегда верные. И потом он предсказывал разные великие блага. А затем пишет, что это не есть какое-нибудь шарлатанство, а настоящая наука, и что он может мне действительно передать известную часть силы.
Председатель. — Александр Дмитриевич, может быть, мы подробности извлечем из писем, о которых вы говорите. Мы постараемся найти их, так как они служат вашим оправданием. Тогда мы вам их предъявим.
Протопопов. — Я буду очень благодарен. Все мои письма и телеграммы есть. И это все. Вы мне поставили вопрос, господин председатель, как я мог сноситься с человеком, который является, может быть, тайным врагом моего отечества. Это, действительно, меня задело, потому что если на мне много грехов, много в жизни зла я сделал, то этого зла не делал.
Председатель. — Александр Дмитриевич, ваша просьба направлена к выяснению вопроса, а это совершенно совпадает с интересами Комиссии — выяснить вопрос.
Протопопов. — Разрешите мне еще одно слово сказать. Когда я получал эти письма и отвечал, то, действительно, я тогда не знал, что в чем бы то ни было был замешан Перрен. И потом только я узнал это, через месяц после первого письма, когда он хотел приехать из Стокгольма и обратился ко мне с просьбой помочь ему. Тогда я сказал Васильеву: «Помогите ему приехать». Васильев тогда поехал в генеральный штаб, вернулся оттуда и говорит: «Там возражали, там есть обстоятельства по военному времени». Он мне сказал так мягко, что я не понял. Я себя проверял: у меня чувства гадливости и чувства опасения не получалось, вот почему я ему ответил. Васильев мне сказал слишком мягко. Он сказал: «Нет, это лучше оставить». Я понял так, что, может быть, это пустяки какие-нибудь.
Председатель. — Мне кажется, что одну деталь вашей мысли я уловил, а именно, что тон вашей телеграммы был вызван не только вашей обычной мягкой манерой обращаться к людям, но и мягкостью доклада Васильева. Так я вас понял?
Протопопов. — Да, господин председатель, совершенно определенно я это говорю.
Председатель. — Скажите, при чем же тут Куколь? В каком отношении он стоит к тем русским переводам писем Перрена, о которых вы пишете, что они лежали у вас на столе?
Протопопов. — Я показывал их ему.
Председатель. — Показывали Куколю? Почему?
Протопопов. — Показывал Куколю-Яснопольскому, потому что я ужасно интересовался совпадениями дней.
Председатель. — Какими совпадениями?
Протопопов. — Например, там сказано: 14, 15 и 16-го. Это есть открытие государственной думы. Это очень серьезные числа.
Председатель. — С чем же это совпадало?
Протопопов. — С числами, которые он писал. Он мне писал, что в такие-то дни мне нужно быть осторожным.
Иванов. — Это было пророчество?
Протопопов. — Именно пророчество. Удивительные совпадения.
Председатель. — Мы к этому вернемся, когда у нас будут письма.
Протопопов. — Васильеву я тоже говорил про Перрена, что несомненно; я не точно помню, но это несомненно.
Председатель. — Чтобы исчерпать ваше прошение, расскажите вкратце о вашем заявлении касательно приказа начальника корпуса жандармов.
Протопопов. — Это было так: у меня был начальник корпуса жандармов Николаенко…[*]
Председатель. — Когда это было?
Протопопов. — Это было 24-го или 23-го февраля.
Председатель. — Вы пишете в вашем прошении, что после 23-го или 24-го.
Протопопов. — Это верно. 23-го — это был первый день.
Председатель. — Значит, после того, как был у вас Николаенко, — а это было 23-го или 24-го…
Протопопов. — Это было после 23-го.
Председатель. — Вы подписали приказ, составленный в штабе корпуса жандармов?
Протопопов. — Где, вследствие тех потерь, которые случились в корпусе жандармов…
Председатель. — Когда?
Протопопов. — Кажется, 24-го.
Председатель. — Вследствие тех потерь, которые понес корпус жандармов во время событий?…
Протопопов. — Я подписал приказ. Содержание его есть благодарность и мое обещание доложить царю о том, как они себя вели.
Председатель. — Почему вы нашли нужным сообщить об этом Комиссии?
Протопопов. — Потому что я все время думал о том, какие распоряжения я в то время давал. Буквально никаких не давал. И затем еще с генералом Балком был разговор. Еще одно мое распоряжение, это — когда 25-го решено было закрыть… прервать занятия Государственной Думы. Тогда я поехал в градоначальство, помнится, для того, чтобы передать это командующему войсками.
Председатель. — Вы поехали, когда что именно произошло?
Протопопов. — Когда было решено прервать занятия государственной думы. Меры охранительные всегда принимаются, и вот я поехал туда, чтобы ему сказать… Тогда командующий войсками сказал мне, что он получил телеграмму от государя, в которой было изложено, что нужно подавить или, как сказано, остановить это движение, эти недопустимые волнения во время войны. Он получил и мне показал эту телеграмму.
Председатель. — Вы читали сами эту телеграмму?
Протопопов. — Читал.
Председатель. — Там были такие слова: «Повелеваю завтра же восстановить спокойствие в столице».
Протопопов. — Нет, не так.
Председатель. — А как?
Протопопов. — Повелеваю — это слово было… недопустимые беспорядки во время войны. Вот так я помню.
Председатель. — Александр Дмитриевич, нам в Комиссию передана господином комендантом крепости черновая тетрадь с вашей рукописью. Это ваши заметки о первых днях. Вы подтверждаете правильность того, что там написано?
Протопопов. — Безусловно. Я очень искренно писал все, что там было.
Председатель. — Александр Дмитриевич, так в ближайшие дни мы вас опять допросим, потому что явился целый ряд обстоятельств, которые нужно выяснить при помощи ваших объяснений.
Протопопов. — Слушаюсь, господин председатель. Я только об одном прошу… Я чувствую страшную тяжесть того дела, которое я на себя принял. Я сделался, не желая того, сделался каким-то чудовищем. И не скажу, чтобы я не делал таких вещей, которые заслуживали большого порицания. Но есть вещи, которых я не делал. Я злой воли не имел. Вот эта перреновская история — я определенно отрицаю ее, определенно, господин председатель. Еще скажу одну вещь. Быть может, я слишком несчастный сам, чтобы теперь людей винить, но я всегда был, насколько можно, религиозный человек, теперь же больше, чем прежде. Я могу присягу на кресте и евангелии принять, что говорю правду. Может быть, были дурные чувства ко мне со стороны разведки… Может быть, я их не виню…
Председатель. — Что это значит: дурные чувства?
Протопопов. — Дурные чувства, потому что меня безусловно ловили. Чего проще — прийти и сказать: «Что это такое? Вы послали телеграмму?» Это так просто. «Вот письмо, почему оно?» Это так просто. Ведь, когда я писал, я не думал о том…
Председатель. — Вы не припомните ли в связи с этим одного обстоятельства: когда вы имели доклад товарища министра по этому поводу?
Протопопов. — Положительно отрицаю.
Председатель. — Товарища министра Степанова…
Протопопов. — Степанова — нет! Про Мануйлова — да. Степанову я верил. Но мне никто не говорил. Если бы кто-нибудь сказал, я понял бы, что это опасно. Я шел прямо, интересуясь этими числами, я к этому возвращался — по числам. Потом, разрешите мне сказать: какая же могла быть цель? Какая цель? Я ведь никому вреда этим не сделал.
Председатель. — Вы о чем говорите?
Протопопов. — О том, что я получал от него письма. Они на-лицо. Вы посмотрите. Я посылал телеграмму, но посмотрите, что там написано. Ничего! Если плохо немного… Хотя бы это ultérieurement![*] Ведь это значит: после войны. Я сразу не понял, это не мое выражение, оно поставлено канцелярией. Когда вы меня спросили, я не понял. Ultérieurement[*] — это значит: когда война кончится, тогда это и будет…
Председатель. — Я бы думал, что нам не следует на этом обстоятельстве останавливаться. Мы разъясним это, когда у нас будут письма. На то, что вы говорите, я должен сказать, во-первых, что никакой присяги с целованием креста и евангелия в подтверждение правдивости ваших слов не требуется: она недопустима, а во-вторых, вы можете быть уверены, что все обстоятельства вашего дела и в особенности те, которые вы указываете, будут Комиссией исследованы и проверены. Вы должны быть поэтому совершенно спокойны.
Протопопов. — Я могу одно сказать: я третий раз допрашиваюсь, я глубоко чувствую, насколько вы ищете правду.
Председатель. — Вы чувствуете?
Протопопов. — Я чувствую и с радостью это скажу. Но есть одна правда, которая меня убила: это то, что я сказал в одном заявлении относительно изъятия писем. Это — распоряжение, которое я сделал. Я это сделал, а теперь спрашиваю, почему я это сделал? Зачем я сделал такую выемку, когда можно было положить в шкаф и достигнуть того же. Но я просто думал, что это клочки бумажек, которые никому не нужны.
Председатель. — Как вы не справились с законностью, прежде всего, как вы, министр внутренних дел, не поставили себе вопроса: «А правильно ли я это сделал? Мало ли, что мне этого хочется, мне, министру внутренних дел, или некоторым другим лицам»…
Протопопов. — Определенно говорю, что я в этом глубоко виноват.
Председатель. — Позвольте вам сказать: ведь вы связали свое имя с колоссальными событиями в России, и если они нас волнуют, как граждан, это невольно сказывается при допросе. Но вы можете быть уверены, что по существу это наше волнение нисколько не скажется, и мы останемся в известном…
Протопопов. — Это я чувствую, господин председатель, всей душой я чувствую благожелательное отношение.
Председатель. — Этого вы не имеете основания сказать. Тут есть то отношение, которое испытывает каждый человек, поставивший себе задачей отыскание истины. И мы, конечно, ее установим.
Протопопов. — Вы понимаете, господин председатель, мне хочется вам сказать, что я чувствую тот грозный рок, про который мне сказал Риттих. Он раз сказал мне в совете министров: «Знаете, опасайтесь, на вас глядит то, чего опасались римляне: на вас глядит рок».
Председатель. — Когда он вам это сказал?
Протопопов. — Он сказал это недели за 3–2½ до конца.
Председатель. — А вам не представляется, что в вашем рассказе, занесенном в вашу тетрадочку, о ваших скитаниях в дни революции, отразилась мысль Риттиха, что некоторый рок над вами тяготел?
Протопопов. — Я чувствовал это. Возьмите несчастного Перрена… это пустяк, а между тем выходит, что решается жизнь человека. Я не боюсь решить свою жизнь, вы это понимаете, но я говорю, как странно! Действительно, рок, действительно, рок! Ну что в этом, какая важность: гадальщик, которым я интересуюсь, а это играет роль…
Председатель. — Это мы условились установить, когда перед нами будут письма.
XXI. Допрос ген. М. А. Беляева. 17 апреля 1917 г.
Содержание: Обстоятельства назначения Беляева военным министром и на предшествовавшие служебные должности. Международная конференция представителей Италии, Франции, России и Англии. Представление Беляева бывш. государю и бывш. императрице. Сношения с Андрониковым. Встреча с Протопоповым. Вопрос о предполагавшемся выделении Петроградского округа в особую административную единицу. Участие генерала Каменского в выяснении этого вопроса. О переходе Кронштадта из ведения сухопутного ведомства в морское. Подчинение Петрограда и части Петроградского округа военному министру. Встреча Беляева с Распутиным. Записочки Распутина. Знакомство Беляева с Вырубовой. Вызов Беляева в Царское Село для беседы с Вырубовой и императрицей о Распутине и просьба предотвратить предполагавшееся на Распутина покушение. Поручение генералу Леонтьеву расследовать покушение на Распутина. Симанович и Ржевский. Удовлетворение ходатайства о переводе Дмитрия Распутина в Петроград для зачисления в кадр санитаров приказанием о «немедленном его командировании в распоряжение Царскосельского войскового начальника». Распутин — «благочестивый старец». Порядок, применяемый при переводе лиц из строевых частей в нестроевые. Официальное письмо Беляева Вырубовой в ответ на ее ходатайство.
Принципы и мероприятия в отношении немецких пленных. Забота об улучшении положения русских военнопленных. О немецких зверствах. Приезд германских и австрийских сестер милосердия. Вопрос о разрешении немецким военнопленным свободно, на честное слово, ходить по городу. Вопрос о возможности шпионажа со стороны германских сестер.
Льготы немецким военнопленным ради улучшения тяжелого положения русских пленных. О командировании постоянных сестер милосердия во вражескую страну. Доклад сестры милосердия Самсоновой в Красном Кресте о тяжелых условиях работы сестер в Германии. О немецких сестрах и сопровождавших их датчанах. Распоряжение Беляева о недопустимости досмотра немецких сестер на границе. Проект запроса относительно пленных германских офицеров. Принцип взаимности. Вмешательство б. императриц Александры Федоровны и Марии Федоровны в дела военного ведомства. Опровержение газетной заметки под титлом официального сообщения, три его варианта. Опасность шпионажа. Три категории военнопленных. Меры для облегчения положения военнопленных. Комитет под председательством Голицына.
О привлечении на работы германских военнопленных унтер-офицеров. Постановление Стокгольмской комиссии. Откомандирование 40.000 пленных для сельскохозяйственных работ в Бессарабскую и Херсонскую губ. и отказ министру торговли и промышленности дать воинские команды в 1.000 или 555 человек. Нужда в рабочих руках и необходимость укомплектования действующей армии. Утвержденный б. государем доклад об изыскании контингента старшего возраста, непригодного для укомплектования строевых частей, для отправления на сельско-хозяйственные работы.
Цель приезда Распутина к Беляеву. Просьба Беляева к Чрезвычайной Комиссии об изменении для него меры пресечения.
* * *
Председатель. — Генерал, вы допрашиваетесь Чрезвычайной Следственной Комиссией. Она имеет права первого департамента государственного совета об истребовании объяснений от должностных лиц. Современем, когда вас допросят, дело перейдет к судебному следователю, если вы будете привлечены в качестве обвиняемого. Тогда вы будете иметь право не отвечать на вопросы, вас изобличающие; теперь отвечать нам — ваша обязанность. Благоволите сказать: вы были военным министром с какого по какое число?
Беляев. — Указ был подписан 3 января. Я был военным министром до 28 февраля. 1 марта я был задержан. Фактически же я вступил лишь 5 января.
Председатель. — До 3 января вы были помощником военного министра или членом военного совета?
Беляев. — Я был назначен исправляющим должность начальника генерального штаба 1 августа 1914 г. Засим, оставаясь в качестве исполняющего должность начальника генерального штаба, при вступлении в должность военного министра генерала Поливанова, что было в июне 1915 г., я был назначен помощником военного министра и исполняющим должность начальника генерального штаба. Значит, первый этап исполнявшихся мною должностей — должность начальника генерального штаба, второй — помощник военного министра, исполняющий должность начальника генерального штаба. Кажется, указ последовал 22–25 июня 1915 г. Затем, когда был назначен военным министром генерал Шуваев, — это было 17 марта 1915 г.,[*] — я был освобожден от должности помощника военного министра и 2 апреля 1916 г. назначен начальником генерального штаба. Засим, 10 августа или 12-го, я был назначен членом военного совета с увольнением от должности начальника генерального штаба. В сентябре — приблизительно 18-го—19-го — я был командирован в качестве представителя в румынскую главную квартиру. Сначала я был вызван на заседание в Ставку, затем я уехал в Румынию и оттуда был вызван в Петроград телеграммой. 3 января я был назначен военным министром.
Апушкин. — Вы не можете рассказать, генерал, об обстоятельствах, при которых вообще происходили эти назначения: какие по этому поводу велись переговоры и чрез кого вы получали уведомления о предстоящих назначениях?
Беляев. — Мое назначение в августе исполняющим должность начальника генерального штаба последовало на время отсутствия начальника генерального штаба, уехавшего на театр военных действий. На мою долю выпала деятельность, главным образом, организационная, потому что, в сущности, между предположениями, которые существовали в генеральном штабе до войны, и теми, что выяснились во время войны, конечно, была большая разница: в целый ряд предположений мирного времени пришлось вводить ряд поправок. Когда вступил военный министр Поливанов, он мне предложил должность помощника военного министра. Как мне известно из его переписки, этот вопрос был решон, когда он был в Ставке. Но бывший начальник штаба верховного главнокомандующего, генерал Янушкевич, просил генерала Поливанова, чтобы, привлекая меня помощником военного министра, он сохранил за мною и должность начальника генерального штаба верховного главнокомандующего.
Апушкин. — Предложение это вы получили непосредственно от генерала Поливанова?
Беляев. — Непосредственно от генерала Поливанова через несколько дней после выезда его в Ставку. Засим был назначен военным министром генерал Шуваев. Это было в марте 1915 г.[*] Генерал Шуваев мне заявил, что будет просить меня оставить должность помощника военного министра, но сохранить за собой должность начальника генерального штаба. 2 апреля я был назначен начальником генерального штаба и освобожден от должности помощника военного министра. В феврале 1916 г. был возбужден вопрос о том, чтобы я был командирован на первую конференцию, которая назначена была в Париже на июнь. Но обстоятельства потребовали моего пребывания в Петрограде, и я не был командирован, а в мае или в апреле приезжали сюда французские министры — Альбер Тома и Вивиани. Все переговоры велись с ними мною потому, что ни генерал Шуваев, ни его помощник Фролов, ни прочие начальники главных управлений не знали иностранных языков. Поэтому и так как начальник генерального штаба объединяет целый ряд вопросов, связанных с вопросом о снабжении, все эти переговоры лежали на мне. И в той французской конференции, которая происходила в Ставке, кажется, 23 апреля, я принимал непосредственное участие. После этой конференции предполагалась английская. Сюда должен был прибыть в мае английский военный министр лорд Китченер. Он уже выехал, и, как вам известно, погиб в пути. В июне в Англии должны были вестись переговоры о финансовом соглашении. Когда я был начальником генерального штаба, я был командирован в начале июля заграницу, в Париж, для переговоров по вопросу о снабжении, а потом в Англию, где было заключено новое финансовое соглашение.
Председатель. — Почему вы были назначены членом военного совета?
Беляев. — Генерал Шуваев неоднократно говорил, что он со мной вообще не особенно хотел служить.
Председатель. — Позвольте считать, что вы назначены были членом военного совета потому, что генерал Шуваев не нашел возможным с вами служить, как с начальником генерального штаба. Когда вы были в Румынии, с кем вы поддерживали письменные сношения: с Петроградом, с Царским, с Могилевом?
Беляев. — Никаких сношений с Петроградом у меня не было решительно, исключительно служебные.
Апушкин. — Назначение ваше в Румынию исходило от Ставки, от его величества?
Беляев. — Дело происходило так, как я объяснял первоначально: генерал Шуваев был незнаком с иностранными языками.
Апушкин. — Назначение в Румынию вы ставите в связь с успешным выполнением вашей командировки в Англию?
Беляев. — Да, ставлю. По крайней мере, мне говорил румынский посланник, что меня предполагалось командировать во Францию. Он передавал мне, что ему сказал государь о предположении меня командировать во Францию, но так как интересы России в данный момент были тесно связаны с Румынией, выбор уполномоченного остановлен был на мне.
Апушкин. — Будьте добры сказать кратко о вашей роли, как представителя.
Беляев. — Я получил указания по этому поводу от генерала Алексеева. Выступление Румынии являлось расширением нашего фронта. Левый фланг наш опирался на границу Румынии. До 15 августа, до начала войны, мы были обеспечены нейтральной полосой, тогда как с выступлением румынской армии эта нейтральность уже утрачивалась, и, поэтому, всякая неудача румынской армии непосредственно отражалась на интересах нашего левого фланга. Как известно, состоялось вооружение Румынии, начавшееся успешно, но засим, в начале сентября, последовало очищение всех занятых в Трансильвании областей и отступление внутрь Румынии; возникло естественное опасение, что дальнейшее наступление неприятеля будет уже грозить нашему левому флангу.
Апушкин. — Я хотел знать о вашей роли в качестве представителя.
Беляев. — Я был командирован для того, чтобы согласовать деятельность нашей армии, нашего юго-западного фронта, с румынской армией, и для того, чтобы держать генерала Алексеева в курсе того положения, которое создается на театре военных действии. Затем, после занятия Бухареста, положение резко изменилось. Кроме того, изменилась и точка зрения на наши взаимоотношения с Румынией, после того, как генерал Алексеев был заменен генералом Гурко. Был установлен так называемый румынский фронт, во главе которого стоял генерал Сахаров. С тех пор роль русского представителя резко изменилась, она, в сущности, уже теряла значение. В это время — 17–18 декабря — был назначен верховным главнокомандующим съезд главнокомандующих всех фронтов. От румынского фронта нельзя было оторвать генерала Сахарова, и был назначен я. 11 декабря я выбыл в Ставку. Я уже раньше просил дать мне командование корпусом или дивизией — что будет признано возможным. 17 и 18 декабря в Ставке верховного главнокомандующего происходило совещание. Было принято решение относительно румынского фронта. Я был командирован в Румынию, чтобы доложить королю и сообщить генералу Сахарову о принятом решении. Тогда же я воспользовался моим пребыванием в Ставке и решил спросить о моем дальнейшем положении. Было решено, что я получу одну из дивизий, как только генерал Сахаров признает, что мое дальнейшее пребывание в Румынии излишне. Генерал же Сахаров перед тем просил, чтобы меня назначили командующим 47 корпусом. Государь сказал, что первая дивизия, которая откроется, будет моя. Я просил разрешения поехать на два дня в Петроград для переобмундирования; 20 декабря я выехал из Ставки, 21-го приехал в Петроград и 23 декабря выехал обратно в Румынию для того уже, чтобы командовать. Подъезжая к Румынии, близ станции Раздельная, я получил телеграмму от генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего, что по высочайшему повелению я должен был выехать в Петроград и там ждать указаний дворцового коменданта. Эта телеграмма мне ничего не говорила: когда я представлялся государю, когда я говорил, что прошу дать мне строевое назначение, просил дать мне корпус, государь сказал: «Обещаю, что вы очень скоро получите корпус, но, может быть, некоторое время прокомандуете дивизией». По приезде в Петроград, я переговорил по телефону с генералом Воейковым, и мне было назначено приехать в Царское Село 31 декабря. 31 декабря государь сказал мне, что у нас в январе собирается международная конференция представителей Италии, Франции, России и Англии. Она будет разделена на несколько секций. Государь признал необходимым, чтобы ко времени созыва этой конференции военным министром был я. Ему известно было мое участие в предшествующих конференциях, и, я помню, он сказал такую фразу: «Нынешний военный министр не говорит по-французски, а вы вели заграницей целый ряд переговоров». Вот единственный разговор в связи с моим назначением. Я спросил, что мне делать; государь говорит — «ехать в Румынию».
Председатель. — Скажите, вы были у государя и у Вырубовой?
Беляев. — Нет, у Вырубовой я никогда в жизни не был. Доклады военного министра государю были по вторникам и субботам. Во вторник был очередной доклад министра. 3-го был подписан указ, 4-го мне его принесли, 5-го я был назначен, и, следовательно, мой первый доклад был в субботу 7 января. В субботу я представлялся государю, и, по окончании доклада, государь сказал: «представьтесь императрице»; это единственный раз, когда я представлялся государыне.
Председатель. — Т.-е. после вашего назначения? Но до вашего назначения вы представлялись государыне?
Беляев. — Это было значительно раньше.
Председатель. — К этому мы потом перейдем.
Апушкин. — Вы знакомы были с князем Андрониковым?
Беляев. — Да.
Апушкин. — Вы получили от него приветственную телеграмму?
Беляев. — Нет.
Апушкин. — Вообще вы никакого приветствия от него не получали?
Беляев. — Андроников неоднократно надоедал, звонил по телефону, но я избегал иметь с ним какие-нибудь сношения: он всегда обращался с какими-нибудь просьбами. Он звонил мне по телефону, поздравлял, но не помню, чтобы я получал телеграмму.
Апушкин. — Раз вы с ним не были знакомы и избегали его, чем объясняется, что он вас так хвалил в обществе, в известных сферах, и рекомендовал вас?
Беляев. — Я затрудняюсь сказать. Я говорю, что лично у меня было к нему неприязненное чувство. Дело в том, что в 1909 г. я довольно продолжительное время исполнял должность начальника главного штаба. Это было в период, когда он был довольно близок к бывшему военному министру, генералу Сухомлинову. Он постоянно обращался ко мне с целым рядом просьб и даже говорил, что делает это по указанию военного министра… это было, кажется, в 1909 г. Просьбы эти были мне в высшей степени неприятны, они касались отдельных лиц; исполнять их было нельзя. Я внимательно выслушивал его и в деликатной форме отклонял его просьбы.
Апушкин. — Когда вы были в Лондоне на конференции, которая должна была заключить заем, вы встречались с Протопоповым, впоследствии министром внутренних дел?
Беляев. — В Лондоне я его видел только один раз. Я был с визитом у посла и, помню, в передней мы встретились и поздоровались.
Председатель. — Когда вы встретились с Протопоповым?
Беляев. — Это было в 1916 г. Я выехал 9 июня из Петрограда, мне нужно было проехать через Лондон в Париж. Я поехал в Лондон, пробыл там 4 дня и поехал в Париж. Вернулся — кажется, 30 июня — в Лондон, где пробыл довольно долго.
Председатель. — Тут вы и встретились с Протопоповым?
Беляев. — Это была не встреча. Я отлично помню, что в то время, когда министр финансов Барк был в кабинете у посла, меня просили пройти к жене посла, и тут я увидел Протопопова.
Апушкин. — Так что миссии бывшего министра финансов Барка и ваша, как представителя военного министерства, не имели чего-либо общего с нашей парламентской делегацией?
Беляев. — Абсолютно ничего. Парламентских делегатов еще не было.
Апушкин. — Однако, вы встретились с одним из них. Вы никакого отношения к ним не имели?
Беляев. — Никакого.
Апушкин. — От бывшей императрицы Александры Федоровны вы не получали никаких выражений ее признательности за вашу службу?
Беляев. — Когда я был отчислен от должности начальника генерального штаба, то я получил письмо от управляющего ее делами графа Ростовцева[*] о том, что императрица мне пожаловала свой портрет.
Председатель. — Чем объясняется такое внимание?
Беляев. — Это объясняется вот чем. Императрица и кн. Голицын стояли во главе комитета по поводу содействия нашим пленным, находящимся в Германии и Австрии. Вообще вопрос о военнопленных находился в ведении генерального штаба, и, поэтому, весьма часто кн. Голицын обращался ко мне. Мне было сказано, кажется, и в письме, и впоследствии, когда я поехал к Ростовцеву[*] благодарить, что это «за внимание к вопросам о пленных».
Апушкин. — Будьте добры сказать по вопросу о предполагавшемся выделении Петроградского округа в особую административную единицу с подчинением его военному министру.
Беляев. — На одном из первых докладов я получил приказание провести вопрос о выделении города Петрограда. Государь император по этому поводу высказал, что главнокомандующий северным фронтом находится на театре военных действий и что его интересы обращены на линию Двинск—Рига, а не Петроград. Петроград входил в северный фронт, и, следовательно, он был подчинен генералу Рузскому, который находился во Пскове, и все его интересы были сосредоточены в сущности на линию Двинск—Рига, а не на тыл, не на Петроград. Поэтому нужно выделить его в самостоятельную административную единицу. Я сказал, что я обсужу этот вопрос.
Председатель. — Вы впервые поставили тогда перед собою этот вопрос или и раньше имели по этому поводу какое-нибудь мнение?
Беляев. — Мне, как военному министру, было указано государем, что этот вопрос нужно обсудить.
Апушкин. — А почему не главнокомандующему северным фронтом, которому Петроград был подчинен?
Беляев. — В это время государь находился в Царском Селе и, кроме того, в это время начиналась конференция, и у нас происходили предварительные обсуждения. Здесь находился начальник штаба верховного главнокомандующего, и, поэтому, государь приказал мне переговорить об этом с ним.
Апушкин. — Но государь был сам верховным главнокомандующим, а в Царском находился его начальник штаба.
Беляев. — Не в Царском, а в Петрограде.
Апушкин. — Почему же государь вам поручил переговоры с начальником штаба?
Беляев. — Затрудняюсь ответить, почему. Может быть, он одновременно приказал переговорить и генералу Гурко. Во всяком случае, я получил приказание от государя обсудить этот вопрос и представить по этому поводу соображения. Я отлично помню, что это было в воскресенье; я воспользовался пребыванием в Петрограде Гурко и с ним имел по этому поводу переговоры. Когда я был у генерала Гурко, тут же находился и начальник штаба главнокомандующего северным фронтом, генерал Данилов. Тут как раз и были намечены те основы, на каких этот перевод должен быть совершон. Было установлено, что произойдут необходимые письменные сношения; затем генерал Рузский представил свои соображения, на основании которых приходил к выводу, что это было неосуществимо. Задолго до моего назначения было установлено, что в Петрограде различные управления и заводы получают продовольствие из интендантских учреждений. В действительности же тыл должен довольствовать фронт. А выходило так, что фронт составлял известные расчеты, и все эти расчеты нарушались потому, что в это время в военном министерстве возникали соображения относительно довольствия рабочих Путиловского завода и других военных заводов. Армия не получала того, что ей нужно, потому что часть того, что предназначалось для армии, передавалась тыловым учреждениям, даже не входящим в ее состав. Нужно было прекратить такой порядок. Мне это докладывал главнокомандующий войсками, что он получил от военного министра приказание относительно снабжения кадетских корпусов и военных училищ. Между тем, генерал Рузский объявил обратное приказание, указав, что их не нужно довольствовать. Одним словом, создавалось в высшей степени затруднительное положение. Нужно было все согласовывать, приходить к известному согласительному решению. Генерал Рузский основывал свои расчеты на том, что представлял ему фронт, а другая власть вводила в эти соображения поправки, на основании тех требований, которые предъявлял тыл. Интересы тыла вызывали нарушение интересов фронта.
Апушкин. — Почему вы считали Петроград тылом, когда он считался в районе военных действий?
Беляев. — Тыл нужно разделять на несколько этапов. Например, Киев является тылом для юго-западного фронта. Петроград был тем, что для Двинского фронта…
Апушкин. — Но особое значение Петрограда учитывалось по сравнению с Двинском, Минском и Смоленском и учитывалось не в его пользу, очевидно?
Беляев. — До тех пор это особое положение не учитывалось. Он представлял то же самое, что и Минск, — тыловую базу. Чтобы выйти из этого положения и чтобы действительно поставить Петроград в условия, в которых бы, казалось, он должен быть как столица государства, и было решено выделить Петроград из района северного фронта и сделать его самостоятельной единицей.
Апушкин. — Вы его рассматриваете, как столицу или как тыловую базу?
Беляев. — Прежде всего, как столицу России.
Апушкин. — С тех пор, как он перестал иметь значение тыловой базы? С какого времени значение столицы превысило значение тыловой базы?
Беляев. — С тех пор, как постепенно стали проявляться различные затруднения в снабжении населения, по крайней мере той его части, которую признано необходимым довольствовать распоряжением правительства.
Апушкин. — Итак, было решено Петроград выделить? Самый Петроград или Петроградский округ?
Беляев. — Нет, Петроград и ту часть, которая была не нужна для действующей армии.
Апушкин. — Это ваши соображения или соображения, выяснившиеся при вашей беседе с генералом Гурко?
Беляев. — Конечно, соображения постепенно вырисовывались. Были и мои, выясненные при нашей беседе с генералом Гурко и Даниловым и вылившиеся в ту форму, которая и была установлена.
Апушкин. — Кто участвовал в выяснении этого вопроса, на кого вы возложили это?
Беляев. — На генерала Каменского. Он был начальник по устройству службы войск, который непосредственно решал эти вопросы.
Апушкин. — Этот вопрос вам был предложен бывшим государем в устной форме?
Беляев. — Нет, в письменной. Я получил записку от его величества.
Апушкин. — Вы не помните содержания этой записки?
Беляев. — Это была коротенькая записка.
Апушкин. — Она имела какой характер — предложение обсудить вопрос, или вопрос уже был предрешон?
Беляев. — Вопрос был, повидимому, предрешен, по крайней мере, я помню, что, когда я доложил государю о результате моих переговоров с генералом Гурко, то государь, я помню, мне сказал, что он очень рад, и настаивал на том, чтобы это было проведено. Тогда же был возбужден вопрос относительно перехода Кронштадта из ведения сухопутного ведомства в морское.
Председатель. — Кем был возбужден вопрос?
Беляев. — Государь лично говорил мне, что считает нужным передать Кронштадт в морское ведомство.
Председатель. — О том же он, очевидно, говорил и с морским министром Григоровичем?
Беляев. — Да, потому что этот вопрос, в дальнейшем, проходил по морскому ведомству.
Председатель. — Как вы отнеслись к этой мысли бывшего императора?
Беляев. — Я доложил, что этот вопрос затрагивает интересы штаба верховного главнокомандующего и, поэтому, его надлежит разрешить, пользуясь указаниями начальника штаба верховного главнокомандующего. Государь, повидимому, переговорил об этом с морским министром. Потом я знаю, что было заседание штаба верховного главнокомандующего по этому вопросу. По крайней мере, я потом уже узнал об этом, как о принятом решении.
Апушкин. — Петроград и часть военного округа должны были быть подчинены вам, как военному министру?
Беляев. — Он должен был быть подчинен главнокомандующему войсками Петроградского военного округа, но с той минуты, как он переходил с театра военных действий, он становился подчиненным военному министру.
Апушкин. — Но ведь вы знаете, что начальник главного военного округа является главным его начальником, а вам, как министру, принадлежало лишь право высшего надзора, но не распоряжения. А в данном случае Петроградский военный округ подлежал вашему распоряжению и подчинению. Могли вы давать приказания командующим?
Беляев. — Нет.
Апушкин. — Это предполагалось или не предполагалось?
Беляев. — Это было совершенно иначе. Главный начальник округа является командующим войсками, и ему в некоторых отношениях были предоставлены права главнокомандующего именно для того, чтобы, так сказать, он являлся той последней инстанцией, которая уже разрешает вопросы.
Апушкин. — Стало быть вопроса о непосредственном подчинении Петрограда и части Петроградского военного округа министру не возникало?
Беляев. — Нет.
Апушкин. — Скажите, вы встречались с Распутиным?
Беляев. — С Распутиным я не встречался.
Апушкин. — Вы его видели где-нибудь или нет?
Беляев. — Я его видел. Он выразил желание приехать ко мне. Это было в январе или феврале 1916 года, когда я был помощником военного министра. Я совершенно не знал, что это за Распутин и какая его роль.
Апушкин. — В январе 1916 года вы не знали о роли Распутина?
Беляев. — Совершенно не знал.
Председатель. — Чем объясняется, что вы не знали того, что знала вся Россия?
Беляев. — Я должен сказать, что я исключительно занимался всегда своим делом. У меня никаких интересов посторонних не было. Во время войны я исключительно занимался делом и личной жизнью не жил совсем. Я потом только узнал этого господина.
Председатель. — Когда вы узнали, что это за господин?
Беляев. — Откровенно говоря, узнал только тогда, когда стал читать о нем в газетах. Да и теперь скажу, что мало знаю.
Председатель. — Он изъявил желание видеть вас в январе 1916 г.?
Беляев. — В январе 1916 года. Ко мне постоянно целый ряд лиц обращались, как к помощнику военного министра. Как помощник военного министра и начальник генерального штаба, я массу лиц должен был принимать, и однажды мне доложили, что меня желает видеть Распутин. Я его видел, он в общем был три или четыре минуты.
Председатель. — Значит, вы его приняли?
Беляев. — Это единственный раз, когда я его видел. Перед этим я получал записки. Когда первый раз доложили, что пришла какая-то дама, я сказал, что принять не могу, я занят. Тогда мой секретарь дает письмо. Я смотрю — что такое — насмешка? и потом читаю: «милый, дорогой, выслушай… Григорий». Помню, я с секретарем разбирал, что это за записка. Я помню, он был у меня три минуты, просил разрешения присылать записки, если что нужно. Я говорю: «Пожалуйста; но я не могу делать, когда просят незаконно». Я по этому поводу должен сказать, что я ни одной просьбы его никогда не исполнил. Помню даже, однажды я был страшно занят, вдруг является одна дама и просит, чтобы я ее принял. Вы отлично знаете дамские просьбы. Постоянно личные вопросы. Сначала говорит по телефону: «Примите от меня письмо». Я говорю: «Пришлите его». «Я не могу прислать, я должна лично передать». Я говорю: «От кого?». — «От Распутина». Я говорю: «Сударыня, как вам не стыдно беспокоить меня такими вопросами». Оказывается, просила избавить от воинской повинности какого-то студента.
Апушкин. — Вы для Распутина ничего не сделали?
Беляев. — Я могу это под присягой показать. Совесть у меня в этом отношении совершенно чиста.
Председатель. — Все-таки остановитесь на этой самой беседе вашей с Распутиным, хотя бы и кратковременной. Зачем он к вам приезжал? Вы расстались с тем, что если что будет нужно, он будет к вам присылать, и вы сказали: пожалуйста. Но сущность беседы в чем заключалась?
Беляев. — Дело в том, что я еще за несколько лет до войны встречался в доме моего брата с Вырубовой.
Председатель. — Какое положение занимал ваш брат?
Беляев. — Мой брат был в то время адъютантом великого князя Андрея Владимировича и жил в Царском Селе.
Председатель. — Как его зовут?
Беляев. — Он был женат на б. графине Ридигер и потому, вместе с майоратом, получил эту фамилию и называется граф Ридигер-Беляев. Я встречался у него раза два-три с Вырубовой. Иногда Вырубова мне писала разные записки, просьбы. Сам я Вырубову мало знаю. Тогда она мало выезжала. Она больна, кажется, была в то время.
Председатель. — От своего имени были просьбы Вырубовой или от чьего-либо другого?
Беляев. — От своего.
Апушкин. — Чего эти просьбы касались?
Беляев. — Я затрудняюсь вам сказать. Выслушать такого-то, принять такого-то.
Председатель. — Ну что же, это до войны вы встречали Вырубову, а во время войны?
Беляев. — Во время войны она посылала всякого рода записки. Засим, может быть, разрешите еще один эпизод рассказать?
Председатель. — Да, пожалуйста.
Беляев. — Мне 53 года. Я отлично помню, что это было в субботу 6 февраля 1916 г. Звонит телефон из Царского Села, и Вырубова мне заявляет, что императрица Александра Федоровна желает со мной переговорить. Я должен сказать, что меня неоднократно вызывала по различным делам императрица Мария Федоровна. Императрица Александра Федоровна меня ни разу не вызывала. Это было в первый и единственный раз, что она меня вызвала. Я был очень смущен. Вырубова говорила, чтобы я непременно сегодня приехал, и указала поезд. Вечером я поехал в Царское Село. Я был очень удивлен, когда явился во дворец и мне заявили, что сейчас выйдет Вырубова. И ко мне обращается Вырубова, заявляя, что вот она получила известие, что на Распутина будет сделано покушение. Не могу ли я, с своей стороны, оказать какое-либо содействие, чтобы помочь предотвратить? Я был в высшей степени удивлен этим обращением ко мне. Я вижу, что страшно нервная дама — это было вскоре после крушения поезда — вышла с костылем. Это было первый раз, единственный раз, когда я ее увидел во время войны. До войны я ее видел два-три раза. Я ее шуточками стал успокаивать: «что вы, помилуйте».
Председатель. — Это было до посещения вашего Распутиным или после?
Беляев. — Это было после, так как-то было в январе, а этот день, я помню это, было 6 февраля. Затем, после четвертичасового разговора, она ушла, и вышла государыня. Императрица начала говорить о привязанности своей к Вырубовой, что ей очень жаль Анну Александровну, что вообще, может быть, я мог бы им помочь, и это было бы очень приятно. В 10 часов я уехал и сейчас же по приезде в Петроград вызвал своего бывшего помощника, который служил по контр-разведочной части.
Председатель. — Кого же?
Беляев. — Его нет теперь. Он командует бригадой. Это генерал Леонтьев, мой друг и бывший помощник. Мы с ним пришли к убеждению и решению, что, конечно, никакого отношения к нам это дело не может иметь, что нужно вообще быть осторожным и оставаться в стороне. На этом кончилось всякое мое участие в этом деле.
Председатель. — Вы только с ним обсуждали этот вопрос или еще с кем-нибудь?
Беляев. — Он был и полковник Мочульский. Я вызвал двоих. Он тоже командует полком в Могилеве и состоит заведующим контр-разведочной частью. Мы втроем пришли к убеждению, что в это дело не следует вмешиваться, что военная власть никакого отношения к этому делу не имеет. На следующую ночь был арестован кто-то такой — кто покушался.
Председатель. — Кто был арестован?
Беляев. — Я не знаю, Ржевский, кажется. Я подробностей этого дела не знаю. Это было, как я сказал, в субботу 6 февраля. В понедельник ко мне приехал генерал Воейков.
Председатель. — Вы передали ему ваш отрицательный ответ на просьбу относительно Распутина?
Беляев. — Когда на следующий день мне звонила по телефону Вырубова, я ей сказал, чтобы она совершенно не беспокоилась, и опять старался ее утешить. И тогда как раз мне было передано, что этот господин был арестован, что на самом деле все это сосредоточено в министерстве внутренних дел, и, поэтому, ей решительно нечего беспокоиться.
Председатель. — А вы ей передали ваш отрицательный ответ на этот вопрос?
Беляев. — Я ей сказал, собственно, что тут никакого моего отношения не может быть, потому что тут все находится в других руках, в руках другого ведомства.
Председатель. — Вы ей сказали, что это дело касается контр-разведки?
Беляев. — Не касается контр-разведки. Я ей сказал и накануне, чтобы она не беспокоилась, что вообще дело находится в других руках.
Председатель. — А это вы откуда знали?
Беляев. — По приезде из Царского я говорил с генералом, заведующим контр-разведкой, и полковником, и на следующее утро они передали по телефону, что в эту ночь был арестован этот господин, что все сделано, что все находится в руках министерства внутренних дел.
Председатель. — И вот после этого к вам явился Распутин?
Беляев. — Нет, до этого. Засим, в понедельник, ко мне приехал по этому вопросу генерал Воейков. С генералом Воейковым я был знаком в служебном отношении давно. Мы с ним переговорили, и я сказал, что никакого дальнейшего участия в этом деле не следует принимать, что все это — дело министерства внутренних дел.
Председатель. — Скажите, пожалуйста, чем же объясняется то, что вы сказали раньше: по вашим словам то, что собой представлял Распутин, вам стало известно лишь после его убийства, т.-е. в декабре. Между тем, в феврале вы вызывались в Царское Село для беседы о Распутине с Вырубовой и б. императрицей. Затем к вам по этому поводу приезжает Воейков. Неужели вы тогда себе не представляли, что такое значит Распутин?
Беляев. — Я, конечно, слышал, как всякий обыватель Петрограда, что Распутин чем-то, так сказать, известен. Засим, что он собой представлял, я узнал из газет. Я думал, что это близкий человек к Вырубовой.
Председатель. — Но, может быть, и к императрице бывшей, потому что императрица с вами говорила?
Беляев. — Я должен сказать, что насколько Вырубова производила на меня впечатление нервной, впечатление белки, которая вертится в колесе, настолько спокойно, хладнокровно, почти не касаясь этого господина, со мной разговаривала императрица.
Председатель. — Но о чем же она говорила?
Беляев. — Императрица мне говорила о своей привязанности к Вырубовой, о том, что она очень хотела бы облегчить положение Вырубовой, помочь ей. Она знала, что я знаком с ней через моего брата, что моя belle-soeur близка с Вырубовой.
Председатель. — А это облегчение и помощь Вырубовой должны были заключаться в чем?
Беляев. — Чтобы я выяснил, действительно ли, что-нибудь предпринимается против Распутина.
Председатель. — Значит, помощь Вырубовой, успокоение Вырубовой должно было с вашей стороны заключаться в оказании содействия к выяснению вопроса о Распутине?
Апушкин. — То, что вы рассказали, это было в феврале?
Беляев. — Да, в феврале.
Апушкин. — А не в мае? Или в мае было повторение этого случая?
Беляев. — Я, конечно, могу ошибаться, но я точно могу сказать, что это было 6 февраля 1916 года; в мае ничего не было.
Апушкин. — К вам являлся Симанович и еще какое-то лицо, которых вы сами допрашивали; фамилия этого лица начиналась на Р.
Беляев. — Ко мне на квартиру явился один господин на следующий день после того, как я был в Царском Селе, и сообщил мне подробности покушения.
Председатель. — Неизвестный вам человек? Как вы его приняли?
Беляев. — Вырубова мне накануне говорила о нем. Жидок, кажется. Он пришел ко мне и говорил, что Вырубова предложила ему прийти ко мне.
Председатель. — Это было после вашей беседы с генералом Леонтьевым?
Беляев. — Да, после.
Апушкин. — Это была беседа с генералом Леонтьевым или поручение расследовать?
Беляев. — Это был мой друг. Это была беседа.
Апушкин. — А поручение, данное генералу Леонтьеву, данное генералу Потапову, это тоже были беседы? Потапов был кем?
Беляев. — Потапов был одним из помощников генерал-квартирмейстера.
Апушкин. — Если это была и дружеская беседа, то на каком основании генерал Леонтьев мог приказывать генералу Потапову произвести это расследование?
Беляев. — Я об этом даже не знал. Я отлично помню свое впечатление, что мы к этому никакого отношения иметь не должны, и что тут нам решительно никакого участия принимать не следует.
Апушкин. — Вы утверждаете, что вы не предлагали вызвать к допросу Симановича и Ржевского, не поручали произвести этот допрос генералу Леонтьеву или генералу Потапову через генерала Леонтьева? Затем, вы не сообщали генералу Леонтьеву, что в допросе этих лиц надобности нет, так как они к вам уже являлись и вы их опросили?
Беляев. — Двух лиц у меня не было. Насколько мне помнится, было одно лицо.
Апушкин. — Вы знаете, кто такой Симанович?
Беляев. — Мне Вырубова сказала: тут есть Симанович. Я даже фамилию твердо удержал в памяти. Я помню, что она говорила о Ржевском и Симановиче. Затем утром ко мне является этот господин и указывает, что он по поручению Вырубовой. Подали мне карточку Симановича. И, когда я спросил, кто и что, мне говорят: по поручению от Вырубовой. Мне кажется, что был один господин. Тут я его выслушал.
Апушкин. — Это было днем или ночью?
Беляев. — Это было утром. Я находился под впечатлением того, что, как мы накануне решили, к нам это дело не имеет отношения, так как это — дело министерства внутренних дел. А относительно Потапова, вероятно, я просил выяснить, что делается в министерстве внутренних дел.
Апушкин. — Почему вас интересовало, что делается в министерстве?
Беляев. — Потому что я был рад отделаться от этого дела.
Апушкин. — А почему к вам могли обратиться, как к начальнику генерального штаба, с просьбой о раскрытии этого заговора?
Беляев. — Я говорю, что Вырубова на меня произвела впечатление…
Апушкин. — Но ведь у Вырубовой, вероятно, много знакомых. Почему она к вам обратилась, вы этого вопроса не задавали себе? Почему она не обратилась непосредственно туда, куда следует обращаться в таких случаях? Чем она мотивировала свое обращение к вам? Какими средствами вы, начальник генерального штаба, могли помочь?
Беляев. — Она говорила, что я, как начальник генерального штаба, могу помочь. Помню такой факт: она по всем делам обращалась к министру внутренних дел Хвостову. Она мне говорила, что просила Хвостова приехать, и Хвостов, который постоянно к ней приезжал, сегодня сказал ей, что не может приехать, потому что едет на какой-то обед. Ее в высшей степени удивил этот отказ; она говорила, что это ее очень тревожит.
Апушкин. — Вас не поразило, что, не будучи близко знакома с вами, она обращается по очень волнующему ее вопросу к вам, начальнику генерального штаба?
Беляев. — Ко мне с самого начала войны по самым разнообразным вопросам обращались разные лица. Может быть, мое имя было, так сказать, популярно до известной степени, так как по самым разнообразным вопросам обращались ко мне.
Апушкин. — Не можете ли вы объяснить, от кого вы получили эту бумагу? (Предъявляет бумагу, содержащую ходатайство о переводе Дмитрия Распутина в Петроград для зачисления в кадр санитаров.)
Беляев. — Я отлично помню, от кого; история этой бумаги такова. Мне передает по телефону генерал Воейков о том, чтобы я принял полковника Ломана. Я говорю: хорошо. И эту бумагу передал мне полковник Ломан.
Апушкин. — Здесь ходатайствуется о переводе из 35 сибирского зап. баталиона стрелка 3 роты Дмитрия Распутина из города Тюмени в распоряжение петроградского уездного воинского начальника для зачисления его в кадр санитаров. Вы как истолковывали — откуда оно исходит, кто ходатайствует перед вами?
Беляев. — Мне, насколько я помню, полковник Ломан сказал, что государыня императрица ходатайствует о зачислении Дмитрия Распутина в один из санитарных поездов. Это ходатайство мне передал полковник Ломан, по телефону об этом мне говорил Воейков.
Апушкин. — А ваше распоряжение по этому делу было какое?
Беляев. — Мы должны были переводить целый ряд лиц в санитары, и если это не выходило из области нормальной, это более или менее всегда исполнялось.
Апушкин. — Какие распоряжения вы сделали?
Беляев. — Я сказал, чтобы это было удовлетворено, что нет основания не исполнить этой просьбы.
Апушкин. — Скажите, всякий стрелок, который пожелал бы быть переведенным в санитары, был бы вами переведен?
Беляев. — У нас по этому поводу была разная практика в то время. Вероятно, это было в начале 1916 года?
Апушкин. — Это было в октябре 1916 года.
Председатель. — Для того, чтобы стрелка из строя перевести в санитары, должна быть наличность известных условий. Вы говорите — не имелось оснований для неисполнения. Следовательно, военный министр или начальник штаба должен ставить вопрос перед собой — имеются ли условия для удовлетворения этой просьбы, а не то, что отсутствуют ли условия для неудовлетворения. Вы понимаете, в чем дело? Логически надо спросить, удовлетворяет ли этот человек условиям, которые существуют. Нам не важно их знать. Но вы поступили совершенно обратно тому, что требовалось.
Беляев. — Мы должны были укомплектовывать известные санитарные управления.
Председатель. — И для того, чтобы укомплектовать санитарные управления, для этого вы стрелка 3-й роты из Омского округа выписываете?
Апушкин. — Вы приказали исполняющему должность начальника генерального штаба в резолюции и на словах «срочно телеграфировать начальнику штаба Омского округа о немедленном командировании стрелка Распутина в распоряжение царскосельского воинского начальника», указав, что если он ушел с маршевой ротой, то сделать распоряжение в эшелон по телефону, снестись с полковником Ломаном и сделать распоряжение о перечислении его в санитары. Я вам напомню, что по этому поводу было телеграфировано начальнику Омского округа: «командировать в распоряжение царскосельского воинского начальника и телеграфировать» и т. д. Затем вы получили сведения, что последовало высочайшее соизволение на перечисление стрелка Распутина и что он был командирован из Тюмени в распоряжение царскосельского воинского начальника. Одним словом, вы принимали по этому поводу экстренные меры. Соответствовали ли эти меры хотя бы распоряжению военного ведомства не принимать излишней переписки по телеграфу, который нужен для военных надобностей? Чем такие меры вызывались после того, как вы сказали, что Распутину никогда никакой услуги не оказывали?
Беляев. — Я помню, меня просил генерал Воейков принять полковника Ломана.
Апушкин. — Вы делали это одолжение Ломану или Распутину, сын которого зачислялся?
Беляев. — Я лично считал, что делаю это исключительно для Воейкова. Это было распоряжение, которое мне было передано.
Председатель. — Чье распоряжение?
Беляев. — Я не спросил, чье.
Председатель. — Вы никогда не спрашивали, когда вам, генералу-от-инфантерии, полковник передавал распоряжение, чье именно передает он распоряжение?
Беляев. — Это было от генерала Воейкова.
Апушкин. — Генерал Воейков вправе вам давать служебные поручения? Он был ваш начальник?
Беляев. — Полковник Ломан передал, что это желание императрицы, но я считал, что ко мне обратился генерал Воейков, который говорил, что уезжает с государыней в Ставку, не может сам приехать и просит, чтобы я принял полковника Ломана.
Председатель. — После того, как все это обнаружилось, можете ли вы отрицать, что из-за какого-то стрелка Распутина начальник генерального штаба телеграфировал срочно в Омск? Это было в октябре 1916 г. Как прикажете отнестись к вашим утверждениям, что вы до самой смерти Распутина не знали, какую он роль играет в русском государстве?
Беляев. — Это в высшей степени трудно сказать. Я лично считаю, что содействовал не для Распутина. Я сказал, что я совершенно не знаю, какую роль играл Распутин. Я отлично знал, что есть Распутин, какой-то старец, как говорили, и я помню, когда его встретил, я увидел, что он вовсе не старец, но я думал, что это благочестивый человек. Между тем, потом я узнал, что он вовсе не благочестивый.
Председатель. — Чем объясняется, что вы, живя в Петрограде, где два миллиона жителей, где все знают благочестивые свойства этого старца, что вы, человек, получивший высшее образование, вы один считаете, что Распутин, это — благочестивый старец? Чем это объясняется?
Беляев. — У меня осталось одно в памяти, что это не сын Распутина, а брат, — мне это сказал Ломан.
Председатель. — Вот видите, даже такая маленькая подробность осталась у вас в памяти. Ходатайствуется о передаче его в распоряжение петроградского уездного воинского начальника, а ваша резолюция — «к исполнению в распоряжение царскосельского воинского начальника», вы его прямо в Царское Село.
Беляев. — Он не знал, каким образом это делать, он просил перевести его сюда для назначения «санитаром в один из поездов»: поезда императрицы находятся в ведении царскосельского воинского начальника.
Председатель. — А вы не считали обязанностью русского генерала, когда выдвигается требование, для удовлетворения которого нет в наличности данных, а есть только желание, хотя бы и генерала Воейкова, хотя бы императрицы, — вы не считали долгом русского генерала ответить отрицательно на такое ходатайство? Позвольте, ведь не один Распутин, и другой, и третий тоже ходатайствовали, вероятно, о переводе в санитары? Какое отношение ваше было к другим?
Беляев. — Нужно вам сказать, что это было в 1915 г., во время значительного развития всякого рода санитарных учреждений; тогда было установлено, если не ошибаюсь, по мобилизационным соображениям мирного времени, что мы должны были передать главному управлению Красного Креста 3.000 человек для укомплектования учреждений санитарами. Ведь вы тут извлекли из дела одно, другое, третье, но если бы вы знали, какое громадное количество ко мне постоянно поступало заявлений относительно укомплектования учреждений!
Председатель. — И вы их все удовлетворяли?
Беляев. — Мы должны были удовлетворять.
Председатель. — Вы хотите сказать, что был недостаток в людях, что надо было выписывать, поэтому, из Омска этого стрелка?
Беляев. — В то время постоянно, чуть не ежедневно, поступали такие просьбы.
Апушкин. — Нас интересует, в какой степени вы так же легко исполняли просьбы других?
Беляев. — Я постоянно исполнял такие просьбы.
Апушкин. — Вопрос в том, что вы, не приняв мер к обследованию дела стрелка Распутина, отдали распоряжение о немедленном его зачислении.
Беляев. — Только в 1916 г., кажется, в апреле, было установлено, что санитары могут быть не моложе такого-то возраста. До этого времени такого условия не было.
Апушкин. — В удостоверение своих слов вы можете сослаться на эту бумагу — о перечислении в санитары нескольких лиц (предъявляет письмо Вырубовой)?
Беляев. — Вот, в частности, обращаю ваше внимание, что она даже не знала, как меня зовут. Это мне передал также Воейков.
Апушкин. — Вы не помните, как вы поступили по поводу этого письма?
Беляев. — Если не ошибаюсь, подобных ходатайств ко мне от Вырубовой поступило два. Первый раз ко мне явился полковник Ломан и привез записку. Это относилось к тому времени, когда она учредила свой лазарет и ей нужно было укомплектовать его.
Апушкин. — Какие меры вы принимали, чтобы удовлетворить это ходатайство? Какой порядок был вами применен при переводе этих лиц из строевых частей в нестроевые?
Беляев. — Я, откровенно говоря, подробностей совершенно не помню.
Апушкин. — Каким образом это делалось? Это в мобилизационном отделе делалось? Для того, чтобы перечислить стрелка в санитары, мобилизационный отдел делал соответствующее распоряжение? Чем объяснить, что для перевода этих лиц потребовалось высочайшее соизволение?
Беляев. — Если не ошибаюсь, существовал такой порядок, что по мобилизационному распоряжению мы должны были передать 3 тысячи человек Красному Кресту. Потом было испрошено высочайшее разрешение о дальнейшем перечислении их. Поэтому каждое перечисление в санитары делалось от высочайшего имени, сперва властью военного министра, а затем властью начальника генерального штаба. Поэтому перечисление в санитары могло последовать лишь «с высочайшего соизволения».
Апушкин. — Получая такие письма, вы отдавали распоряжения, испрашивали высочайшее повеление и этим ограничивались?
Беляев. — Если вы признаете возможным ознакомиться с этим делом, вы увидите, насколько оно обширно. Если мне память не изменяет, эти доклады от высочайшего имени представляли собой целый ряд пунктов. Я думаю, что было триста подобного рода дел и даже больше.
Апушкин. — Вы ответили Вырубовой?
Беляев. — Я никогда ни одного письма, насколько мне память не изменяет, не посылал Вырубовой.
Апушкин. — А это письмо написано вами? (Показывает письмо.)
Беляев. — Это официальное письмо.
Апушкин. — Вы считали нужным уведомить ее официальным письмом?
Беляев. — Как видите. Мне его дали, и я его подписал.
Председатель. — Но вы только что сказали, что вы никаких писем не писали.
Беляев. — Я этого письма не имел в виду.
Апушкин. — Вы считали обязательным всем просителям писать?
Беляев. — Я не могу сказать, всем или не всем, но я думаю, из этого дела вы можете увидеть, как это писалось. Во всяком случае, канцелярским порядком.
Апушкин. — Канцелярским порядком, чрезвычайно обременявшим служащих в главном управлении генерального штаба?
Перерыв.
Апушкин. — Будьте любезны ответить на следующий вопрос. Какие общие мероприятия вы принимали в отношении немецких пленных и какими принципами руководились при этом?
Беляев. — Принцип у меня был один — забота о русских военнопленных, находящихся в Германии и в Австрии. Каждое мероприятие, которое мы принимали в отношении пленных в России, естественно вселяло надежду, что оно отзовется на положении наших пленных в Германии и Австро-Венгрии.
Апушкин. — Какие меры вы принимали в отношении военнопленных наших в Германии и что вы узнали о них?
Беляев. — Мы получали первоначально сведения общие, которые были известны всем, т.-е. которые отчасти помещались в газетах, затем мы получали донесения от наших военных агентов в Копенгагене. Но главные сведения заключались в донесениях или докладах тех первых трех сестер милосердия, которые ездили туда. Если не ошибаюсь, это было весной в первой половине 1915 г. Это были сестры: Самсонова, Коржецкая и Яшвиль.
Апушкин. — Скажите, каково ваше представление о положении наших военнопленных в Германии?
Беляев. — Оно, конечно, ужасно. Мне, еще по моей предшествующей деятельности, приходилось иметь известное отношение к вопросу о наших военнопленных во время японской воины. Конечно, мы жили и приступили к войне под тем впечатлением, что вопрос о военнопленных разрешится так, как он разрешался в ту войну, и поэтому я, как начальник генерального штаба, сейчас же приступил с самой ранней осени 1914 г. к разработке положения о военнопленных в России, придерживаясь положения, выработанного относительно военнопленных в 1904 году. Засим, по тем сведениям, которые доходили до нас, мы увидели, что на вопрос о военнопленных в Германии и Австрии совершенно иначе смотрят.
Апушкин. — Вы вообще верили, что там творятся немецкие зверства?
Беляев. — Этому приходилось верить все больше и больше. Во время войны 1904 года смотрели на военнопленных, как на неизбежное последствие войны, совершенно не так, как теперь смотрели немцы. У меня было впечатление, что нет тех мер, которых бы не следовало принимать для того, чтобы облегчить положение наших военнопленных. Поездка наших сестер милосердия как раз совпала с приездом трех сестер милосердия немецких — австрийских или германских, не помню. При них состояли датские уполномоченные. И на их жалобы о том, что у нас плохо содержатся пленные, я им заявил, что, во всяком случае, у нас нет ничего подобного тому, что мы знаем относительно содержания наших пленных. Мной было заявлено, что, во всяком случае, можно рассчитывать на улучшение положения их военнопленных у нас в России только в том случае, если мы будем знать, что будут приняты известные меры в отношении наших военнопленных в Германии и Австрии. Не уезжая еще из России, эта сестра милосердия Икскуль фон-Гильденбандт передала генералу Поливанову ноту, полученную ею из Берлина, в которой указывалось на те мероприятия, которые приняты там для улучшения положения русских военнопленных; и она просила, чтобы те же самые меры были приняты и в отношении их пленных. Она была у генерала Поливанова. Мне это было передано датским уполномоченным. Во всяком случае, положение сводилось к следующему. После того, как она сообщила в Берлин о переговорах в Петрограде, — в Берлине были созваны все начальники лагерей, и им были преподаны особые указания. Я помню, например, такие: нижние чины не считаются начальниками офицеров. Офицерам даны известные права, известная свобода предоставлена. Им предоставлено право свободных прогулок в пределах лагеря. Засим просили принять те же самые меры и в отношении германских военнопленных. Было сообщено, между прочим, что если немецким военнопленным в России будут разрешены прогулки по городу под честным словом, то и нашим пленным это будет предоставлено. При этом, насколько я знаю, император Вильгельм дал своим подданным разрешение давать в этих случаях честное слово. Я лично смотрел таким образом, что если бы в наших русских городах, где у нас неоднократно проявлялось неудовольствие вообще против пленных, разрешали немецким и австрийским военнопленным прогуливаться по городу под честным словом, то это могло дать повод к неудовольствию со стороны толпы. Вообще, у нас давно уже проводился такой взгляд, что у нас дают такие льготы содержащимся пленным, каких не дают русским пленным в Германии. Поэтому, если я не ошибаюсь, мы и не разрешили немецким военнопленным свободно ходить по городу на честное слово.
Апушкин. — Вы помните, как этот вопрос разрешился?
Беляев. — Откровенно говоря, нет.
Апушкин. — Вопрос о возможности шпионажа со стороны этих германских сестер милосердия возбуждался и обсуждался?
Беляев. — Да, возбуждался, когда приехала вторая партия сестер.
Апушкин. — А в отношении первой партии?
Беляев. — Во всяком случае, у нас возникал вопрос, не шпионят ли они.
Апушкин. — Такое предположение возникало?
Беляев. — Да, но у нас к каждой сестре милосердия был приставлен русский офицер, который неотступно находился при ней. Я даже помню, что в отношении сестер милосердия была переписка.
Апушкин. — Не припомните ли фамилию этих сестер милосердия?
Беляев. — Одна была Икскуль фон-Гильденбандт, другая — Пасс, третья — Росси. Кажется, их было шесть. Наших было три, а тех было три или шесть, я хорошенько не помню. Повторяю, что во всех наших распоряжениях по поводу льгот немецким военнопленным мы придерживались взгляда, что все это делается для улучшения положения русских пленных, которое действительно было ужасно.
Апушкин. — Как вы отнеслись к предложению о командировке постоянных сестер милосердия во вражескую страну?
Беляев. — Из наших сестер две были мне известны, это в высшей степени почтенные дамы, стоящие выше всякой похвалы. Одна из них, вдова генерала Самсонова, в своем докладе в Красном Кресте, рассказала, как с ней во многих случаях поступали.
Председатель. — Вы не помните, когда это было?
Беляев. — Я думаю, это было в конце 1915 года. Я приблизительно могу сказать, боюсь ошибиться. Это было во время пребывания генерала Поливанова.
Председатель. — Приблизительно в конце 1915 года, Самсонова рассказывала о том, в каких ужасных условиях им там приходилось работать?
Беляев. — Нет, не в каких ужасных условиях. Она рассказывала вообще об условиях, в каких они работали.
Председатель. — Это тяжелые условия были?
Беляев. — Неблагоприятные с точки зрения того положения, как содержатся наши военнопленные, и преодоления тех затруднений, которые чинило им немецкое правительство.
Председатель. — Значит, ее доклад сводился к тому, что, вследствие мероприятий германского правительства, они не могли как следует исполнить своего поручения и что германское правительство мешало им исполнить это поручение.
Беляев. — Я не скажу, чтобы в этом докладе эта точка зрения непосредственно проглядывала, но на меня она именно произвела это впечатление. Они поехали туда, полные благородного отношения к делу и ожидая к себе такого же отношения.
Председатель. — Значит, ваш вывод сводится к тому, что им, в сущности, препятствовали всячески и ставили палки в колеса?
Беляев. — Поэтому, когда была командирована вторая комиссия, то я счел необходимым подготовить для нее свод всех тех материалов, которыми мы располагаем, потому что я вынес такое впечатление: от нас они поехали не подготовившись; они принимали на веру то, что им указывала германская власть, между тем, как их сестры, приехавшие сюда, прямо указывали на определенные факты.
Председатель. — Т.-е. немецкие сестры?
Беляев. — Главным образом, конечно, датчане.
Председатель. — Немецкие сестры или датчане? Вы, кажется, говорили, что это были немецкие сестры в сопровождении датских уполномоченных. Одно дело — датчане, а другое дело — немцы.
Беляев. — Каждая партия состояла из сестры милосердия, датского уполномоченного и русского офицера. Один раз я видел Икскуль, а другой раз австриячку Росси; часто ко мне приходили и их уполномоченные датчане. Так что то, что мы говорили, говорили датчане, — не сестры, а датчане. Они, вероятно, указывали на отдельные факты, а наши сестры такими фактами, повидимому, не обладали. Они случайно узнавали то или другое, как, например, я помню, в своем докладе Самсонова указывала на такой факт, что она хотела лично переговорить с одним пленным, но когда она приехала, ей чинили всякие препятствия, говорили, что его нельзя видеть, что он в бане. Поэтому, когда поехала вторая партия наших сестер милосердия, то я счел необходимым заготовить для них такой список, где подробно были изложены все те сведения, которые нам были известны, чтобы они туда явились с известным материалом, чтобы могли предъявить ряд известных требований. Этому вопросу придавалось особое значение: таким путем мы рассчитывали облегчить положение наших военнопленных.
Апушкин. — Имеются сведения, что сестры милосердия германские и австрийские, прибывающие в Петроград, остаются здесь очень долго, что они вступают в тайные сношения с известными лицами и что вообще в отношении их имеются подозрения в собрании таких сведений, которые могут вредить нашей государственной обороне. Эти сведения имелись, например, у вас 17-го февраля, 18-го февраля вы получили письмо от секретаря бывшей государыни Александры Федоровны, Ростовцева,[*] в котором сообщалось, что на станции Торнео эти сестры досматриваются, и вы на этом письме написали резолюцию, что подобный досмотр недопустим. Это ваша резолюция?
Беляев. — Я помню это.
Апушкин. — Затем, исполнявшему обязанности начальника генерального штаба генералу Занкевичу вы сказали, что это — безобразие, которое нужно прекратить. Чем вы руководствовались в данном случае, когда вы сами говорите, что со стороны сестер милосердия, приезжающих в Россию, возможно было шпионство; вы имели подтверждение этого в той записке, которая имеется в деле, но вы восставали против такого осмотра.
Беляев. — У нас были выработаны основания, если не ошибаюсь, в 1916 г., по которым их нужно было пропускать в Россию и выпускать из России. И между прочим, подобные осмотры были исключены. Они не допускались на основании особого соглашения. При них должны были состоять офицеры, которые были обязаны постоянно следить за ними и не выпускать их из виду, а засим этот осмотр уже на границе не допускался. Вот что привело меня к необходимости сделать это распоряжение.
Председатель. — Но ведь все эти договорные нормы, повидимому, имели во время войны условное значение. Как Германия, так и Россия, стояли на точке зрения взаимности по этому вопросу. Вы изволили сказать, что в конце 1915 года из доклада Самсоновой вы убедились, что германское правительство ставило нашим сестрам ряд препятствий для осуществления их миссии; у вас относительно немецких сестер были даже некоторые указания на то, что они вмешиваются в то, во что не вправе вмешиваться. Значит, вот начало взаимности: наших сестер там преследуют, относительно их сестер есть указание на то, что они вмешиваются не в свое дело, а вы в срочном порядке делаете распоряжение, что подобный осмотр недопустим.
Беляев. — Германское правительство, всегда поступавшее весьма расчетливо, официально распоряжалось так, что формально от соглашения не отступало. Напротив того, все неофициальные его распоряжения сводились к тому, чтобы чинить нашим сестрам милосердия различного рода затруднения. Вот, как я говорил, Самсонову допустили в такой лагерь, но чтобы она не могла видеть данного человека, его придумали отправить в это время в баню. Теперь, по поводу осмотра германских сестер. Они являлись представительницами Красного Креста; было указание, кажется, барона Мейендорфа, что Красный Крест стоит вне политики и, поэтому, его представителей нельзя заподозривать в шпионстве. Впрочем, от этой точки зрения барон Мейендорф потом отступил.
Председатель. — Красный Крест вне политики, когда он занимается делом Красного Креста, а не тогда, когда сестры приезжают в Россию под флагом Красного Креста и занимаются, как вам доносили, чем-то, что не нужно и что к области Красного Креста не относится.
Беляев. — Относительно Иркутска я могу, например, сказать следующее: германская сестра милосердия стремилась видеться с какими-то германскими подданными, которые были высланы туда. Стремилась принимать некоторых господ вне присутствия русского офицера, который при ней состоял. Вот, собственно говоря, в чем проявлялось это стремление обойти соглашение.
Председатель. — Как же вы к этому относились? Значит она стремилась видеться с интернированными немцами, жившими прежде в России?
Беляев. — На это она имела право, потому что они считаются военнопленными.
Председатель. — Но она стремится видеться в отсутствие тех людей, которые за ней надзирают. Как реагирует на это военный министр?
Беляев. — Я помню, мы постоянно требовали от этих офицеров (можно найти переписку об этом), чтобы они указывали на недопустимость таких действий.
Председатель. — Вы по образованию юрист или кончили академию генерального штаба?
Беляев. — Академию генерального штаба.
Председатель. — Скажите, как вы, как военный министр, относились к бумаге такого рода: вам объявляется воля государыни императрицы и вам рекомендуется этой воле подчиниться. «Повелела мне просить ваше высокопревосходительство не отказать в распоряжении». На основании этой воли вам предлагается сделать распоряжение, чтобы будущий осмотр не применялся. Вы были подчинены главе государства, государю императору, а не императрице?
Беляев. — Конечно, я смотрел на это, как на неудачную редакцию. Моя резолюция заключалась в том, что на основании соглашения, по которому они были допущены в Россию, мы не имеем права делать этого осмотра.
Председатель. — Такой резолюции нет. Резолюция такая: «Подобный осмотр недопустим».
Апушкин. — Один из свидетелей, генерал Занкевич, сказал, что вы назвали это безобразием.
Председатель. — Это говорит уже о том, что вы не только стояли на холодной, формальной точке зрения, но и по существу высказывались известным образом.
Беляев. — Я не могу сказать, какое именно выражение я употребил, по существу я высказался только, что мы не имели права в отношении их этих мер применять.
Апушкин (показывает бумагу). — Вот этот документ тоже никем не подписан. Он содержит в себе проект запроса относительно пленных германских офицеров. По поводу такой бумаги, никем не подписанной, вы кладете резолюцию и поручаете вашим подчиненным наводить целый ряд справок о судьбе этих военнопленных офицеров. Вы всегда так относились к такого рода анонимным запискам, которые вам приносили?
Беляев. — Эту записку мне передал гр. Ростовцев.[*] К нам неоднократно поступали просьбы относительно выяснения положения различных военнопленных. Всякое облегчение участи какого-нибудь военнопленного в России облегчало выяснение различных вопросов относительно русских военнопленных в Германии.
Апушкин. — Так что, если у нас в отношении военнопленных германцев поступали по закону, вы полагали, что и там поступают по закону? Но вы сказали, что там, напротив, поступали не по закону.
Беляев. — Неоднократно у нас бывали случаи, что если изменилось положение относительно такого-то у нас, то облегчалось положение там; в деле о военнопленных можно найти целый ряд таких случаев.
Апушкин. — Таких указаний в деле я не нашел. Я нашел целый ряд распоряжений ваших о немедленном телеграфировании по тому или иному вопросу. Обращаю на это ваше внимание. Все сношения, требующие сообщения сведений о положении тех или других военнопленных, — будет ли это по письму графини Карловой, великой княгини Марии Павловны или великой княгини Елизаветы Маврикиевны — все равно, — все сношения делались по телеграфу. Вы, стало быть, полагали, что, делая подобного рода любезности этим лицам в отношении германских пленных, вы можете рассчитывать на такие же любезности в отношении наших пленных?
Беляев. — Я считал, что это вовсе не любезность с моей стороны по отношению хотя бы к графине Карловой. Здесь вы упоминаете лиц, которые обращались ко мне, как к военному министру. Это была не любезность, а сознание, что выяснение положения военнопленного, содержащегося в России, отзовется на улучшении положения русских военнопленных в Германии.
Председатель. — Вы стали на точку зрения взаимности. Почему же вы не стали на ту же точку зрения в отношении этих немецких сестер тогда, когда нашим сестрам в Германии всячески мешали исполнить свою работу? Почему вы там стали на точку зрения формы, а не взаимности?
Беляев. — Я должен сказать, что это обвинение я не вполне разделяю; в этом деле вы найдете документ, который был доставлен сестрой милосердия Икскуль, на немецком языке, на нескольких страницах, где прямо указаны те улучшения и те мероприятия, которые приняты в настоящее время в Германии. Поэтому я лично имел уже за собой то, что вот при известном отношении к делу мне уже удалось добиться улучшения положения наших военнопленных. Всякие с моей стороны меры, которые привели бы только к раздражению и к излишней, может быть, формальности, к излишней строгости, они…
Председатель. — Вопрос в том, излишняя ли это строгость? Вы понимаете — в Германии нашим сестрам мешают делать то дело, которое им поручено. Что же вы делаете здесь? Вы получаете указания, что германские сестры делают то дело, которое им не поручено, или, может быть, и поручено, но неофициально, и которое может принести вред России. И из того, что нашим сестрам мешают делать дело, которое им поручено, вы делаете вывод, что германским сестрам не надо мешать делать то дело, которое они делают попутно.
Беляев. — Я должен сказать, что мне лично известно только два случая, которые свидетельствуют о некорректном отношении сестер милосердия. Во всяком случае к ним относились с известной осмотрительностью, потому что они все-таки немки, затем — война и, конечно, склонны были подозревать в них шпионские наклонности. Мне известен один случай, о котором я говорил, — случай в Иркутске, и второй, когда я был заграницей…
Апушкин. — Стало быть, вы с доверием относились к словам сестер милосердия, что в отношении наших военнопленных принимаются облегчительные для них меры?
Беляев. — Да.
Апушкин. — Но вы сказали, что положение наших военнопленных было ужасно. Как мне согласовать, что вы признавали положение наших военнопленных ужасным и в то же время относились с доверием к немецким заявлениям, что положение не ужасно? В подтверждение я приведу факт в связи с этой бумагой. Вы по поводу этой бумаги говорите: «Я хотел сделать то, о чем говорится в этой бумаге, и потребовать на этом основании какие-нибудь уступки». Вы это находили нужным сделать по принципам взаимности, чтобы и Германия это сделала. Это правильная формулировка? Вы против нее не возражаете?
Беляев. — Нет.
Председатель. — Тут у вас сказано, что нужно было сделать по поводу этих офицеров какое-то сношение. Вы руководитесь принципом взаимности, значит, официально идет из Германии — тут делается, официально идет от нас — там делается. А между тем, вы исполняете, ради установления принципа взаимности, просьбу лица, не занимающего официального положения?
Беляев. — Неоднократно к нам обращались русские с подобного рода просьбами не через меня, а через других, обращались к высоким особам. Вот вы здесь упоминали имя графини Карловой. Вы можете найти такое же письмо в этом деле принцессы Саксен-Альтенбургской, Е. Г., где она пишет, что у нее две дочери находятся в Германии, и предлагает узнавать через них о тех лицах, которые интересуют русскую власть. Несомненно, к ней же таким образом обращались относительно и наших военнопленных в Германии. Если бы мы не давали ответа на это, то и русские, которые интересуются своими родственниками в Германии, не получали бы тех сведений, о которых они запрашивают.
Председатель. — Значит вы находили нужным удовлетворять просьбы частных лиц, к вам обращавшихся, чтобы соответственные просьбы частных лиц удовлетворяли бы и в Германии?
Беляев. — Частные лица ко мне не обращались, я не помню, по крайней мере. Может быть, было обращение не ко мне, потому что они несомненно обращались к тем лицам, которые могли помочь, допустим, к принцессе Альтенбургской или княгине Марии Павловне. Что касается Александры Федоровны, то она не могла давать повеления, но в данном случае исполнение ее просьбы не являлось незаконным с моей стороны поступком. Такое распоряжение могло привести к облегчению положения наших военнопленных в Германии. Вот точка зрения, которой я придерживался.
Председатель. — Значит, эта бумага передана вам гр. Ростовцевым,[*] личным секретарем бывшей императрицы, с указанием, что это — желание императрицы, т.-е., что императрица возбуждает вопрос о командировании постоянных сестер милосердия для пребывания их в Германии, с целью навещать военнопленных. Почему эта бумага, — вам было ясно, что она исходила от императрицы, — носит несколько конспиративный характер в том смысле, что имя бывшей государыни здесь не значится, а просто сказано «не признали бы вы это возможным». Затем: «желательно иметь сведения». А кому желательно — здесь не указано.
Беляев. — Я должен по этому поводу с полной откровенностью сказать, что, когда я был в Румынии, граф Ростовцев[*] обратился однажды с просьбой по поводу того, что в Омском, кажется, округе недостаточно обращают внимание на военнопленных, поэтому, к императрице поступают жалобы и заявления, которые могут отозваться на ухудшении наших военнопленных в Германии. Секретарь об этом написал бывшему начальнику генерального штаба Аверьянову: «Секретарь ее величества, по приказанию государыни императрицы Александры Федоровны, передал…» и т. д., одним словом, выходило так, что действительно императрица вмешивается в дела военного ведомства. Они написали такую бумагу, которая потом была помещена в приказах по округам и была напечатана в газетах. Это произвело неблагоприятное впечатление. Я лично постоянно высказывался, что при обращениях б. императрицы к подлежащей власти — в данном случае к военной — дело последней поступить так или иначе.
Апушкин. — То, о чем вы говорите, относится к тому, что было помещено в газете «Русское Слово» и «Новое Время». По этому поводу вы сделали распоряжение об опровержении?
Беляев. — Да.
Апушкин. — А эта бумага (показывает бумагу)? Бывшая императрица Мария Федоровна получила от датского представителя телеграмму с донесением о том, что над военнопленными в Австрии, водворенными в Красноярск, имеет быть…» (читает). Каким образом здесь имеется налицо совершенно определенное вмешательство императрицы Марии Федоровны в распоряжения военного ведомства?
Председатель. — Прибавим, вами исполненное, потому что мы рассматриваем этот факт с точки зрения правильности ваших должностных действий.
Беляев. — Я помню, что меня императрица Мария Федоровна вызывала в Аничков дворец по этому поводу. Оказывается, что этот господин был помилован, при чем произошла какая-то ошибка, так что, действительно, оказались налицо такие обстоятельства, о которых идет речь в бумаге.
Апушкин. — Вами давалось в этой же телеграмме командующему войсками Иркутского округа приказание оставить его в Красноярске.
Беляев. — Вероятно до выяснения обстоятельства. Я лично имел в виду одно: выяснить, что можно сделать по этому заявлению.
Председатель. — Это официальное сообщение было вызвано тем, что вами было признано нетактичным, чтобы подчиненный вам орган, делая известное распоряжение, упомянул имя государыни императрицы. Вы в этом официальном сообщении говорите, что это распоряжение делается потому, что, на основании таких-то и таких-то положений о военнопленных, забота о пленных германцах лежит на обязанности военного министерства. Значит, императрица Александра Федоровна обратила внимание на то, что плохо содержатся пленные, и приказала и т. д. То же было перепечатано и газетами. Как же можно опровергать газетную заметку, которая точно воспроизводит подлинник? Каким образом ваше министерство нашло нужным написать под титлом официального сообщения, в сущности, опровержение этой заметки?
Беляев. — Опровергалось, в сущности, только заглавие.
Апушкин. — Здесь имелось в вашем деле три варианта, и из них вы выбрали номер второй?
Беляев. — Если не ошибаюсь, было два варианта.
Апушкин. — Позвольте вас убедить в наличности трех вариантов по номерам. Я установлю разницу: «Принимая во внимание, что заголовок означенной заметки (читает) военное министерство считает необходимым разъяснить…» Затем третий вариант (читает): «Принимая во внимание, что заголовок означенной заметки «Попечение о пленных…» (читает). Вот этот третий вариант раскрывает мысль, заключающуюся в том, что все это было связано с именем Александры Федоровны, Вы, может быть, совершенно тактично отказались подчеркнуть это, избрав второй вариант, но смысл этот совершенно определенный. Эта заметка не вызывала никакой надобности в опровержении.
Беляев. — Военный министр обязан стоять настраже, так сказать, законности и настраже поддержания авторитета высших лиц, авторитета императрицы. Ведь несомненно эта заметка в газетах имела тенденциозный характер. Мне заявляет секретарь императрицы, что это произвело в высшей степени тяжелое впечатление на императрицу. Как мне на это смотреть? Ведь действительно эта бумага написана, я скажу, несоответственно, это несомненно так. Я считал, что всеми подобного рода обращениями императрица лишь доводит до сведения военного министра о том, что известно ей и что она считает входящим в круг ее ведения. Дело подлежащей власти решить так или иначе. Императрица не настаивает, она доводит только до сведения. Поэтому подчеркивать, что это делается якобы по приказанию императрицы — это уже неправильно.
Председатель. — Генерал, вы только что сказали, что вы считали себя обязанным поддерживать авторитет высших лиц и правительства и потому написали это опровержение. А не находите ли вы, что для того, чтобы поддерживать авторитет высших лиц в правительстве, вам, в должности военного министра, или в должности начальника генерального штаба, нужно было сделать одно: раз лицо, хотя бы занимающее высокое положение в государстве, вмешивается не в свое дело, сказать этому лицу, чтобы оно этого не делало. Ведь вы — ответственный человек, вы — министр.
Беляев. — Я должен сказать, что на моей совести нет ни одного такого распоряжения, которое было бы результатом того, что кто-либо вмешивался в дело, его не касающееся. Императрица была председательницей комитета по попечению о русских военнопленных в Германии.
Апушкин. — Теперь об учреждении постоянных сестер милосердия во вражеских странах. Вы полагали, что это весьма желательно, так как повело бы к улучшению материального положения наших военнопленных, оказало бы нравственную поддержку. Но вы указывали на затруднения, которые наши сестры встретили во время поездки в Германию. Почему в данном случае вы не полагали, что, при постоянном пребывании в Германии, им пришлось бы встретиться с еще большими препятствиями, и почему вы не предполагали бы, что постоянное пребывание германских сестер милосердия в России дало бы им возможность развития деятельности по шпионажу, облегчило бы собирание сведений, для нас нежелательных? В этом смысле, насколько известно, вам и делались указания?
Беляев. — Во всяком случае, я могу ошибаться, но лично я считал наше положение военнопленных в Германии чрезвычайно тяжелым. Их нужно разделить определенно на три категории. Военнопленные, находящиеся в лагерях, или у нас — в местах водворения, военнопленные, находящиеся на разного рода работах, и у нас то же самое, и военнопленные, взятые, так сказать, на поле сражения, военнопленные, находящиеся еще в непосредственном распоряжении военного начальства до передачи их начальству тыловому. Вот три категории военнопленных. И, конечно, когда говоришь в общих чертах о положении, имеешь в виду одну категорию и не имеешь, может быть, в виду другой. Некоторые категории пленных содержатся гораздо лучше. Во всяком случае, все они содержатся различно. И я лично считал, что постоянное пребывание в Германии наших сестер милосердия дает им возможность смотреть на свои обязанности не так, как в первый раз во время поездки, когда они поневоле руководствовались только волей германских властей. Я думал, поэтому, что, постоянно пребывая там и действительно ознакомившись с условиями содержания пленных, они могут настоять на известном улучшении. Пребывание наших сестер милосердия там производило громадное впечатление на наших пленных. Они целовали им руки, они бросались к ним: они смотрели на сестер, как на своих спасительниц. Поэтому мне казалось, что действительно это для наших военнопленных спасение. Теперь вопрос — какой ценой это покупалось? Конечно, это покупалось только ценой взаимности. Мне приходилось слышать, что у нас прекрасно содержатся военнопленные в России, но у нас военнопленные содержались во многих случаях в очень тяжелых условиях. Теперь относительно шпионажа. Германская шпионская сеть так умно и расчетливо раскинута, что она достигает чрезвычайных целей, и, поэтому, для них этот шпионаж сестер милосердия есть номер тысячный какой-нибудь, сравнительно со средствами, которыми они располагают. Мы во всяком случае имели возможность так или иначе оградить их от возможности шпионить. Я вынес такое впечатление, что дело контр-разведки и борьбы со шпионажем у нас поставлено совершенно неумело. Нам не удалось раскрыть ни одной серьезной немецкой организации. Много мне пришлось портить крови и огорчаться по этому поводу. Поэтому я лично, как начальник генерального штаба, который более или менее знаком с порядками организации немцами шпионажа, придерживаюсь того мнения, что сколько-нибудь серьезно шпионить германские сестры не могли.
Председатель. — Вы несколько раз говорили о тяжести положения наших военнопленных в Германии. Что вы, как военный министр, сделали что-нибудь, чтобы облегчить их положение?
Беляев. — Мы безусловно старались сделать все то, что нам представлялось возможным.
Председатель. — Но что же вы делали?
Беляев. — Вот, например, комитет, сборы пожертвований.
Председатель. — Комитет под председательством кн. Голицына?
Апушкин. — А почему не были разрешаемы уличные сборы на нужды военнопленных?
Беляев. — Засим, устраивались им различного рода продовольственные запасы.
Председатель. — Военное министерство устраивало?
Беляев. — Да, через этот комитет. У нас были установлены стеснительные правила таможенные для отправления съестных припасов за-границу. Мы старались, насколько это представлялось возможным, облегчить эти правила в отношении посылок через этот комитет. Затем мне удалось добиться отмены наказаний подвешиванием. Подвешивание существует в военное время, как вид наказания в германской армии, как у нас, например, в военное время существовали розги. Следовательно, они законно применяли это дисциплинарное наказание, а у нас этого нет, у нас точка зрения на это подвешивание была другая. (Обращаясь к Апушкину.) По вопросу, который вы мне предложили, генерал Алексеев писал (это письмо есть в деле), что он лично признает всякое широкое ознакомление публики с предпринимаемыми у нас мероприятиями по облегчению положения наших военнопленных нежелательным, ибо оно приводит к тому, что у нижних чинов постепенно слагается такая точка зрения: значит, о пленных заботятся, и нечего бояться сдаваться в плен. Это письмо несколько раз обсуждалось в совете министров. Генерал Алексеев просил не печатать отчеты комитета императрицы Александры Федоровны относительно сбора пожертвований. Между тем, императрица желала, чтобы отчеты печатались.
Апушкин. — Почему одновременно с этим воспрещалось делать публичные сообщения тем, которые пережили немецкие зверства?
Беляев. — Я первый раз от вас слышу об этом. Мне известен другой факт. Как вам известно, у нас установлен был обмен инвалидов. Так вот, по поводу этого обмена Ставка писала нам, что желательно командировать в войска вернувшихся инвалидов с тем, чтобы они живым словом непосредственно перед своими товарищами раскрыли бы ужасы германского плена.
Председатель. — Кто предлагал это?
Беляев. — Генерал Алексеев. Вот какой была официальная точка зрения. Вы найдете все делопроизводство по этому поводу. Устанавливалось таким образом, откуда собрать партии, как определить денежные и суточные довольствия, на каких основаниях посылать. Так что то, о чем вы мне говорите, мне неизвестно; может быть, это относилось ко времени, когда я был в Румынии не у дел. Я лично не знаю, чтобы кому-нибудь запрещалось читать лекции относительно ужасов германского плена. Напротив, распространялись брошюры; есть, например, брошюра штаба главнокомандующего, присланная нам для рассылки во внутренние округа, нам подведомственные.
Апушкин. — Теперь я перейду к вопросу о привлечении к работам унтер-офицеров германских. В свое время министерство иностранных дел получило сведения от вернувшихся из Германии сестер, что у наших военнопленных унтер-офицеров разными способами вымогают согласие выходить на работы. Германцы заявили, что они делают по примеру того, как делается у нас. Тогда было заявлено американскому послу, что у нас есть случаи единичные, объясняемые тем обстоятельством, что у некоторых пленных унтер-офицеров не имеется определенных документов, указывающих на их звание, но, когда оно выясняется, их снимают с работ. Вот по этому поводу велась в главном управлении генерального штаба переписка, которая привела к вопросу о привлечении на работы германских военнопленных унтер-офицеров.
Беляев. — Этот вопрос возник во время моего отсутствия.
Апушкин. — Министерство иностранных дел сообщило об этом 7 января 1917 г.
Беляев. — Это, значит, когда я только что вступил. Как известно, у нас чрезвычайный недостаток в рабочих руках. Все министерства просили во что бы то ни стало, чтобы мы как-нибудь им предоставили военнопленных. Тогда и возник вопрос о привлечении пленных германских унтер-офицеров, и это должно было увеличить число тех пленных, которых мы давали в распоряжение министерств, на 40–50 тысяч человек.
Апушкин. — После того, как было получено сообщение министерства иностранных дел о том, что наших пленных унтер-офицеров заставляют работать, главное управление генерального штаба вошло к вам с докладом, в котором предлагало на началах взаимности привлечь германских унтер-офицеров к обязательному труду, при чем указывалось, что это привлечение чрезвычайно важно, так как увеличивает рабочие руки, примерно, до 50 тыс. человек, что в настоящее время, при острой потребности в рабочих руках, было бы весьма желательно. На этом докладе, от 11 января, вами написано: «согласен, но в нашем отзыве указать, что у нас соблюдаются постановления Стокгольмской комиссии и унтер-офицеры к работам не привлекаются». Это было 11 января, а 14 января, в виду такой резолюции, в которой, с одной стороны, «согласен», а с другой — ссылка на Стокгольмскую конвенцию, последовал второй доклад, который по существу вкратце повторяет то же самое, ссылаясь на резолюцию от 11 января: «Считаю долгом доложить, что военный министр не встречает препятствий к заключению особого соглашения об использовании труда военнопленных унтер-офицеров…» (читает). На этом докладе 14 января вами положена резолюция: «Это все не то, повидимому, моя мысль не понята правильно, а со стороны отдела вопрос разрешается недостаточно продуманно».
Беляев. — Я сказал, что этот вопрос возник до меня. Вы указываете на доклад 7 января 1917 г. Я вступил, кажется, 5-го января. Вы можете мне дать доклад 7 января?
Апушкин. — Доклада от 7 января нет, есть сообщение министерства внутренних дел.
Беляев (читает). — «В силу особых соглашений, заключенных между…». Изволите видеть, моя заметка «согласен» относится к общим мероприятиям.
Апушкин. — К какому общему мероприятию, когда вопрос сводится только к привлечению унтер-офицеров?
Беляев. — К вопросу о привлечении унтер-офицеров, но затем сказано: «Ныне правительства Германии и Австрии обратились» и т. д.… (читает)… «в нашем отзыве указать, что у нас соблюдается постановление Стокгольмской комиссии, и унтер-офицеры к работе не привлекаются». Значит, в этой бумаге два вопроса: нас обвиняют в том, что мы отступили от Стокгольмского соглашения, и второй вопрос в том, что теперь нужно принять такое-то решение относительно привлечения. И вот моя резолюция отвечает на оба вопроса.
Председатель. — Позвольте вас так понять, что вы этой резолюцией имели в виду опровергнуть факт неправильного привлечения в прошлом, а в виду привлечения унтер-офицеров в Германии, на будущее время привлекать унтер-офицеров германских?
Беляев. — Совершенно верно. На меня вообще производил тяжелое впечатление этот отдел работ, отдел военнопленных. Я в своей работе всегда стремился добиться определенных результатов. Одно это — разрешать вопрос относительно прошлого, другое — относительно будущего.
Апушкин. — Вопрос идет о настоящем — привлечь сейчас.
Беляев. — Будущее — относительно времени подписания резолюции (читает доклад от 14 января 1917 г.).
Апушкин. — Эта частность иллюстрирует потребность в рабочих руках германских унтер-офицеров. Тут вопрос общий, который был в первом докладе и во втором, но только он иллюстрируется совершенно определенными фактами.
Беляев. — Значит: назначить 35 т. военнопленных туда-то и 3 т. сюда. Вот мое разрешение или неразрешение и требовалось по этому вопросу. Конечно, я не считал себя в праве взять таким образом 35 т. пленных и направить туда-то и 3 т. направить сюда. Дело в том, что у нас к этому времени поступили колоссальные заявления о недостатке рабочих рук. Во всяком случае мне, как министру, как лицу, участвующему в заседаниях совета министров, имеющему постоянное общение с министрами, мне была известна потребность каждого министерства, и поэтому, как я мог так легко взять, так сказать, и разрешить 35 т. туда-то. Надо было взять в соображение все потребности, которые у нас были в отношении военнопленных, и, так сказать, соответственную часть назначить, т.-е. нужно было все взвесить перед тем, как принять решение, чтобы из 50 т. — 40 т. были назначены.
Апушкин. — На основной вопрос ответа все-таки не последовало. Он был разрешон, но ваша мысль была непонята, и она осталась непонятой, потому что вы целый доклад свели к вопросу о 35 т., вместо разрешения общего вопроса. Затем, третий доклад, от 19 января, тоже имеет указания на отдельный случай, который иллюстрирует потребность в привлечении (читает): «Казалось бы возможным осуществить и у нас привлечение…». Вы в резолюции написали: «Ведь я указал в резолюции 15 января, что прошу лично переговорить». Затем имеется доклад от 10 февраля: «В виду сего единственным источником является… (читает)». Резолюции по этому поводу нет. Наконец, есть ходатайство товарища министра Кислякова, на которое вы приказали ответить: «В пленных на работы к генералу Кислякову надо отказать; уведомить, что прежде всего подлежит откомандировать 40 т. пленных для сельско-хозяйственных работ в Бессарабскую и Херсонскую губ.». Тут есть далее письмо министра торговли и промышленности с просьбой дать воинские команды в 1 т. человек или 555 чел. способных к физическому труду, на что положена резолюция: «Ответить, что у нас таковых нет». Вами затем подписано письмо кн. Шаховскому о том, что не имеется 500 чел. пленных. Я обращаю внимание на эту цифру и на то, что, как вы объясняли, 30–40 т. у нас имеется.
Беляев. — На эти вопросы быстро ответить нельзя. Выхвачены отдельные бумаги из дела, но нужно осветить весь вопрос в целом. Как я сказал, нужда в рабочих была колоссальная: в это время как раз возник вопрос об организации наших сельско-хозяйственных работ. Этот вопрос составлял предмет особого обсуждения совета министров. Был представлен особый журнал государю, и был мой доклад по этому вопросу государю — по вопросу о том, чтобы распустить нижних чинов из запасного баталиона и привлечь их в феврале к сельско-хозяйственным работам. С другой стороны, положение было таково, что никакие дальнейшие наборы и призывы раньше ноября произведены быть не могут: почти все источники укомплектования армии были исчерпаны, а с другой стороны, недостаток в рабочих руках исключил возможность дальнейшего изъятия людей. Это мне, как военному министру, было совершенно ясно. Мы обязаны удовлетворять потребности действующей армии, а требования действующей армии к нам поступали колоссальные.
Апушкин. — Пожалуйста, ближе к вопросу о пленных унтер-офицерах.
Беляев. — Так очень трудно сказать, — вы берете отдельные две бумаги. Вы изволите говорить о том, что я отказал в 500 человеках. У нас колоссальные потребности были. Лично мне было совершенно понятно, в чем заключалась наиболее острая нужда — это, конечно, сельскохозяйственные работы, которые тут сейчас же наступали, например, в Бессарабской, Херсонской, Екатеринославской губ., и особенное настояние было относительно этих 40 т. человек. Трудные условия транспорта не позволяли переводить продовольствие в Румынию, нужно было иметь их под рукой, и вот в это время от нас требуют, чтобы мы растратили единственный капитал, который мы имеем. Конечно, мне легко было бы написать «согласен, разрешаю», но мне нужно было дать их туда, куда действительно это представлялось необходимым. Должна была быть организована комиссия, так как я лично не хотел принимать на себя это решение, это не была потребность военного ведомства. Пускай с ведома других министров будет, так сказать, санкционировано распределение нашего последнего источника — и тогда я вам дам. Там просили 35 т., там 3 т. Когда кн. Шаховской узнал, что нас совершенно нет пленных, он просил дать 500 нижних чинов. В феврале еще сельско-хозяйственных работ не было, нужно было набирать сельско-хозяйственных рабочих, и когда, действительно, выяснилась неотложная потребность, то в ту минуту их негде было взять. Нам говорили: если вы не можете дать пленных, дайте нижних чинов. У нас нижние чины к этому времени были наперечет, и мы не имели возможности рассчитывать на производство дальнейших призывов, между тем, мы приближались к весне, к возможному развитию военных действий, и вот в это время от меня требуют, чтобы я ухудшил укомплектование действующей армии.
Апушкин. — Вопрос идет не об укомплектовании действующей армии, а о военнопленных. Я прочитал вам письмо, оно говорит о пленных. Я понял, что вы не желаете растрачивать их по частям, не соображаясь с прочими потребностями.
Беляев. — Укажите все потребности и потом берите кому нужно, я их не держу, берите — вот моя мысль.
Апушкин. — Позвольте вашему вниманию представить свод постановлений, сделанных советом министров по некоторым вопросам от 2 февраля 1917 г., где пункт 18 говорит: «Предоставить военному министерству войти в самые подробные соображения по вопросу о возможности хотя бы некоторого увеличения числа могущих быть предоставленными для нужд сельского хозяйства военнопленных» (читает). Это было 2 февраля. Что со 2 февраля по день обращения к вам министра торговли кн. Шаховского, которое было 21 февраля, что вами было сделано, раз товарищ министра путей сообщения Кисляков и министр торговли указывают на критическое положение и на крайнюю необходимость рабочих рук?
Беляев. — В это время происходили сношения относительно предоставления этих пленных, главным образом, в южные губернии. У меня была такая мысль: прежде всего сельско-хозяйственные работы. Это была затрата того капитала, который должен был нам принести проценты в будущем. Следовательно, нужно было направить рабочие силы туда, где они в это время наиболее необходимы. Как раз главный начальник по снабжению юго-западного фронта возбудил вопрос относительно назначения пленных на юг. Но тут же был целый ряд других требований со стороны штаба верховного главнокомандующего об отправке их на различные работы, на строевые организации. Может быть, делались сношения штаба Румынского фронта со штабом верховного главнокомандующего относительно того, каким образом мы могли бы это предоставить. Но у меня была цель — дать сейчас же на сельско-хозяйственные работы.
Апушкин. — Я обращаю ваше внимание на те слова, которые были сказаны вами в самом начале, что вы не желали единолично растрачивать, вы желали сделать это с ведома и совместно с другими министрами. Между тем, по вопросу о сельско-хозяйственных работах, вы единолично принимали некоторые решения.
Беляев. — Это было решено в совете министров.
Апушкин. — Я не вижу никаких мероприятий с вашей стороны по осуществлению этого постановления. Я желал бы их выяснить.
Беляев. — Вы в дальнейшем убедитесь, когда увидите особый журнал совета министров. Все время обсуждался этот вопрос. Потом я представил особый всеподданнейший доклад, и был возбужден вопрос о том, чтобы нам распустить сборные пункты новобранцев и направить их на сельско-хозяйственные работы. Этого сделать нельзя было, и мы должны были изыскать тот контингент старых служащих, или, вернее, старших возрастов, непригодных для укомплектования строевых частей, которых мы могли бы послать на сельско-хозяйственные работы, подобно тому, как это было сделано летом 1916 года. Действительно, если я не ошибаюсь, 26 или 27 февраля я получил утвержденный государем императором доклад именно в этом смысле. Вот на этом, собственно говоря, и закончилась моя деятельность в этом вопросе.
Председатель. — Чтобы закончить, позвольте еще предложить вопрос: вы все-таки нам не сказали, зачем к вам приезжал Распутин и в чем заключалась ваша с ним беседа?
Беляев. — Он у меня пробыл всего три-четыре минуты. Я увидел, что это совершенно необразованный мужик, который не может высказать трех-четырех фраз сколько-нибудь связных.
Председатель. — Это ваше впечатление. Но нас интересует факт — зачем он к вам приехал, что он вам говорил?
Беляев. — «Может ли он просить, чтобы Анна Александровна обращалась ко мне, если будут какие-нибудь просьбы». Я сказал: «Пусть напишет». Вот в чем заключалась беседа.
Председатель. — Вам не показалось странным, что вам телефонируют о том, что такой-то человек хочет к вам приехать, он приезжает и говорит вам только это?
Беляев. — Мне это показалось странным.
Председатель. — Не может быть, чтобы одна эта фраза была им сказана. У вас память очень хорошая, что было сказано еще?
Беляев. — Он говорил, что к нему обращаются, что он желает оказывать помощь и что он очень хотел бы обращаться иногда ко мне в тех случаях, когда это понадобится. Вот смысл.
Председатель. — Он один приезжал или с кем-нибудь?
Беляев. — Один.
Председатель. — Ваши объяснения прерываются до послезавтра.
Беляев. — Позвольте к вам обратиться с просьбой. Когда нам говорил министр юстиции об учреждении Чрезвычайной Следственной Комиссии, он сказал так, — я отлично помню — это было 9 марта, — он сказал, что мера пресечения будет изменена. Я бы покорнейше просил об этом, я здоровье потерял. Вы не можете представить, до какой степени я теперь скверно себя чувствую. Я даю честное слово, я не преступник в моих действиях. Я мог сделать ошибку, упущение, но, конечно, преступного ничего. Я знаю это и совершенно спокоен. Конечно, у каждого различные точки зрения, можно подойти различно к каждому распоряжению, к каждому факту. Я попросил бы, нельзя ли, пожалуйста, как только окажется возможным, изменить меру пресечения относительно меня. Вы имеете дело, я вам даю слово, не с преступником. (Обращаясь к председателю.) Вы меня не изволите знать, но в Москве может быть слышали обо мне. Ко мне постоянно обращались — председатель городского союза, председатель земского союза…
Председатель. — Вы пока за нами не числитесь.
Беляев. — Министр сказал: «Я вас передаю в распоряжение Верховной Следственной Комиссии, так что завтра, послезавтра — это значит 10–11 марта — мера пресечения будет изменена». Я с 9 марта каждый день ожидаю.
Председатель. — Я сомневаюсь, чтобы вам министр сказал категорически, что относительно вас мера будет изменена.
Беляев. — Он не мне сказал. Нас в коридоре стояло несколько лиц. Это было в присутствии коменданта, и эта фраза была сказана.
Председатель. — Я должен сказать вам, что вы формально числитесь за министром и можете лично обращаться к нему, но мы должны расследовать ваше дело, и когда мы его расследуем, — мы очень с этим торопимся, — тогда выяснится вопрос, поступаете ли вы в наше ведение.
Беляев. — Я вас уверяю, что я какую угодно подписку дам.
Председатель. — Вы понимаете, что здесь целый ряд соображений, которые должны быть приняты во внимание. Я понимаю чувство каждого заключенного, желающего выйти на свободу. Но ведь если немножко вы подумаете над этим вопросом, вы увидите, что он содержит в себе ряд очень сложных соображений и что надо принять во внимание все эти соображения, о которых мы не будем говорить.
Беляев. — Я с первого марта ничего не знаю. Вы не можете себе представить, как это трудно и тяжело. Будьте любезны иметь мою просьбу в виду.
Председатель. — Мы рассмотрим ваше дело как можно скорее, и к вопросу о переходе вас в ведение нашей Комиссии и к вопросу о мере пресечения, который вместе с тем возникнет, — к этим вопросам мы отнесемся с большим вниманием.
Беляев. — Значит, не исполнилось предположение министра юстиции, который, как мне кажется, сказал: «Вы переданы в распоряжение Следственной Комиссии».
Председатель. — Этого не могло быть.
Комендант. — Что вы будете переданы, но срок не был указан.
Беляев. — Выражение: «завтра, послезавтра», — а это было 9 марта. Я совершенно больной.
Председатель. — Вы не вполне точно поняли. Ясно, что смысл несколько дней. Вы понимаете, что целый ряд дел нужно рассмотреть. Мы усиленно над этим работаем. И как только мы рассмотрим, сейчас же выяснится в этом отношении и ваше положение. Объяснения ваши будут продолжены послезавтра или в пятницу.
XXII. Допрос ген. М. А. Беляева. 19 апреля 1917 г.
Содержание: Назначение в заграничную поездку. Роль Беляева в качестве осведомителя министра финансов. Взаимоотношения Беляева и министра Барка. Положение в делегации генерала Михельсона. Условия займа. Связь вопросов валюты с вопросами снабжения. Условия соглашения. Отчет генерала Михельсона и отношение к нему Беляева. Уступчивость Беляева при заключении займа. Соображения его по этому поведу. Вопрос о тоннаже. Вмешательство генерала Михельсона в прения. Переговоры. Письмо Гучкова генералу Алексееву. Окончание переговоров и отъезд из Англии. Вопрос о винтовках. Предложение Англии. Уступка нами 200.000 ружей Румынии. Поставка винтовок из Америки. Предоставление нам ружей союзниками. Вопрос о полевых прожекторах. Условия заказа прожекторов. Приемная комиссия. Роль Сухомлинова. Переговоры относительно заказа. Отношение чинов ведомства к заказу. Воздухоплавательный отдел. Вопрос о военной цензуре. Военная цензура и сведения о забастовках заводов. Военная цензура и совещание об устройстве Польши. Дни переворота. Генерал Хабалов. Меры предотвращения волнений. Назначение генерала Занкевича. Уничтожение генералом Беляевым секретных документов. Войска генерала Иванова. Телеграмма из Ставки. Роль генерала Хабалова и генерала Занкевича. Расположение войск. Заседания у председателя совета министров. Арест рабочих военно-промышленного комитета. Меры пресечения волнений. Меры для поддержания порядка. Пулеметная стрельба. Телеграмма б. государя генералу Хабалову. Посылка телеграммы б. государю. Позиция Протопопова и других министров. Дальнейший ход развития событий. Отставка Протопопова и назначение Макаренко. Отмена назначения Макаренко. Телеграмма в. кн. Михаила Александровича б. государю и ответ на нее. Контр-разведка. Распутин. Ходатайства разных лиц у военного министра. Отношения с кн. Андрониковым. Заключительное слово.
* * *
Апушкин. — Господин генерал, будьте добры кратко рассказать обстоятельства, при которых состоялось ваше назначение в заграничную поездку вместе с министром Барком.
Беляев. — 4–5 июня я получил от военного министра Шуваева телеграмму, присланную ему генералом Алексеевым. Генерал Алексеев писал, что по высочайшему повелению, совместно с министром финансов командированы за границу начальник генерального штаба генерал Беляев и генерал Михельсон. На телеграмме была резолюция военного министра: «Командировать генерала Беляева или генерала Михельсона». Другими словами, положение было такое — поездка министра финансов была решена заранее, он уже, кажется, ездил третий раз, но так как в предшествующих поездках выяснилась необходимость присутствия военного лица, которое бы знало все обстоятельства и потребности военного ведомства, то он об этом и доложил теперь.
Апушкин. — Вам было известно, что генерал Михельсон предназначался к поездке еще ранее вашего назначения?
Беляев. — Нет, я узнал об этом из телеграммы, полученной из Ставки.
Апушкин. — Вам не известно, было спрошено по этому поводу мнение военного министра.
Беляев. — Неизвестно.
Апушкин. — Вы видели после этого военного министра?
Беляев. — Видел.
Апушкин. — Перед отъездом в Лондон вы были в Ставке?
Беляев. — Нет. Я помню, было таким образом: телеграмма, кажется, была получена в пятницу, а поездка назначена в понедельник или вторник.
Апушкин. — При вашем назначении вы не получили из Ставки никаких определенных инструкций?
Беляев. — Никаких определенных инструкций я оттуда не получил, но так как мне были известны некоторые обстоятельства по вопросу потребностей заграницей, то я снесся с генералом Алексеевым. У нас только что перед этим были командированы туда наши войска, первая наша бригада. Мне было поручено, между прочим, во время пребывания во Франции, посетить эту бригаду.
Апушкин. — Как вы объясняли свою роль — в качестве осведомителя министра финансов?
Беляев. — Это была уже не первая поездка за границу, где с самого начала войны стремились установить более тесные и непосредственные сношения с центральным управлением в Петрограде, потому что по всем заграничным заказам у нас постоянно происходили недоразумения. Чтобы разъяснить их, был, между прочим, приглашен лорд Китченер и от нас генерал Поливанов. С той же целью военное ведомство командировало за границу адмирала Русина, артиллерийского полковника Федорова и одного военного инженера. Когда вторично, в июле или августе 1916 года, министр финансов ездил за границу, то условия, на которых военный заем был заключен, вытекали из данных, сообщенных ему нашим управлением. Конечно, данные эти были неполными, был целый ряд, так сказать, недоразумений, многое не было сообщено, многие потребности, которые выяснились постепенно, не могли быть приняты к учету при заключении первого займа. Во всяком случае, в период с октября 1915 года по май-июнь 1916 года, выяснился ряд затруднений, проистекавших от того, что министр финансов заключал заем на потребности военного ведомства, связанные с войной, не имея непосредственно при себе специалистов этого дела. Мне, как помощнику военного министра, всегда и раньше казалось, что при последующих поездках при министре финансов должно быть лицо, ближе знакомое с данным вопросом.
Апушкин. — Представляя так свою роль, вы в отношении министра финансов, являвшегося главой делегации, ставили себя в положение подчиненного?
Беляев. — Нет. По этому поводу у меня был разговор с военным министром генералом Шуваевым. Я высказывал генералу Шуваеву свои опасения относительно того, что моя роль может быть чрезвычайно затруднительна, потому что мне, больше, чем кому-либо в военном министерстве, известны условия, характер и порядок, которых нужно придерживаться при соглашении, и те потребности, которые нужно выдвинуть. Я говорю, потребности, так как из потребностей вытекала и сумма условий. Конечно, министр финансов может выдвигать соображения чисто финансового характера и подчинить им потребности военные: поэтому я спрашивал, не признает-ли военный министр необходимым выяснить положение старшего представителя военного министерства в этом деле. Ген. Шуваев вполне со мной согласился и тут же при мне начал говорить по этому поводу по телефону с Барком. Я отлично помню, он сказал, что Барк будет меня считать как бы заместителем военного министра, с заявлениями которого он должен считаться. Поэтому и я считал, что было два лица. Одно — уполномоченное военным министром в отношении всех потребностей военных, а другое — министр финансов — для того, чтобы согласовать возможность удовлетворения этих потребностей с соображениями чисто финансового характера.
Апушкин. — Так что общая государственная точка зрения принадлежала министру финансов? А вы могли, так сказать, инструктировать министра только в части, касающейся военных потребностей?
Беляев. — На этот ваш вопрос я затрудняюсь сразу ответить.
Апушкин. — Как же вы разграничили сферу своих взаимоотношений с министром финансов?
Беляев. — Так, что он будет основывать все свои финансовые заключения на данных, предъявляемых мною.
Апушкин. — За кем оставалось последнее слово в прениях по заключению займа?
Беляев. — В отношении нормы, величины, срока, порядка, пользования — это тоже имеет значение — это оставалось за мною, но в отношении условий чисто финансовых, например: какое количество золота должно было русское правительство внести, какие обязательства в отношении порядка уплаты мы принимали на себя при ликвидации этого дела, — это лежало всецело на министре финансов. Я лично так определил бы наши отношения: я говорил — что нужно, он — выяснял, как это можно сделать.
Апушкин. — Так что главой делегации оставался он?
Беляев. — Он был министром.
Апушкин. — А вы были его ближайшим советником и помощником?
Беляев. — Не скажу советником, потому что было, например, несколько заседаний предварительных, на которых с английской стороны участвовало только казначейство, словом, министр финансов. Да, было еще заседание в Лондоне, когда был французский министр финансов, Альбер Тома, итальянский министр финансов, английский министр финансов, русский министр финансов и я. Так что, собственно говоря, было несколько заседаний, и из них, может быть, одно-два заседания таких, на которых я являлся с ним наравне.
Апушкин. — Стало быть, письменных инструкций не было, и никакой переписки по этому поводу не производилось?
Беляев. — Это возникло за три-четыре дня. Кроме того, я уехал на день позже Барка.
Апушкин. — Министр Барк сам возбуждал вопрос о вашем назначении?
Беляев. — Если мне память не изменяет, телеграмма гласила так: «вследствие доклада министра финансов, высочайше повелено».
Апушкин. — Как вы понимали положение в делегации генерала Михельсона?
Беляев. — Генерал Михельсон был у нас председателем валютной комиссии, то-есть он был, так сказать, бухгалтером, приходо-расходчиком первоначального займа, а заем был заключен на условиях (может быть, это детали, но, мне кажется, в данном случае они необходимы), что 25 миллионов фунтов в месяц можно было фактически расходовать, то-есть на самом деле не расходовать, а нужно было предусматривать заказ, иными словами, если, например, заказ готов через много времени спустя, и если он обнимал собой сумму 25 миллионов, хотя бы платежи по этой сумме предстояли значительно позже — через полгода, тем не менее, раз контракт на это заключен, то доза нынешнего месяца считается исчерпанной. Затем обнимал собой период с 1-го октября по 1-е октября — 12 месяцев, а потребность в новом командировании уже явилась в июне; в мае уже поднялся вопрос. Это проистекало из-за того, что, в сущности говоря, к марту весь заем был как бы исчерпан, и военное ведомство получило фактически сравнительно очень мало. То-есть он не был исчерпан, но ведомство уже было связано заказом, который должен был поступить значительно позже.
Апушкни. — С какого времени генерал Михельсон занимал место председателя валютной комиссии?
Беляев. — Со времени ее учреждения.
Апушкин. — Чем вы объяснили назначение на такое чисто финансовое дело генерала генерального штаба?
Беляев. — Когда прошел закон 15 августа 1915 года, то-есть сформированы эти особые совещания и особое совещание по обороне, генерал Поливанов, организуя счетный отдел по военному займу, спросил, нет ли какого-нибудь свободного в нашем распоряжении чиновника. Генерал Михельсон был ранен, состоял при главном управлении генерального штаба, и я указал на него в числе лиц, на которых мог тогда указать.
Апушкин. — Почему к этому финансовому делу был приставлен генерал, а не знающий чиновник министерства финансов?
Беляев. — Затрудняюсь сказать, это выбор Поливанова, которому я доложил, когда он спросил, на кого я могу указать. Такой же вопрос был поставлен и другому помощнику, генералу Лукомскому.
Апушкин. — Не ставили ли вы в связь, что председатель должен быть в курсе потребностей военного ведомства на оборону?
Беляев. — Совершенно нет.
Апушкин. — Так что просто потому, что генерал Михельсон находился в резерве, был свободен, его сделали председателем комиссии?
Беляев. — Я себе это так объясняю. Мне был поставлен вопрос, на кого из чинов, состоящих при управлении генерального штаба, я могу указать, и я указал.
Апушкин. — Какую должность занимал генерал Михельсон до назначения председателем валютной комиссии?
Беляев. — Он был при мне в распоряжении генерального штаба.
Апушкин. — Какие поручения вы ему давали?
Беляев. — Он находился непосредственно в распоряжении генерал-квартирмейстера по части разведки и литературы иностранных государств.
Апушкин. — В какой степени вы привлекали генерала Михельсона к участию в ваших обсуждениях при заключении займа?
Беляев. — Генерал Михельсон должен был установить условия, которые нам нужно было принять. Засим, генерал Михельсон должен был устранить цифровые и всякого рода затруднения и недоразумения, бывшие в нашей отчетности и при несогласовании цифровых данных в нашей комиссии; это уже безусловно была его специальность.
Апушкин. — Я желаю выяснить себе ваше представление о связи вопроса валюты с вопросом снабжения.
Беляев. — Я не понимаю вашего вопроса, валюта или потребности?
Апушкин. — Валютная комиссия.
Беляев. — Она никакого отношения к этому вопросу не имела.
Апушкин. — Деятельность их связывалась кредитом, займом?
Беляев. — Они одобряли post factum порядок использования тех условий соглашения, которые будут достигнуты.
Апушкин. — А порядок условий входил в условия займа?
Беляев. — Входил, и в этом случае я пользовался и сообразовался с теми данными и теми недостатками и дефектами, которые определились при нашем первом займе. Или, как я говорил, наши главные затруднения заключались в том, что так как заказы поступают значительно позже заключения условий, то нам чрезвычайно важно было иметь право на первые месяцы помещать больше заказов. Там, как я говорил, было 25 миллионов, следовательно, мы не могли даже в первый месяц заказать, допустим, что-нибудь на 26-й или 27-й миллион. Поступало это значительно позже. Второй заем по этим соображениям был заключен так: он обнимал собою 6-месячный период, по 1-е апреля, в той же самой сумме 25 миллионов фунтов; следовательно, он обнимал собою 150 миллионов. Но в течение октября и ноября — я боюсь перепутать цифры — мы имели право израсходовать, кажется, 75 миллионов. Одним словом, в первые месяцы мы значительно больше расходовали, как они называли, engagements,[*] связывали себя условиями на значительно большую сумму, чем в последующие месяцы. Это было улучшение условий нашего соглашения.
Апушкин. — Следовательно, с генералом Михельсоном вы никаких разговоров не имели и о своих соображениях его не осведомляли?
Беляев. — Относительно наших потребностей осведомлять его мне не приходилось.
Апушкин. — Вами определенно было указано ему не присутствовать на совещаниях?
Беляев. — Напротив того. Он не присутствовал только на одном или на двух предварительных совещаниях. Во всех последующих совещаниях он участвовал, и должен сказать, что он себя не вполне тактично держал, то-есть, по крайней мере, он высказывал некоторые свои соображения, которые не согласовались с высказанными мною.
Апушкин. — Это, может быть, произошло от того, что вы не сговорились предварительно?
Беляев. — Я несколько раз с ним говорил, но дело в том, что он уже раньше предназначался к командированию, тогда как мое командирование было совершенно неожиданно, поэтому я не считал себя в праве давать ему какие-либо указания.
Апушкин. — Итак, вы вошли в состав делегации совершенно неожиданно, уже после того, как генерал Мнхельсон был предназначен?
Беляев. — Да.
Апушкин. — Тем не менее, вы не сочли нужным осведомиться, какие указания имел генерал Михельсон?
Беляев. — Напротив того. От военного министра было письмо министру финансов с указанием условий, на которых этот заем должен был быть заключен. Письмо это, которое я знал, и заключало инструкции генералу Михельсону.
Апушкин. — 28 и 29 июня, когда наша делегация переехала из Парижа в Лондон и начались предварительные совещания, вы заявили генералу Михельсону, чтобы он не присутствовал на этих заседаниях?
Беляев. — Это было первое заседание, на котором мне Барк сказал, должны были быть только министры, и поэтому предполагалось, что даже я не буду. Но так как потом французский министр Рибо приехал вместе с Альбером Тома, итальянский министр приехал с генералом Делорио, то и Барк приехал вместе со мною, как со старшим помощником военного министра.
Апушкин. — Параллельно с совещаниями 4-х министров финансов шли совещания министров снабжения?
Беляев. — Никаких совещаний министров снабжения не было. Английский министр снабжения Ллойд-Джордж не участвовал ни на одном совещании.
Апушкин. — Где же присутствовал Ллойд-Джордж?
Беляев. — Он нигде не присутствовал. У меня были с ним отдельные переговоры.
Апушкин. — Вам известно о рапорте, который подал генерал Михельсон?
Беляев. — То-есть отчет. Он мне известен. Генерал Михельсон препроводил мне его при особом письме.
Апушкин. — А вы какие-нибудь объяснения дали?
Беляев. — Никаких. На меня этот рапорт произвел в высшей степени грустное впечатление. Но у каждого свое мнение. Я в это время был назначен членом военного совета, считал свою роль исчерпанною и поэтому ни в какие разговоры и объяснения не входил.
Апушкин. — В этом рапорте, поданном военному министру, генерал Михельсон высказывал вам упрек в том, что вы были уступчивы и этим до некоторой степени повредили займу. Это вас никак не побудило реагировать?
Беляев. — Я знал, каким образом на это дело смотрел министр финансов, знал все положение дела. Кроме того, я вообще считал бестактным подачу подобного рода рапорта.
Апушкин. — Вы не считали это долгом его службы?
Беляев. — Конечно, нет. По-моему, это прямо указывало, насколько человек был незнаком с делом.
Апушкин. — В таком случае, зачем он был председателем валютной комиссии?
Беляев. — Валютная комиссия — одно, а вопрос о снабжении — другое.
Апушкин. — Но порядок расходования займа играет огромную роль.
Беляев. — Это тоже не его дело.
Апушкин. — Вы только что говорили, что это относится к обязанностям валютной комиссии.
Беляев. — Расходы определяет военный министр и особое совещание по обороне. А у генерала Михельсона была бухгалтерская часть.
Апушкин. — Но ведь он председатель валютной комиссии, а не бухгалтер?
Беляев. — Он — лицо, ведущее расчет по расходованию сумм займа. Дело в том, что постановление о производстве того или иного заказа производится в особом совещании по обороне. Условия заготовки, выработка рассматриваются в исполнительной комиссии при особом совещании по обороне. Постановления исполнительной комиссии утверждаются военным министром, председателем особого совещания по обороне, и вот в таком уже виде поступают к исполнению в валютную комиссию. Нужно заказать нам, допустим, такой-то миллион дистанционных трубок. Это обсуждается в особом совещании по обороне, и особое совещание постановляет — заказать или не заказать. Положим, заказать; тогда исполнительная комиссия разбирает условия заказа, и когда это исполнено, когда выполнены все предварительные сношения, делаемые с соответствующим главным управлением, когда получено согласие английского казначейства или английского министерства снабжения на принятие этого расхода, тогда уже отчеты переходят к валютной комиссии. Следовательно, это есть страж над суммами, над кредитами этого займа.
Апушкин. — Вы не считали себя уступчивым?
Беляев. — Напротив.
Апушкин. — А вы были уполномочены делать уступки?
Беляев. — Виноват, тут цель была такова — заключить заем, следовательно…
Апушкин. — В размере, потребном нам?
Беляев. — В размере действительной потребности военного министерства. Поэтому, конечно, я буду говорить одно, а другая сторона — противоположное.
Апушкин. — Вот это-то мы и ставим целью расследовать.
Беляев. — Значит, с одной стороны, русские уполномоченные будут говорить одно, а английские — другое. И если не считаться с теми заявлениями, которые поступают со стороны английских властей по этому вопросу, то в таком случае, казалось бы, и цель конференции являлась совершенно излишней, достаточно было сделать письменное или телеграфное сообщение, а потом обсуждать. Нет, командируется специальная конференция для выслушивания потребностей обеих сторон и для их согласования. Моя уступчивость в данном случае заключалась в чем? В ноябре предстояли выборы президента американской республики, и там обозначалась чрезвычайно сильная германофильская партия; поэтому, по мнению англичан, до ноября сделать заключение каких-либо займов в Америке не представлялось возможности. Засим рынок к тому времени был до такой степени исчерпан, что удовлетворение всех наших потребностей тоже не представлялось возможным. Наши предварительные заказы, связывающие наши кредиты на много времени вперед, указывали на полное несоответствие дальнейшего прохождения этого порядка. Засим тоннаж был чрезвычайно ограничен — перевозка до Архангельска, — наши северные железнодорожные линии совершенно не допускали перевозки всего того груза, который был. Лучше всего доказывается это вот, например, как раз тем, что ко времени сдачи мною военного министерства у нас во Владивостоке было сосредоточено 30 миллионов пудов, которые мы не могли перевезти. Я помню, как лорд Мак-Кенна, лорд казначейства, сказал: «Вы совершенно бесцельно, совершенно бессистемно расходуете ваш кредит и ваш тоннаж, вы не можете использовать его». Следовательно, основа была поставлена такая, сколько фактически можно нам предоставить тоннажа, и сколько мы можем фактически перевезти по железным дорогам.
Апушкин. — Но ведь вы возражали лорду-казначею относительно невозможности и относительно перевозки?
Беляев. — Да. Во-первых, я имел сведения относительно Мурманской железной дороги. У меня все данные о нашей провозоспособности по Сибирской железной дороге, Северной и Мурманской были подробно разработаны. Мы исходили из всех этих данных, и, действительно, исходные данные были такие, что могут перевезти наши железные дороги и речные пути по Северной Двине. Я отлично помню, один миллион сто тысяч тонн мы могли перевезти, считая от одной навигации до другой, но на самом деле наши надежды не оправдались. Как я говорю, 30 миллионов пудов лежало к марту месяцу во Владивостоке. Следовательно, начали исходить из этого. Тут пошли дальнейшие сокращения: американский рынок не может дать той стали, которую мы, так сказать, заявляли. Помню, они приводили такие данные, что до 1909 года вся Америка давала 4 миллиона тонн стали. В настоящее время, значит, ко времени заключения займа, в 1916 году, она уже дает 8–9 миллионов тонн стали. Следовательно, где же вы хотите, чтобы еще большее количество могли дать? Вот, я говорю, все эти соображения приходилось принимать во внимание. Наконец, Мак-Кенна говорил, что он положительно не может облагать столь большими налогами английское население для того, чтобы иметь возможность заключать заем для России. Тем не менее, несмотря на это, удалось заключить заем на таких условиях: прежняя форма была сохранена, то-есть те же 25 миллионов фунтов, а в отношении американских заказов там было несколько ограничено — 10 миллионов, если не ошибаюсь, в Америке, и 15 миллионов в Англии. Хотя опять-таки для англичан это не имело значения, потому что для заказов в Англии сырые материалы непосредственно получались из Америки, но это было ограничено 6-месячным сроком. Значит, 150 миллионов. И наконец, в самый порядок расходования было введено еще то улучшение, что мы получали этот кредит по месяцам, равномерно по 25 миллионов, и в октябре и ноябре мы могли израсходовать 75 миллионов. Одним словом, первые месяцы больше. Все это было основано на том, чтобы заказы были готовы к 1 июня. Но затем англичане поставили условие, чтобы мы заказывали такие предметы, которые могут поспеть к кампании ближайшей весны, то-есть могли быть доставлены к российским портам к 1 июня. Следовательно, я должен сказать, в положении лица, компетентного в этих вопросах, что в этом деле было достигнуто все, что представляется возможным действительно достигнуть.
Апушкин. — В переговорах о количестве и размере займа в связи со способностью наших железных дорог и водных путей перевезти заказы — вопрос распался на две группы: о перевозке по нашим железным дорогам, и затем о перевозке морем.
Беляев. — Совершенно верно.
Апушкин. — Вы опровергли цифры английского министра относительно железных дорог?
Беляев. — Да.
Апушкин. — Затем, по вопросу о тоннаже: было вмешательство в эти прения генерала Михельсона?
Беляев. — Было.
Апушкин. — Со ссылкою на высчитанный генералом Гермониусом вес заказываемых предметов?
Беляев. — Не помню. Вмешательство произвело очень неприятное впечатление. За исключением 4 судов Северной кампании и 13 судов Добровольного флота, тоннаж не наш. Насколько определенно можно было говорить о железных дорогах, настолько неопределенно приходилось считаться с вопросом о тоннаже. А что такое тоннаж, достаточно сказать, что именно в то время 80.000 тонн в неделю шло ко дну. Это было исчислено, и при таких условиях мы должны были знать, какое количество можно использовать.
Апушкин. — В общем, какое количество тоннажа они давали?
Беляев. — Они потом согласились дать тот тоннаж, который мы можем перевезти по железным дорогам. Дело в том, что на них, конечно, ужасное впечатление произвело то, что навигация в 1915 году была крайне для нас неудачная, так как Белое море замерзло исключительно рано. Я отлично помню, как в 1914 году навигация в Архангельске прекратилась 23 декабря, а в 1915 году — 30 октября. Более сотни судов, прибывших с грузом в Кольскую губу, зимовали там, то-есть из тоннажа союзнического было исключено громадное количество судов, которые не могли быть использованы, и у них было поставлено условие таким образом, что последнее судно будет отправлено то, которое может прийти в Архангельск 30 октября. Это мне тоже удалось опровергнуть, этого не было, это было отменено.
Апушкин. — У нас существовал договор с Англией относительно количества тоннажа, который она нам предоставляет?
Беляев. — Если я не ошибаюсь, у нас было весной 1915 года соглашение относительно порядка…
Апушкин. — Нет, относительно 2 миллионов тонн в одну навигацию; вам было известно об этом соглашении?
Беляев. — Кажется, было, — оно заключалось по морскому министерству.
Апушкин. — В одну навигацию. Видите ли, генерал Гермониус высчитал вес заказанных предметов в 3.200 тысяч тонн, а вторая навигация предоставляла нам 4 миллиона тонн, и таким образом вес заказанных предметов покрывался избытком.
Беляев. — Это все теоретические расчеты.
Апушкин. — Ведь вы не обвиняетесь сейчас в чем-либо, я от вас прошу только объяснений по тем вопросам, которые возникли из собранного материала. Когда вмешался генерал Михельсон, вы предложили ему остановиться?
Беляев. — Я не предлагал. Вам, вероятно, известен порядок, каким ведутся международные соглашения. Необходима известная тактичность, известное желание итти навстречу. Тон генерала Михельсона и его манера говорить, я не знаю как выразиться, были неприличны, недопустимы.
Апушкин. — В чем выражалась эта недопустимость?
Беляев. — Мак-Кенна чрезвычайно горячился и говорил, что он не может из-за невыполнимых фактических данных облагать для нас крупным налогом английское население. — «Вы, все равно, ничего не получите, у вас свыше ста судов зимовали, между тем, наши англичане платят». Тогда Михельсон сказал такую фразу. «В таком случае нечего говорить, что можно вести войну». Эта фраза произвела ужасное впечатление.
Апушкин. — Она была сказана по вопросу о тоннаже?
Беляев.— Я боюсь сказать, было ли это непосредственно по вопросу о тоннаже.
Апушкин. — Вы остановили генерала Михельсона?
Беляев. — Я вам говорю, что не считал себя в праве вмешиваться. Тут был министр финансов Барк, были чины министерства финансов; они не говорили, не приводили данных на справку. Я, конечно, понимал, что такт указывал, что от государства, от русского военного ведомства должно говорить одно лицо, но я не считал себя в праве это делать.
Апушкин. — Вы не помните фразу, сказанную вам на русском языке бывшим министром финансов: «Михаил Алексеевич, не уступайте».
Беляев. — Не помню. Простите, вы говорите на основании рапорта генерала Михельсона?
Апушкин. — Я его желаю проверить.
Беляев. — В таком случае, не будете ли вы любезны спросить об этом министра финансов Барка?
Апушкин. — Он будет спрошен; я только желаю проверить справедливость рапорта.
Беляев. — Я не отрицаю этой фразы, но боюсь сказать, может быть, она и была произнесена.[*] Я не помню.
Иванов. — Скажите, генерал, вы знаете содержание письма Гучкова к начальнику штаба верховного главнокомандующего Алексееву по вопросу о снабжении армии?
Беляев. — Это где упоминается моя фамилия? Мне известно одно письмо, где он, между прочим, писал по вопросу снабжения, в то время, когда я не был начальником штаба. Это письмо относится к августу. Между прочим, идет вопрос относительно ружей, как раз по поводу того, что я при английском совещании отказался от принятия заказа на ружья.
Апушкин. — Я вам еще раз напомню: в последний день переговоров с Мак-Кенна, во время прений, министр финансов Барк, заметив вашу склонность уступить требованиям, сказал вам по-русски: «Михаил Алексеевич, не уступайте».
Беляев. — Я наверное не знаю. Дело было вот в чем. Мы уехали из Англии, не подписав соглашения. Это неподписание соглашения хотя и относилось к чисто финансовой стороне, но именно я сам предложил его Барку, чтобы не производить впечатления, что вот они в конце концов все-таки принудили нас подписать. Неподписание вытекало из-за той суммы золота, которую нужно было внести туда. Тем более, что Барк сказал, что окончательно мы не можем ответить, что это зависит от русского совета министров — можем ли мы внести или нет. У меня была такая мысль, я не считал, что это было дело мое, это дело Барка — согласиться или нет. Но фраза «Не уступайте», — я ее не помню. Вы не знаете — по какой это части?
Апушкин. — Это относительно понижения до 75 миллионов.
Беляев. — Они все время собирались и толковали. Вопрос сводился к одному — 3-месячный заем. Мне особенно важно было — 25 миллионов в месяц, а как будет заключен заем — на 12 месяцев, 6 месяцев, 3 месяца, было все равно; не то, что все равно, но, понятно, основное условие было то, что финансовую помощь будут продолжать оказывать до окончания войны, следовательно, мне, как военному представителю, все равно.
Апушкин. — Разве не важно было заключить договор сразу на год?
Беляев: — Конечно, желательно, но меня в интересах военных это могло касаться в меньшей степени. Первоначально они нам предлагали на год 100 миллионов, это около 8 миллионов в месяц, после 300 миллионов. Вот к чему сводилось, и нужно было отцарапать во что бы то ни стало известную сумму в месяц (25 миллионов). Правда, это ставило в затруднительное положение наше финансовое ведомство.
Апушкин. — Я возвращаюсь к вопросу о соотношении ваших полномочий с полномочиями министра финансов.
Беляев. — Как я говорю, — и Барк это отлично понимал, порядок соглашения должен был подчиняться военным потребностям. Следовательно, если бы представитель военного ведомства заявил, что может принять это соглашение, то после этого уже должны были проистекать соглашения исключительно финансовые, на каких условиях мы соглашаемся на эту сумму займа.
Апушкин. — Но вы не предваряли министра финансов, что, как представитель военного министерства, вы считаете возможным пойти на это?
Беляев. — Говорить было трудно. Нас было 6–8 человек. Я уже говорил, как происходит международная конференция. Я лично избегал говорить по-русски.
Апушкин. — Но эта фраза была сказана Барком, который, вероятно, тоже избегал говорить по-русски?
Беляев. — Я сидел с ним рядом. Может быть, он мне сказал тихо. Я лично помню, что избегал говорить по-русски, именно, чтобы не казалось, что мы колеблемся, соглашаемся, как будто друг с другом торгуемся, а напротив — раз я прямо говорю по-французски, значит я заявляю.
Апушкин. — Вы, стало быть, ему заявляете в то же время и от лица министра финансов, если вы прямо говорите по-французски.
Беляев. — Разница между министром финансов и военным министром заключается в том, что военный министр говорит, что именно нужно, и тогда уже начинается роль министра финансов: сказать — как это нужно оформить. Следовательно, весь центр тяжести во время переговоров все-таки сосредоточивался на министре финансов.
Апушкин. — Но вы, заключая заем, как вы сами сказали, ставили Россию в очень тяжелые финансовые условия, создавали затруднения, так сказать, перекладывали тяжесть военного ведомства на всю Россию.
Беляев. — Та же самая сумма — 25 миллионов в месяц; военные условия не меняются.
Апушкин. — Генерал, будьте добры рассказать в самых кратких словах относительно английского предложения нам винтовок.
Беляев. — Вопрос о винтовках и раньше стоял у нас очень остро. Но затем выяснилась крайняя затруднительность в ружьях. Американские заводы принимали заказы очень легко, но заключали условия несуществующие заводы, которые выполняли их годами. Главным образом, все существующие заводы были завалены заказами Англии и Франции. У нас была переписка, не могут ли они нам уступить известное количество ружей своей английской системы «Энфильд». Затем, я приехал в июле, был под впечатлением нашего отступления из Галиции в мае-июне 1915 года. Уже к маю 1916 года вопрос о ружьях принял совершенно другой оборот. Наши заводы к этому времени подошли уже к тому, что выделывали от 80 тысяч до 100 тысяч в месяц; кроме того, утрата ружей у нас была значительно меньшая. Но мы перед тем получили 1.140 тысяч ружей из-за границы: из Англии, Франции и Италии, очень большое количество, и, следовательно, острота ружейного вопроса для нас отпала. Я отлично помню, в период переговоров с Альбером Тома, по вопросу относительно ружей, генерал-инспектор артиллерийского управления, великий князь Сергей Михайлович выразился, что у нас действующая армия вполне обеспечена ружьями. Не обеспеченными в должной мере являлись наши запасные батальоны, где не хватало полного количества ружей. В армиях был даже маленький излишек. Следовательно, если бы мы имели возможность сейчас же, осенью 1916 года, получить известное количество ружей, примерно 200 тысяч, а это было после получения ружей итальянских и французских, то, конечно, эти ружья были бы переданы нами в запасные батальоны, так как действующая армия была обеспечена. Нам англичане предлагали ружья к 1917 году. Понятное дело, тут я должен был раскрыть расчет нашего обеспечения ружьями и сказать, что к 1917 году нам ружья не нужны. Таким образом, они нам предлагали 500 тысяч ружей и назначили 1917 год, даже значительно позже. Я говорю: «Если бы явилась возможность дать нам осенью 1916 года 200 тысяч ружей, то это вполне бы удовлетворяло наши потребности. Но раз для вас это является невозможным, то, понятно, не на ружья, которые к тому времени нам уже будут не нужны, мы будем расходовать кредит-заем, который нам дается с таким трудом».
Апушкин. — Вы сейчас сказали, что вам нужно было осенью 200 тысяч винтовок. Вас сенатор Гарин спрашивал по вопросу о предложении англичан, и вы сказали, что вам предложено 200 тысяч.
Беляев. — Они предлагали до 700 тысяч, но начиная с 1917 года. Это было недоразумение. Дело в том, что когда со мной говорил сенатор Гарин, то выяснилось, что они нам могут дать в 1917 году. Предложение англичан сводилось к 1917 году, а как я говорю, в 1917 году положение было такое, что в течение 7 месяцев (у меня был расчет до июля) наши заводы изготовляли в среднем до 100 тысяч, они все время увеличивали производство, и, следовательно, мы эти 700 тысяч ружей получили бы свои. Правильность моей точки зрения подтверждается следующими данными: действительно кто-то Гарину сказал в особом совещании, будто бы вопрос сводился к тому, что английское правительство может дать ружья в 1916 году, а потом выяснилось, что в 1917 году. Затем, относительно правильности того, что у нас к 1917 году, даже в 1916, вопрос о ружьях вовсе не был такой острый, лучшим доказательством было то, что когда, после 15 августа, Румыния вступила в соглашение с нами, мы ей уступили во вторую половину 1916 года 200 тысяч ружей. Следовательно, ружья у нас были, и не только не было острой нужды в ружьях, но, как вы видите, мы оказались в состоянии даже уступить новому союзнику известное количество ружей. Кроме того, дальнейшее подтверждение заключается в том, что уж эта конференция, происходившая в январе 1917 года здесь, в Петрограде, с участием представителей Ставки, в частности, генерал-инспектора артиллерии, категорически отказалась от всякого нового заказа ружей заграницей. Следовательно, мне вопрос о ружьях был известен, и, как я говорю, последующие факты вполне подтвердили правильность соображений, которыми я руководствовался.
Апушкин. — Вам известно, что в начале 1916 года генерал Гермониус заявил, что «в дополнение к поставкам винтовок из Америки необходимо получить еще 2.700 тысяч винтовок до июля 1917 года»?
Беляев. — Этот расчет мне известен, но нужно внести поправку в то, что вы изволите говорить. У нас уже было заказано в декабре 1914 года, в январе и феврале 1915 года на двух американских заводах «Ремингтон» и, кажется, «Вестингаузен» полмиллиона ружей, и был еще один заказ, в настоящее время я забыл название, — небольшой заказ, — если не ошибаюсь, 100–150 тысяч ружей. Эти ружья по первоначальным условиям должны были поступать к нам с июля, одним словом, с середины 1915 года. На самом же деле, до середины 1916 года ни одного ружья к нам не поступило.
Апушкин. — Стало быть, потребность все-таки была?
Беляев. — Виноват, я говорю «Ремингтон» и «Вестингаузен». Поступил только этот третий заказ в 100 тысяч, и он как раз был продолжен. Этот завод фактически существовал и оказался в состоянии выполнить этот заказ. Важно было, чтобы завод завел свои машины. Когда положение с ружьями стало печальным, союзники, узнав об этом, предоставили нам 1.140 тысяч ружей. Следовательно, главнейшая потребность была пополнена ружьями французской системы новейшего образца, 1915 года, и 500 тысяч ружьями «Вейм»… Это были хорошие ружья, они вполне отвечали современным потребностям, были обеспечены патронами «Лебель» и пошли частью на Кавказ, частью в действующую армию и в запасные батальоны. Кроме того, англичане передали нам свой заказ на японские ружья — у них было заказано, если не ошибаюсь, 190 тысяч Японии. 100 тысяч ружей мы получили сейчас же, а 90 тысяч не получили. Когда я был в Англии, в июне месяце 1916 года, то поднялся вопрос о ружьях. Заказы не выполнялись англичанами, они были приняты в то время, когда завод не существовал. Затем, когда было поставлено производство, но мы на самом деле еще не получили ничего, они нам предложили еще известное количество ружей.
Апушкин. — Вы не помните, сколько?
Беляев. — Если не ошибаюсь, 2 миллиона, а 700 тысяч «Энфильда» перешли английскому правительству. Нам обещали, что с января 1916 года они начнут доставлять уже по 100–150 тысяч.
Апушкин. — Стало быть, это предложение было принято в особом совещании в апреле 1916 года?
Беляев. — В апреле 1916 года меня не было. Я знаю, что в конце пребывания военным министром генерала Поливанова им это было принято, но «при условии, если только действительно поставлено производство, в таком случае мы не отказываемся от дальнейшего изготовления заказов, пока будет продолжаться война». Но на самом деле из первого заказа ничего не поступило.
Апушкин. — От английского правительства или от американских заводов?
Беляев. — Если не ошибаюсь, от американских заводов. Теперь нам предлагают что же? Нам предлагают дать английские ружья нового образца в июле 1917 года, то-есть тогда, когда мы уже свои потребности в ружьях пополним, и когда то, что у нас не доставало, вполне покроется изготовленными на отечественных заводах. Следовательно, я так и заявил на конференции, что те 90 тысяч американских ружей, которые нам англичане обещали из 190 тысяч и которых мы еще не получили, должны быть нам доставлены как можно скорее. Засим, если есть ружья «Энфильда» (у нас этого образца не было) и их могут доставить сейчас, то это тоже представляется для нас необходимым. Если же, фактически, ружья «Энфильда» могут поступать только с 1917 года, то это для нас не представляется необходимым.
Апушкин. — Позвольте напомнить заявление, которое генерал Гермониус сделал английскому правительству по этому вопросу, очевидно, с согласия и с указания генерального штаба и Ставки. Он сделал заявление, что в дополнение к поставке винтовок из Америки необходимо получить 2.700.000 до июля 1917 года. Английское правительство 5 марта 1916 года предложило ему 2 миллиона английских винтовок английского калибра, при чем 500 тысяч должны быть доставлены в последнюю половину 1916 года, начиная с осени, 1 миллион 500 тысяч — в первые 6 месяцев 1917 года, вероятно, по 250 тысяч в месяц. Это предложение было еще раз подтверждено генералом Эллершау перед его приездом в Россию с лордом Китченером. Это верно или неверно?
Беляев. — Одно неверно: английское правительство не предлагает, а английское правительство принимает на себя обязательство разместить заказ. И потом, на самом деле, как оказалось в ближайшее после этого время, они дают из своих не миллион, а 700 тысяч, так как они миллиона не могут поставить. Следовательно, 1 миллион 700 тысяч только.
Апушкин. — Предложение было на 2 миллиона и 700 тысяч?
Беляев. — Да, и это было принято.
Апушкин. — Хотя бы путем заказа из арсенала 700 тысяч? Это было принято в апреле, в особом совещании?
Беляев. — Принципиально это было решено еще при генерале Поливанове.
Апушкин. — А вы в Лондоне заявили, что раз винтовки эти не могут быть доставлены до 1916 года, то они не нужны?
Беляев. — Потому что мы после этого получили 1 миллион 100 тысяч винтовок, и, как я говорю, в мае, во время пребывания моего в Ставке, вместе с французскими представителями, вопрос относительно винтовок выяснился. Действующая армия винтовками обеспечена. Необеспеченными являются запасные батальоны внутри империи, но и они были бы обеспечены, потому что каждый месяц давал свыше 100 тысяч наших винтовок. Следовательно, вопрос о винтовках стоял так: дайте нам сейчас, мы возьмем, а в 1917 году нам не нужно. И, действительно, мы даже в 1916 году 200 тысяч дали Румынии, может быть, дали меньше, но не менее 120 тысяч, то-есть, не получив от Англии, нашли возможным уделить из своего наличия нашим союзникам.
Апушкин. — Вопрос о такого рода предложении входил в компетенцию особого совещания?
Беляев. — Да, непременно.
Апушкин. — Так что первое предложение — англичане обещали устроить нам 2 миллиона 700 тысяч, прошло через особое совещание?
Беляев. — Да.
Апушкин. — Утверждено военным министром или нет?
Беляев. — Да, как всегда.
Апушкин. — А ваше отклонение в Лондоне? Почему вопрос о заявлении английского правительства, что оно не может, не внесли на рассмотрение особого совещания?
Беляев. — Было известно, кажется, в апреле, еще до моего отъезда, что это предложение — фикция.
Апушкин. — Но почему отклонение этой фикции все-таки в обратном порядке не прошло через особое совещание, а прямо попало в совет министров?
Беляев. — В совете министров? Я даже в первый раз слышу. Это дело главного артиллерийского управления. Оно заказывает.
Апушкин. — А начальник генерального штаба, если он принимал предложение, к этому отношения не имеет?
Беляев. — Помощник военного министра принимал. Я сказал бы, что между временем генерала Поливанова и генерала Шуваева была разница. Генерал Поливанов имел дело со своими помощниками, и помощники распределяли непосредственно между начальниками главных управлений. Генерал Шуваев имел непосредственное сношение с начальником главных управлений и освобождал нас от присутствия в особом совещании.[*]
Апушкин. — Так что начальник штаба не играл никакой роли при решении вопроса, нужны или не нужны винтовки?
Беляев. — Начальник генерального штаба обязан был исчислять и знать потребности действующей армии и заявлять их соответствующим главным управлениям, которые изыскивали средства к удовлетворению этих потребностей.
Апушкин. — Для меня остается непонятным, почему этот вопрос пошел мимо вас сразу в совет министров?
Беляев. — Я в первый раз слышу, что этот вопрос был в совете министров. Вы не можете сказать, когда он был?
Апушкин. — Очевидно, после вашего возвращения из Лондона, потому что вы заявили в Лондоне, что эти винтовки не нужны. Затем я хочу по новой группе обстоятельств предложить несколько вопросов. Вы не можете объяснить, почему заготовка полевых прожекторов была передана в управление генерального штаба?
Беляев. — Эти прожекторы испытывались в гусарском полку. Засим, когда решено было их заказать, началась балканская война 12 года; у нас, я как теперь помню, 17 октября было совещание по тем кредитам, которые мы должны испросить по мероприятиям, которые русскому военному министерству нужно принять, в виду тогдашнего состояния Европы. Я был начальником отдела по устройству службы войск. Генеральный штаб никакого отношения к заказам не имел, — что вот нужно заказать эти прожекторы по такой-то норме на полк или на батальон, при чем будто бы этот господин — фирма — заявил, что если будет проведена эта потребность по главному военно-техническому управлению, то цена одна, если будет другое управление, то цена на столько-то процентов ниже. Будто бы на 30%. При чем представитель этой фирмы Метальников указал цифры, которые он предлагал. Тогда было указано, чтобы это шло по главному управлению генерального штаба. Это было мне крайне неприятно. Я не знал, как это ведется. С другой стороны, я моим чинам сказал: вот какое положение, следовательно, в какой степени мы должны поддержать репутацию главного управления генерального штаба. Так как я знал, что, главным образом, этот вопрос касался приемки, я им, так сказать, и указал, как нужно действовать. Председателем приемной комиссии был назначен генерал Свенторжецкий, во всяком случае, техник этого дела, военный инженер.
Апушкин. — Кем был назначен генерал Свенторжецкий?
Беляев. — Я боюсь сказать, во всяком случае, не мною.
Апушкин. — Не вами, а вам называли кандидата?
Беляев. — Я его даже не знал раньше. Во всяком случае, приемщиком, председателем приемной комиссии должен быть техник, ибо мы не техники. Слава богу, о генеральном штабе не говорят, что он чисто ведет денежные дела, потому что он не ведет никаких денежных дел. И понятное дело, раз вопрос поставлен так, то я старался только поддержать.
Апушкин. — А какое отношение имел к этому делу полковник Кручинин?
Беляев. — Капитан Кручинин. Он был столоначальником в отделении, ведавшем распределением по частям.
Апушкин. — Ему давались определенные поручения?
Беляев. — Мною — нет. Я имел дело с начальниками отделений, а столоначальников я не знаю, я даже не знаю, у кого в столе велось это дело, но Кручинин был в это время, вероятно, столоначальником. Я особенное внимание обращал на то, чтобы действительно было нельзя ни в чем придраться. Я даже, например, указал членам комиссии на эти завтраки во время приема, — чтобы не принимали.
Смиттен. — Скажите, пожалуйста, генерал, вы указываете, что Сухомлинов подчеркнул, что хочет провести по генеральному штабу, а не по главному военно-техническому управлению, для того, чтобы удешевить заказ на 30%. Тут имелось указание на то, что в главном военно-техническом управлении 30% расходится по карманам чинов ведомства.
Беляев. — Я помню определенно бумажку, что был написан расчет, сколько будет, а на другой стороне была написана карандашем другая цена.
Смиттен. — Меня интересует вопрос, какое исключение из порядка было сделано генералом Сухомлиновым в отношении заказа прожекторов?
Беляев. — Это был первый и единственный заказ, который, я так думаю…
Иванов. — Он должен быть по военно-техническому управлению?
Беляев. — Это вопрос технического, военного снабжения.
Смиттен. — Не можете ли объяснить нам, что в данном случае по этому заказу генерал Сухомлинов выступил защитником интересов казны, тогда как в других заказах…
Беляев. — Я не могу по этому поводу говорить утвердительно. Это относилось к 12 году. Я был в 12 году начальником отдела по устройству службы войск, никакого отношения к этому не имел, и затрудняюсь высказать что-либо в этом отношении.
Смиттен. — У вас не было впечатления, что, собственно говоря, не в этом основание передачи заказов в генеральный штаб?
Беляев. — Откровенно говоря, было.
Смиттен. — Как вы объясняли себе это?
Беляев. — Как вам сказать, я вообще лично сомневался в пользе этих прожекторов. Действительно, опыт войны показал, что там они едва ли помогут — слишком близкое расстояние. Кавалерия очень скоро отказалась от этих прожекторов. Засим, меня откровенно удивляло, что переговоры велись непосредственно с военным министром. Мне казалось, что всякий должен был избегать сам вести переговоры.
Смиттен. — Даже и по материальной стороне вопроса? Относительно денежных условий заказа?
Беляев. — Условий — я не скажу. Цена, например, окончательная — да. То, что я говорю (показывает на листе бумаги), именно я и получил.
Апушкин. — От военного министра?
Беляев. — Боюсь сказать, между нами была посредствующая инстанция, генерал Жилинский, начальник генерального штаба.
Иванов. — Генерал Сухомлинов утвердил цены?
Беляев. — Нет, военный совет.
Иванов. — Но он утвердил?
Апушкин. — Это было сдано без торгов?
Беляев. — Да, это было без торгов; испытывались в течение года прожекторы Чанса, английские, которые ввел Промет. Тут торгов не могло быть. Это было специальное имущество. Меня это постоянно тяготило и не нравилось, как это велось. Я помню, я докладывал в 14 году о том, чтобы передать это из генерального штаба.
Апушкин. — А в чем собственно не нравилось?
Беляев. — В смысле приема не нравилось, в смысле снабжения.
Апушкин. — Не считали вы слишком широкими нормы, по которым снабжалось?
Беляев. — Нет, нормы не были широки. Этого я не могу сказать, но я видел, что генерал Свенторжецкий, как будто многое помимо меня делает, что я могу явиться прикрывающим что-нибудь. Поэтому, как только явилась возможность представить, что главный вопрос о ценах проведен, дело было возвращено в техническое ведомство.
Апушкин. — Каково было отношение чинов вашего отдела к исполнению этой работы? Не встречались ли вы с протестом со стороны генерала Шишкевича?
Беляев. — Шишкевич не был чином моего отдела. Он был у нас начальником воздухоплавательной части. Это была единственная в генеральном штабе снабжающая, довольствующая часть. Присутствие воздухоплавательной части в генеральном штабе являлось как бы нарушением общей программы деятельности генерального штаба. Я это отлично знаю, у меня вначале, как у начальника отдела, были сосредоточены кредиты, то-есть сметы, у меня была бухгалтерская часть, и поэтому все ассигновки проводились, так сказать, через мой отдел, так как я был всегда очень осторожен, каждую ассигновку подписывал сознательно. В этом отношении было мое соприкосновение с воздухоплавательным отделом, мне не подчиненным. Генерал Жилинский всегда сторонился всяких вопросов о каких-нибудь заказах. Я знаю, — опять-таки говорю, косвенно: это не в моем ведении, — что у него происходили с военным министром несогласия, недоразумения именно в области заказов и именно по воздухоплавательной части. Она была потом передана, кажется, по просьбе, по ходатайству генерала Жилинского, в техническое управление.
Апушкин. — У чинов отдела и вообще в штабе это не вызывало разговоров?
Беляев. — Я как-то всегда был у себя в кабинете, коридорных разговоров никогда не вел, и об этом вопросе из разговоров ничего не знаю. Я разговаривал только с генералом Жилинским.
Смиттен. — Я хочу вернуться к вопросу о прожекторах. Вам были известны отношения Метальникова к Свирскому, другу Сухомлинова?
Беляев. — В первый раз слышу.
Смиттен. — Получал Свирский от Метальникова, был он у него на содержании? Вы не знаете?
Беляев. — Ко мне приходил Метальников. И я сказал Метальникову, что он сделает глупость, если кому-нибудь в этом здании даст какую-нибудь взятку; я честью своею ручаюсь, что причитающиеся деньги будет получать чисто. Засим, ко мне раз приходил, когда Метальников был в Англии, какой-то его помощник. Эту фамилию, которую вы называли, Свирский, и что он близок к Сухомлинову, — я первый раз слышу.
Апушкин. — А генерал Дебошинский[*] был у вас в отделе?
Беляев. — Да, как же.
Апушкин. — Он не выражал неудовольствия такими заказами?
Беляев. — Я по крайней мере не знаю. Мы все были недовольны. Это было в октябре 12 года. Я был совершенно неопытный, так сказать, в этом деле.
Апушкин. — Скажите, пожалуйста, в каком отношении стояла к вам военная цензура?
Беляев. — На основании положения о военной цензуре, она была подчинена начальнику генерального штаба, это есть в приказе по военному ведомству; там вполне определяются отношения начальника генерального штаба и председателя главной цензурной комиссии.
Апушкин. — По поводу недопущения в периодических изданиях, вследствие запрещения военною цензурою, речей членов думы у вас не было переписки с кем-нибудь?
Беляев. — Военная цензура переживала целый ряд периодов. Я помню, вопрос о военной цензуре возбуждался и при Горемыкине, и при Штюрмере. К какому периоду вы это относите?
Апушкин. — К февралю 17 года.
Смиттен. — Военной цензуре депутатские речи стали подчиняться с ноября 16 года.
Беляев. — В ноябре я был в Румынии; в частности, газет совершенно не получал, потому что за два месяца, пока был в Румынии, получил всего 4 номера, 26 июля, если не ошибаюсь, 15 года было открытие новой сессии государственной думы. Тогда военным министром был генерал Поливанов. Он, по соглашению с председателем думы, просил, чтобы в день открытия, при декларации правительства и ответных речах, присутствовал председатель главной цензурной комиссии, генерал Звонников. Я спросил генерала Поливанова, какие собственно инструкции могут быть даны генералу Звонникову. Он сказал неопределенно. Это, кажется, было по указанию председателя… я боюсь сказать… одним словом, я получил такое указание. Засим он присутствовал, речи печатались, но, я помню, тогда не была пропущена одна речь, члена государственной думы Чхенкели или Чхеидзе. Она была напечатана через несколько дней. После первого заседания были ответные речи, обсуждения, декларация. Генерал Звонников должен был присутствовать, но ему не было дано вполне определенной инструкции. Я говорил тогда, что Звонникова мне ужасно жаль, так неопределенно его положение. Засим, открытие следующей сессии тоже было при Поливанове, я теперь не помню, к какому времени это относится, но знаю, что вторично был командирован генерал Звонников, и мне отлично помнится отсутствие вполне определенных ему указаний. На этом кончается август 1916 года. С августа 1916 года по 14 февраля 1917 года я ничего определенного сказать не могу, потому что вначале меня не было в России, а был я назначен 5 января, думы в это время не было. Я возбуждал вопрос относительно присутствия цензурной комиссии и именно благодаря тому (я это подчеркивал), что был командирован генерал Звонников, которому не давалось никаких определенных указаний и положение которого действительно было странное. Ему приходилось, как он мне говорил, по многим вопросам по телефону звонить главному начальнику округа князю Туманову и с ним советоваться, как поступить. Так как это служило известным возбуждением, я посоветовал высказать в совете министров ту точку зрения, что в отношении речей членов государственной думы не должно быть никаких пропусков и надо вообще разрешать их печатать, что те белые места, которые раньше допускались, производят самое противоположное впечатление. Поэтому, в совете министров было такое соглашение, что нужно разрешить полностью печатать все речи членов государственной думы. Когда я получил такое указание (это было накануне), я просил пожаловать ко мне председателя главной цензурной комиссии генерала Рубец, затем председателя цензурной комиссии, потому что, в сущности говоря, цензурная комиссия находится в ведении петроградской цензурной комиссии и, наконец, сенатора Плеве — помощника главного начальника округа, — и им было определенно указано, что было нужно.
Иванов. — Он возражал против вашего предложения или поддерживал его, чтобы речи членов государственной думы печатались без пропусков?
Беляев. — Без цензурных запрещений. Я высказывал в совете министров, что это приводит в конце концов к противоположным результатам. Накануне 14 февраля я их собрал и высказал это. Я помню, 14 февраля была произнесена речь членом государственной думы Пуришкевичем, а на следующий день им было высказано, опять-таки с кафедры о том, что делает цензура; он совершенно не узнает своей речи в газете. Меня это страшно удивило и возмутило, потому что, если бы я накануне не говорил с Плеве, человеком вполне уравновешенным, сведущим, знающим и руководящим этим делом, то это могло бы быть. Все это я прочел в газетах. Я просил, чтобы мне было доставлено объяснение, каким образом это могло произойти, и выяснить, каким образом происходит процедура помещения речей в газетах. Я узнал, что на самом деле это исполняется не так, как это было высказано мною, а делается таким образом: когда выходит стенограмма, ее дают органу главного управления по делам печати, который ее просматривает. Следовательно, то распоряжение, которое было сделано, все-таки было понято иначе. Он просматривает и в конечном виде передает органам печати, и они уже на основании этой стенограммы, в зависимости от величины газеты, от ее направления, своими словами передают речи. Поэтому, в частности, в отношении речи Пуришкевича было вычеркнуто четыре строчки и, к моему огорчению, лично относящихся ко мне два слова. Когда он характеризовал министров, про меня он сказал так: «человек бумаги и чернил» — это было вычеркнуто, к моему огорчению, так как я никогда на это не уполномочил бы и не обратил бы внимания. Раз я министр, я не могу запретить говорить обо мне то, что им угодно. Следовательно, вычеркнуто было четыре строчки, но обвинение Пуришкевича в том, что он не может узнать своей речи в газете, совершенно не относилось к военной цензуре. Вполне понятно, каждая газета может делать из материала то, что ей угодно. По существу же, нужно было одно — раз уже было принято решение не препятствовать ни в чем печатанию отчетов речей членов государственной думы, то в таком случае надо передавать именно то, что было произнесено; а на самом деле передавали не то. Я позволю себе еще сказать несколько слов относительно того, как вообще обвиняли военную цензуру. (Эта сессия государственной думы продолжалась с 14 февраля по 28 февраля, значит, две недели). Я помню одно, что я прочел в газетах речь, произнесенную членом государственной думы Коноваловым, в которой он говорил (вы, вероятно, помните, было объявление в газетах относительно двух рабочих группы членов Военно-промышленного комитета): «накануне говорили с председателем цензурной комиссии, было сообщено военному министру, и от них последовало разрешение на печатание. На самом деле, потом, ночью было сделано запрещение, и напечатано это не было, и только на следующий день, путем уже личных переговоров, удалось это напечатать». Меня это страшно огорчило, когда я прочел. Там был указан — военный министр; ничего подобного, я впервые узнал об этом. Это было в среду или в пятницу. У нас по средам и субботам были совещания. Значит, это было 18 февраля, я помню, я пришел в особое совещание, где были члены государственной думы Маклаков, Коновалов и Гучков; я сказал, что то, что вчера было высказано в государственной думе, обвинение в отношении цензурного распоряжения и в отношении меня, совершенно не соответствует действительности, так как я только сейчас об этом узнал: я завтракал дома и за завтраком прочел эту штуку. Коновалов на это говорил: «было постановлено вам послать». Я отвечаю: «да, но вы мне не послали, я не прочел. Вы говорили вчера, что в четверг была отправлена. Сегодня суббота, 2 часа, и я еще не получил». Гучков говорит: «действительно вам не послали, но вам пошлют». На самом деле я и потом не получил. Я приказал расследовать, как было дело в действительности. В 7 часов позвонили генералу Адабашу, председателю цензурной комиссии, и спросили: можно ли поместить такое объявление. Он ответил: «пришлите мне это объявление, и, если можно будет, оно будет помещено, а не видя его, я не могу сказать». Ему объявление прислали около 12 часов ночи, при чем, как он мне потом объяснил, никаких пометок на конверте — «срочно» или «спешно» — не было. Он тем не менее сейчас же вскрыл конверт и послал в цензурную комиссию. Там таким образом делалось: все, что нужно было поместить в официальном отделе, множилось на машинке. Он, конечно, разрешил это сделать, но тот, кто должен был выполнить эту работу, отложил ее до следующего утра. Вот как было на самом деле, как мне объяснили.
Апушкин. — В газете «Речь» от 22 февраля было напечатано два ваших письма, касающихся отношения вашего к военной цензуре. Во втором письме говорится: «По запросу государственной думы, по поводу непомещения в периодических изданиях, вследствие запрещения военной цензуры, речей членов думы, сообщенному сношением вашего превосходительства от 25 ноября минувшего года, за № 3069, имею честь, на основании ст.ст. 33 и 59 учр. гос. думы, довести до сведения государственной думы, что военная цензура в Петрограде, находящемся на театре военных действий, в силу ст. 14 «временного положения о военной цензуре», не состоит в ведении военного министра и до введения в действие положения военного совета от 3 сего февраля была подчинена главнокомандующему армиями северного фронта, а с изъятием, согласно упомянутого положения, Петроградского военного округа из ведения главнокомандующего армиями северного фронта, вошла в подчинение командующего войсками этого округа, с предоставлением ему в отношении всех произведений печати и тиснения, прав командующего армией, определенных ст. 145 высочайше утвержденного 16 июля 1914 года положения о полевом управлении войск. В силу же статей 93 и 411 этого положения, главнокомандующий армиями и командующий армией военному министру не подчинен и никакое правительственное место, учреждение и лицо в империи не могут давать им предписаний и требовать отчетов. В виду изложенного, я не имею возможности сообщить государственной думе требуемые упомянутым запросам разъяснения. Генерал-от-инфантерии М. Беляев». — Вы помните это письмо?
Беляев. — Помню.
Апушкин.— Каким образом согласовать то, что вы написали в этом письме, вот с этой телеграммой: «Петроград, Москва, Казань. По приказанию военного министра, принять меры к недопущению печатать о забастовках на заводах». Затем телефонограмма: «Старшему военному цензору при телеграфе, старшему военному цензору при бюро печати и петроградскому телеграфному агентству. Во исполнение приказания военного министра, прошу принять меры к недопущению печатать какие-либо сообщения о забастовках на заводах». 4 февраля 1917 года, подписано генерал-майором Адабашем. Все эти бумаги по существу однородны. «Прошу не допускать в печать речей, произнесенных сего числа членом государственной думы Родичевым». Это распоряжение, от 24 февраля 1917 года, в котором не имеется ссылки на ваше имя военного министра, сделано во исполнение особого письма или доклада, представленного вам генералом Адабашем; на нем имеется следующая ваша резолюция: «Печатать в газетах речей депутатов Родичева, Чхеидзе и Керенского завтра, 25 февраля, нельзя, но прошу не допускать белых мест в газетах, а равно каких-либо заметок по поводу этих речей».
Беляев. — Позвольте эти три вопроса расчленить.
Апушкин. — Пожалуйста, но тут один вопрос. Скажите, как согласовать ваше разъяснение, здесь данное, и письмо, правильность которого вы подтвердили, с резолюцией на этом письме?
Беляев. — Первоначально, позвольте высказаться по этому письму. Я говорю, петроградская цензурная комиссия находится на театре военных действий и подчинена командующему войсками округа, который подчинен главнокомандующему северного фронта. Следовательно, Петроград входил всецело в театр военных действий и руководствовался исключительно теми данными, которые определялись положением о полевом управлении войск, и той частью положения о военной цензуре, которая устанавливает известные цензурные правила для района театра военных действий и другие известные положения для прочих территорий империи. Этот вопрос мне неизвестен, он был сделан до меня, 25 ноября, и на меня только выпала, так сказать, ответственность по этому делу. Я помню, мне тогда был представлен ответ, который в такой же форме уже однажды был сообщен по такому же вопросу, в период управления генерала Поливанова, то-есть он являлся стереотипным в отношении театра военных действий: там уже придерживаются указаний главного начальства театра военных действий. Как я вам уже говорил, генерал Звонников должен был обращаться к князю Туманову — главному начальнику округа; другими словами, здесь, в Петрограде, до 3 февраля действовало положение о полевом управлении войск. Как я говорю, совершенно такое же письмо вы можете найти и в период управления генерала Поливанова, когда был сделан подобного же рода запрос. Конечно, это отписка. Вообще, этот вопрос обсуждался в совете министров — какое должно быть отношение, в случае, если бы речи приняли такое направление, которое может почему-либо показаться вредным для интересов, во всяком случае, военных. Извините меня за маленькое отступление, я все-таки придерживался всегда той точки зрения, что, конечно, чрезмерные раздоры между правительством и законодательными учреждениями в высшей степени неблагоприятны для нас, в том смысле, чтобы о них знали наши враги. Так что я лично, как военный, усматривал в этом одно из данных, в которое военная цензура должна вникать. Мы знаем, что в Германии запрещают печатать целый ряд сообщений. Вот первое — относительно того письма, которое помещено в газете «Речь».
Апушкин. — Это отписка, как вы сказали?
Смиттен. — Отписка, соответствующая действительности?
Беляев. — По существу, конечно, нет. По существу, понятно, всегда можно было призвать главного начальника округа и высказать. Эти вопросы доходили до совета министров, который имел суждение по этому вопросу. Следовательно, я говорю, что это чисто формально прикрыли себя положением о полевом управлении войск.
Иванов. — Это было напечатано, кажется, 22 февраля, в это время начальник военного округа не был подчинен главнокомандующему северным фронтом, а уже был подчинен военному министру.
Апушкин. — Это вопрос относительно 25 ноября; тогда еще был подчинен.
Беляев. — Вопрос относительно забастовок никакого отношения к этому не имеет, он предусмотрен тем перечнем сведений, которые, вообще говоря, не разрешаются к печатанию военной цензурой, это — чисто военные интересы: мы, конечно, должны были ограждать себя от того, чтобы в Германии и вообще наши враги знали, что у нас идут забастовки, что наши заводы не работают так, как они должны работать.
Апушкин. — Это вопрос другой, это не по существу. В этом же самом письме, в ответ на запрос 25 ноября, вы писали, что до введения в действие положения военного совета от 3 февраля военная петроградская цензура была подчинена главнокомандующему армиями северного фронта, а по изъятии Петроградского округа, стало быть, после 3 февраля «вошла в подчинение командующего войскам этого округа»; следовательно, запрещать печатать по вопросу о забастовках подлежало власти командующего Петроградским округом.
Беляев. — Эта телеграмма обнимала собою не только Петроград, но обнимала и внутренние округа.
Апушкин. — Москву, Казань, но и Петроград?
Беляев. — Вообще говоря, мы придерживались такой точки зрения. Конечно, самая главная пресса, это — петроградская и московская, она является преобладающей; но, конечно, чрезвычайно важна и киевская и одесская. Мы давали предписания московскому и казанскому внутренним округам и писали в Ставку, что мы сделали такое-то распоряжение по внутренним округам, на случай, если они признают необходимым сделать подобное же распоряжение и по своим военным округам. Но в отношении Петроградского округа у нас было соглашение со Ставкой, чтобы в некоторых случаях не возражали против того, чтобы мы входили в соглашение непосредственно с главным начальником округа. Во всяком случае, должен теперь сказать, что, конечно, в отношении цензуры, тут было не вполне правильное отношение, потому что сплошь и рядом совет министров — раньше, я помню, при Горемыкине — давал отправные данные.
Апушкин. — Я еще раз обращаю ваше внимание на то же письмо, где вы пишете, что высочайше утвержденным положением, в силу ст. 93 этого положения, командующий армиею военному министру не подчинен. В этом отношении вы принимаете меры независимо от главнокомандующего.
Беляев. — В чем?
Апушкин. — Давая распоряжение не печатать. 8 февраля, когда вы писали по поводу обсуждения государственного устройства Польши. Почему, как военный министр, вы брали на себя право отдавать приказания?
Беляев. — Я не брал на себя.
Апушкин. — Как же понимать вашу бумагу и вашу резолюцию? В данном случае к этому сводится вопрос.
Беляев. — На первом заседании по делам Польши, на котором присутствовало как раз несколько министров и председатели государственной думы и государственного совета, первое, с чего начали, что эти совещания должны носить настолько осторожный характер, чтобы отнюдь не вызвать какой-нибудь несбыточной мечты. Мы совершенно не знали, во что все выльется, как оно будет фактически расходиться с предположениями, а также, чтобы оно не вызвало каких-нибудь мечтаний несбыточных у поляков, а впоследствии упреков. Даже по предложению председателя государственной думы было решено, чтобы никаких заметок, ничего по поводу этого совещания не печаталось; именно мне, в ведении коего, как военного министра, находилась военная цензура, было дано указание, чтобы сейчас же сделать распоряжение. Поэтому немедленно, возвратясь с этого совещания, я сделал распоряжение для того, чтобы с завтрашнего дня не могли появиться заметки о том, что высказывались такие-то мнения, такие-то предположения и т. д. Это было совершенно сепаратно. Забастовки — одно, а относительно Польши — это совершенно отдельно, совершенно сепаратно, распоряжение, исходившее от председателя совета министров, председателя этого совещания.
Апушкин. — Но ведь вот в вашем отчете государственной думе вы обильно ссылаетесь на разного рода статьи и положения. Я желал бы знать, на какие, в данном случае, вы можете ссылаться статьи и положения, в силу которых могли бы приказывать не печатать то-то или печатать то-то? Вы, военный министр, и в данном случае командующий войсками могли получить приказание от председателя совета министров, вы для него не являлись непосредственною инстанциею, через которую это приказание должно было пройти.
Беляев. — Во всяком случае, председатель совета министров поручил мне. Я мог написать по приказанию совета министров, по поручению председателя совета министров.
Апушкин. — Не явилось ли совершенно обратное положение — председатель петроградской цензурной комиссии написал вам доклад.
Беляев. — Это другое. Мы же говорим о Польше.
Апушкин. — По существу это общий вопрос. Разграничивать этот вопрос не представляется надобности, потому что в данном случае везде от имени военного министра отдаются однородные приказания.
Беляев. — Относительно речи члена государственной думы Родичева было таким образом. Как раз было заседание совета министров, и председателем государственной думы было доложено, что произнесена членом государственной думы такая речь, которая якобы является призывом и т. д., при чем по телефону были переданы некоторые соображения. Как раз это было в зале заседания совета министров. Тогда председатель совета министров приказал мне принять меры, чтобы эта речь не печаталась.
Апушкин. — Почему вам приказано было? Это интересно.
Беляев. — Я затрудняюсь сказать.
Апушкин. — Почему вы не могли обратиться к командующему войсками?
Беляев. — Во-первых, я говорю, его здесь не было в заседании.
Апушкин. — Его можно было вызвать по телефону.
Беляев. — Получив такое приказание (то же самое, как по вопросу о Польше), я вызвал по телефону или лично генерала Хабалова и передал ему полученное мною лично приказание.
Апушкин. — Не только не устранили инстанцию, но…
Беляев. — Было признано, чтобы было передано через меня, а не непосредственно. Во всяком случае, это было не по моей инициативе. Это было мною полученное приказание.
Апушкин. — Отчего вы в резолюции на докладе генерала Адабаша не написали, что это относится к компетенции командующего войсками, а написали: «Печатать речи Родичева, Керенского нельзя». Вы и дальше идете, что даже белых мест не должно быть.
Беляев. — Это я получил поздно вечером в пятницу, когда происходило заседание совета министров по вопросу относительно передачи снабжения города Петрограда мукою в ведение города. Согласно приказания председателя совета министров, мне было велено это проверить. Я прочел. Там действительно были места, которые, я полагал, в то тревожное время, которое мы переживали… я не думал, что мы накануне 27–28 февраля, — ведь это было 25 февраля. События 27 и 28 показали совершенно другое. И вот, во исполнение полученных мною приказаний…
Иванов. — Во всяком случае, генерал, ваша резолюция — вы не будете отрицать — расходится с вашим заключением, высказанным в совете министров, что речи членов думы должны печататься без пропусков.
Беляев. — Она расходится в том отношении, что я тогда высказал, чтобы безусловно печаталось все, но этот раз был как бы исключительный случай.
Апушкин. — Последний период, это — события, относящиеся ко дню государственного переворота, при которых вы покинули вашу квартиру на Мойке.
Беляев. — Обстоятельства были следующие. Когда я переехал в квартиру на Мойке, где жил в течение 10–7 дней, моя квартира на Николаевской была оставлена за мною, там находились все мои вещи. В два часа дня я узнаю, что в моей квартире на Николаевской толпа произвела разгром. Я тогда решил отправиться… утром я говорил по телефону с морским министром, он мне сказал, что сидит у себя, в штабе, потому что, живя один в квартире, при этих беспорядках, опасается оставаться дома. Я тоже одинокий человек, один был, и потому решил перейти в генеральный штаб около двух часов дня, откуда хотел обратиться к кому-нибудь из членов государственной думы с просьбою, нельзя ли принять какие-нибудь меры к тому, чтобы прекратить разгром моей квартиры на Николаевской. Опять-таки, морской министр мне говорил, что он обратился в государственную думу, просил прислать охрану к нему в Адмиралтейство. Я взял и пришел в генеральный штаб, это было около 3–4 часов.
Иванов. — Это было которого числа?
Беляев. — 28, нет, виноват, не 28, а 1 марта. В среду, 1 марта, я покинул квартиру, перешел в генеральный штаб и тут узнал следующее. Накануне я тоже был в здании генерального штаба и заходил к одному генералу. Несколько минут просидел у него. Оказывается, ночью, на 1 марта, в половине второго, к нему пришли для того, чтобы арестовать меня, думая, что я там. Очевидно, кто-то дал знать. Меня это крайне удивило. Громят на моей квартире на Николаевской, ночью обращаются в здание генерального штаба на квартиру одного генерала, а между тем, я ночь с 28 на 1 марта совершенно спокойно провел у себя на Мойке. Я по обыкновению занимался, в половине второго пошел спать и проснулся, как всегда, около 7 часов. Из генерального штаба я позвонил в государственную думу, просил, не представляется ли возможности принять какие-нибудь меры охраны на Николаевской, чтобы прекратить разгром моей квартиры. К телефону подошел товарищ председателя государственной думы, Н. В. Некрасов. Он мне сказал так: «Я вам советую, отправьтесь в Петропавловскую крепость». Я говорю: «Как?». А Некрасов говорит: «Мой совет, лучше всего ехать в Петропавловскую крепость; вас там лучше всего защитят; вы будете в одном из казематов; но мой совет вам туда ехать». Меня это чрезвычайно удивило, так как я знал, что морской министр обратился уже, и ему прислали охрану. Я тогда приехал в государственную думу и думал сам обратиться. Меня знали в государственной думе. Чтобы выяснить… Я не скрывался во всяком случае… Приехал сам в государственную думу, сказал, что меня искали ночью. Я, сказал я, собственно, могу находиться в Петрограде, только, чтобы мне дали возможность превратиться поскорее в частного обывателя. Никаких препятствий и преград я не буду делать. Я могу указать две квартиры, где могу находиться. Подписку дам о невыезде. Мне сказали, что это зависит от члена государственной думы Керенского, и предложили мне отправиться в министерский павильон. Это было, кажется, около 6 часов. А потом, в 9 часов, меня перевезли сюда. Вот все обстоятельства дела.
Иванов. — Скажите, пожалуйста, кто командовал войсками в течение этого времени?
Беляев. — Генерал Хабалов, по постановлению совета министров…
Иванов. — Которого числа?
Беляев. — Сейчас вам скажу, в понедельник, значит, 27 февраля, когда началась крупная стрельба. Я помню, это было так: в пятницу и в субботу был вызов войск, но они решительно никакой стрельбы не производили, ничего не было. Я помню, как раз, говорил с генералом Хабаловым, и он говорил, что даже казаки, два казачьих полка, посланы не стрелять, а действовать нагайками, и посланы, чтобы, по возможности, успокаивать.
Иванов. — Он вам докладывал об этом?
Беляев. — Докладывал. Засим, уже в воскресенье, были случаи стрельбы. Я помню, ко мне звонил председатель государственной думы и спросил меня, нельзя ли принять меры к тому, чтобы, может быть, эту толпу рассредоточивать, вызвать пожарных, чтобы они обливали водою. Я позвонил генералу Хабалову, просил выяснить, не представляется ли возможность. Он через некоторое время ответил, что есть распоряжение, что пожарные команды никоим образом не могут быть вызываемы на прекращение беспорядков, а кроме того, вообще говоря, существует точка зрения, что окачивание водою всегда приводит к обратному действию, именно потому, что возбуждает. Поэтому я позвонил М. В. Родзянко и ему сказал.
Иванов. — Вы изволили сказать, что что-то произошло в изменении командования войсками. Значит, был Хабалов, а 27 вы начали говорить, что кому-то другому передали командование.
Беляев. — 27 утром было, как раз, совещание у председателя совета министров, на Моховой. На это совещание был вызван между прочим и генерал Хабалов. Тогда на меня и на совет министров он произвел впечатление, что растерялся и в недостаточной степени руководит. Действительно, положение его было чрезвычайно трудное. Он, командующий войсками, ему непосредственно подчинен начальник запасных войск, начальник запасной бригады в Петрограде, генерал… я забыл его фамилию, но тот уехал по болезни и отсутствовал. Собственно в Петрограде непосредственными помощниками Хабалова являлись полковники. Эти полковники были совершенно неопытные. По постановлению совета министров мне было приказано, чтобы я назначил одного из генералов. Я назначил генерала Занкевича.
Иванов. — Это было 27. Затем с 27 на 28 вы перешли в Адмиралтейство, после того, как был занят Зимний дворец; в Адмиралтействе, когда его защищали войска и часть войск защищала старое устройство, кто командовал? Вы были?
Беляев. — Я был. Тогда же, адмирал Григорович заявил, что он просит вообще покинуть здание Адмиралтейства, потому что ему заявили, что, если там останутся войска, то будет приступлено к расстрелянию Адмиралтейства. Тогда мы приняли решение, что в таком случае дальнейшая защита, дальнейшее действие войск является безусловно не достигающим цели, и войска были около 11 часов распущены.
Иванов. — А оружие куда сложили?
Беляев. — Было решено таким образом, по крайней мере, тогда, — там было 6 орудий, — замки спрятать в здании Адмиралтейства, а артиллерию отправить, — она из Стрельны прибыла, в походном порядке; засим пехотные части без оружия выпустить, так как было опасно проходить по улицам с ружьями. Я сам пришел в генеральный штаб, пробыл там до 3 часов и отправился на Мойку.
Иванов. — Что вы дома изволили делать?
Беляев. — Дома я занимался делами, так как поступали бумаги. А засим совершенно спокойно я там переночевал. Меня искали во многих местах. Почему не пришли на Мойку, я совершенно не понимаю.
Иванов. — Вы сохранили все ваши бумаги?
Беляев. — Когда мне сообщили, что мой дом громят, тогда я действительно побоялся… У меня были некоторые бумаги и, в особенности, материал по данным относительно конференции союзников.
Иванов. — Подлинные документы?
Беляев. — Один документ был подлинный, я считал необходимым его оставить. Это были те условия… я положил в ящик.
Председатель. — Я не понял. Почему вы оставили один документ?
Беляев. — Потому что это был единственный экземпляр документа, копий не было.
Председатель. — А что вы сожгли?
Беляев. — Все материалы, которые мы предъявляли союзникам, весь перечень наших потребностей, которые мы заявляли.
Иванов. — По снаряжению?
Беляев. — По снабжению. За эти материалы я чрезвычайно боялся… не дай бог, если их возьмет толпа. Это были все исключительные данные, весь перечень потребностей военного министерства. Я считал совершенно невозможным передать их в ведение громящей толпы. Ведь мне сказали, что громят мою квартиру. Я до сих пор не знаю, что сделали с моею квартирою.
Председатель. — Громили вашу квартиру на Николаевской, а известные действия вы произвели на Мойке.
Беляев. — Я имел полное основание предполагать, что громили и искали меня… Когда узнали, что меня не было на Николаевской — у меня есть родственница, которая живет недалеко, в доме того же домохозяина, на Звенигородской, — дворники, вероятно, сказали, что очень может быть, что я там. И там были, направились к ней на квартиру. Она мне оттуда сказала по телефону. Я имел полное основание предполагать, ожидать, что придут и сюда, на Мойку. Меня искали, и, поэтому, я не признал возможным оставить материалы, которые у меня еще оставались.
Председатель. — Хотя непосредственной опасности тому месту, где вы находились, не было.
Беляев. — Но я считал, что, может быть, будет поздно, когда придут громить. Придут, раздобудут бумаги…
Апушкин.— А операция сожжения когда началась?
Беляев. — Началась… Я ушел около 3½–4 часов. Это продолжалось каких-нибудь 20 минут.
Апушкин. — А приготовления к операции были?
Беляев. — Я лично не приготовлял.
Апушкин. — А вы отдали приказание об этом когда?
Беляев. — Я помню, когда был в Адмиралтействе, то передал по телефону своему секретарю, чтобы, если будет опасность разгрома, у него были шифры и т. д., он все уничтожил. Он говорил, что у него было приготовлено, разложено, что у него имеется.
Апушкин. — Это было когда?
Беляев. — Это было ночью, с понедельника на вторник, когда мы были в Адмиралтействе, с 27 на 28.
Апушкин. — С 27 на 28. А сожжение последовало 1-го?
Беляев. — Да, верно.
Апушкин. — За исключением нескольких бумаг?
Беляев. — За исключением одной записки, которая была мне передана нашими союзниками и которая представляла секрет. Я ее положил в отдельный маленький ящик, думая, что когда-нибудь увидят, что собственно никаких бумаг нет, эта бумага останется в маленьком ящике, не в шкапу.
Алушкин. — Почему вы не сочли нужным перевезти эти бумаги в генеральный штаб, который не громили?
Беляев. — Потому, что совершенно не представлялось возможным. Это было 1 марта. Я уже никаких бумаг не получал из главного управления, и вообще сообщение, переход был настолько затруднен, что, я даже помню, те бумаги, которые подписал, которые подлежали передаче, — чрезвычайно боялся, каким образом они могут быть переданы, потому что в то время, 1 марта, было исключительно трудное время.
Апушкин. — А почему вы не обратились в государственную думу, к председателю государственной думы, не сказали, что у вас имеются ценные документы, которые нужно охранить?
Беляев. — Я говорю, я обратился в государственную думу, когда меня громили на Николаевской.
Апушкин. — Нет, по поводу бумаг?
Председатель. — Вопрос в том, почему ничто не натолкнуло вас на мысль обратиться в государственную думу с просьбою охранить эти бумаги?
Беляев. — У меня маленький дом был, где живет военный министр. Это не есть учреждение, это не есть, как у морского министра. Морской министр живет в министерстве.
Председатель. — Но от величины дома это не зависит. Естественно, казалось бы, как вы не напали на мысль.
Беляев. — Совершенно верно. Но я помню… материалы, которые мы сообщали на конференции союзников… вот они…
Председатель. — Я не понимаю деления вашего материала. Один секретный документ, так как он в единственном числе, так я его оставлю. Другой документ, тоже секретный, который нам предложили союзники, так я спрятал куда-то в ящик…
Беляев. — Этот самый и есть. В маленьком ящике. Приходят. Шкапы пусты, письменный стол пуст, а в маленьком ящике я оставил.
Иванов. — Скажите, в эти дни, о которых сейчас идет речь, вы ждали какой-либо защиты от прихода войск извне? Вы ждали войск генерала Иванова? Имели какие-либо сведения?
Беляев. — Да, имел, я получил телеграмму из Ставки, что будет командирован генерал Иванов. Было сделано даже такое распоряжение, — высочайше повелено, чтобы все министры подчинялись распоряжению генерала Иванова.
Председатель. — Было сделано такое распоряжение? Вы как получили эту телеграмму?
Беляев. — Телеграмма была из Ставки.
Апушкин. — Эта телеграмма тоже была сожжена?
Беляев. — Да.
Председатель. — По какому проводу вы получили эту телеграмму?
Беляев. — По прямому проводу, который находится в доме военного министра. Непосредственно прямой провод, это — генеральный штаб — Ставка, и уже дом военного министра соединен с генеральным штабом. Так что это перевод, но передача непосредственная.
Председатель. — Ответьте, пожалуйста, на вопрос.
Беляев. — Должен был приехать генерал Иванов, с ним должны были приехать 3 роты георгиевского батальона. Затем должна была быть командирована от фронтов часть войск.
Иванов. — В каком количестве, было указано?
Беляев. — Да, дивизия.
Иванов. — А не больше?
Беляев. — Одна бригада должна была быть от северного фронта, а другая бригада — от западного фронта. От южного фронта не было.
Иванов. — Вы не помните, когда была получена телеграмма?
Беляев. — Я получил, вероятно, 28-го, во всяком случае, я ожидал приезда генерала Иванова с частью войск утром 1-го марта, так по моим предположениям выходило. Когда мы были в Адмиралтействе, генерал Иванов вызвал генерала Хабалова, — так как в Адмиралтействе тоже есть прямой провод, — для того, чтобы переговорить с ним. И я узнал, что утром 28-го он был еще в Ставке. Следовательно, предполагая, что он выедет с поездом около 4-х часов, я имел основание ожидать его 1-го марта, в 11 часов утра.
Иванов. — А это не по вашему сообщению предполагалось прислать? Вы ничего не сообщали, не требовали поддержки?
Беляев. — Я сообщал о положении.
Апушкин. — Вы передавали генералу Хабалову сообщение о том, что на его место главнокомандующего назначается генерал Иванов?
Беляев. — Виноват, не на его место, но что вообще главнокомандующим назначается генерал Иванов.
Апушкин. — В период, когда вы выходили с частями и занимали Зимний дворец, вы не давали приказания генералу Занкевичу вступить в командование войсками?
Беляев. — Нет. Я помню, написал генералу Алексееву телеграмму «в помощь генералу Хабалову», вместо отсутствующего генерала Чебыкина, но генерал Хабалов все время оставался. Так что он, конечно, мог не командовать войсками, как командующий, но не было, так сказать, объединителя, не было соединительной крупной единицы. Вот как я понимал роль Занкевича.
Апушкин. — В какой же роли оставался тогда Хабалов?
Беляев. — Я думаю, командующего войсками округа.
Апушкин. — А непосредственно командующим войсками, собранными здесь, на Дворцовой площади, был Занкевич?
Беляев. — Я бы так сказал: один управляет, а другой командует.
Апушкин. — Войска стояли на Дворцовой площади, собирались итти в крепость и потом пошли в Адмиралтейство?
Беляев. — Нет, вы ошибаетесь. Это было раньше. По-моему, это было в 7 час., в понедельник, 27-го, а переход из Зимнего дворца в Адмиралтейство был в ночь на 28-е.
Председатель. — Вы не можете вкратце передать содержание обмена мнениями министров в заседании совета министров 27-го утром? Какую занял каждый министр позицию в отношении событий?
Беляев. — У нас происходили заседания 25, 26 и 27 в квартире председателя совета министров, на Моховой. Помню, что заседание в субботу 25-го продолжалось очень долго и обсуждалось именно — что же нужно сделать. Было полное желание, насколько возможно, войти в соглашение с государственной думой и найти, так сказать, почву, на которой можно было понять друг друга. Еще накануне, 24-го, в пятницу, ко мне обратился председатель государственной думы и просил, нельзя ли организовать совещание, на котором был бы решон вопрос о передаче довольствия Петрограда в ведение города. Я, конечно, сейчас же высказал, что с моей стороны все будет сделано. Сейчас же я поехал к председателю государственного совета, переговорил с ним, и было решено, что это будет сделано. Это соглашение было в пятницу вечером. В субботу опять в этом же смысле говорили, и было решено, что, конечно, нужно принять все меры к тому, чтобы государственная дума продолжала работать. И для того, чтобы выяснить, каким путем этого легче было достигнуть, было решено, что на следующий день, в воскресенье, министр иностранных дел и министр земледелия Риттих переговорят с некоторыми членами государственной думы в виде личного обмена мнениями. Экстренное заседание министров с участием председателя совета министров, председателей государственной думы и государственного совета было в пятницу.
Председатель. — А что было в субботу?
Беляев. — В субботу было политическое заседание, что можно сделать, как можно найти почву для соглашения между государственной думой и правительством, на котором было решено, что на следующий день, то-есть в воскресенье, будут переговоры. Во-первых, Родзянко должен был поехать к князю Голицыну, затем министр иностранных дел Покровский и министр земледелия Риттих войдут в переговоры с некоторыми лидерами партий, если не ошибаюсь, с Маклаковым, Савичем и еще кем-то, я сейчас боюсь сказать. Затем, в субботу, узнали, что министр внутренних дел сделал распоряжение об аресте рабочих военно-промышленного комитета.
Председатель. — От кого узнали?
Беляев. — От министра внутренних дел Протопопова. Он был на этом заседании. Этот арест вызвал удивление, как подобное распоряжение могло быть сделано в такую серьезную минуту, без предварительного обсуждения в совете министров. Но Протопопов успокоил, что это будет только удостоверение фамилий, и затем они будут освобождены, если против кого-нибудь из них не имеется основания для привлечения к ответственности.
Председатель. — Значит, он успокоил совет министров тем, что арест будет не арест, а только удостоверение фамилий?
Беляев. — Да, тогда я впервые узнал, что арестовывают таким образом, для удостоверения личности.
Председатель. — Вы впервые узнали об этом и поверили?
Беляев. — Да, конечно.
Председатель. — Какая была позиция Протопопова в отношении решения войти в переговоры с некоторыми членами государственной думы по вопросу о том, чтобы как-нибудь уладить?
Беляев. — Я думаю, что никакой. Потому, что это так единодушно было высказано присутствующими министрами, что один-два министра может быть иначе говорили.
Председатель. — Я спрашиваю, в частности, относительно Протопопова. Говорил он что-нибудь?
Беляев. — Не помню, чтобы он говорил что-нибудь такое, что особенно отразилось бы.
Председатель. — Значит, вы решили войти в переговоры с государственной думой? А что вы решили относительно народа, который появляется и волнуется на улице?
Беляев. — Решили, главным образом, просить председателя и членов государственной думы, чтобы они, пользуясь своим престижем, с своей стороны повлияли. (Я говорю, это было в субботу, когда огня не было.) И тогда можно было надеяться, что одно такое авторитетно высказанное слово приведет к тому, что станет же благоразумной толпа.
Председатель. — Не ставил перед собой совет министров вопроса о том, что в деле успокоения народа могла бы сыграть некоторую роль отставка Протопопова, имя которого, как вы знаете, было ненавистно народу?
Беляев. Совершенно верно. Тогда, в субботу, или в воскресенье, я не помню, князем Голицыным была высказана такая точка зрения: «причем в наших стремлениях итти по пути соглашения мы не должны забывать того, что, может быть, некоторые из нас должны будут уйти, что нужно пожертвовать». Одним словом, так ясно было, что он хотел этим сказать. Говорилось, что это неизбежно.
Председатель. — То-есть, в частности, относительно Протопопова?
Беляев. — Да, я думаю.
Председатель. — Как отнесся к этому Протопопов?
Беляев. — Я боюсь сказать, но у меня осталось такое впечатление — очень много говорили, очень разумно говорил, например, министр иностранных дел Покровский. Главная цель сводилась к тому, что нужно во что бы то ни стало войти в действие заодно с государственной думой. Нужно найти почву для соглашения, но в крайности выйти в отставку всему совету министров. Если бы потребовали обстоятельства, весь совет министров или отдельные его члены должны были выйти в отставку.
Председатель. — Об этом мнении совета министров был составлен журнал?
Беляев. — Я как раз говорил князю Голицыну, что считаю совершенно необходимым, чтобы был составлен подробный журнал, так как мы переживаем исторические дни. Ведь события наступили так скоро. Но был ли составлен журнал или нет, я не знаю. Тут присутствовал Лодыженский, управляющий делами совета министров.
Председатель. — Протопопов сделал доклад о том, что он принял меры в виде ареста членов военно-промышленного комитета?
Беляев. — Было двое рабочих, которые не были арестованы, потом была какая-то сходка. Протопопов не сделал этого доклада. Во время заседания председателю совета министров позвонили из городской думы, где обсуждался вопрос относительно порядка передачи продовольствия (вам, вероятно, это известно), и тогда там узнали об этом аресте.
Председатель. — Вы спросили у министра внутренних дел. И он объяснил, что это для выяснения личностей?
Беляев. — Был вызван директор департамента полиции Васильев, который и объяснил. Я помню, он говорил, что будут установлены личности.
Председатель. — Протопопов и Васильев — что еще они докладывали относительно тех мер, которые они приняли для поддержания порядка в городе?
Беляев. — Ничего не докладывали.
Председатель. — Хабалов был?
Беляев. — В субботу его не было.
Председатель. — Но с ним сносились по телефону?
Беляев. — Нет. Виноват, совершенно верно, в один из дней он был некоторое время, я боюсь вам в точности сказать, и я бы под присягой этого не сказал. Но мне помнится, что действительно некоторые чины уехали раньше, например, Васильев. Хабалов как будто был.
Председатель. — С каким докладом был Хабалов, который в то время был командующим войсками округа?
Беляев. — Доклад был о том, что произошло в тот день.
Председатель. — А относительно мероприятий?
Беляев. — Каких мероприятий? Он докладывал только распоряжения, какие сделал. Он наверное даже был в субботу и в воскресенье. Я помню, он докладывал, какие у него распоряжения сделаны для организации и для поддержания порядка.
Председатель. — Какие же распоряжения?
Беляев. — Которые всегда существовали в мирное время: разделение города на известные районы, назначение войск на каждый район, порядок вызова, назначение начальников и т. д.
Председатель. — А что он вам говорил относительно пулеметов?
Беляев. — Относительно пулеметов ничего не говорил. На Мойке все время стреляли пулеметы с крыши того здания, которое строится.
Председатель. — Вы не помните номер дома?
Беляев. — Я не знаю. Знаю, что угол Кирпичного и Мойки, потому что я на Мойке жил, это мимо меня. Я помню, когда я был после Адмиралтейства в генеральном штабе и там сидел, вдруг слышу — затрещал пулемет. Первое впечатление было, что стреляют в здание генерального штаба, — окна выходили на двор. Страшная трескотня была, как будто ударяется в стену. Ко мне позвонил Покровский и говорит: «У нас на крыше стоит пулемет, может быть, на министерстве финансов, может быть и у нас». Я говорю: «У нас безусловно нет, я не думаю, чтобы могли поставить». Мне потом сказали в генеральном штабе на следующий день, что пулемет стоял на здании банка, кажется, Азовско-Донского.
Председатель. — С какими пулеметчиками — полицейскими или военными?
Беляев. — С полицейскими. Потом мне говорили, что будто бы на колокольне Исаакиевского собора стоял пулемет. Во всяком случае я лично думаю, что генерал Хабалов мне бы сказал, если бы это было сделано по военному ведомству. У нас так не делалось. Я тогда впервые узнал, что на зданиях поставлены пулеметы.
Председатель. — Что говорил Хабалов о телеграмме, которую он получил от бывшего государя?
Беляев. — Когда он ее получил?
Председатель. — В то же время, в субботу вечером.
Беляев. — Я в первый раз слышу.
Председатель. — Так что вы, будучи в совете министров 25, 26 и 27, непосредственно ни от Хабалова, ни от других товарищей не слышали, чтобы Хабалов получил телеграмму от бывшего государя с приказанием водворить порядок, которую можно было понять только, как приказание стрелять.
Беляев. — Я в первый раз слышу. Вообще это относилось до него.
Председатель. — О вашем решении о необходимости войти в соглашение с государственной думой, совет министров телеграфировал бывшему государю?
Беляев. — Не знаю.
Председатель. — Как совет министров о своем решении, принятом в Петрограде по поводу событий, которым вы придавали историческое значение, не пришел к мысли и не нашел нужным телеграфировать бывшему государю, тогдашнему главе верховной власти?
Беляев. — Я говорю про субботу. В субботу довольно спокойно было, а в воскресенье мы вновь собирались.
Председатель. — Относительно субботы вы приняли решение. Почему вы не телеграфировали это государю, не вы лично, а министры?
Беляев. — Я должен так сказать. Я все время считал, что военный министр не входит в какие-либо вопросы политического характера.
Председатель. — Но военный министр, как член совета министров, разве не мог и не должен был возбудить вопрос о необходимости вотума совета министров, в котором он принимает участие, сообщить главе верховной власти?
Беляев. — Я затрудняюсь сказать.
Председатель. — Вы несколько минут тому назад сказали, что вы чувствовали, что минута была историческая.
Беляев. — В смысле ответственности. Я именно так сказал: «Конечно, история скажет, а что же сделали эти господа?»
Председатель. — То-есть, министры?
Беляев. — Да. Еще накануне было принято решение относительно того, чтобы довольствие передать в ведение города.
Председатель. — В совете министров, на совещании было принято. Вы были на этом совещании?
Беляев. — Был.
Председатель. — Был Протопопов?
Беляев. — Его не было.
Председатель. — Вы знаете, что он был осведомлен об этом совещании?
Беляев. — Это было в газетах.
Председатель. — Вы не знаете, что он возражал с этой точки зрения?
Беляев. — Он говорил, что это ошибка.
Председатель. — Он это говорил с точки зрения внутренней политики, представляемой министром внутренних дел?
Беляев. — Очевидно. Я выражения не помню, поэтому затрудняюсь сказать. Но во всяком случае, я помню, говорил, что к тем решениям, которые принимаются, присоединяюсь вполне сознательно. Я нисколько не страшусь ответственности перед историей и во всяком случае считаю, что гораздо лучше, чтобы это было все запротоколено, чтобы все знали, что говорится, потому что иначе не будут знать решений и доводов, к каким приходят.[*] Главным образом, весь вопрос тогда сводился к одному — к затруднениям относительно продовольствия. По крайней мере, я себе объяснил, что эти уличные демонстрации, преимущественно фабричного населения, которые вполне понятны, — они вызваны затруднениями в продовольствии.
Иванов. — Вы изволите говорить, что 25 было постановлено в совете министров войти в соглашение с членами государственной думы о том, чтобы принять какие-нибудь меры, а 26-го, как вам известно, государственная дума была распущена.
Беляев. — Разрешите, я перейду к 26 — воскресенью. Мы разошлись 25, в субботу, в 4 часа ночи, и решили сойтись в воскресенье, в 8 с половиной часов, причем днем, в этот же день, председатель совета министров должен был вести переговоры с председателем государственной думы, а двое других министров с некоторыми членами государственной думы.
Председатель. — Простите, я вас перебью. Я хотел бы с совершенной точностью уяснить себе, как могли министры принять на себя переговоры с представителями государственной думы, не решив довести об этом до сведения главы верховной власти?
Беляев. — Извините, пожалуйста, я не могу отвечать за решение совета министров. Я говорю фактическую сторону дела, в порядке того, как оно протекало.
Председатель. — Вы считаете, что военное дело в смысле политики второстепенное?
Беляев. — Возбуждался вопрос, не следует ли мне принять участие в этих переговорах, потому что мне, как военному министру, это знакомо. Я тогда прямо сказал, что посоветовал бы не возлагать на меня этого поручения, потому что основная точка зрения военного министра отношения к политике не имеет, и во всех переговорах с Родзянко — он часто прибегал ко мне — всегда это ему говорил. Он говорил: «Вы член кабинета?» — «Да, я член кабинета, который ровно ничего не значит». Я стоял в стороне от политики.
Председатель. — Перейдем к воскресенью.
Беляев. — В воскресенье собрались в 9 часов, были доложены результаты переговоров, причем было выяснено, что все-таки члены государственной думы признают необходимым выйти в отставку совету министров, необходимо, чтобы был кабинет такой, председатель коего пользовался полным доверием государя императора, но на которого было бы возложено образовать министерство, то-есть сказать, чтобы министры были подчинены, так сказать, председателю совета министров, чтобы доклады делались председателю — может быть, не доклады в буквальном смысле слова, но чтобы во всяком случае действия министров были в полной степени объединены, чтобы было действительно руководство, а не такое, что как, например, Протопопов арестовал без ведома председателя совета министров. Тогда же была написана телеграмма государю императору.
Председатель. — В воскресенье?
Беляев. — Кажется, в субботу, извините, в воскресенье. Телеграмма была передана по прямому проводу; тут же раньше как раз говорили министры, что, повидимому, прийти к соглашению в настоящее время представляется затруднительным. Мы выйдем в отставку, это само собою, но, во всяком случае, главный вопрос сводится к продовольствию; вы, вероятно, помните, Риттих все время обращался к государственной думе с просьбою, чтобы государственная дума, со своей стороны, поддержала его, чтобы было сказано то слово, которое заставит помещиков и крестьян продавать хлеб, выполнять ту раскладку, которая была введена. Так как, повидимому, рассчитывать на это нельзя, и даже было высказано, что может быть противодействие — во всяком случае я не раз об этом думал, — когда ушел — было принято решение отложить заседания государственной думы. А государственная дума не была распущена, так как у председателя, кажется, был указ относительно прекращения занятий государственной думы до середины мая, о чем была послана телеграмма государю императору. Это было в воскресенье. Решение все-таки принято было то, которое было высказано членами государственной думы, с которыми говорили, то-есть что должны быть министры ответственные перед председателем; одним словом, объединение, это безусловно. Почему в результате и было, что отправлена телеграмма об отставке всего кабинета.
Апушкин. — Где же телеграмму можно найти?
Беляев. — Она была отправлена по прямому проводу.
Председатель. — Отправил председатель совета министров?
Беляев. — Нет, он передал мне. — Она также уничтожена, эта телеграмма; она имеется в Ставке и, наконец, копия имеется в делах председателя совета министров. Мне передали тот экземпляр, который нужно.
Председатель. — Будьте добры сказать, какая была позиция Протопопова в обмене мнений. Долго продолжалось совещание совета министров?
Беляев. — Да, долго. Мне кажется, около двух часов разошлись.
Председатель. — У вас хорошая память. Постарайтесь восстановить позицию министра внутренних дел.
Беляев. — Извините, пожалуйста, я доносчиком не хочу быть. Я только высказываю…
Председатель. — Вопрос о каком-либо доносительстве совершенно исключается, как мелкий и к делу не относящийся. От вас требуется лишь объективный рассказ о том, чего свидетелем вы были в эти исторические дни.
Беляев. — Я в большей степени прислушивался к тому, что говорили, потому что, во-первых, на этом заседании не присутствовал морской министр, он был болен. Мне это, так сказать, даже неприятно было, потому что я отлично понимаю, что морской министр и военный министр в этом вопросе стоят в особом, так сказать, положении. Они как бы смотрят, наблюдают, потому что политика не их дело. Я больше молчал, но у меня осталось впечатление, что министр внутренних дел был доволен принятым решением о роспуске думы, только не о роспуске, а о перерыве занятий государственной думы. У меня составилось такое впечатление. Но если вы меня спросите, было ли в это время его влияние на принятие такого решения — я должен сказать: безусловно нет.
Председатель. — А если я спрошу вас о фактах, о той позиции, которая выразилась в речах или указаниях министра внутренних дел по поводу этих вопросов?
Беляев. — У меня не сохранилось в памяти точно, так сказать, кто что постоянно говорил. Но у меня осталось такое впечатление, кто были министры, которые менее всего говорили, так сказать; например, Добровольский мало говорил, Протопопов мало говорил, Войновский-Кригер мало говорил. Я точно не помню, присутствовал ли Раев; нет, не помню… Кульчицкий безусловно не присутствовал. У меня вообще такое впечатление, что не Протопопов здесь рассуждал. Что же он сказал в том немногом, что он сказал? Он говорил, что соглашение с думой не приведет к успокоению. Тогда же говорил о причинах ареста. Он говорил так невнятно, неясно, одним словом, чего-нибудь такого, что могло бы запечатлеться, он не говорил в воскресенье.
Председатель. — Мне не нужно впечатления, но его мысли.
Беляев. — Его мысли сводились к тому, что нужно принять известные меры в отношении думы и распустить ее. Вы сами знаете, какой он точки зрения придерживался. Так он ничего не говорил такого, что расходилось бы с тем, что можно было от него ожидать при обсуждении подобных вопросов.
Председатель. — Теперь относительно понедельника. Вы просидели 2 часа, от 9 до 11 часов?
Иванов. — До двух ночи.
Председатель. — То-есть до двух часов в квартире председателя, князя Голицына, и разошлись, чтобы сойтись когда?
Беляев. — Не решив ничего. Засим в понедельник я лично узнаю совершенно другое положение, резкая разница от воскресенья. В воскресенье было несколько раз открытие огня. Я очень просил Хабалова принять меры, чтобы не открывать огня там, где можно избегнуть. Я говорил Хабалову, какое ужасное впечатление произведет на наших союзников, когда разойдется толпа, и на Невском будут трупы.
Председатель. — Это вы когда говорили Хабалову?
Беляев. — Я говорил в субботу, в воскресенье.
Председатель. — А что отвечал на это Хабалов?
Беляев. — Он говорил, насколько возможно, это будет сделано. Но уже в воскресенье были случаи.
Председатель. — И что же по этому поводу говорил Хабалов?
Беляев. — Я его спрашивал, что было, и он рассказывал, что на Михайловской площади была стрельба. Был убит околоточный офицер на Знаменской площади. Вот это я узнал; в понедельник, оказывается, резко вопрос меняется. Между прочим, рота Волынского полка, которая накануне стреляла на Михайловской площади, отказалась выйти. Я телефонировал князю Голицыну, что положение сегодняшнего дня настолько разнится от вчерашнего, что считаю долгом довести до его сведения, как председателя совета министров, не находит ли он необходимым сейчас же обсудить, какие меры можно принять в дальнейшем.
Председатель. — Это было в котором часу?
Беляев. — В понедельник утром, в половине девятого; после 8-ми я говорил с Хабаловым, позже с князем Голицыным. Факт тот, что около 11 часов я к ним прибыл, чтобы переговорить, и было решено пригласить сейчас же министров обсудить положение. Пока съехались, пока собрали по телефону, прибыл Хабалов. Здесь он произвел тяжелое впечатление на членов совета министров — руки дрожат; равновесие, необходимое для управления в такую серьезную минуту, повидимому, он утратил. По-моему, на этот раз все были. Я просил, между прочим, вызвать, — так как Григоровича не было, — помощника морского министра Муравьева. Муравьев приехал. Засим было решено около 4 или 5 часов сойтись в Мариинском дворце.
Председатель. — Скажите, Протопопов был в штатском?
Беляев. — Да, как всегда, я вообще его ни разу не в штатском не видел.
Председатель. — Какие взгляды высказывали министры?
Беляев. — В сущности говоря, никаких взглядов. Мое впечатление — знакомились с событиями.
Председатель. — По докладу?
Беляев. — По докладу генерала Хабалова и, кажется, Протопопова… Да, Протопопов тоже кое-что говорил… Конечно, впечатление, повидимому, произвело тяжелое, все были, я скажу, особенно нервны. Мне, между прочим, тогда было поручено съездить в управление градоначальства, — там как раз находился генерал Хабалов с его офицерами, — выяснить. Я приехал туда и просил, чтобы обо мне доложили. Генерала Хабалова, кажется, не было тут, не он нам докладывал, и на меня произвело чрезвычайно странное, печальное впечатление, как вообще организованы эти действия. Как я говорю, старшие там были только полковники, при чем старший полковник был болен, отсутствовал, второй полковник…
Председатель. — Вы это — вкратце.
Беляев. — Вообще видно было полное отсутствие идеи, недостаточная инициатива распоряжений, одним словом, несоответственная постановка дела. Когда я увидел, что отсутствует генерал Чебыкин, то-есть, начальник, надо было поставить сейчас же между ними промежуточную инстанцию. Я попросил пожаловать генерала Занкевича — он строевой офицер, только что командовал полком на войне. Я просил его принять на себя руководство действиями. Тут, между прочим, приехал великий князь Кирилл Владимирович и как раз высказывал мне, что нужно принять энергичные меры, и одна из мер, которую нужно принять, — прежде всего сейчас же сменить министра внутренних дел Протопопова. Оттуда я отправился в совет министров, где должны были быть все, и доложил, что сделал распоряжение относительно генерала Занкевича. Потом просил разрешения переговорить с князем Голицыным наедине.
Председатель. — Это был который час?
Беляев. — Это было 5–6 часов, может, раньше — 4 часа. Во всяком случае я просил разрешения переговорить с председателем совета министров сперва наедине и высказать мое мнение, что первое, что нужно сделать, это все-таки сменить министра внутренних дел. Но так как никто, конечно, не имел права сменять министра, то решили предложить ему от имени совета министров быть больным, и назначить другого. Причем у меня являлась мысль, чтобы кого-нибудь не из товарищей, чтобы это не производило впечатления: мало ли он раньше бывал болен. Председатель совета министров сейчас же присоединился к этой точке зрения. Мы вошли в залу заседаний, и председатель совета министров высказал эту точку зрения, что я высказывал, и сказал, что военный министр высказывает такой взгляд.
Председатель. — При Протопопове?
Беляев. — При Протопопове. И было решено, кого назначить. Я говорю, что если товарищ министра, то это не произведет такого впечатления; сменить же нельзя — государь император сменяет. Тогда говорили — кого-нибудь из военных. А здесь позволили себе указать на лицо действительно неудачное. Я указал на генерала Макаренко. Я лично стоял за это, генерал Макаренко — человек разумный, юрист по образованию, но я совершенно не подумал, что это главный военный прокурор. Если назначить генерала Макаренко — то одно, а если сказать — военный прокурор, то сейчас бы объяснили иначе. Тут согласились, но я действительно сказал. Мне было поручено поехать и сделать распоряжение об этом, чтобы Голицын мог подписать. Я тогда к этому времени узнал, что они перешли из градоначальства в Адмиралтейство. Поехал в Адмиралтейство. Там тем более телеграф есть. Было отдано приказание для напечатания. Я отвез к подписи Голицыну в Мариинский дворец. Я просил прибыть этого ген. Макаренко. Это было 7 часов.
Председатель. Скажите, какую позицию занял Протопопов?
Беляев. — Он сказал: «ну, что же, я подчиняюсь». Вот как. Засим наступает минута психологическая, нужно принять какие-нибудь решительные меры. Если бы Протопопов был сменен давно… это нарыв, который заражал все тело. Конечно, было поздно. Но я скажу — ясно, разве арест этих рабочих в такую минуту, разве это своевременно сделано? Тем более принять такую меру… Я помню, в одном из этих заседаний, в субботу, я высказался, что, во всяком случае, я считаю, что теперь ни один министр — тем более государя нет — не должен принимать каких-нибудь мер, раз мы собираемся каждый день, без осведомления…
Председатель. — Когда была распущена дума?
Беляев. — В воскресенье, 27, утром они получили уведомление.
Иванов. — Так что 26 распущена?
Беляев. — Я приехал в Мариинский дворец, Макаренко был там в это время. Там находился в это время великий князь Михаил Александрович.
Председатель. — В Мариинском дворце, в 7 часов?
Беляев. — Да, может быть, и раньше. Тут как раз Макаренко мне сказал первый, что нельзя назначать главного военного прокурора.
Председатель. — Это он вам сказал?
Беляев. — Он мне сказал. Тогда я сказал — вы совершенно правы. Я согласен, но я его избрал, как благоразумного человека. Нельзя же всякого генерала назначать на пост министра внутренних дел, он вполне уравновешенный, честнейший человек. Тем более, что ожидали с минуты на минуту приезда государя императора. Я лично ждал. Вчера послали телеграмму об отставке всего совета министров. Засим я просил доложить Голицыну, что я приехал. Так как там был великий князь Михаил Александрович, меня просили подождать. Это продолжалось довольно долго. Часов в 8, через час, меня попросили. Там был великий князь. Голицыну я доложил относительно Макаренко, и он сказал: «Это безусловно нельзя». Я передал по телефону Хабалову — напечатать такое приказание. Он напечатал.
Председатель. — Что же было в заседании совета министров?
Беляев. — Я застал так: совет министров обсуждал события. Но, когда я приехал, я доложил мою точку зрения.
Председатель. — Протопопов там был?
Беляев. — Был, потому что при нем было сказано, что ему нельзя оставаться. Там был также великий князь Михаил Александрович. Тут мы перешли в кабинет: князь Голицын, великий князь, я, Родзянко и Крыжановский — 5 человек. Оказывается, великий князь обсуждал с князем Голицыным телеграмму, которую он должен был послать государю о том, что необходимо сию минуту, чтобы совет министров вышел в отставку. Мы тут обсуждали как и что, в какой форме редактировать. Засим великий князь со мной отправился на квартиру военного министра, чтобы по телефону непосредственно передать это начальнику штаба верховного главнокомандующего. Мы, кажется, приехали часов в 9. Пока соединяли, пока Алексеев подошел к аппарату, одним словом великий князь послал такую телеграмму, что события очень серьезные, необходимо, чтобы вышел в отставку весь совет министров и чтобы был назначен председатель совета министров, который сам избрал бы себе министров. При чем он сказал, что, может быть, его величество уполномочит его сейчас же это объявить.
Иванов. — Кого же назначить?
Беляев. — Он высказал, что, с своей стороны, он полагал бы князя Львова.
Председатель. — Чем же кончилась эта беседа?
Беляев. — Сказали, что через полчаса будет ответ. Действительно, через полчаса — через час прибыл ответ такой: «Благодарят за внимание, его величество выедет завтра, и сам примет решение» — значит, государь 28-го выедет из Ставки и 1-го приедет. Великий князь долго не мог уехать из моего дома, потому что как раз была стрельба вдоль Мойки. Наконец, около 2 часов ночи, уехал, даже позже. Стрельба успокоилась, он хотел поехать в Гатчино.
Председатель. — Значит, бывший государь воздержался ответить по существу?
Беляев. — Великий князь спрашивал, может быть он его уполномочит объявить, но он на это ответил определенно, что приедет сам и примет решение.
Иванов. — Кто давал ответ по телефону?
Беляев. — Генерал Алексеев.
Иванов. — Царь был в Ставке, а не то, чтобы с ним сносились?
Беляев. — Царь был в Ставке; а телеграф находится рядом с кабинетом.
Председатель. — Вам известно, к какому времени относится принятое в Ставке решение назначить генерала Иванова главнокомандующим войсками?
Беляев. — Я уже перед этим, кажется, получил эту телеграмму.
Председатель. — От кого?
Беляев. — От генерала Алексеева, что он назначается главнокомандующим. Да, совершенно верно, после того, как великий князь уехал, я отправился в Адмиралтейство, и утром во вторник как раз генерал Иванов говорил с Хабаловым по телефону.
Председатель. — Вы, значит, твердо припоминаете, что вам стала известна телеграмма Алексеева о назначении Иванова главнокомандующим до этой беседы по телеграфу великого князя Михаила Александровича?
Беляев. — Этого сказать я не могу.
Иванов. — Вы получили сведения о выезде государя, когда?
Беляев. — Это было в понедельник, а выехать он должен был во вторник и 1-го марта приехать.
Председатель. — Вы были помощником военного министра, вы заведывали некоторое время контр-разведкой, то-есть наблюдали за ней?
Беляев. — Нет. Она была в ведении генерального штаба. Но какая контр-разведка вас интересует?
Председатель. — Военная.
Беляев. — В действующей армии есть контр-разведка. Как вы знаете, был процесс Манасевича-Мануйлова, там генерал Батюшин, он никакого отношения ко мне не имел.
Председатель. — Какое вы имели отношение к контр-разведке в Петрограде?
Беляев. — Как начальник генерального штаба, с 1-го августа 1914 года по 2-е апреля 1916 года.
Председатель. — Вы, как имевший в своем ведении контр-разведку, знакомы с общими условиями организации контр-разведки. Что вам известно относительно существования в контрразведке отделения под лит. А?…
Беляев. — Решительно ничего неизвестно. В контр-разведке целый ряд органов, и я первый раз слышу о лит. А. Контр-разведка есть в главном управлении генерального штаба. Она обнимает обширный период и распространяется на пограничные полосы, например, Швецию, но в Петрограде — другая контр-разведка.
Председатель. — Кто у вас стоял во главе контр-разведки?
Беляев. — Генерал-квартирмейстер, затем начальник особого отделения.
Председатель. — Что значит — особое отделение?
Беляев. — Оно так называется, оно ведало вопросом разведывания и контр-разведкой. Наконец, непосредственно контр-разведкой ведал жандармский офицер, кажется, полковник Ерандаков; я его не любил, и, когда явилась возможность, назначил князя Туркестанского.[*]
Председатель. — Какая разница между предметами ведения особого отделения и тем, что ведал Ерандаков?
Беляев. — Задачи, которые ему давались главным управлением генерального штаба.
Председатель. — Вам было известно, что контр-разведка употребляется для внутреннего сыска?
Беляев. — Извиняюсь, что я так отвечаю, вы меня спросили, что делает Ерандаков. На самом деле он получал со стороны поручения. Я, например, знаю, что обо мне указывались такие факты, что странно, откуда они были известны. Я вообще одинокий человек, и вдруг узнается, что я до трех часов ночи занимаюсь, нигде не бываю. Кто об этом мог знать? Очевидно, спрашивают.
Председатель. — Откуда вы знаете, что про вас знают?
Беляев. — Военный министр Сухомлинов говорил мне это. Это от Сухомлинова исходило.
Председатель. — Скажите, что вам известно о рабочей организации при контр-разведке?
Беляев. — Я думаю, что вы все совмещаете и говорите про ту контр-разведку, которая не была в моем ведении. В Петрограде действуют три контр-разведки. Во-первых, при штабе шестой армии, которая имеет свою контр-разведку, штаба северного фронта, потом разведка главного управления генерального штаба. Они ни во что не вмешивались в отношении Петрограда, все это передавалось непосредственно в штаб, раз это Петроград.
Председатель. — Вы знаете капитана Смирнова,[*] который стоял во главе одного из отделений, кажется, 6-й армии?
Беляев. — Он мне совершенно неизвестен.
Председатель. — Так что вы не знали о рабочей организации, которая тут действовала?
Беляев. — В первый раз слышу.
Председатель. — Когда вас в феврале 1916 года спросили относительно Распутина, вы говорили с генералом Леонтьевым и полковником Мочульским? Они какими органами заведывали?
Беляев. — Вот этими.
Председатель. — Полковник Мочульский, это — начальник особого отделения. Почему же вы с ними говорили по поводу этого человека.
Беляев. — Собственно, та просьба, с которой обратились ко мне, была вне моего ведения. Я на это смотрел так: ко мне обратились с просьбой — что я могу сделать? Конечно, это ближе всего имеет отношение к вопросам контр-разведки, и я обратился к лицам, которые около этого стоят. Как вы помните, я в прошлый раз говорил, что мы решили, что это никакого отношения к нам не имеет.
Председатель. — Стало быть, вам не было известно, чтобы контр-разведка занималась слежкой политического свойства и даже провокацией политического свойства?
Беляев. — По этому я пойду прямо под присягу. Я даю честное благородное слово. И я под присягой это покажу, что те вопросы, которые вы мне задаете, мне совершенно неизвестны.
Председатель. — Вам известно было, что контр-разведка, именно военная, я говорю ваша, потому что вы были начальником генерального штаба, она занималась слежкой, наблюдениями, например, за министром Хвостовым, перлюстрировала его письма, телеграммы?
Беляев. — Наша ли? Это не генерального штаба, нет. Это, вероятно, был Батюшин, но только не генерального штаба, потому что мне подавались формальные письма по наиболее важным вопросам.
Председатель. — Если бы я вам сказал, что Распутин очень вас хвалит и очень рекомендует вас в министры, — как бы вы объяснили это обстоятельство?
Беляев. — Я лично полагаю таким образом. Я думал относительно прошлого моего показания. Я — начальник генерального штаба, и вы сами знаете, что все было связано так или иначе с военными вопросами или имело то или другое отношение к военным вопросам. Ко мне все обращались. В прошлый раз мне, например, задавали вопрос, почему вы назначили санитаром такого-то. Ведь сколько раз с подобного рода просьбами ко мне обращались, даже председатель государственной думы, причем тоже относительно отряда Красного Креста государственной думы, относительно личных его просьб — были даже бланки, на которых он препровождал всякого рода просьбы. Я должен вам сказать, у меня совершенно на совести нет, я ни разу не совершил противозаконного поступка, но я так характеризую свою деятельность: к каждому вопросу, с которым ко мне обращались, я всегда подходил с благожелательностью, и, если можно исполнить его с чистой совестью, я его исполнял. Вы, может быть, обратили внимание, как я хорошо помню отдельные факты? Я в каждый вопрос сам входил, разбирал, и, поэтому, обо мне составилась такая репутация: доброжелательное отношение к заявлениям. Относительно госпожи Вырубовой я только этим могу объяснить, потому что, как я говорю, я никакого отношения к Распутину не имел, никогда с ним не говорил, и он от нее слышал обо мне, что вот — доброжелательный человек. Если можно что сделать, он выполнит. Это прямо — черта моей деятельности, которую можно характеризовать так, что я к каждому вопросу относился доброжелательно. Вот вы меня, кажется, прошлый раз спросили то же самое, — что Протопопов, кажется, меня хвалил, отзывался обо мне. Я так скажу — доброжелательное отношение. Вы спросите, и всякий подтвердит.
Председатель. — Какие у вас были отношения с князем Андрониковым?
Беляев. — Я уже говорил в прошлый раз. Андроников — это было мое больное место. Я говорил, что в 1909 году, когда я исполнял должность начальника генерального штаба, он часто ко мне приходил по поручениям военного министра. Я отлично помню, он придет, просидит полтора часа. И была скверная манера — постоянно сплетни. Я этого не любил. И вот с тех пор он постоянно ко мне или звонил, или писал какие-нибудь просьбы. Я думал по поводу ответа, который я дал, и я могу вам дать честное слово, что у меня на совести нет ни одной просьбы, исполненной для Андроникова. У меня было чувство как бы опасения к просьбам Андроникова.
Председатель. — Он к вам обращался, но вы эти просьбы отклоняли?
Беляев. — Да.
Председатель. — Но если бы я вам сказал, что, несмотря на эти отклонения просьб, Андроников все-таки в письмах к очень высоким лицам рекомендовал и находил желательным назначение вас хотя бы временно военным министром? чем вы это объясняете?
Беляев. — В первый раз слышу. Но я думаю, у него была такая точка зрения — ах, вот, когда он будет министром, мне будет легко обращаться к нему с различного рода просьбами. Я, в частности, могу такой пример привести. Я помню, он приезжал ко мне с какой-то просьбой. Я эту просьбу положил в письменный стол. У меня было решение его просьбы ни в коем случае не исполнять. Через несколько времени меня просит один из моих помощников о прикомандировании одного офицера к главному управлению генерального штаба. Раз просит помощник, — это его дело выбирать. В это время я вспоминаю фамилию — оказывается, тот самый, о котором просил Андроников. Это мне было неприятно. Второй случай — это когда мы командировали первую особую бригаду во Францию, и начальник бригады просил о назначении одного офицера адъютантом. Бригада была пехотная, он просил за кавалерийского офицера, назвал фамилию. О нем же стал просить и Андроников. Этого для меня было достаточно, чтобы я отказал. Между прочим, я имел законное право, потому что бригада была пехотная, и мы должны были посылать пехотного офицера, а не кавалерийского, и мне было достаточно не то что придраться, а именно не выполнить этого. Я приведу, как характерный факт, как я относился к просьбам этого господина. Для меня кошмар был этот господин.
Иванов. — Вы знали о кружке доктора Бадмаева?
Беляев. — О докторе Бадмаеве я слышал, но что кружок был, первый раз слышу. Знаю, что это тибетский доктор. Позвольте мне поставить еще два вопроса: один вопрос заключается вот в чем: конечно, вы можете представить, в каком нервном состоянии я нахожусь в эти дни. Я вам в прошлый раз говорил, я даю вам честное слово, я не преступник. Но вот, например, выбрали отдельные факты и, так сказать, ставили их в минус, в упрек, как характерную черту моей деятельности. Вы, господин председатель, меня совершенно не знаете, но я вас уверяю, кого вы ни спросите, тот знает, какую колоссальную работу я выполнил во время войны.
Председатель. — В должности военного министра?
Беляев. — Нет. В должности военного министра я никакой работы не сделал. Я только полтора месяца был военным министром, но как начальник генерального штаба. Я не хочу хвастать, но я скажу, что это — свойство моего характера. И вот относительно вырванных отдельных фактов я вижу, как я ошельмован. Из тысячи берут один отдельный факт, и меня шельмуют. Например, просьба госпожи Вырубовой. Я вам так скажу: боже, какие просьбы ко мне поступали! Например, председатель государственной думы обращался. Спросите, есть ли члены государственной думы, которые не обращались ко мне со всякого рода просьбами, а имейте в виду, что всегда обращаются с такой просьбой, которая требует того или другого подхода к законному решению, потому что, когда этого нет, тогда не надо. Я — честнейший человек, и я являюсь ошельмованным. Конечно, я желал бы одного, чтобы мне дали скорее возможность обратиться в частного обывателя, я никогда в жизни ни во что не вмешивался бы. Я надеюсь, что я подлежу увольнению от службы с пенсией, и, следовательно, спокойно могу прожить то, что мне осталось.
Председатель. — Это — первый вопрос; а второй?
Беляев (плачет). — Извините, я так взволнован, я так взволнован, послушайте, меня нужно освободить из крепости, я вас покорнейше прошу. Я даю вам честное слово, хотите я подписку дам, что я ни с кем не буду разговаривать по телефону.
Председатель. — Генерал, будем относиться к этому серьезно.
Беляев. — Разве я не серьезно? Извините, что я так…
Председатель. — Мы совершенно понимаем ваше положение, но разрешите поставить вас на формальную точку зрения. Мы рассмотрим в ближайшие дни ваши объяснения и установим, насколько они разъясняют положение, на котором мы остановились. Потом мы сделаем из этого те или иные выводы, и только после них может быть поставлен вопрос относительно вашего освобождения и превращения вас в частного человека. Генерал, я позволю себе обратить ваше внимание на то, что в очень серьезное время, в исторические дни нашей родины, вы оказались на посту военного министра. Вы понимаете, это многое объясняет в вашей судьбе.
Беляев. — Теперь позвольте, я одно приведу. 10-го августа я был назначен членом военного совета. Это для меня, при моем возрасте, быть членом военного совета — прекрасный пост, прекрасное содержание, мечта каждого военного, так сказать. Я не счел себя в праве оставаться членом военного совета. Мне было тогда 52 года. Война была, и казалось нечестным оставаться здесь. Я просил любое назначение, я принимал дивизию, это половинное содержание, не соответствующее моему служебному положению, необеспеченное, потому что члены военного совета навсегда, а, когда дивизия расформировывается, — тогда ничего. Но я на это шел. Все-таки меня командировали в Румынию, с оставлением членом военного совета. Когда эта должность была упразднена, я все-таки просил меня назначить начальником дивизии.
Председатель. — Генерал, вы это рассказывали.
Беляев. — Но вы видите, как я смотрел на свое служение.
Председатель. — Я вам обещаю самое внимательное отношение к обстоятельствам вашего дела и скорое рассмотрение теперешних ваших объяснений.
Беляев. — И доброжелательное, я вас уверяю…
Председатель. — Беспристрастное оно будет совершенно.
Беляев. — Пожалуйста, но вы только не знаете меня — вы будете строить на основании тех фактов, которые вырваны из тысячи один.
Иванов. — Все данные будут приняты во внимание.
Председатель. — Мы выслушаем доклад генерала, члена нашей Комиссии, и, поверьте, примем во внимание все.
Беляев. — Извините, что я разнервничался, вы можете понять мое положение.
Председатель. — Нам это понятно, но мы во власти фактов, точно так же поступков, которые должны рассмотреть.
Беляев. — Вы должны разбирать деяния преступных лиц, совершивших преступления. Преступления я не совершил. Я даю честное, благородное слово, вы не можете назвать ни одной вещи, которая подходит под категорию преступления.
XXIII. Допрос кн. Н. Д. Голицына. 21 апреля 1917 г.
Содержание: Арест Голицына. Обстоятельства назначения Голицына председателем совета министров. Вызов его в Царское Село к императрице. Беседа с б. государем. Отношения Голицына с Протопоповым и роль Протопопова в совете министров. Об отсрочке созыва государственной думы с 12 января на 14 февраля. Намерение Голицына обновить за это время состав совета министров. Указание императрице и государю на необходимость замены Протопопова другим министром. Назначение Добровольского заместителем председателя совета министров. Свидания Голицына со Щегловитовым в первые дни после назначения Голицына. Признание Голицына об отсутствии у него политической программы и неподготовленности его к государственной деятельности. Малый совет министров. Заседание по вопросу о созыве государственной думы 12-го января или 14-го. Мысль Протопопова, чтобы жить без думы. Вопросы государственного значения в течение февраля — продовольствие и транспорт. Ежедневные собрания министров в порядке частных совещаний. Отсутствие Протопопова на этих совещаниях. Закулисная линия Протопопова. О речи Керенского в думе 15 февраля. Отношение Голицына к политической атмосфере и фактам конца февраля. Действия совета министров за это время. Имевшиеся в распоряжении Голицына готовые неиспользованные бланки за подписью царя на случай перерыва или роспуска думы. Частное совещание совета министров 25 февраля на квартире Голицына. Доклад Хабалова о положении столицы. Заседание совета министров в Мариинском дворце в воскресенье 26 февраля. Приезд в. кн. Михаила Александровича и Родзянко. Телеграмма от министров б. государю. Сознанная необходимость ухода Протопопова и просьба к нему о том, чтобы он официально заявил себя больным. Предложение в. кн. Михаила Александровича б. государю принять на себя регентство. Роспуск думы. О пагубном влиянии Вырубовой на б. императрицу. О желательности ухода Добровольского.
Отчет комитета помощи военнопленным. О контракте комитета, заключенном с фирмою Блигкен и Робинзон на изготовление галет. Содействие предоставлению вагонов для отправки галет в лагери через шведский Красный Комитет в Стокгольме. Об удовлетворении просьбы Голицына о разрешении ему уехать.
* * *
Председатель. — Вы князь Н. Д. Голицын? Вы проживаете пока в городе Петрограде?
Голицын. — Да, Конногвардейский бульвар, 13.
Председатель. — Вы занимали пост председателя совета министров с 27 декабря?
Голицын. — С 27 декабря по 27 февраля.
Председатель. — Вы были арестованы?
Голицын. — Я скрывался. Затем пришел к себе на квартиру, которую оставил за собой на Конногвардейском бульваре, и написал М. В. Родзянко, что нахожусь у себя и предоставляю себя в его распоряжение, причем просил его, если он признает нужным, меня арестовать, применить ко мне домашний арест; это письмо было 1-го марта отправлено. Никакого ответа я не получил. Два дня, 1 и 2 марта, или 3 и 4-го, я спокойно жил у себя на квартире.
Председатель. — Так что вы были арестованы после отречения бывшего императора?
Голицын. — Я об отречении ничего не знал.
Председатель. — Значит вы были арестованы до 2-го марта?
Голицын. — Это было в пятницу, я помню. Приехали ко мне из думы с тем, чтобы меня арестовать. Кажется, это было в пятницу.
Председатель. — Позвольте внешние объяснения признать законченными. Нас интересуют некоторые другие вопросы. Вы были назначены 27 декабря. При каких обстоятельствах и собственно по чьему настоянию состоялось ваше назначение?
Голицын. — Для меня это совершеннейшая загадка до настоящего времени. Я должен сказать, что мое назначение, как мне было известно, состоялось по ходатайству лиц, которые не пользовались ни уважением, ни доверием. Я должен сказать, что Распутина я не видел в глаза и очень рад, что нигде с ним не встречался. Других тоже не знал. В 1915 году императрица Александра Федоровна поручила мне оказывать помощь русским военнопленным. И вот, по делам этого комитета, председателем которого я был назначен, я имел довольно частые доклады у императрицы. До того времени я три-четыре раза представлялся, как губернатор. Как вам известно, я человек больной, я не домогался этого назначения никогда, так что поручение заботы о военнопленных меня удивило, и для меня это тоже представляет загадку, кто императрице меня указал. Но, тем не менее, меня пригласили к императрице, и я думаю, что мысль была передана государю. Было так: 25 декабря, в день Рождества, в час дня, мне говорят, что меня вызывают по телефону из Царского и говорят, что императрица просит меня приехать в Царское в 8 ч. вечера. Меня нисколько это не удивило, так как меня довольно часто вызывали по делам о военнопленных. Я поехал в семь часов вечера в Царское. Меня там встречает швейцар и говорит: «вас приглашала императрица, а примет государь, пожалуйста». Указывает вход к государю, а не к императрице. Доложили государю. Государь меня сейчас же принял и говорит, что императрица занята, а я свободен, и вот побеседуем. И начал беседовать о посторонних предметах, о военнопленных, расспрашивал о деятельности нашего комитета. Затем говорит, что теперь Трепов уходит, и я очень озабочен, кого назначить. Я слушаю. Называет нескольких лиц, между прочим, Рухлова. Очень, говорит, хорошо было бы, но он не знает французского языка, а на-днях конференция собирается и потому назначение его представляется неудобным. Весь разговор в этом роде. Потом несколько минут молчания, и его фраза: «Я с вами хитрю. Я вас вызывал, не императрица, а я. Я долго думал, кого назначить председателем совета министров, и мой выбор пал на вас». Я поник головою, так был ошеломлен. Совершенно не ожидал. Никогда я не домогался, напротив, прослужив 47 лет, я мечтал об отдыхе. Я стал возражать. Указывал на свое болезненное состояние. Политикой я занимался всегда очень мало. Был я занят Красным Крестом и комитетом и мечтал только об отдыхе. Я прямо умолял его, чтобы чаша сия меня миновала, говоря, что это назначение будет неудачно. Совершенно искренно и убежденно говорил я, что уже устарел, что в такой трудный момент признаю себя совершенно неспособным. Переговорив об этом, я думал, что я убедил его и что он изменит свое решение. Я уходил совершенно успокоенный, думая, что чаша сия миновала меня. Понедельник и вторник прошли спокойно. В среду вернулся поздно вечером, после десяти часов, я нахожу у себя этот указ.
Председатель. — До этого вызова вашего в Царское вы видели императрицу Александру Федоровну?
Голицын. — Я довольно часто бывал у нее, два-три раза в месяц, иногда каждую неделю.
Председатель. — У вас были беседы только на тему о ваших делах по комитету?
Голицын. — С императрицей? Нет, она касалась также и посторонних предметов.
Председатель. — В том числе и государственных вопросов?
Голицын. — Отчасти да.
Председатель. — А когда вы видели в последний раз бывшего государя до этой беседы?
Голицын. — За три, четыре дня до его отъезда в Ставку.
Председатель. — А перед вашим назначением?
Голицын. — Перед моим назначением очень давно не видел. Раз — это было в 1916 году, в июле, во время моего доклада императрице. Я каждый раз возил письменный доклад на утверждение, и во время доклада вошел государь, он проходил через гостиную в сад. Это было в июле, и после того я его не видел.
Председатель. — Скажите, кого из окружающих бывшую государыню лиц вам приходилось видеть? Кого вы знаете?
Голицын. — Я знаю графа Ростовцева,[*] бывшего ее секретаря, который передал мне о ее желании, чтобы я принял на себя заботы о русских военнопленных. Затем я знал состоявшего при ней графа Апраксина. Он даже родственник моей сестре, так что я давно знал его. Потом Ордина, который был членом главного управления Красного Креста, членом которого состоял и я, и затем, когда я образовал комитет помощи военнопленным, то я Ордина пригласил в число членов этого комитета. Так что я с ним часто виделся.
Председатель. — А Вырубову?
Голицын. — Никогда не видел. Знал наверное, что ее влияние на императрицу было довольно пагубное, но никогда не видел. Я знаю ее отца, Танеева, с которым встречался по службе.
Председатель. — Вы говорите, что никогда не видели Распутина?
Голицын. — Никогда.
Председатель. — Распутин не делал попытки видеться с вами?
Голицын. — Никогда.
Председатель. — Так что вам ни разу не приходилось оказывать ему услуг?
Голицын. — Никогда. Я, как уже докладывал, никогда не занимал официального политического поста.
Председатель. — Итак, значит, вы заняли пост председателя совета министров. Я вас не предупредил, князь Николай Дмитриевич, — я должен вам сказать, что мы сейчас допрашиваем вас в порядке истребования, — так сказать, объяснений, не правда ли? Так что не только ваше право, но и ваша обязанность дать нам исчерпывающий в этом отношении материал. Если бы вы были обвиняемым, если бы вы были свидетелем, то имели бы право умолчать о некоторых обстоятельствах, но сейчас вы должны совершенно исчерпывающе давать объяснения.
Голицын. — Я при всяких обстоятельствах буду говорить искренно.
Председатель. — Когда вы вступили в должность председателя совета министров, какие отношения установились у вас с Протопоповым и какую роль в министерстве играл Протопопов? В совете министров, в общей коллегии?
Голицын. — Протопопова я раза два видел в английском клубе до моего назначения. Раза два всего, так что я совершенно его не знаю. Но потом до меня доходили слухи о его деятельности очень неприятные. Слухи совершенно разноречивые. Одни говорили — все спасение России в нем, а другие говорили наоборот. Я очень боялся в жизни подпасть под чье-либо влияние и впасть в ошибку, и мне хотелось его узнать самому. С этой целью, когда я был назначен, я сейчас же стал с ним стараться возможно чаще видеться. Приглашал его к себе раза два-три, а потом старался ездить к нему, вследствие того, что он настолько словоречив, что иногда засиживался у меня до поздней ночи и вследствие этого я являлся на следующий день совершенно усталым и неспособным работать. Он говорил о посторонних делах. Я старался его узнать и, узнавая его и рассматривая дела министерства внутренних дел, я пришел к заключению, что он совершенно не в курсе дела, что он совершенно не знает этой сложной машины министерства внутренних дел и поэтому, с этой точки зрения, я тоже признавал, что он является орудием нежелательным и может довести до весьма серьезных, неблагоприятных результатов, и, поэтому, признавал его совершенно неподходящим занимать этот пост.
Председатель. — Что значит орудием? В чьих руках орудием?
Голицын. — Разных лиц. Я не могу сказать каких, но во всяком случае, я думаю, что он мог подпасть под влияние и сделаться таким орудием, что имело бы в высшей степени неблагоприятные результаты.
Председатель. — Что он не только мог подпасть, но что он уже состоит под влиянием?
Голицын. — Вот этого я не знал. Но я составил себе понятие, что этот человек легко может подпасть под влияние. Затем у меня явилась мысль о необходимости, до созыва государственной думы, обновить состав совета министров, и с этой целью я испросил разрешение на отсрочку думы, которая, как вам известно, должна была собраться 12 января. Я испросил разрешение на созыв ее 14 февраля, предполагая, что в это время мне удастся обновить совет министров и что явятся такие лица, которые могли бы выступать в думе.
Председатель. — Перерыв с 12 января до 14 февраля?
Голицын. — Да, 14 февраля. И вот, когда мне удалось…
Председатель. — Вы сами лично пришли к этому заключению?
Голицын. — Безусловно, я сам лично. Я в этом направлении стал действовать.
Председатель. — Так что вы не пропускали этот вопрос через совет министров?
Голицын. — Относительно отсрочки думы — да, я не открывал своих карт, потому что должен был бы назвать некоторых членов совета министров и не хотел назвать, так что совет министров это утвердил. Но это не единогласное было решение. Некоторые члены совета возражали, желая отсрочить еще далее. Тогда, когда уже была отсрочка сделана, я в 20-х числах января признал нужным уже приступить к этому делу и доложить государю. Но прежде чем ему доложить, и зная, что государь находится под большим влиянием императрицы, я обратился к императрице. Я начал с Протопопова, говорил, что его нужно сменить и что, во всяком случае, он вреден и не сознает того положения, которое он создал, и что следует его заменить тем или другим, и просил в этом отношении ее содействия. Это, может быть, с моей стороны было политическое выступление, но, тем не менее, она мне ничего не обещала.
Председатель. — Ну, а как она отнеслась?
Голицын. — Выслушала очень внимательно, но, повидимому, ей не понравилось. Ничего не выразила по этому поводу и не обещала содействия перед государем. Через два дня я был с очередным докладом у государя и с этого начал. Повидимому, государь об этом был предуведомлен. Выслушал меня очень спокойно. Я ему очень долго говорил, приводил массу причин о необходимости увольнения Протопопова, и мне казалось, что я до некоторой степени на него повлиял, «Я вам теперь ничего по этому поводу не скажу, а скажу в следующий раз».
Председатель. — Какие мотивы вы выставили для отставки Протопопова?
Голицын. — Во-первых, полную его неосведомленность в делах министерства и незнакомство с очень сложной машиной министерства внутренних дел. Затем, я знал отношение его к членам думы, знал его отношение к М. В. Родзянко. Все это я доложил государю совершенно откровенно. Я говорил, что, во всяком случае, если он останется и будет открыта дума, то это будет поводом для того, чтобы в думе были нежелательные выступления против правительства. Но тогда государь сказал мне, что даст по поводу этого ответ в следующий раз. Через несколько дней я был с докладом, и, окончивши мой доклад очередной, он сам вспомнил и сказал: «Я вам хотел сказать по поводу Протопопова. Я долго думал и решил, что пока я его увольнять не буду». Я государю опять повторил все то, что говорил раньше относительно необходимости его увольнения, но так это и осталось. Я план такого рода поставил себе, что сначала Протопопова, а затем некоторых других лиц.
Председатель. — Кого же вы предназначали?
Голицын. — Потом думал Добровольского отставить.
Председатель. — Отставить или уволить?
Голицын. — Заменить кем-нибудь другим. Затем лиц, которых я очень мало знал, но о которых много говорили нехорошего, например, Раева.
Председатель. — Ну, а еще?
Голицын. — О Кульчицком я не мог говорить, потому что он был только что назначен. Вот Добровольского и Раева.
Смиттен. — Скажите, пожалуйста, князь, эта беседа как скоро состоялась после вашего назначения? У вас была первая и вторая беседа с государем о Протопопове.
Голицын. — Это было в 20-х числах января, потому что я мог сказать государю, что это мое личное наблюдение и убеждение и что я не нахожусь под влиянием тех слухов, которые были противоречивы и которые ходили в городе.
Председатель. — Вашим заместителем по должности председателя совета министров был назначен Добровольский?
Голицын. — Да.
Председатель. — Когда последовало это назначение?
Голицын. — Это вскоре после моего назначения. Мне хотелось назначить Покровского. Мне говорили, что установился такой обычай, что старший по чину назначается. Таковым являлся Добровольский.
Председатель. — Так что вы его представили?
Голицын. — Да, я его представил.
Председатель. — Вы говорили о заместительстве им вас предварительно с бывшей императрицей?
Голицын. — Нет.
Председатель. — Не говорили? Так. Какое же вы встретили у государя отношение к этому предположению?
Голицын. — Это был письменный доклад. Он утвердил. Написал: «Согласен».
Председатель. — Не осталось ли у вас впечатления, что еще кто-то поддерживает эту кандидатуру?
Голицын. — Нет, не было такого впечатления.
Председатель. — Какую вы заняли позицию по отношению к членам государственного совета, которые должны были бы быть назначены к 1 января, к вопросу о том, в каком составе в следующем году будет функционировать государственный совет?
Голицын. — Они были назначены помимо моего ведома, хотя это объясняется может быть тем, что назначение председателя государственного совета состоялось за несколько дней до моего назначения, и самые члены государственного совета были назначены в это же время. Так что я этим объясняю, что мне председатель совета, представляя доклад о назначении членов, ничего не говорил о том, кого именно назначают.
Председатель. — Какого числа состоялось назначение председателя государственного совета?
Голицын. — Я не помню. Но я знаю, что оно совпало с теми днями, когда было мое назначение. Тем не менее, я признавал это не совсем нормальным и просил Щегловитова на будущее время предварительно поставлять меня в известность, кого он предлагает назначить членами государственного совета. Но все те, которые были назначены, были назначены помимо моего участия.
Председатель. — Вы часто виделись с Щегловитовым в первые дни после вашего назначения?
Голицын. — В первые дни я был у него. Затем раза два был еще. Сделал визит его жене, которую раньше не знал. Одним словом, в порядке общежития.
Председатель. — Скажите, какие вопросы государственного характера обсуждались между председателем совета министров и председателем государственного совета в эти дни?
Голицын. — Ничего я не помню. Было раз, что в присутствии председателя государственной думы был у меня Щегловитов, в то же время и Григорович. Вот мы тут коснулись, — это было, кажется в феврале, — коснулись предстоящего созыва государственной думы.
Председатель. — К этому мы несколько позже перейдем. Так что вы утверждаете, что никаких вопросов государственной важности вы с председателем государственного совета не обсуждали?
Голицын. — Я, по крайней мере, не помню.
Председатель. — Какова была ваша политическая программа?
Голицын. — Откровенно говоря, у меня ее не было. Я был совершенно не подготовлен к политической деятельности, и это было одной из причин, почему я просил не назначать меня. Я по убеждениям был всегда монархист, был верноподданный, но никогда не выступал ни в государственном совете с речами, и никогда, так сказать, агитаций не вел.
Председатель. — Так что вы были далеки от политики?
Голицын. — Очень далек.
Председатель. — Вы были просто правым членом государственного совета?
Голицын. — Да.
Председатель. — Вы говорите, что вопрос об отсрочке заседаний государственной думы вы пропустили через заседание совета министров, не правда ли?
Голицын. — Да.
Председатель. — Это заседание совета министров было какого числа?
Голицын. — Я не знал, что вы будете задавать этот вопрос. У меня память довольно плохая.
Председатель. — Ну, я вам скажу. Это было 3 января 1917 г.
Голицын. — 3-го? Может быть. Хотя мне казалось, что это было позднее. Так как по продовольственным делам я и другие министры получали ежедневно с мест массу телеграмм и заявлений, и у нас возникала, поэтому, переписка, которая брала очень много времени и существенных результатов не давала, я признал нужным (это было в половине января), чтобы все министры, которые ведают это дело, ежедневно собирались у меня. Все они отнеслись к этому очень сочувственно, и каждый из них являлся.
Председатель. — Это совещание нескольких министров?
Голицын. — Да. Есть еще малый совет министров, как вам известно. Малый совет министров всегда собирался под председательством заместителя, т.-е. Добровольского, в данном случае.
Председатель. — Вы, как председатель совета министров, когда он заседает, мне кажется, между прочим, обязаны были позаботиться о том, чтобы был составлен журнал заседания этого совета министров. Не правда ли?
Голицын. — Да.
Председатель. — Почему не был составлен журнал заседания совета министров 3-го января?
Голицын. — Этого я не могу сказать.
Председатель. — Это то самое заседание, на котором вы поставили вопрос, созвать ли государственную думу 12 января или 14 февраля?
Голицын. — Я должен сказать, что никогда не бывало двух разных составов совета министров, но было так, что по тем вопросам, которые входят в программу и которые рассылались предварительно всем министрам, журнал уже был составлен, и я предварительно его читал; по окончании этих докладов удалялась канцелярия, оставались только министры и беседовали. Это были не постановления совета министров, а обмен мнений более частного характера. Тут возникали разнообразные вопросы. Это был обмен мнений и суждений, и никаких журналов по этому поводу не составлялось. Нужно вам сказать, что когда я поступил, я постарался удержать тот порядок, который существовал до меня. И вот, не зная его, я помню, в первое заседание, когда была исчерпана повестка дня, я поднимаюсь и закрываю заседание совета министров. Мне тогда управляющий делами совета министров Лодыженский докладывает, что по окончании заседания обыкновенно уходит канцелярия и выслушиваются заявления министров. Вот в таком порядке и прошел вопрос относительно отсрочки государственной думы.
Председатель. — Но ведь это вопрос громадного государственного значения, и результаты вашего решения должны были быть доложены государю. Каким же образом такой государственной важности вопрос, результаты обсуждения которого должны быть доложены, каким образом он решон в каком-то секретном заседании совета министров? Ведь совет министров ответствен и перед главой верховной власти и перед страной. Между тем, он обсуждает громадной важности вопрос почему-то тайно? Должен быть журнал.
Голицын. — Совершенно с вами согласен. Но так как это делалось всегда, то и при мне это осталось. Я, признаться сказать, даже об этом не подумал. А просил только, делайте так, как делали до меня. Когда состоялось решение, я письменный доклад повез государю от себя.
Председатель. — Вы, излагая заседание совета министров, говорили, что было два мнения. Одни предлагали отсрочить думу до 14-го февраля, а другие еще дальше. Не группировались ли мнения иначе, т.-е. не распался ли совет на две такие группы. Одни говорили собрать думу в срок, согласно указу 15 декабря, а другие говорили — собрать позже?
Голицын. — Говорили, но говорили неопределенно; они же ссылались на то, что, при настоящем составе думы, нельзя ее созвать. Это они же говорили.
Председатель. — А не высказывалась ли эта группа меньшинства все-таки, в конце концов, за то, чтобы собрать 12 января думу и произвести перемены в составе совета министров?
Голицын. — Об этом не высказывались прямо, потому что присутствовали те лица, которых это касалось, и это, я думаю, служило препятствием и мне, в том числе, говорить прямо и открыто.
Председатель. — Согласно порядка, который установился до вас и продолжался при вас, Лодыженский оставался в этом секретном совещании?
Голицын. — Он оставался всегда, уходит только канцелярия.
Председатель. — И большинством голосов, при чем в этом большинстве были и вы, вы решили отсрочить созыв думы до 14 февраля или, может быть, до 31-го января. Значит, князь, позвольте считать установленным, что одни стояли за думу 14 февраля, а другие отстаивали другую точку зрения. Две группы были такие — в срок ли созвать, 12-го января, или отсрочить до 14 февраля или 31 января?
Голицын. — Но, как я говорил, они, говоря о необходимости созыва думы в срок, говорили, что созвать думу при теперешних обстоятельствах нежелательно.
Председатель. — Но какие они выводы делали отсюда? Изменить ли теперешние обстоятельства, или отсрочить созыв думы?
Голицын. — Отсрочить созыв.
Председатель. — Позвольте мне сказать, что вы ошибаетесь. Именно группа меньшинства, из пяти членов, стояла на той точке зрения, что нужно созвать 12 января и подготовиться к думе, т.-е. путем, вероятно, выхода в отставку Протопопова и других. А вы с большинством, и вас было восемь, а может быть вы девятый, я не могу точно сказать, вы находили, что созыв думы нужно отсрочить.
Голицын. — Я теперь помню. Это было не 3-го января, а гораздо позже, потому что именно те, кто говорил о необходимости созыва 14-го февраля, те и указывали, что при теперешних обстоятельствах созвать нельзя, говорили, что в такой промежуток времени обстоятельства не изменятся. Значит, это было, если не ошибаюсь, дней за пять, за шесть до 14-го февраля.
Председатель. — Будьте добры указать в точности позицию, вспомнить мысли, которые высказал бывший министр Протопопов в том заседании, в котором шел вопрос о роспуске думы?
Голицын. — Он стоял за более продолжительную отсрочку; кажется, он был в числе тех, которые говорили за отсрочку до 31-го января, виноват, у меня память старческая, была речь о том, чтобы до 31 января или 14 февраля. Я был именно за 14 февраля, желая выиграть время.
Председатель. — Но все-таки теперь вы припоминаете, что пять министров стояли за созыв думы в срок?
Голицын. — Но говорили, что при теперешних обстоятельствах созвать нельзя, потому что она пройти благополучно не может.
Председатель. — Они стояли на точке зрения необходимости устранения этих обстоятельств, предполагая обстоятельства устранить, а думу собрать все-таки не 14-го?
Голицын. — Этого категорически не высказывали прямо, но все это понимали. Не было высказано потому, что тут сидели лица, против которых это должно было быть высказано.
Председатель. — Чем мотивировал Протопопов свое мнение а необходимости отсрочки?
Голицын. — Не помню. Вообще он был против думы. Я был за сохранение. Он высказывал, что эта дума будет распущена и, если следующая будет нехороша, то опять можно распустить, затем опять, т.-е. другими словами, жить без думы.
Председатель. — Значит, он стоял не только за отсрочку созыва думы, но и за роспуск и назначение новой?
Голицын. — Безусловно за роспуск.
Председатель. — Как он относился к вопросу о том, что выборы в стране будут произведены в момент величайшей в мире войны?
Голицын. — Я должен это говорить, хотя мне тяжело немножко выдавать.
Председатель. — Мы переживаем исключительное время. Перед вами совершенно исключительная Комиссия, так что эти маленькие вопросы, которые вы поднимаете, вопросы отношения к вашим бывшим товарищам по кабинету — выдавать или нет, должны отступить на задний план перед вопросами о том, что вы занимали пост министра в исторический момент. Вы сами имели некоторые тяжелые переживания, совершенно исключительного свойства; исторические задачи, которые стоят перед Россией, которым вы можете служить своим правдивым показанием, по-моему, они диктуют вам ответ.
Голицын. — Я скажу, что мысль Протопопова сводилась к тому, чтобы жить без думы. Когда я на это возражал и говорил, что «если бы был теперь роспуск, что же вы думаете, что новый состав будет лучший, чем бывший? Нет, он в десять раз будет хуже. Затем, выборы были бы даже незаконными, так как большинство выборщиков не находятся на месте и не могли бы принять участия». Он говорит: «Да, я уверен, что состав думы был бы еще хуже этого. Япония одиннадцать раз распускала парламент, и мы распустим». Вот был его взгляд на государственную думу. Но я думаю, он сам вам повторит то же самое.
Председатель. — Значит, князь, позвольте вас понять таким образом, — я возвращаюсь несколько назад, — что к переменам в составе государственного совета, к его укомплектованию на этот год, вы никакого отношения не имели?
Голицын. — Я участия никакого не принимал, я узнал post factum.
Председатель. — Скажите, пожалуйста, — я несколько передвину ваше внимание дальше, — мы переходим к февралю. Какие важные вопросы государственного значения в течение февраля стояли перед вами, как перед председателем совета министров, и перед отдельными министрами?
Голицын. — Я считал, что самый важный вопрос — продовольствие и транспорт. Как я докладывал, по этому поводу у нас ежедневно были собрания, которые продолжались очень долго.
Председатель. — То-есть в порядке частного совещания?
Голицын. — Каждый приносил с собой те сообщения, которые получались от разных учреждений, из провинции, и тут же обсуждались.
Председатель. — Протопопов принимал участие?
Голицын. — Никогда.
Председатель. — Вы придавали значение вопросу о продовольствии, но разве министр внутренних дел не был заинтересован в этом?
Голицын. — Он в совете министров на этих совещаниях не был. Каждый раз он отговаривался тем, что он очень занят. Так и тут он уклонялся от того, чтобы присутствовать. Обыкновенно тут бывали: военный министр, морской министр, министр земледелия, путей сообщения.
Иванов. — Князь, вам, вероятно, было известно, что Протопопов желал объединить дело продовольствия в руках министра внутренних дел. Значит, он был заинтересован?
Голицын. — На мой взгляд, министр внутренних дел не может быть не заинтересован в деле продовольствия, но откровенно скажу, что я нисколько не жалел об отсутствии Протопопова в совещаниях, потому что он всегда вносил некоторый разлад.
Олышев. — А вы не задавали вопроса Протопопову, почему он, в качестве министра внутренних дел, не участвует в этих частных совещаниях по поводу продовольствия?
Голицын. — Нет.
Олышев. — Значит, вам сразу была ясна личность Протопопова, и вам было все равно, будет он бывать или нет?
Голицын. — Я очень сочувствовал тому, что он не бывал.
Председатель. — Значит, в то время, которое тогда переживала страна, вы не отметили в своих докладах главе верховной власти, что этот министр внутренних дел ведет какую-то закулисную свою линию и, даже можно сказать, интригу?
Голицын. — Совершенно верно, совершенно верно. Я именно это имел в виду, у меня было такое чувство. Я так предполагал и потом даже узнал, что он часто ездил в Царское Село, но не к государю, а к Вырубовой, и через нее влиял на государыню. Когда я говорил государю, что необходимо Протопопова уволить, я указал, что у председателя совета министров должен быть такой министр внутренних дел, которому он мог бы верить, как самому себе, — Протопопову же, я сказал государю, я не доверяю.
Председатель. — У вас был какой-нибудь кандидат на этот пост?
Голицын. — Нет.
Председатель. — В каких же делах государственных вы, как председатель совета министров, видели и чувствовали, что некоторое противодействие есть?
Голицын. — Что противодействие — я не скажу, потому что совет министров в мое время рассматривал те представления, которые поступали от министра внутренних дел и, главным образом, мы занимались продовольственным делом. Но из разговоров с Протопоповым я заключил, что он далеко не все мне говорил. Некоторые факты освещал не с настоящей точки зрения.
Председатель. — В какой области?
Голицын. — В области министерства внутренних дел и состояния в России продовольствия. Одним словом, этому человеку я не вполне доверял.
Председатель. — Какие еще вопросы стояли перед вами, кроме продовольственного, в течение февраля?
Голицын. — Самый важный, это — созыв думы и желание совместно с нею работать и как-нибудь сделать эту работу возможной.
Председатель. — Значит, вы готовились к открытию думы 14 февраля, и у вас было совещание с Родзянко и Щегловитовым?
Голицын. — Это было не совещание, они съехались совершенно случайно, и вот тогда мы разговаривали, и я надеялся, что как-нибудь все наладится. Риттих выступал с докладом по поводу продовольственного дела. На меня доклад произвел хорошее впечатление.
Председатель. — Скажите, пожалуйста, вы помните, что в течение февраля одним из обсуждавшихся вопросов, был вопрос о произнесении речи в думе 15 февраля Керенским?
Голицын. — Да. По поводу этой речи мне кто-то из министров или служащих канцелярии говорил, будто Керенский сказал речь, чуть не призывавшую к убийству государя. Мне это показалось сомнительным. Я прочел стенограмму, пропущенную председателем государственной думы, — там ничего подобного не было. Тогда я обратился к председателю государственной думы Родзянко с просьбой прислать мне непроцензурованную стенограмму его речи. Но Родзянко мне в этом отказал. Этим дело и кончилось.
Председатель. — Так что вы по собственной инициативе написали ему?
Голицын. — По собственной инициативе. Я не допускал возможности, чтобы была произнесена именно такая речь и такие слова, как мне передавали. Очень многое хотели представить не в том виде, как на самом деле происходило.
Председатель. — Вы написали, встречая надобность в этой речи?
Голицын. — Да.
Председатель. — А какое употребление вы хотели сделать из этого?
Голицын. — Откровенно говоря, если бы Керенским было сказано то, что мне передавали, т.-е., что он сказал такие слова: «надо убить государя и царскую фамилию», — я считал бы своей обязанностью передать это судебной власти. Я очень был рад, что не подтвердилось это.
Председатель. — Относительно самого права обращаться с таким требованием к председателю государственной думы у вас не возникало сомнений?
Голицын. — Нет. Это не было требование, это была просьба: «Имею честь покорнейше просить», и когда он мне отказал, я не настаивал.
Председатель. — На вас никто в этом отношении не производил никакого давления?
Голицын. — Нет.
Председатель. — Скажите, вам известна фамилия Куманина? Это чиновник особых поручений V класса, заведующий министерским павильоном.
Голицын. — Да, я знаю его.
Председатель. — На него не было возложено обязанности давать справки о том, что делается в думе?
Голицын. — Безусловно. Он после каждого заседания представлял мне письменные доклады о том, что там делается, что там говорили.
Председатель. — Вы не из его доклада об этом узнали?
Голицын. — Нет. Может быть, это были просто городские слухи.
Председатель. — Позвольте перевести вас к третьему моменту — к двадцатым числам февраля. В двух словах скажите, как с точки зрения председателя совета министров вы представляли себе тогдашнюю политическую атмосферу и факты, сюда относящиеся? То-есть, что делали вы, что делал совет министров в то время, скажем, с четверга, 23-го февраля?
Голицын. — Сначала я думал, что это просто уличные беспорядки, которые могут сами собой прекратиться. Но затем, когда они стали принимать более серьезные размеры, когда было употреблено оружие, я увидел, что дело является более серьезным, и говорил, что, если министр внутренних дел и вообще правительство не в силах справиться с уличными беспорядками, то, конечно, такое правительство никуда не годно, и оно должно уйти. Затем, 27-го, в понедельник, у меня утром собрались некоторые министры. Было не заседание совета министров, а простое совещание; каждый говорил о своих наблюдениях, своих впечатлениях, и никто не предполагал, что это разыграется так быстро, так решительно.
Председатель. — Будьте добры остановиться несколько подробнее на этом. Значит, 23 февраля у вас было заседание совета министров, в четверг?
Голицын. — В четверг не было. Я помню, что в пятницу (обыкновенно заседания были по вторникам и пятницам), я утром к часу дня поехал в совет министров, поехал, как всегда, по Караванной, — на Невском совершенно спокойно, улицы были пусты. Затем, по окончании заседания совета министров, в 6 час., мне шоффер говорит, что ехать тем же путем нельзя, потому что на Невском много народа. Я поехал кругом.
Председатель. — А 23-го февраля не было ли у вас заседания совета министров в вашей квартире?
Голицын. — 23-го, в четверг? Кажется, нет.
Председатель. — Вы не помните, тут был Хабалов?
Голицын. — Нет, это было позже. Это было, кажется, в субботу или в воскресенье. Но до пятницы я не подозревал даже, что будут такие беспорядки. Как я говорю, я проехал совершенно спокойно в совет министров и назад.
Председатель. — Вы считаете, что это было в субботу. Будем говорить относительно пятницы. Вы сказали, как поехали и как уехали, но не сказали, что было в заседании совета министров?
Голицын. — Были обыкновенные дела. О беспорядках даже никто не говорил, и для меня был сюрприз, что я не мог проехать той же дорогой.
Председатель. — Протопопов был на этом заседании?
Голицын. — Нет.
Председатель. — Может быть, суббота вам более памятна?
Голицын. — В субботу был Хабалов. И тут зашла речь о том, что предполагается в государственной думе в понедельник ряд выступлений, который повлечет за собой со стороны правительства обязанность распустить думу. Как я вам докладывал, я был против этого. Многие мои коллеги были тоже против. Тогда я просил министра иностранных дел и земледелия, так как они знали большое количество членов думы, переговорить с членами думы о том, правда ли это и как из этого выйти. Они ко мне приехали, повидавшись с членами думы, кажется, с Маклаковым и Балашовым, и сказали мне, что, по их мнению, нужно сделать перерыв, дабы страсти улеглись. Это заставило меня на несколько дней сделать перерыв, боясь роспуска. Это было в субботу.
Председатель. — Т.-е. 25-го? Когда же вы получили от государя указание на перерыв? Когда у вас был последний доклад?
Голицын. — Я должен вам сказать, что у меня были готовые бланки, переданные государем, неиспользованные.
Председатель. — Приготовленные еще в декабре?
Голицын. — Да, когда был Трепов.
Председатель. — Разве вы не истратили их, когда отсрочивали думу с 12-го января по 14-е февраля?
Голицын. — Тогда был специальный доклад для этого.
Председатель. — Вы предложили бывшему императору два варианта относительно отсрочки с 12-го на 14-е?
Голицын. — Нет, на 31-е и на 14-е.
Председатель. — Раз мы вернулись к этой дате, вы может быть скажете, за что вы стояли и за что стоял бывший император?
Голицын. — Я стоял за более продолжительный срок, т.-е. не 31 января, а 14 февраля, мотивируя тем, что тут масленица, что 14 февраля на первой неделе поста. Государь ничего на это не сказал.
Председатель. — Теперь вернемся к роспуску думы в феврале. Значит, вы воспользовались декабрьским бланком. Что же, этот бланк был передан вам бывшим председателем совета министров на неопределенное время? Вы могли когда угодно им воспользоваться?
Голицын. — Да, я потом только поставил число и год.
Председатель. — Значит, вы в феврале воспользовались этим декабрьским бланком, не переговорив с бывшим государем?
Голицын. — Нет, я докладывал.
Председатель. — Когда же вы имели доклад и что вы докладывали?
Голицын. — Я не помню. Это было за несколько дней до поездки государя на фронт, последней поездки, после которой я его не видел. Я не помню, какого числа это было, у меня память слаба.
Председатель. — Что же вы доложили относительно политического положения и относительно вашего отношения к думе? Тогда дума была собрана?
Голицын. — Да, была собрана. Я доложил, что у меня есть бланки и что я использую их по своему усмотрению. Когда государь уезжал, он не предполагал, что будет то, что совершилось, и я не предполагал, что представится надобность делать перерыв, а напротив, будучи очень доволен первым заседанием, думал, что это так и пойдет. Затем было заседание по случаю смерти Алексеенко, члена государственной думы, на котором я был. Все шло хорошо и гладко. Я думал, что так и пойдет. Теперь я помню, что я об этом перерыве государю не докладывал, и он не знал, что у меня были бланки, которыми он разрешил мне воспользоваться.
Председатель. — Значит, ваш доклад о думе был докладом успокоительным?
Голицын. — Безусловно. Я даже доложил, что речь Родзянко, при открытии думы, производит хорошее впечатление, и настроение мне казалось хорошим.
Председатель. — Вы эти бланки и пустили в ход после решения совета министров?
Голицын. — Я должен сказать, что это не было решение совета министров. Это было совещание совершенно частное, даже журнал не составлялся.
Председатель. — Где это было?
Голицын. — У меня на квартире, 25-го, в субботу.
Председатель. — Будьте добры сказать, какая была ваша позиция и некоторых министров, в частности Протопопова?
Голицын. — Покровский был безусловно против роспуска, потому что сначала был вопрос о роспуске. Он говорил очень убедительно, некоторые возражали и настаивали на роспуске, а затем я присоединился к тем, которые говорили против роспуска за перерыв, опираясь на совет членов думы.
Председатель. — Редакция указа в случае роспуска и в случае перерыва должны быть различными?
Голицын. — Да.
Председатель. — У вас были бланки, на которых стояло имя Николай без текста?
Голицын. — Без текста. Я сам собственноручно вписал текст.
Председатель. — Значит, был текст и был оставлен пробел? Т.-е. два текста с пропусками и с подписью Николай, один о роспуске, другой об отсрочке?
Голицын. — Нужно было только вставить год и число. Написано 1 апреля.
Председатель. — Значит, вы могли воспользоваться, не спрося главу верховной власти?
Голицын. — У меня на это было разрешение от него словесное. Я ему доложил, что от Трепова получил бланки, он говорит: «держите у себя, а когда нужно будет, используйте».
Председатель. — Какая позиция была Протопопова в отношении отсрочки?
Голицын. — Он был за роспуск.
Председатель. — А большинство министров стояло за отсрочку?
Голицын. — За перерыв почти единогласно.
Председатель. — Против него?
Голицын. — Да, вообще он не пользовался симпатиями в совете министров; исключениями были Добровольский и Раев. Раев его поддерживал.
Председатель. — В этом заседании Хабалов сделал вам доклад о положении столицы?
Голицын. — Раньше я Хабалова не знал, никогда не видел и познакомился с ним, когда он был назначен. Он на меня произвел впечатление тяжелодума, очень не энергичного, мало даже сведущего. А тут он совершенно растерялся, и его доклад был такой, что даже нельзя было вынести впечатления, в каком положении находится дело, чего можно ожидать, какие меры он предполагает принять, — ничего. Это был какой-то сумбур.
Председатель. — Но все-таки в этот сумбур входило предположение стрелять в народ?
Голицын. — Я этого вопроса не касался.
Председатель. — Разве вы не интересовались, как организована охрана столицы?
Голицын. — Раньше интересовался. Мне говорили, что Петроград разделен на участки, в каждом участке есть свои войска, своя полиция и стоящий во главе этого участка. Этим я удовольствовался и думал, что всякие уличные беспорядки, без всякого кровопролития, во всякое время, могут быть подавлены.
Председатель. — Что вам известно о вооружении полиции пулеметами?
Голицын. — Ничего. Я узнал об этом уже после совершившегося факта.
Председатель. — Что стреляли из пулеметов с крыш?
Смиттен. — Кто?
Голицын. — Молва городская была, что полиция. Затем мой человек, остававшийся некоторое время в квартире на Моховой, мне рассказывал, что когда вошла толпа в дом, то сначала мирно была настроена, но в это время раздался выстрел с крыши, по его предположению, из пулемета; тогда толпа рассвирепела и стала грабить.
Иванов. — Вы требовали охраны своей квартиры от градоначальника?
Голицын. — В субботу вечером я потребовал охрану; пришли несколько человек солдат, которых я не видел.
Председатель. — А что в воскресенье делал совет министров?
Голицын. — Мы сидели в Мариинском дворце от семи с половиной до одиннадцати с половиной часов вечера.
Председатель. — Будьте добры рассказать.
Голицын. — Никаких суждений тут не было. Мы ходили растерянные. Мы видели, что дело принимает скверный оборот, и ожидали своего ареста. Приезжал председатель государственной думы и бывший великий князь Михаил Александрович. Они меня вызывали к себе, и мы вместе с М. В. Родзянко уговаривали Михаила Александровича принять регентство и сейчас же уволить нас, т.-е. министров. Я, с своей стороны, признавал, что нельзя самовольно уходить, тем более, что я назначен был помимо своей воли. Но, вместе с тем, это было моим постоянным желанием. Мы просили Михаила Александровича принять на себя регентство временно, так как государя нет, чтобы он принял хотя бы с превышением власти и чтобы нас сейчас же всех уволил и назначил новый совет министров. Но он на это не пошел. Это была последняя беседа в Мариинском дворце.
Председатель. — Вы телеграфировали в эти дни государю или говорили с ним по телеграфу?
Голицын. — По телеграфу с ним говорил великий князь Михаил Александрович. А советом министров в понедельник вечером в шесть часов или в семь была послана государю телеграмма, которая была составлена и проредактирована министрами Покровским и Барком; в ней сообщалось о тяжелом положении, о том, что войска переходят на сторону фабричных и толпы и что положение трудное. И просили нас сейчас же уволить и назначить лицо, облеченное доверием государя, которое не возбуждало бы недоверия со стороны широких слоев общества.
Председатель. — Вы не указывали никого?
Голицын. — Нет.
Председатель. — Широким доверием государя. Т.-е. вам представлялось, что именно — диктатура?
Голицын. — Мне лично не диктатура. Мне представлялось так, что мог бы быть таким лицом нынешний же председатель совета министров, что этот человек, известный широким кругам общества, и мог бы умиротворить.
Председатель. — При каких обстоятельствах в этот день явился к вам в Мариинский дворец Протопопов? Что он говорил?
Голицын. — Сначала приехал военный министр Беляев и говорит: «Единственно, что можно было бы сделать, хотя бы немного успокоить, это — Протопопова сейчас же уволить». Я на это ему говорю, что не имею права увольнять министра, но тем не менее тут же обратился к Протопопову и просил официально заявить, что он болен, что он уходит и чтобы его тут не было.
Председатель. — Что он болен или что уходит?
Голицын. — Что он болен и вследствие этого его заменяет товарищ. Он встал и ушел. После того мы его не видели. Это было в шесть часов вечера.
Председатель. — Что же, он согласился заболеть?
Голицын. — Да, да.
Председатель. — И должен был вступить кто?
Голицын. — Мне указал военный министр на генерала Макаренко, и я написал уже Макаренко предложение вступить временно в управление министерством, но потом оказалось, что этот человек тоже не был бы встречен общественным мнением радушно, и потому я бумагу разорвал.
Председатель. — Вы разорвали или все-таки послали отпечатать?
Голицын. — Она была уже напечатана на машинке и запечатана в конверт, но потом, когда я узнал, кто он и что он, я разорвал.
Председатель. — Я не понимаю, как при живом министре внутренних дел, только больном, вы назначаете со стороны, из другого ведомства.
Голицын. — Это было бы с моей стороны большим превышением власти, но если бы это было лицо такое, которое могло бы внести успокоение, я бы перед этим не остановился.
Председатель. — Скажите, вы выражали благодарность от имени совета Протопопову за то, что он принес себя в жертву?
Голицын. — Нет. Это было не так. Он ушел очень сконфуженный и, уходя, даже говорил: «Мне теперь остается только застрелиться». Я даже с ним не простился.
Председатель. — Вообще представление у министров было такое, что Протопопов это большое зло в их среде?
Голицын. — Да. Это эмблема.
Смиттен. — Князь, скажите, пожалуйста, какого содержания телеграмму посылал великий князь Михаил Александрович царю?
Голицын. — Кажется, он телеграммы не посылал: он поехал с военным министром на телеграф, где можно было переговариваться по прямому проводу. Как мне передавали, он предлагал принять на себя регентство. Государь с ним не говорил. Алексеев, кажется, ответил, что государь благодарит за участие, но приедет сам после-завтра, в среду.
Председатель. — Вам не приходилось говорить с Протопоповым относительно субсидий правым организациям?
Голицын. — Нет. Он мне отвечал только на вопросы, а сам со мной был очень неоткровенен.
Иванов. — Когда дума была распущена?
Голицын. — В понедельник.
Председатель. — 25-го, в субботу, был датирован указ.
Иванов. — В воскресенье, 26-го, объявлен, а подписан вами был этот указ 25-го?
Голицын. — Нет, он не был подписан. Он был заготовлен в декабре.
Иванов. — Но датировали?
Голицын. — Я не припомню, какого числа.
Смиттен. — Вы говорили, что Вырубова имела пагубное влияние на бывшую императрицу. Не можете ли объяснить, какое это влияние и в чем его пагубность заключалась.
Голицын. — Я очень затрудняюсь на это ответить. Всем нам известно, какое она имела влияние и какую нелюбовь заслужила императрица. Я именно объясняю себе так, что действия императрицы, которые заслужили нелюбовь, происходили под влиянием Вырубовой.
Смиттен. — Источников, которые осведомляли бы по этому поводу, у вас не было?
Голицын. — Нет.
Председатель. — Но это был вывод из всех ваших наблюдений и впечатлений?
Голицын. — Мне кажется очень показательным, что я Вырубову никогда не видал при докладах императрице, несмотря на то, что я бывал очень часто с докладами, и мне приходилось подолгу ожидать в гостиной. Тут приходили великие княжны, а ее я не видел.
Смиттен. — Каких влияний на Протопопова вы боялись?
Голицын. — Таких влияний, которые еще больше бы сделали его вредным в проведении той политики, которую он вел. Я себе представлял, что он был очень доволен положением, которого достиг, очень дорожил им и желал отличиться перед государем и императрицей. Когда я пришел к заключению о необходимости его увольнения, я потихоньку не хотел действовать и прямо сказал, что вам нужно уйти. Он возразил: «Я назначен его величеством, и только его величество может меня уволить».
Смиттен. — Почему вы хотели ухода в отставку Добровольского?
Голицын. — Добровольского я знаю давно. Я был сенатором 1-го департамента с 1903 до 1915 года, и тогда уже он во мне возбуждал некоторые сомнения. Во-первых, я скажу, что министр должен быть чист, как стеклышко, чтобы не было никаких пересудов и толков, а про него говорили, что он в долгу кругом, вследствие чего возникали знакомства, которые для министра юстиции казались неподходящими. Он занимал, перезанимал. В таком случае соблазнов является много. Конкретных случаев не было, но до меня дошел слух об одном нефтяном деле на Кавказе по поводу торгов на нефтяные участки. Я тогда просил сенатора Враского мне это дело прислать. Он мне прислал. Я его оставил непросмотренным в кабинете у себя. Я боюсь что оно было разорвано, когда был разгром моей квартиры. Я даже об этом деле вчера спрашивал обер-прокурора 1-го департамента.
Председатель. — Вы были председателем комитета помощи военнопленным?
Голицын. — Да.
Председатель. — Когда возник этот комитет?
Голицын. — В 1915 году, в мае.
Председатель. — Имеется отчет этого комитета?
Голицын. — Был. Я составил за известный период. Он был издан в прошлом году. Один экземпляр у меня есть. Если вас интересует, я могу представить. Это не отчет, а очерк и, признаться, немного рекламного свойства. Сначала, когда императрица учредила этот комитет, не было средств. Мы предполагали вести дело исключительно на добровольные пожертвования. Пожертвований поступило довольно много, но, сравнительно с той нуждой, которую испытывали наши военнопленные, это было немного. У меня память плохая, но несколько сот тысяч. До 500. У меня в очерке там есть.
Председатель. — До последнего времени не доведен этот отчет?
Голицын. — Нет.
Родичев. — Не припомните ли вы из дела этого комитета, какое количество муки давали торговому дому Блигкен и Робинсон для выделки галет?
Голицын. — Не припомню. Выдавал не комитет. Комитет заключал контракт с Блигкен и Робинсоном на такое-то количество пудов галет, а как он доставал муку, это комитета не касалось. Мы только иногда, когда встречали затруднение в транспорте, оказывали ему содействие, прося министерство путей сообщения разрешить ему такое-то количество вагонов оттуда-то провезти, — но сами муку ему не давали.
Родичев. — Вы заключили контракт, что он будет делать галеты из определенного количества муки, поступающей к нему каждый день?
Голицын. — Контракт был о том, чтобы он нам доставил известное количество пудов галет готовых, испеченных.
Родичев. — Кому он ставил? Вашему уполномоченному? Как происходила сдача?
Голицын. — Один из служащих в комитете ездил на фабрику. При нем запечатывались, при нем взвешивались эти галеты и отправлялись на Финляндский вокзал. Был контроль со стороны служащих в этом комитете.
Родичев. — Значит, в делах комитета теперь можно найти след и отчетность по этому делу?
Голицын. — Безусловно. Отчетность очень строго и правильно велась. И когда комитет стал получать довольно большие суммы из государственного казначейства (одно время было запрещено говорить что бы то ни было о военнопленных и о той помощи, которую им оказывали), то все это знали, а отчеты печатать не разрешалось; тогда я обратился к государственному контролеру, которым был Покровский, прося его назначить контрольную ревизию. Но он не успел этого сделать, и уже его преемник, Феодосьев, прислал проверить книги, которые контроль просмотрел и, вероятно, нашел, что все благополучно.
Родичев. — После сдачи этих вагонов на Финляндскую железную дорогу ваше отношение к ним прекращалось или вы следили?
Голицын. — Оно не прекращалось. Я все-таки следил за тем, чтобы доставлялось. Затем дело транспорта было передано особому комитету, который был при главном управлении Красного Креста, под председательством сенатора Арбузова. Этот комитет возник на основании Гаагской конференции и имеет значение большее, чем наш комитет, который возник на почве добровольных пожертвований и является, так сказать, частным учреждением. Транспорт зависел от того комитета. Я в каждый ящик вкладывал две открытки — посылается вам то и то, а на другой открытке комитеты лагерные, которые учреждены в Германии и Австрии, сообщали нам: получено то-то и то-то.
Родичев. — Эта отправка в лагери производилась где-нибудь в Швеции или Дании?
Голицын. — Да, через шведский Красный Крест в Стокгольме. Комитет Арбузова вошел в соглашение, и Красный Крест принял на себя это за большие деньги.
Родичев. — Шведский Красный Крест отчитывался перед Арбузовым или непосредственно перед вами?
Голицын. — Перед Арбузовым. Но и я, извините за выражение, тут свой нос совал, потому что иногда отчетность была не совсем правильной.
Родичев. — Так что они отчет посылали в двух экземплярах?
Голицын. — Арбузову и мне.
Родичев. — Государственный контроль просматривал?
Голицын. — Просматривал.
Смиттен. — Ваше содействие в предоставлении вагонов Блигкену и Робинсону сообразовалось в количественном отношении с размером заказов, которые вы делали, или же вы давали бланки?
Голицын. — Я еще не был председателем совета министров. Я был не в курсе этого дела. Я, как председатель этого комитета, когда ко мне обращались за содействием, просил надлежащего министра.
Смиттен. — Ваш отпуск не превышал потребности ваших заказов?
Голицын. — Нет.
Председатель. — Князь Николай Дмитриевич, вы подавали просьбу о разрешении вам уехать. По этому поводу Чрезвычайная Следственная Комиссия входила с представлением к министру юстиции, и министр юстиции сегодня, по моему докладу, не встретил препятствий к удовлетворению вашего ходатайства, при условиях, однако, которые мы ему изложили. Эти условия заключаются в том, что вы скажете нам о том, где будете жить, и постоянно будете уведомлять Комиссию о месте вашего жительства. Так что благоволите дать такую росписку в том, что вам это распоряжение министра объявлено, и, во-вторых, что вы будете жить там-то, и, в-третьих, что вы обязуетесь, в случае перемены жительства вашего, нас осведомлять. Вы уже дали подписку о подчинении временному правительству и о том, что вы не будете принимать участия ни в какой политической борьбе.
Голицын. — Мое самое сильное желание, чтоб оно укрепилось, ибо я вижу в нем спасение России.
Председатель. — Дополнительных вопросов не имеется.
XXIV. Допрос А. Д. Протопопова. 21 апреля 1917 г.
Содержание: Сношения Протопопова с советом патриотического отечественного союза. Орлов. Отношение к монархическому началу. Отношение к государственной думе. Сношения с Вырубовой. Отношение к общественным организациям — Земскому и Городскому союзам. Отношение к правым. Отношение к разного рода брошюрам. Сношения через Вырубову с государем. Монархический принцип. Желательность роспуска думы. Сводка агентских данных. Схема Протопопова по вопросу о положении страны. Признаки безысходности положения. Схема, данная члену государственной думы Караулову по вопросу о необходимой реформе — ответственности министров. Сношения с правыми. Записка Римского-Корсакова. Субсидии Маркову, Орлову и другим на правую печать. Усиление правого крыла государственного совета. Разговоры с царем по вопросам «правой политики». Закрытое заседание думы с запросом об отношении правительства к общественным организациям. Сношения с Воейковым. Показание кн. Голицына об отношении Протопопова к роспуску думы. Возражение Протопопова. Отношение Протопопова к группе националистов Балашева. Организация правой печати. Надежда, возлагавшаяся на правые организации в виду приближения выборов в 5-ю думу. Замыслы правых относительно пересмотра основных законов. Отношение Протопопова к цензуре. Подготовка выборов в 5-ю государственную думу. На предмет выборов испрашивается 2 милл. рублей. Предполагаемое давление на выборы покупкою цензов. Телеграмма Протопопова Воейкову перед началом занятий думы, в конце октября 1916 г. Отношение Протопопова к постановлениям двух комиссий государственного совета. Сношения с государем через императрицу и сношения с последней через Вырубову. Кружок Бадмаева. Конспиративный характер писем Вырубовой. Распутин. Расследование убийства Распутина. Выемка из квартиры Распутина компрометантных документов. Отношения Протопопова с Сухомлиновым и с Сухомлиновой. Разговор Протопопова с царем о продовольственном вопросе. Письмо Сухомлиновой. Арест рабочих Военно-промышленного комитета. Протопопов и Курлов. Протопопов и Комиссаров. Отношение Протопопова к Комиссарову, Распутину и Манасевичу-Мануйлову. Письмо Протопопова к государю по случаю дня его именин. Отношения между Протопоповым и Бурдуковым. Обращение Протопопова к императрице с просьбою, в виду начала занятий думы, не приводить в исполнение решения государя, согласившегося с меньшинством совета министров. Совещание трех министров о продовольственном деле. Вопрос об усилении правого крыла государственного совета. Письмо Бурдукова к Вырубовой о Протопопове. Бадмаев, его записки. Разговор Протопопова с Треповым о переходе на иной министерский пост. М. Е. Головина и ее близость к Распутину. Протопопов и московские городские выборы. О субсидии Котлецову из сумм секретного кредита. Жалоба Котлецова на Протопопова. Еще о деле Перена. Операция Протопопова с векселями на покупку хлеба. Кушнырь-Кушнырев, А. Н. Хвостов и Белецкий. Черновик Бурдукова для речи Протопопова. Признание Протопопова о поддержке, оказывавшейся ему Распутиным.
* * *
Председатель. — Будьте добры сесть.
Протопопов. — Разрешите представить вам мои заметки.
Председатель. — Это после. Комиссия имеет к вам несколько вопросов. Скажите, какие отношения существовали между вами и главным советом отечественного патриотического союза?
Протопопов. — Я такого названия не слыхал.
Председатель. — Это довольно широковещательная вещь. Я могу назвать вам лицо: во главе этого союза стоял Орлов.
Протопопов. — Орлов у меня был, он был прислан кем-то из наших сановников.
Председатель. — Он был или бывал у вас?
Протопопов. — Он был один раз, я ему тогда дал деньги — 2 тысячи рублей — на печатание брошюры (он мне потом отчет дал) и еще на какие-то надобности.
Председатель. — Что же это были за брошюры?
Протопопов. — Об одном из этих листков вы спрашивали.
Председатель. — Почему вы находили нужным дать ему эти деньги? Потому ли, что его к вам послал один из сановников, или потому, что брошюры вам казались имеющими государственное значение?
Протопопов. — Мне казалось, что нужно было поддерживать в то время патриотические и монархические начала, которые разваливались.
Председатель. — Что вы понимали под монархическими началами?
Протопопов. — Мне казалось нужным поддерживать и пропагандировать обаяние царя и царицы.
Председатель. — Но не понимали ли вы под монархическими началами такой государственный строй, который исключает думу?
Протопопов. — Нет, определенно нет.
Председатель. — Так что вы, значит, не симпатизировали организациям или течениям, которые стояли за уничтожение или, по крайней мере, за роспуск государственной думы, — за роспуск, а не за отсрочки?
Протопопов. — О роспуске много говорили, и правые крайние партии стояли на почве роспуска, но лично я не стоял на почве роспуска думы: мне казалось, что это всколыхнет еще больше.
Председатель. — Значит, вы не симпатизировали лозунгу о роспуске государственной думы?
Протопопов. — Я не симпатизировал роспуску и голосовал за перерыв занятий, а не за роспуск. Раз, по ошибке, во время голосования в совете министров, министр юстиции мне сказал, что я голосовал с ним за роспуск, но это было не так.
Председатель. — Про какого министра вы говорите?
Протопопов. — Министр Добровольский. Он мне сказал: «Мы с вами единомышленники». Но это не так, я был за перерыв.
Председатель. — Вы утверждаете, что по вопросам государственным, по вопросам политическим, вы ни в каких отношениях с г-жей Вырубовой не были, т.-е. не обсуждали с ней государственных вопросов? Вы подтверждаете это?
Протопопов. — Разговоры были постоянные с г-жей Вырубовой и с г-жею Ден. Но нужно сказать, что с сентября — я назначен был в сентябре — с сентября по январь, за 5 месяцев я видел Вырубову не так много раз. Если в 5 месяцах 20 недель, то я думаю, что Вырубову я видел раз 10.
Председатель. — Когда вы ее видели в последний раз?
Протопопов. — Перед тем, как она заболела корью.
Председатель. — Когда это было?
Протопопов. — Кажется, в январе или позже, — я не могу сказать точно… Это было не то, чтобы обсуждение государственных вопросов… — хотя, конечно, да, потому что все, что ей скажешь, как через граммофон, передавалось дальше. Я это прекрасно знал, и все, что хотел довести до сведения, говорил ей.
Председатель. — Значит, такая мысль: раз дума занимается вместо согласного труда, к которому ее призвал монарх, зловредной пропагандой, то она должна быть распущена, и чем скорее, тем лучше, — пока левая зараза не охватила широкие слои населения. Этой мысли вы сочувствовали, будучи министром внутренних дел?
Протопопов. — Я должен сказать, что с самого начала эта мысль высказывалась крайними правыми течениями; я тоже несколько раз высказывал ее, но не в такой форме.
Председатель. — Я говорю не о форме, а о мысли. Этой мысли — о роспуске думы, как занимающейся зловредной пропагандой, — вы сочувствовали?
Протопопов. — Я не мог ей сочувствовать, я считал это невозможным. Но я считал вредной агитацию думы, и 1-го ноября, когда сразу были резкие оппозиционные речи, они казались мне очень опасными.
Председатель. — Для вас или для страны?
Протопопов. — Я думал — для страны.
Председатель. — Позвольте, я вам прочту другую мысль: «По примеру первой думы, мы знаем, чего стоят эти пустые угрозы. Революции из-за думы теперь не может быть, ибо она для корней народа звук пустой…». Тут заключается мысль о том, что дума не имеет никаких симпатий в народе и занимается пустыми угрозами. Таково было ваше понимание думы.
Протопопов. — Это то, да не то.
Председатель. — Этой мысли вы тоже не сочувствовали?
Протопопов. — Не сочувствовал. И вот на каком основании: по моему мнению, заслуга 3-й думы та, что она просидела 5 лет.
Председатель. — А эта дума?
Протопопов. — Я в ней был меньше, но во всяком случае, я не ожидал, что она станет на такой резко левый путь.
Председатель. — В чем заключается резко левый путь?
Протопопов. — Я теперь только понимаю, что за катаклизма была. Я тогда думал, что идея царя сильнее в народе, я это совершенно искренно думал. Но теперь вижу, что я ошибался.
Председатель. — Затем такая мысль: «Общественные организации подбираются из анти-правительственных элементов, и им же деньги даются, казенные деньги, обильно и с совершенно непонятной щедростью отпускаемые этим организациям…». Здесь заключается мысль о том, что организации эти занимаются пасквилями на высоких особ и всякими ненужными вещами, а им с невероятной щедростью отпускаются деньги.
Протопопов. — Это не точно.
Председатель. — Что значит не точно? Я говорю, что существовала такая мысль. Вы, как министр внутренних дел, симпатизировали этой мысли или нет?
Протопопов. — Я был уверен, что провести войну без организации нельзя, но организация представлялась мне не в той форме, в какой она есть и была. Она мне представлялась иначе — как организация земств, определенно законом утвержденная, а не в расплывчатых очертаниях. «Давались деньги с непомерной щедростью» — эта мысль у меня была. И, когда шел вопрос о продовольствии, меня спрашивали… — я плохо эту технику знал, и министры прижимали меня, спрашивали: «А как же деньги?» — Я отвечал: — «Так же, как вы даете земскому союзу».
Председатель. — Т.-е. на что вы давали деньги?
Протопопов. — На продовольствие.
Председатель. — Будьте добры, просмотрите эту бумагу, известна она вам или нет?
Протопопов (просматривает). — Совершенно верно. Вот оно — патриотическое.
Председатель. — Я уже вас спрашивал, вас, как министра внутренних дел, — эта мысль, центральная мысль этого сочинения…
Протопопов. — Она, наверное, очень правая.
Председатель. — Но, повидимому, эта надпись, сделанная вашей рукой, свидетельствует о некоторой симпатии вашей к этой мысли?
Протопопов. — Я не могу сказать, чтобы я этому вполне сочувствовал. Я никогда не сочувствовал…
Председатель. — Так вы сочувствовали этому или нет?
Протопопов. — В такой форме — нет, не сочувствовал. Это слишком резко, это гораздо правее, чем то, что я думал.
Председатель. — Вы знаете, кто автор этой бумаги?
Протопопов. — Нет. Должно быть, Орлов.
Председатель. — Да, Орлов, которому вы деньги давали.
Протопопов. — Потом он начал говорить мерзости и даже, как говорят, занимался шантажом.
Председатель. — Какую газету он издавал?
Протопопов. — Я не знаю, какую.
Председатель. — Скажите, раз вы не разделяли вполне эти мысли, зачем вы просили «дорогую, уважаемую Анну Александровну» Вырубову прочесть это? Зачем давали ей прочесть бумагу, которой вы не сочувствовали, находя, что она очень резка?
Протопопов. — Других же нет. Было очень много прислано разного рода брошюр. Конечно, я не скрываю, что вел не ту политику, которую надлежало вести.
Председатель. — Что это значит — других нет?
Протопопов. — Правая печать — она ужасно резка.
Председатель. — А левая менее резка?
Протопопов. — Нет, и та резка, только в другую сторону. Эта брошюра мне показалась дельной. В ней, если я не ошибаюсь, есть мысль о продовольствии, или о свободе торговли.
Председатель. — О торговле есть, а о продовольствии нет.
Протопопов. — Да, о свободе торговли: что она задавлена, что нужно свободные цены, что нужен частный почин.
Председатель. — Значит, вы находили нужным послать эту бумагу для прочтения «дорогой Анне Александровне». Скажите, вы часто посылали ей такого рода бумаги?
Протопопов. — Ведь это целая брошюрка.
Председатель. — Это не брошюрка, а бумага от председателя главного совета отечественного патриотического союза, от 25 января 1917 года, на имя «его высокопревосходительства г. министра внутренних дел», содержащая ряд политических рассуждений, направленный против думы, против существовавшего тогда конституционного порядка и, действительно, как вы правильно говорите, объявлявшая о том, что «государыня (бывшая императрица) является более русской по духу и православной по вере и искренно религиозному чувству, чем все эти новоявленные патриоты, чуждые народу космополиты, говоруны, холодные, расчетливые политики, сердце которых не сжимается болью от кровоточащих ран родины». Таким образом вы, судя по контексту, противопоставляли отношение к России бывшей императрицы и всех тех, кто именуется здесь говорунами и т. п., причем выходит, что дума полна этих говорунов.
Протопопов. — Г. председатель, всякая правая газета говорит то же самое.
Председатель. — Всякая правая газета говорит то же самое, но не всякую газету министр внутренних дел посылает г-же Вырубовой в Царское Село, чтобы она прочла.
Протопопов. — И доложила.
Председатель. — Кому доложила?
Протопопов. — Государю и государыне.
Председатель. — Государю и государыне или кому-нибудь одному из них?
Протопопов. — От государя было заявление…
Председатель. — Мы вас спрашиваем не как лично Александра Дмитриевича Протопопова, а как Александра Дмитриевича Протопопова — министра внутренних дел. Эта бумага направлена против существовавшего строя и стоит за изменение этого строя. Конечно, предполагается, что министр внутренних дел не революционер.
Протопопов. — Конечно.
Председатель. — И не стремится изменить существующий порядок. А между тем, он направляет эту бумагу, что называется, в сферы.
Протопопов. — Г. председатель, было такое положение, что такого рода слова казались поддерживающими монархический принцип. За них цеплялись, и я цеплялся.
Председатель. — Эти слова направлены к поддержанию не монархического принципа, а принципа абсолютной монархии.
Протопопов. — Разрешите мне сказать, вы, может быть, не вполне доверчиво ко мне относитесь, но об уничтожении думы речи не было.
Председатель. — А о роспуске думы?
Протопопов. — О роспуске думы много раз говорилось, но роспуск думы казался мне очень опасным.
Председатель. — Но эта бумага говорит, что он не очень опасен, потому что страна не на стороне думы.
Протопопов. — Это не я писал.
Председатель. — Не вы писали, но вы находили нужным направить эту политического характера бумагу, исходящую от «отечественного патриотического союза», который вы знали, как союз самодержавия, т.-е. реакционный союз, — вы находили нужным отправить ее в сферы.
Протопопов. — Рядом с этими были и другие бумаги, например, постановления московских съездов; они тоже были посланы, хотя они и другого характера. Разные бумаги посылались, но это не есть выражение тех мыслей, которые я проводил в жизнь. Я ошибался, очень ошибался в оценке положения, но не настолько, насколько здесь, — это уже слишком.
Иванов. — Александр Дмитриевич, но ведь вы, кажется, признаете, что в совете министров вы указывали на необходимость роспуска думы?
Протопопов. — Роспуска — нет. О роспуске говорили, но я за роспуск ни разу не голосовал. Это вышла ошибка, — так понял меня тогда Добровольский, который шел более прямо, нежели я. Я шел более уклончиво.
Иванов. — Вы не указывали на то, что роспуски эти можно неоднократно повторять: не поведет дума такую-то линию — можно ее распустить, потом опять то же самое…
Протопопов. — Я говорил, но не как мысль, а как пример, что в истории это бывало, что парламенты распускались, и многократно распускались, например, в Японии.
Председатель. — Т.-е. это были теоретические рассуждения, не имевшие отношения к нашей думе и не имевшие в виду практического применения?
Протопопов. — Нет, не имевшие практического применения. Это был разговор.
Иванов. — Но к чему вы это говорили?
Протопопов. — Я говорил, что роспуск — вещь теоретически возможная, что роспуском можно достичь практических результатов, но на известной почве.
Председатель. — Но вы не относили этого к России?
Протопопов. — Если бы от меня зависело распустить думу, я бы ее распустил. Я считал, что если дума будет итти в том же направлении, она поставит вопрос монархии на уклон.
Председатель. — Значит, вы считали, что думу нужно распускать до тех пор, пока вы не добьетесь правой думы?
Протопопов. — Нет.
Председатель. — Я вам прочту документ: «дума распущена. Это издевательство над думой, издевательство над народом…» (читает). Это ваш почерк (показывает документ)?
Протопопов. — Нет, не мой. Разрешите просмотреть, потому что я не помню.
Председатель. — Пожалуйста.
Протопопов. — Это я знаю, я припоминаю, это одно из…
Председатель. — Это сводка департамента полиции, сводка агентских данных.
Протопопов. — Но это не мой почерк.
Председатель. — Это по поводу собраний некоторых либералов, к.-д., 7 января на квартире кн. П. Д. Долгорукова, в Москве, под председательством члена государственной думы Милюкова.[*]
Протопопов. — Я помню этот почерк. Но это не мои пометки. Однако, если дума, например, будет такая, как 14 февраля, то и я мог бы сказать, что это, наверное, «не надолго», потому что все шло к тому… И я теперь каюсь: я совершенно не оценил минуты. Ведь министру нужно делать не то, что он хочет, а то, что впору стране. Этого я совершенно не сделал.
Председатель. — Пожалуйста, посмотрите в пенснэ, может быть, вы узнаете, чья это рука.
Протопопов. — Это не моя рука. Вот эта схема — моя.
Председатель. — А эти пометки ваши?
Протопопов. — Это не мои пометки. Очень похоже на то, что это сделал Куколь. Это вероятно в то время, когда я был нездоров.
Председатель. — Куколь занимался политикой?
Протопопов. — Как же, он управлял министерством 1½ месяца.
Председатель. — Значит, вы отрицаете, что это была ваша рука?
Протопопов. — Определенно не моя.
Председатель. — Теперь переверните и посмотрите. Вы говорите, что эта схема сделана вами. Что она значит?
Протопопов. — Представляя себе так. В центре государственная дума, которая является руководящим импульсом политического движения всей страны. Теперь, если мы проведем черту, то сверху будет оппозиция. Выше оппозиции — верхи, под которыми я подразумевал великих князей и разную знать.
Председатель. — Значит, выше оппозиции — верхи. А кто же оппозиция?
Протопопов. — Внизу — революционные массы, которые создаются из организованных партий: из соц.-демократов, которые более организованы и более текут к думе и которые имеют связь с социалистами-революционерами, которые менее текут к думе и менее организованы. А в конце концов — монархисты.
Председатель. — Значит, это — социал-демократы; это — социалисты-революционеры, а это — монархисты. А это — над чем великие князья?
Протопопов. — Не великие князья, а знать. Великие князья имели свои особые кружки.
Председатель. — А что эти буквы означают? Вероятно союзы?
Протопопов. — Это значит (показывает) — Земский союз, это — Городской союз, а это — Военно-промышленный комитет. Так сказать, — организация.
Председатель. — Вот здесь написано — печать. Какова роль печати?
Протопопов. — Печать прогрессивная, это — оппозиция. Внизу — крестьянство, которое я считал совершенно инертным.
Председатель. — А что эти буквы означают?
Протопопов. — Не припомню.
Председатель. — Что же значит вся эта схема?
Протопопов. — Вот что она из себя изображает: на какие слои можно, в итоге, опираться. Оказывается, что таких слоев нет. Мне представлялось отчаянное положение.
Председатель. — Значит, все это неприятные вещи то, что обозначено кругом, ибо Земский союз, Городской союз и Военно-промышленный комитет — оппозиция. Тут — социал-демократы, тут — социалисты-революционеры и монархисты. И все это сводится к думе?
Протопопов. — Не то, что сводится к думе. Государственная дума является концентрацией, т.-е. отражателем настроения страны.
Председатель. — По этому поводу может быть двоякого рода ход мысли. Один ход: «А если центр устранить? Что тогда будет?»
Протопопов. — Тогда будет очень плохо.
Председатель. — Во всяком случае все это расползается, опереться не на кого. А потому, если на этот центр опереться…
Протопопов. — Тогда не было бы у меня того головокружения. Я сделал громадную ошибку, сделал громадный вред родине. Я признаю, и это заставляет меня глубоко страдать.
Председатель. — Почему же на этой записке под вашими словами сделана отметка Куколя?
Протопопов. — Это, наверное, не мои слова.
Председатель. — Наверное, не ваши? Может быть, это слова Куколя?
Протопопов. — Я бы сказал, что вероятно Куколя.
Председатель. — Зачем эта штука (показывает)?
Протопопов. — Вероятно, мы с ним толковали.
Председатель. — Я позволю себе указать, что это найдено у вас.
Протопопов. — Да, все бумаги найдены у меня.
Председатель. — Вы это подтверждаете?
Протопопов. — Конечно.
Председатель. — В этой отметке вылилось недоброе отношение к думе, по вопросу о созыве и роспуске думы, — не ваше отношение, а, по всей вероятности, Куколя?
Протопопов. — Г. председатель, чтобы быть справедливым, я должен сказать, что и я мог бы написать на каком-нибудь письме такую заметку. Я не думал, чтобы дума могла быть сохранена, — та дума, которая идет таким резким темпом против правительства. Но, вместе с тем, мне казалось, что силы, которые идут такой большой волной, — они несколько дробятся, т.-е. я их не оценил.
Председатель. — По содержанию первой бумаги, которая начинается со слов «глубокоуважаемая Анна Александровна», мы не будем больше задавать вопросов.
Протопопов. — Я совершенно искренно вам говорю, что я брал курс, который не подходил к настроению страны. В этом я глубоко каюсь, это правда.
Председатель. — Но дело в том, что этот курс был вреден для страны.
Протопопов. — Так точно. Безусловно, раз не полезен, стало быть вреден.
Председатель. — Не соответствовать настроению, это — одно, а быть вредным, это — другое. Этот курс был вреден для страны, как вы сказали.
Протопопов. — Вреден потому, что он не соответствовал тому, что требовалось. Надо было понять дальше. Я этого не понял. И затем, разрешите доложить: мне казалось, что если теперь итти так быстро, то что же будет после войны? Вот почему я останавливался на другой мысли: что все-таки нельзя останавливать жизнь, надо что-нибудь делать. Значит, нужны известные реформы и одновременно всякого рода удерживания. Что же касается до законодательных учреждений, то члену думы Караулову, — он у меня был, — я дал схемку: что я полагал тогда полезным сделать. Это есть ответственность министров перед особым присутствием.
Председатель. — Это вы уже говорили.
Протопопов. — Так что вы видите: не вполне я уже проводил то, что в записке союза русского народа имеется. Я очень плохо себя вел, как министр, но до этого я не дошел.
Председатель. — Теперь скажите, пожалуйста, вот что: принимали ли вы участие в собеседованиях, которые происходили у Римского-Корсакова?
Протопопов. — Ни разу.
Председатель. — А что вам известно об этих собеседованиях?
Протопопов. — Он мне присылал записки, проекты и справки. У меня даже целая кипочка была, но я их не читал. Может быть, и прочел. Но это крайнее, очень крайнее течение.
Председатель. — Что?
Протопопов. — Это все крайние течения.
Председатель. — К которым вы не имели никакого отношения?
Протопопов. — Не могу сказать, потому, что они ко мне ходили, господа крайние правые.
Председатель. — Что значит ходили к вам?
Протопопов. — В контакте были. Они приходили, говорили об опасности, о том, какие, по их мнению, требуется принять меры. Я очень часто говорил «да, да», но это не значит, что я их в жизнь проводил.
Председатель. — Но скажите: почему к вам хаживали только представители крайних правых организаций, хотя вы говорили им «да, да» и этим ограничивались.
Протопопов. — Г. председатель. Вот в этом-то и беда. Я человек в этом отношении согрешивший. Я, будучи нетвердого характера, сильно поддавался той обстановке, которая вокруг меня сложилась. Я поддался ей и стал смотреть не с того угла, с которого следовало, хотя у меня в характере есть и другое: с общим громадным полевением я сам правею.
Председатель. — Простите меня, это частность, интимное свойство вашего характера. Нам интересны ваши действия, как министра внутренних дел.
Протопопов. — Так точно. Я на это скажу, что, в сущности, министр внутренних дел не должен делать политики. В обыкновенное время.
Председатель. — Но вы делали политику?
Протопопов. — Мало, г. председатель.
Председатель. — Вы, значит, не знакомы с содержанием этой записки?
Протопопов. — Очень вероятно, что читал, а может быть не читал (рассматривает записку). Помню, помню, читал. Да, тут целая программа.
Председатель. — Вы знаете, чья это записка?
Протопопов. — Римского-Корсакова, — тут написано.
Председатель. — Он препроводил вам эту записку при письме 15-го января.
Протопопов (просматривает записку). — Да, я помню эту записку.
Председатель. — Г. секретарь, будьте добры записать. Так вот, видите ли, одним из пунктов этой записки, программы этих людей, которые к вам приходили, был пересмотр основных законов в части, касающейся установления государственной думы, ее прав, обязанностей и проч. Значит, как программу, эта группа лиц ставила государственный переворот. Не правда ли? Потому, что пересмотр основных законов в части, касающейся установления государственной думы, примыкает у нас, как вы знаете, к тому кругу идей, который говорит или об уничтожении думы или о создании законосовещательной думы. Что же сделал министр внутренних дел, когда он 15-го января 1917 года осведомился из письма к «глубокоуважаемому Александру Дмитриевичу» о существовании такого кружка, который, как программу, ставит такие вещи?
Протопопов. — Особого внимания на это не обратил.
Председатель. — И продолжали сношения с этими людьми?
Протопопов. — Г. председатель, ведь это — утопия.
Председатель. — Это то, что здесь написано.
Протопопов. — Можно желать сделать я не знаю что; но провести в жизнь это немыслимо.
Председатель. — Почему? Если систематически распускать думу, если дума есть просто говорильня и не имеет никаких корней в народе, как сказано в той записке, которую вы рекомендовали вниманию «глубокоуважаемой, дорогой Анны Александровны»…
Протопопов. — Я 10 лет почти был в думе. Говорить о том, что корней нет, это было неправильно.
Председатель. — Как же вы препровождали к влиятельным сферам ту записку, которая по основным вопросам стояла против этого вашего мнения?
Протопопов. — Я препровождал туда решительно все, что мне казалось любопытным. Не только справа, но и слева. Например, все резолюции съездов. А это мыслимо ли? Конечно, было правое течение, и я безусловно стоял на стороне этого течения, но не в тех подробностях, как вы изволите говорить. Но очень право, очень право.
Председатель. — Значит, вы ничего не предприняли по отношению к Римскому-Корсакову, а напротив, — как вы сами сказали в показании, — когда он присылал к вам людей с просьбой о выдаче субсидий и настаивал на этом, вы эти субсидии давали?
Протопопов. — Я давал субсидии только Маркову и раз Орлову.
Председатель. — Извините, ваше ведомство давало субсидии десяткам людей и организаций и изданий.
Протопопов. — Изданий была масса.
Председатель. — И ваше ведомство тратило на это миллионы народных денег.
Протопопов. — Миллионы — нет, а на 1.000.000 в год была смета, и было до меня истрачено на правую печать.
Председатель. — В 1916 году и вы приняли участие в раздаче этих денег. Тут миллион шестьсот двадцать тысяч двести восемьдесят шесть рублей.
Протопопов. — Ну что же, обещается изданию в начале года, а потом выплачивается. Нет, я не говорю, чтоб я взял почин не давать субсидий правой печати.
Председатель (читает). — «Необходимо усилить правое крыло г. с. надежными людьми. В отношении колеблющихся членов государственного совета и сената должны быть приняты меры. Способов для этого много». Вы знаете, что этот пункт программы перед 1-м января 1917 года был реализован, правое крыло государственного совета было усилено. Вы разделяли мнение о необходимости усилить правое крыло государственного совета.
Протопопов. — Я думал, что у нас, собственно, двухпалатная система исчезла.
Председатель. — Я хотел бы прямого ответа на ясно поставленный вопрос.
Протопопов. — У нас получилась однопалатная система, — это я чувствовал. А затем до выборов в государственный совет я ровно никакого касательства не имел.
Председатель. — Но вы считали необходимым усилить правое крыло государственного совета надежными людьми?
Протопопов. — Думал, что нужно. Но это вы мою душу спрашиваете. Я для этого ничего не предпринял и не мог предпринять.
Председатель. — Я не спрашиваю душу. Я выясняю ваши взгляды, как министра внутренних дел, на вопрос государственной важности.
Протопопов. — Г. председатель, я высказал с полной искренностью то, что я думал, но вместе с тем, я должен сказать, что не мог оказать на это никакого влияния и давления.
Председатель. — Значит, получается такое положение. Вы сочувствуете усилению правого крыла государственного совета. Вы в сношении с группой лиц, которые в программу ставят государственный переворот и, между прочим, усиление правого крыла государственного совета к 1-му января 1917 года. Эта часть программы реализуется. И при этом вы, сочувствовавший этому, поддерживавший сношения с этими людьми, программу которых вы знали, и не предпринимавший никаких мер против их деятельности, — все же не имеете никакого отношения к усилению правого крыла государственного совета.
Протопопов. — Не имею. Не могу иметь, потому что меня об этом никто бы не спросил. Это было совершенно вне компетенции даже совета министров.
Председатель. — Но ведь вас об этом могли спросить в Царском?
Протопопов. — Да, царь мог спросить. С царем я говорил про правую политику осторожно и мягко.
Председатель. — Что значит правая политика? Это значит поворот назад. Значит править без думы?
Протопопов. — Нет, г. председатель. Это будет уже не соответствовать истине. И государь это понимал.
Председатель. — Точка зрения государя более или менее выясняется. Но также выясняется и ваша точка зрения.
Протопопов. — Моя точка зрения очень совпадала с точкой зрения государя. И вообще я должен сказать, что быть может именно на этом свойстве некоторой уклончивости характера, которая имеется у бывшего государя и у меня, быть может, на этом был тот контакт, который произошел.
Председатель. — Я верну вашу мысль к декабрю. Вы помните, что тогда было одно закрытое заседание государственной думы? Какое это было заседание?
Родичев. — Запрос об отношении к общественным организациям.
Протопопов. — Помню, помню, — в то время, когда Куколь правил министерством.
Председатель. — Эта бумага была подписана Куколем?
Протопопов. — Куколем и мной. Два раза это было. Один раз подписана мной, другой раз Куколем. Произошло это так. Безусловно запрос об общественных организациях повел бы за собой очень большие и горячие прения. Они считались неуместными. В совете министров, когда про это сообщили Трепову, Трепов сказал, что этому глубоко сочувствует, но так как он председатель совета министров, то не считает возможным подписать это требование.
Председатель. — Почему же, если он этому сочувствует, он, как председатель совета министров, не может подписать?
Протопопов. — Он говорил, что не желает этого подписывать. Он уклонился.
Председатель. — Почему?
Протопопов. — Этого я не знаю.
Председатель. — Вы последовали этому примеру?
Протопопов. — Еще я обратился к военному министру с тем же вопросом. Он говорит: «Может быть, да, лучше было бы, но я своей подписи не присоединю».
Председатель. — Военным министром был тогда Шуваев?
Протопопов. — Шуваев. Они были согласны с тем, что эта мера нужна, но не хотели подписать. Я ее подписал. Я был болен, но подписал, чтобы ответственность не пала на Куколя. А другой раз он подписал без меня.
Председатель. — Вы не делали отметку в том смысле, чтобы Куколь подписал без вас?
Протопопов. — Нет, как же это можно! Ах, как же можно! Это значило бы, что я желал бы возложить ответственность на него! Я сам подписал, а второй раз Куколь сам пожелал подписать. Я тогда не выезжал, я был болен. Это вам скажет Бехтерев, который меня лечил.
Председатель. — Скажите, пожалуйста, вы доносили государю императору, тогдашнему главе верховной власти, вот об этих самых перерывах и закрытиях заседаний государственной думы?
Протопопов. — Наверное даже говорил.
Председатель. — Говорили, а не писали?
Протопопов. — Быть может, писал, не могу сказать. Я вообще очень мало писал ему. Я ему обыкновенно делал устный доклад. Но всеподданнейших докладов у меня очень мало…
Председатель. — Скажите, какое было ваше отношение к перерыву занятий думы перед декабрем? Вы настаивали на том, чтобы дума поработала больше? Или же полагали, что дума может работать сколько она сама хочет, — много или мало? Или, напротив, вы желали прекращения работ думы перед декабрем?
Протопопов. — Перед декабрем я момента не помню.
Председатель. — Точнее нужно сказать — перед Рождеством.
Протопопов. — У меня разные на этот счет были чувства. Одно время я думал: пускай она делает, как хочет.
Председатель. — Да, это, видите ли, чувства. Лучше будемте говорить о мыслях ваших, как министра внутренних дел, и в особенности о ваших действиях. Ваши действия к чему были направлены? К тому ли, чтобы предоставить думе работать, или чтобы скорей прекратить ее работу?
Протопопов. — Действия мои могли выражаться только голосованием. Г. председатель, ведь министр внутренних дел не являлся решителем судеб относительно думы. Решающий голос и, можно сказать, крайне решающий голос был в руках председателя совета министров.
Председатель. — Но ведь это зависит от самого министра внутренних дел. Может быть, министр внутренних дел с таким влиянием и с такими связями, что его голос имел бы больше значения, чем голос председателя совета министров?
Протопопов. — Но не мой голос.
Председатель. — Как позволите понять ваш ответ на мой вопрос: каковы были ваши действия, реализовавшие ваше отношение к думе?
Протопопов. — Только голосование.
Председатель. — Что вы делали для того, чтобы дума продолжала работу или же чтобы она пресекла ее перед Рождеством 1916 года?
Протопопов. — Определенно ничего не делал. Я этого вопроса мог касаться только в разговорах.
Председатель. — Какие у вас отношения были с дворцовым комендантом Воейковым?
Протопопов. — У меня были с ним, повидимому, хорошие отношения. Я говорю повидимому, потому что он человек очень скрытный, и трудно узнать его отношение.
Председатель. — Меня интересовали эти отношения не по качеству, а по содержанию.
Протопопов. — Я ему пересылал письма или телеграммы, которые я хотел, чтобы были доложены государю. Кроме того, я пересылал литературу.
Председатель. — Вы говорите — пересылали в том смысле, что если кто-нибудь пошлет телеграмму или письмо…
Протопопов. — И то, и другое пересылал. Это была как бы промежуточная инстанция. А чтобы я ему писал, этого я не помню.
Председатель. — Вы не помните этого? Я вам сейчас предъявлю документ, чтобы напомнить вам о том, что вы делали по отношению к думе перед Рождеством 1916 года, и в подтверждение того, что для проведения вашей политики по отношению к думе у вас был не только тот путь, о котором вы говорили: не только голос в совете министров. Вот, пожалуйста (передает телеграмму).
Протопопов (берет и читает телеграмму). — Эта телеграмма для царя. Совершенно верно.
Председатель. — Царская Ставка, свиты генералу Воейкову (читает).—«Скандал в думе, благодаря закрытому заседанию, которое было закрыто по бумаге министра внутренних дел, не удался…» Значит, вы телеграфировали Воейкову для того, чтобы он сообщил это государю?
Протопопов. — Несомненно, чтобы доложил государю. Дело в том, что, действительно, это является ошибкой, той ошибкой, о которой я сказал в самом начале: тогда были большие дни по признанию Милюкова, они соответствовали настроению всей страны и требованиям ее, более зрелым, нежели я предполагал. Я же вел курс старый…
Председатель. — Что значит курс старый?
Протопопов. — Курс до…
Председател. — Т.-е. править без думы?
Протопопов. — Это не так. Довольно того положения, которое есть. Правее не пойдет. Без думы невозможно.
Председатель. — Позвольте вам сказать уже, что можно было итти, и вы шли, повидимому, правее, чем вы нам говорите: князь Голицын нам удостоверил, что вы желали править без думы и отстаивали эту точку зрения.
Протопопов. — Князь Голицын? Очень сожалею. Он меня не понял. Я определенно скажу, что он меня не понимал, потому что последний раз я у него на квартире разговаривал с ним, и он говорил: «Вы, конечно, за роспуск?». Я говорю: «Извините, я за перерыв, но не за роспуск».
Председатель. — Но и за дальнейшие перерывы?
Протопопов. — Это показала бы сама жизнь. Но за роспуск дальнейший я не голосовал.
Председатель. — Вам известно, что эта телеграмма имела то последствие, что действительно был объявлен перерыв занятий государственной думы, и не после субботы (на субботу было назначено заседание думы), а как раз накануне субботы, т.-е. 16-го декабря?
Протопопов. — Этого я не знал.
Председатель. — Причем имею честь доложить Комиссии, что, как значится на телеграмме, телеграмма эта была зашифрованная, и отправлена она 14 декабря в 2 часа 45 мин. утра. Так вы помните, что действительно, как говорится в этой телеграмме, занятия думы были прерваны, не ожидая окончания повестки, а как раз накануне, т.-е. в пятницу, 16-го декабря?
Протопопов. — Это может быть, потому что желание было. Я помню, я боялся скандала.
Председатель. — Это уж ваш мотив, но факт остается фактом. Таким образом, быть может, и вы согласитесь с тем, что у вас были способы влиять на факт такой крупной государственной важности, как перерыв занятий думы, не только одним своим голосом в совете министров, но и иными путями.
Протопопов. — Г. председатель, посылать Воейкову телеграммы мог всякий министр, и я думаю многие ему посылали. А затем это есть сношение с государем; так на это и нужно смотреть. И действительно… я очень боялся больших, резких дней в думе, потому что каждый раз поднималось значительно настроение в стране.
Председатель. — Теперь скажите, пожалуйста, вот мы вам задавали вопросы о вашем отношении к патриотическому союзу, к группе Римского-Корсакова. А в каких отношениях вы стояли к группе русских националистов Балашева?
Протопопов. — Я был два раза у Балашева и очень откровенно беседовал с ним целый вечер. Там я себя чувствовал хорошо, я видел там людей, к которым я привык, давно знаком и которые в итоге понимали, что я хочу делать. Они понимали правильно. Я рассказывал то, что хочу делать, говорил, что настроение поднятое, нужно выждать, нужно покойно провести это время, а затем, по возможности, дать известные органические законы, которые так или иначе пошли бы навстречу необходимости. Вот эта схема.
Председатель. — Это ваша надпись? (Показывает документ.)
Протопопов. — Да, совершенно верно. Это я помню.
Председатель. — Я вернусь еще раз к бумаге Римского-Корсакова. В программе Римского-Корсакова стоит: «Организация мощной ежедневной патриотической печати в крупных центрах страны, не менее 10–12 органов, и влияние на существующие органы печати». Вы этот пункт программы разделяли?
Протопопов. — Вот какого рода мысль была: из «Московских Ведомостей» сделать большую правую газету, потому что нужно усилить правую печать.
Председатель. — Нужно организовать мощную патриотическую печать?
Протопопов. — Мне казалось это необходимо. Разрешите так сказать. Ведь я защищал старый строй…
Председатель. — Что значит старый строй? Если вы имеете в виду строй, который существовал в 1916 году, когда вы были министром внутренних дел, то в этот строй входила государственная дума, ее работа и ее законодательные права. Вы защищали работу государственной думы или шли против нее?
Протопопов. — Я определенно скажу, что против существования государственной думы, законодательной и даже с некоторым расширением ее прав, я не был. Я никогда не говорил об уничтожении думы. Это была бы невозможная вещь.
Председатель. — Вы много раз это подчеркиваете. Давайте логически рассуждать. Можно достигнуть отсутствия думы не путем ее уничтожения, а путем целого ряда перерывов ее занятий, а в промежутках — путем давления на выборы. Вот вы и хотели давить на выборы и добиться, таким образом, отсутствия думы в стране.
Протопопов. — Разрешите мне сказать, что это чужие мысли мне приписывают, причем уклоняются от истины и приписывают чуть ли не мне практические шаги, предпринятые до меня, а может быть и не возобновленные.
Председатель. — Какие практические шаги, до вас предпринятые?
Протопопов. — Относительно выборов. У меня пустая папка выборов была в столе; никаких шагов предпринято не было. Между прочим, я думал, что правые организации при выборах могут играть известную роль.
Председатель. — То-есть, что правыми организациями можно пользоваться. А вам известно, что в программу правых организаций, т.-е. тех, которыми вы предполагали пользоваться, входило восстановление самодержавия и уничтожение государственной думы?
Протопопов. — Они существовали и считались легальными. С ними в блок входили. Все равно как, например, считались, может быть, нелегальными левые партии, но с ними в блок входили.
Смиттен. — После того, как вы получили записку от Римского-Корсакова от 15-го января, вы имели с ним беседу?
Протопопов. — Он ко мне редко ходил. Был всего раза два.
Смиттен. — Вы как-нибудь реагировали на получение этой записки? Или не придали ей никакого значения?
Протопопов. — Большого — нет.
Смиттен. — Вы не обратили внимания, что в программе деятельности, которую считал необходимым отстаивать этот кружок, указывалось на пересмотр основных законов, касающихся государственной думы, ее прав и обязанностей?
Протопопов. — Это я слышал.
Председатель. — Или, может быть, читали в той записке?
Протопопов. — Это я помню.
Смиттен. — Вы ознакомились с этим? Но как же вы истолковали это? Так ли, что они предполагают изменить основные законы через государственную думу, или же так, что они хотят изменения законов помимо государственной думы?
Протопопов. — Я на это улыбнулся, я скажу правду.
Смиттен. — Значит, к этому перевороту справа вы относились спокойно? Вы не реагировали, как министр внутренних дел на обязанности которого отстаивать существующий конституционный строй?
Протопопов. — Кружок Римского-Корсакова и все правые кружки не имели силы. Они, как говорил Марков 2-й, прозябали.
Смиттен. — Значит, вы, как министр внутренних дел, не реагировали на это никакими действиями, считая, что это союзы ничтожной величины?
Протопопов. — Да.
Смиттен. — Но продолжали субсидировать их деньгами?
Протопопов. — Надеясь, что потом прекращу субсидии деньгами, которые им давались. Но как же мне прекратить?
Председатель. — Вам был поставлен вопрос: «Вы их субсидировали?» — вы ответили: — «Как же мне прекратить?» Я бы хотел более прямого ответа.
Протопопов. — Конечно, давал, а смотрел на это так, что если будет несколько побольше телеграмм в газетах, побольше правых строк, правизна поддержит. Но придавать ей какое-нибудь серьезное значение, большое, нельзя было.
Родичев. — Вам известно участие Римского-Корсакова в погромах в Ярославле?
Протопопов. — Нет, я его мало знаю, я его видел 4–5 раз. Разрешите мне сказать. Союз русского народа, как таковой, я знал; о его деятельности раньше говорил в думе. Я говорил: «Господа, было время, когда это было царство в царстве, я помню время, когда Пуришкевич писал Камышанскому вернуть эту бумажку, — он не знал, что делается под носом, кто он». Я считал, что при первом незаконном отношении или «ноги на стол» с их стороны, как я выразился, я всякие субсидии им прекращу.
Председатель. — Но что же вам еще, как министру внутренних дел, нужно было? Вам говорят: «Вот мы выработали программу в прошлом заседании. Пожалуйста, ознакомьтесь с ней, многоуважаемый Александр Дмитриевич». Ведь вы видели, что это программа реакционного переворота?
Протопопов. — Эта программа не новость. Эта программа существует с тех пор, как я в думе, — 10 лет. Это не специальная выдумка для нынешнего момента.
Председатель. — Но почему Римский-Корсаков препровождает эту программу вам?
Протопопов. — Неужели они только мне посылали? Неужели они всем министрам не посылали?
Председатель. — Они могли послать другому, третьему, но зачем они послали министру внутренних дел? Имейте в виду, что мы интересуемся Александром Дмитриевичем Протопоповым, как министром внутренних дел.
Протопопов. — Он нового ничего не сделал. Он был продолжателем той политики, которая была.
Председатель. — Цензура на все время войны для полного успокоения страны.
Протопопов. — Цензура была в руках военных, и она отвратительно вообще делалась.
Председатель. — В каком смысле?
Протопопов. — Я этого дела очень мало касался.
Председатель. — Вот, например, дума 1–2 ноября громит Штюрмера и Протопопова. На следующий день страна, вместо речей депутатов, получает листы белой бумаги, белые полосы. Я вас спрашиваю, что же делал в этом случае министр внутренних дел, который хорошо относился к печати?
Протопопов. — Министр внутренних дел никакого отношения к печати не имел. Я не мог запретить статью и не мог ее разрешить. Это делалось военной цензурой. Я мог только просить о том, чтобы пропустили статью.
Председатель. — И вы сделали это относительно речей депутатов, которые разоблачали вас и Штюрмера?
Протопопов. — Я этого не сделал, конечно, не просил о том, чтобы печатали эти речи, но я не принимал никаких мер, чтобы их не печатали. Вообще, если мне хотелось что-нибудь пропустить, например, Меньшикова статью, которую запретили, я просил, ходатайствовал это разрешить. А разрешать печать я не мог.[*] В этом-то и заключается ошибка в запросе государственной думы, которая сказала, что министр внутренних дел имеет…
Председатель. — Меня интересует другое. Вы считали незаконным вмешательство военной цензуры в цензуру политических речей депутатов, направленных в интересах страны к разоблачению действий министра внутренних дел и председателя совета министров… Вы считали это незаконным?
Протопопов. — Военная цензура могла запрещать всем, — это не было незаконно. Военная цензура могла не только запретить печатать, она имела право прямо закрыть все газеты. У нее были невероятно широкие права.
Председатель. — Позвольте мне перейти к другому вопросу, который вы затронули. Вы сказали, что вы ровно ничего не сделали для подготовки предстоящих выборов, что у вас была даже пустая папка, на которой было написано «выборы», и что там ничего не было. Будьте добры, посмотрите эту записку.
Протопопов (смотрит записку). — Я этой записки не видал.
Председатель. — Она очень длинная, я вам ее потом покажу. Значит, вы этой записки не видели?
Протопопов. — Я не помню, я ее не читал.
Председатель (обращаясь к секретарю). — Занесите, пожалуйста, что была предъявлена записка, которая начинается словами: «Рассматривая вопрос о возможности проведения выборной кампании…».
Протопопов. — Разрешите мне сказать. Я по выборам в думу никаких действий не предпринимал и ни с кем особого, большого разговора не вел.
Председатель. — А приписка ваша?
Протопопов. — Приписка моя.
Председатель. — Это записка от 15 ноября 1916 года.
Протопопов. — Но я не знаю, по какому это делу. Во всяком случае это для меня новый документ. Например, если бы меня спросили: «Хотите, чтобы в думе было большинство к.-д.?» Я бы сказал: «нет».
Председатель. — Мы стараемся выяснить вопрос о вашем отношении к выборам в государственную думу, стараемся документально проверить правильность вашего утверждения, что вы по этому вопросу ничего не делали.
Протопопов. — Когда я пришел, уже до меня были некоторые начала выборной кампании. Кредит был запрошен до меня. Вопрос об этих кредитах побудил меня говорить о том, что всякого рода специальные кредиты должны быть проверены не только министром внутренних дел, но и контролером.
Председатель. — Так что вы ничего не делали и никаких кредитов не брали?
Протопопов. — Не брал.
Председатель. — Позвольте мне огласить это письмо. «Управляющий министерством внутренних дел. Совершенно доверительно. Милостивый государь, осенью прошлого года, с истечением срока полномочий…» (читает). — Это письмо от 15 декабря.
Протопопов. — Это верно. Это было разослано циркулярно всем губернаторам.
Председатель. — За вашей подписью?
Протопопов. — Это только статистический подсчет, это не выборы.
Председатель. — Я не говорю, что вы приступили к выборам, а к подготовке.
Протопопов. — Подготовка есть покупка цензов, а это справка. Меня спрашивают: «Как вы думаете, можно делать выборы или нет?» Что мне делать, чтобы дать ответ? Нужно запросить губернаторов о том, можно провести выборы или нет. Списки избирателей есть, — какой будет результат?
Председатель. — Давайте под понятием — подготовка к выборам — понимать не только покупку цензов, но вообще подготовку выборов. А из этой бумаги видно, что губернаторам предписывалось сообщить вам, как изменился состав избирателей, — кто будет лишний, кто лишен возможности осуществить свои избирательные права, с указанием более видных избирателей.
Протопопов. — Скажите мне, пожалуйста, как же я должен был поступить, если это неправильно?
Председатель. — Я просто мотивирую то, что некоторые меры подготовительного характера к выборам в думу вы принимали.
Протопопов. — Я хотел себе представить картину. Этой картины я не получил, ибо ответ не был мне представлен, сводка не была сделана.
Председатель. — Позвольте огласить письмо от 6 декабря. «Совершенно секретно. Директор канцелярии министерства внутренних дел. — По докладе мною его величеству о желательности ныне же приступить к подготовительной работе в 5-ю государственную думу…» (читает).
Протопопов. — Это — да, но это не есть подготовка. Это было так: «Когда будут выборы, надо приступить к их подготовке». — «Так точно, приступим». А раньше была истрачена некоторая сумма, довольно значительная. И вот я говорю: «Если необходимость будет, то придется испросить вновь, потому что никаких денег не осталось от того, что было взято». Тогда мне было сказано: «Войти в сношение с министерством финансов и переговорить».
Председатель. — Что вы предполагали сделать с теми миллионами, которые были ассигнованы на это?
Протопопов. — Я положительно не получал миллионов; я не брал их.
Председатель. — Что вы предполагали делать?
Протопопов. — Я никогда выборной кампании не вел; значит, я совершенно не мог представить себе, как ее проводить.
Председатель. — Но вы требовали себе деньги на выборы?
Протопопов. — Ни единой копейки не взял.
Председатель. — Я вас спрашиваю — требовали ли вы деньги?
Протопопов. — Если бы я их требовал, мне бы их дали, но я не требовал.
Председатель. — Позвольте доложить комиссии следующее: «Милостивый государь, Петр Львович, по всеподданнейшему докладу моему его величеству…» (читает письмо от 23 октября 1916 года). — Значит, вы докладывали государю о желательности приступить к подготовительной работе по предстоящим выборам.
Протопопов. — Я забыл, что я это написал.
Председатель. — Очевидно, что вы забыли, потому что вы отвечали, что вы не требовали.
Протопопов. — Извините, я ошибся.
Председатель. — Мой вопрос остается в силе. Значит, министр внутренних дел подготовляется к выборам за год и получает в свое распоряжение 2 миллиона рублей. Что министр внутренних дел предполагает делать с этими 2 миллионами?
Протопопов. — Я не знаю, потому что я их не проводил, но эти суммы обыкновенно затребовывались.
Председатель. — Вы докладывали государю, что нужны деньги на выборы?
Протопопов. — Это безусловно докладывал, потому что так делалось. Их проводил, кажется, Харузин. Это есть известного рода проведение выборов. Я мог, но наверное не дошел бы до больших нажимов на закон.
Председатель. — А маленькие нажимы в чем заключаются?
Протопопов. — Покупка цензов — это есть нажим.
Председатель. — Т.-е. вы дошли бы до покупки цензов, иначе говоря, до фальсификации выборов. Но неужели вы думаете, что эти 2 миллиона пошли бы только на покупку цензов и ни на что больше?
Протопопов. — К счастью, господь меня избавил.
Олышев. — А вы получили ответ относительно этих 2-х миллионов?
Протопопов. — Совершенно не помню, я их не получал и не расходовал.
Олышев. — Вы эти суммы испрашивали, или они раньше были ассигнованы?
Протопопов. — Да, они ассигновывались, только не при мне. Я слышал, что — да.
Смиттен. — На подготовку выборов в 5-ю государственную думу деньги были уже ассигнованы и затем истрачены?
Протопопов. — Да, я так слышал. Оттого-то я и просил государственного контролера.
Председатель. — Разрешите перейти вот к какому вопросу. Вы несколько раз говорили нам о вашем благожелательном отношении к думе. Но мы установили, что перед Рождеством, не через председателя совета министров и не как член совета министров, а через Воейкова, вы указывали государю на необходимость, во избежание скандала, нанести удар думе накануне того дня, когда она должна была собраться. В думе в субботу предполагали собраться депутаты, чтобы разрешить дела. Оказывается, в пятницу — роспуск. Я хочу знать, были ли другие случаи, когда вы занимали такую же позицию, т.-е. тем же путем настаивали на отсрочке, как вы говорите, или на роспуске, как мы это называем роспуском в общежитии, так сказать, юридически понимая эту разницу?
Протопопов. — Я вполне понимаю. Я служил тому, что было. Например, вы говорите — скандал. Да, этот скандал имел вообще громадное влияние.
Председатель. — Вы изволили сказать, что вы служили тому, что было. Но то, что было, не представляло собой единого целого; в том, что было, существовали различные политические течения. К концу 1916 года эти политические течения резко разделились на два лагеря, как вам известно: за думу и против. Так вот, значит, вы говорите, что служили тому течению, которое было против думы? Так нужно понять?
Протопопов. — Разрешите мне сказать. Ведь дума шла против того, что было. Ведь дума безусловно двигала жизнь вперед. Ведь это и не может быть иначе. Раз есть народное представительство и монархия, то народное представительство будет давить на права монархии, расширяя свои права. И вот я лично сделал ту ошибку, что перестарался и не давал ходу этому расширительному толкованию ее прав, — ибо нельзя же сравнить думу, ныне существующую, с думой 3-го созыва. Ведь разница была громадная, и импульс, который она давала стране, был настолько велик, что она мне казалась опасной. Вот вследствие этого и было старание избежать скандала…
Председатель. — Я не могу никак примириться с такой постановкой вопроса. Мы обсуждаем большой важности государственный вопрос, как относился министр внутренних дел к той или иной политике, а вы говорите, что заботились об устранении скандала. Скандал, это такое маленькое явление сравнительно с тем большим, по поводу которого мы ставим вопросы, и вы даете такие ответы!
Протопопов. — Я сделал ошибку, я не понял, насколько неизбежно было движение в стране. Я не мог влиять на него решающим образом, но, конечно, я не шел тем путем, которым должен был итти.
Председатель. — Позвольте просить ответить на мой вопрос. Были ли другие случаи, когда вы становились против думы, добиваясь, чтобы она не занималась, и шли тем же путем?
Протопопов. — Вероятно вы подразумеваете перерыв по 14 или 20 февраля? Помнится, так.
Председатель. — Так вот вы сейчас нам скажете, к какому времени относится этот документ (читает): «Царская Ставка. Дворцовому коменданту свиты генералу Воейкову. Не сочтете ли необходимым доложить следующее…» (читает). — Будьте добры, эта поправка вашей рукой сделана или нет?
Протопопов. — Эта да, это я помню.
Председатель. — Вашей рукой. Так, занесите в протокол: предъявлен такой-то документ. К какому времени это относится?
Родичев. — Очевидно, перед ноябрем, перед возобновлением заседаний.
Председатель. — Получается такое впечатление — и мне хотелось бы, чтобы вы дали объяснения по поводу этого — что не было такого момента в вопросе о том, работать ли думе или не работать, когда вы стояли бы за ее работу. Вам предъявляются принадлежащие вам документы, относящиеся к различному времени, и ваша позиция — неизменно та же.
Протопопов. — Я теперь припоминаю. Роспуска тогда не было. О перерыве, может быть, шла речь. Очень плохой документ, г. председатель, совершенно верно. Очень сожалею, что я подписал.
Председатель. — Мне хочется установить правильность моего общего положения. Перед нами документы, относящиеся к различным острым политическим моментам, когда министр должен был сказать, что он за думу, за закон, ибо строй без думы или с думой не функционирующей — это не есть существующий строй. Но мы систематически доказываем, что министр внутренних дел за краткое время своего пребывания у власти был против думы.
Протопопов. — Я только одно могу сказать. Этот министр внутренних дел действительно попал за короткое время в такие обстоятельства, в какие ни один министр не попадал. Следовательно, он действовал, быть может, под нажимом всех тех впечатлений, которые в это время были. Это оправдание, господа, больше ничего.
Председатель. — Простите, приходится вам вот что сказать. Ведь были другие министры, которые поддерживали иную точку зрения, и в каждом заседании, даже в официальном заседании совета министров, мы замечали две группы министров. Но министр внутренних дел неизменно на стороне…
Протопопов. — Не неизменно.
Председатель. — По вопросам, по крайней мере, политическим, по вопросам о думе.
Протопопов. — А по вопросам о религии, об ассигновании на всякого рода нужные вещи, по вопросам торговли, по вопросам экономической политики, по вопросам об учебных заведениях, по национальным вопросам…
Председатель. — Мы сейчас расследуем политический вопрос. Этот политический вопрос, конечно, вертится у нас около думы, государственного совета и совета министров. Так вот, по этому политическому вопросу.
Протопопов. — Тут я вел себя совершенно вредно.
Председатель. — Т.-е. вредно для дела?
Протопопов. — Вредно для дела.
Ольденбург.— Я хотел бы спросить вас вот о чем. Две комиссии, военная и законодательных предположений — верхней палаты, комиссии, состоящие из людей, в общем чрезвычайно умеренных, людей известного возраста и потому, конечно, не способных на чрезмерные увлечения, постановляют подавляющим большинством пересмотреть неправильное решение свода законов, а министр внутренних дел не усматривает в этом обстоятельстве ничего иного, как только какое-то преступное соглашение двух палат. Неужели поведение верхней палаты не вызвало в нем никаких мыслей о том, что, может быть, тот путь, по которому он идет, есть ложный путь? Вот вопрос, который я все время хотел задать вам.
Протопопов. — Очень часто я думал, в особенности тут, отдавая себе отчет в том, что я делал. Я вижу и признаю, что я сам был не я, потому что все, что я слышал, все то, что меня поддерживало, все это, как сказал мне Дорошевич: «загоняло меня в правый угол».
Председатель. — Разрешите задать вам следующий вопрос. Нам нужно суммировать ваши отношения к Вырубовой, чтобы это было совершенно точно. Вы пользовались Вырубовой для известной цели?
Протопопов. — Да, для передачи записок.
Председатель. — Я бы сказал в более общей форме: для проведения некоторых ваших мыслей.
Протопопов. — Вот как было обыкновенно. Когда государь уезжал в Ставку, он говорил: «Если вам что нужно передать, то скажите государыне. Она мне каждый день пишет. Она мне сообщит». Государыня же говорила: «Напишите Анне Александровне». Вот каким образом этот путь был несколько предуказан. Верно это, верно вы изволите выражаться, что если что-нибудь хочешь сказать, или ту или другую мысль выразить, то и напишешь ей. Это верно.
Председатель. — Я бы понял эту формулировку, если бы бывший император сказал так А. Д. Протопопову: «Если вы хотите что-нибудь передать, то пишите моей жене». Жена могла сказать: «Пишите близкому мне человеку». Но как мог министр внутренних дел пользоваться этим путем? Ведь вы были член официального правительства. Есть председатель совета министров, возбуждается серьезный вопрос, а вы пытаетесь провести свою точку зрения каким-то таким не формальным путем.
Протопопов. — Г. председатель, я понимаю; но я вас уверяю, этот путь не мной выработан. Это есть обычай. Этот обычай давно велся. Конечно, теперь я почувствовал, в чем была главная ошибка и мой грех. Но что было неправильно в корне, так это отношение к империи, как к вотчине.
Председатель. — Отношение к империи, как к вотчине?
Протопопов. — Вотчинное начало… И я в этот хомут вполне вошел. Мне надо было против этого спорить, а я влез туда и все время эволюционировал не в ту сторону, куда нужно.
Председатель. — Но позвольте обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Ведь в политической жизни страны, в которой вы принимали участие, было несколько течений. Вы говорите, не я один. Но были люди, которые пользовались вашим путем, и были люди, которые им не пользовались. Были и министры тоже, скажем, Хвостов, Алексей Александрович,[*] ваш предшественник.
Протопопов. — А. А. Хвостов. Знаю и считаю его очень чистым человеком.
Председатель. — Во всяком случае, не пользующимся этими путями?
Протопопов. — Я не знаю этих сторон его жизни.
Председатель. — Может быть, их и не было?
Протопопов. — Во всяком случае, я своих грехов не скрываю и определенно говорю — я ужасно заблудился в этом лабиринте. Я попал в такую среду, и это мое несчастье. Это меня сгубило. Я попал в такую среду, как Бадмаевский кружок. Тут причиной моя болезнь, — долго сидел у него, в течение почти 9-ти месяцев. И там я встретился с этими людьми… ближе, ближе. Это меня сдвинуло.
Председатель. — Вы кого имеете в виду?
Протопопов. — Там я встретил… Бадмаев сам по себе непосредственный, может быть, человек, но там я встретил Курлова, Распутина. Первоначальные мои опасения, по мере того, как я там жил, притуплялись. У меня притуплялась нравственная брезгливость. И, когда притупилась, тогда произошло то, что привело меня к беде.
Председатель. — Позвольте огласить письмо (читает): «Глубокоуважаемый Александр Дмитриевич. Меня просили вам передать, что вас не приглашают к завтраку… Анна Вырубова».
Протопопов. — Это, вероятно, после моего разговора с государем, когда я ездил в ставку и сказал ему, что должен уйти.
Председатель. — Это когда было?
Протопопов. — В ноябре.
Председатель. — Ваша память не изменила вам. Это письмо от 23 ноября. Это письмо Вырубовой. Но что значит «меня просили?» Повидимому, дело идет скорее о государыне, чем о государе.
Протопопов. — Мое впечатление было такое, что это все равно.
Председатель. — Вот и в этом письме есть некоторая конспиративность, — мы уже подходили к этому вопросу. Помните, в одном из предыдущих допросов, когда мы установили, что вам дали в Царском кличку Калинин, кажется, в связи с этим же письмом? Что заставляло вас прибегать к такой неясности?
Протопопов. — Это обычная манера недоговаривать.
Председатель. — Чем объясняется, что люди, стоящие на вершине власти, как бывшая императрица, и их окружающие, прибегали к таким приемам? Они обратились в какой-то конспиративный кружок, которому нужно от всех скрываться.
Протопопов. — Потому что тут был стыдливый пункт — Распутин. Это был ужасно, так сказать, деликатный пункт. И опять-таки говорить ли теперь, что я хотел сделать. Все-таки, быть может, это имеет значение. Мне казалось, что Распутин, сам по себе, приносит большой вред монархии. Я это думал, — большой вред, — и было время, когда я очень старался собрать документы против него.
Председатель. — Когда это было?
Протопопов. — Это было в конце 3-й государственной думы. И документы у меня были. Затем, когда я его увидал, с большим интересом, я был уверен, что могу ко всякому человеку подойти. Неосторожность — моя отличительная черта. Мне казалось, что я подойду и не замараюсь. Когда я подошел, увидал Распутина, первое время мне было неприятно. Я скрывал это, а затем мало-по-малу, я привык. Вероятно, то же, что сделалось в Царском. Я видал его раз 15–20, не так много, как все говорят, я старался подсчитать в своей памяти. А затем позвольте, г. председатель, наверное у вас тут есть еще те слухи чудовищные, которые про меня распускали в думе: будто бы я когда-то в Царском старался сеять мысли, что в меня переселился дух Распутина. Я прямо утверждаю, что это форменная ложь. Я на похоронах его не был даже. Не знаю, где похоронен Распутин. Я этого не знаю. На могиле не был и никогда ничего подобного не было.
Председатель. — Но вот об этом конспиративном характере похорон вам кое-что известно?
Протопопов. — Как же. Мне было сказано — никого не пускать на эти похороны.
Председатель. — Кем было сказано?
Протопопов. — С Воейковым разговаривал.
Председатель. — А на панихиде не были ни на одной?
Протопопов. — Нет.
Олышев. — А на квартире его не были?
Протопопов. — Я был у него на квартире, когда приехала Вырубова и меня вызвала. Он ко мне никогда не ходил и не просил к себе.
Председатель. — После убийства-то вы приехали. Вы взяли на себя расследование, по крайней мере формально. Генерал Калинин взял на себя расследование.
Протопопов. — Какой же я расследователь?
Председатель. — Но ведь и портфель министра внутренних дел вы приняли, когда предполагали сделаться министром торговли.
Протопопов. — Это — зло моей жизни.
Олышев. — Это не из министерства внутренних дел было распоряжение, чтобы не печатать о Распутине? Одно время в газетах все было написано. Интересно знать, от министерства внутренних дел или от военного министра? Вы принимали в этом участие? В Царском Селе вам было дано предписание, чтобы прекратить?
Протопопов. — Ну, конечно, это очень не нравилось.
Олышев.— Вы предвосхитили эту мысль. Вам дали понять император и императрица или через Вырубову?
Протопопов. — Государь никогда не скажет прямо. Он всегда промолчит. Вы отлично поймете, что он хочет сделать. От него приказания очень редко получались.
Председатель. — Позвольте поставить ребром вопрос. Вы отрицаете, что вы приезжали после смерти на квартиру Распутина? Но не приезжали вы затем, чтобы взять документы, которые могут компрометировать лиц из Царского Села?
Протопопов. — Между прочим, бюро было опечатано.
Председатель. — Вы опечатывали это бюро?
Протопопов. — Я думаю, генерал Попов. Он обыкновенно по этим делам ходил. Но я на квартире у Распутина не был, наоборот, хотел эту квартиру закрыть, чтобы не было дальнейших скандалов и скопищ.
Председатель. — Вы рассказали тут довольно откровенно, как вы думали, что подойдете и все-таки не замараетесь. Разрешите задать вам в связи с этим еще один вопрос: в каких отношениях вы были с Сухомлиновым?
Протопопов. — С Сухомлиновым? В то время, когда он был министром, я был докладчиком военного закона.
Председатель. — А ко времени вашего министерства?
Протопопов. — Ах! При мне возник вопрос о том, чтобы его выпустить из крепости и заменить домашним арестом.
Смиттен. — Где возбудили этот вопрос?
Протопопов. — В Царском. Государь говорил со мной.
Председатель. — Когда? Вы не припомните, приблизительно, в каком месяце?
Протопопов. — Когда здесь был комендант Никитин.
Председатель. — Вы приезжали для свидания с Сухомлиновым?
Протопопов. — Это было по приказанию царя. Вероятно, это было в ноябре. Я не помню, положительно не могу сказать. Возникла мысль… Государь говорит, что вот долго так идет дело Сухомлинова; неужели я поверю, что он изменник; просто легкомысленный человек. — «Да, государь, может быть, и правда; чужая душа — потемки, а только что есть нехорошие стороны — денежная сторона». — «Да, — говорит, — это есть. Мне его жалко, старика; что вы думаете, если ему переменить меру пресечения, выпустить на квартиру? Домашний арест». — Я говорю: «Знаете, ваше величество, я думаю, что это дело неподходящее. Поднимется большой шум, я бы думал, что это не вполне подходяще. Ускорить следствие — это следует, а затем, я говорю, можно было бы принять другую меру, если вам угодно сделать ему облегчение». Это место… — я никогда не был там, где теперь нахожусь, не видал этих камер, но представлял себе, что это нечто отвратительное. И вот я передал, что может быть — дать ему помещение получше, а затем дать ему право ходить гулять в крепости, но не выходить из крепости. Тогда государь говорит: «Вы думаете, это возможно?» — Я говорю: «По крайней мере, государь, это будет тихо, без всяких скандалов. Вы сделаете облегчение, а между тем скандала не поднимут». — «Ну, говорит, съездите к Никитину». Вот, почему я был у Никитина.
Председатель. — Меня интересует ваше отношение.
Протопопов. — Ничего из этого не вышло. Была принята другая мера, помимо меня.
Председатель. — Домашний арест. Но какие же были отношения между ним и вами?
Протопопов. — Совершенно никаких, — здравствуйте и прощайте, — когда я его встречал после суда, когда он свалился.
Председатель. — После какого суда?
Протопопов. — Т.-е. не суда, а следствия. Когда начали следствие, я долго его не видел.
Председатель. — Ну, а отношения между Сухомлиновой и вами?
Протопопов. — Я не ошибусь, если скажу, что она вряд ли меня любит. Она меня не любит, и я ее не люблю. Она у меня была очень мало, она два раза приезжала с просьбой. Она человек очень сильной воли и большого ума.
Председатель. — Вы были с ней в переписке?
Протопопов. — Она мне писала несколько просьб.
Председатель. — Вас не Распутин свел с ней?
Протопопов. — Нет, я знал Сухомлинова министром.
Председатель. — А не сблизились вы несколько под влиянием Распутина или через посредство Распутина?
Протопопов. — Нет.
Председатель. — Я прочту письмо: «Глубокоуважаемый Александр Дмитриевич, ради бога простите за назойливость, прилагаю записку о том жандармском ротмистре, о котором я уже просила…» (читает. Вот здесь останавливает внимание. Вы знаете, что Сухомлинов в тот момент, когда писалось это письмо, был человеком, к которому было предъявлено обвинение по 108 ст., и автору этого письма тоже было предъявлено обвинение по той же 108 ст. (кажется, я не ошибаюсь)?
Протопопов. — Я этого не знал.
Председатель. — Теперь невольно возникает вопрос: значит, эти два лица нашему русскому министру внутренних дел пишут — «наши сердечные поздравления», да еще — «с тремя последними выступлениями». Тут есть как будто некоторая неловкость.
Протопопов. — Я должен сказать, что у меня с ней никаких сношений не было.
Председатель. — Но вы допускали эту переписку?
Протопопов. — Это, конечно, прискорбно. Но что же делать?
Смиттен.— О каком жандармском офицере она просила вас?
Протопопов. — Я не помню. Но я ничего не сделал.
Смиттен. — Она говорит об офицере, не называя его фамилии, говорит — «о котором я вас просила».
Протопопов. — Она два раза была. Вероятно, она написала на клочке.
Смиттен. — Я думаю, если бы она не рассчитывала на вашу память, она повторила бы его фамилию.
Протопопов. — Записка была, но я ее бросил в корзину.
Смиттен. — Значит, вы не помните фамилии этого офицера?
Протопопов. — Я определенно помню, что она написала эту просьбу.
Председатель. — У вас был доклад государю о том, чтобы воспользоваться роспуском думы для того, чтобы провести вопрос о продовольствии в том смысле, как вам этого хотелось?
Протопопов. — Это было. Но не совсем так. При первом моем разговоре с государем он мне поставил вопрос так: «Самое важное — продовольствие». Вообще все надежды по продовольствию возлагались на меня, — что я это устрою. Действительно, мне казалось, что я это сделаю, непременно устрою. Но вместе с тем, я никогда не говорил государю, что — «да, я это сделаю». Говорил, что «надеюсь, я с этим справлюсь». Это дело мялось, мялось, и в конце концов, государь решил, — я не помню, когда это было, — одним словом, он решил передать мне продовольствие по 87 ст. Тогда очень долго писался журнал. Опять от меня стали требовать дополнительных объяснений.
Председатель (предъявляет документ). — Это ваши поправки здесь сделаны? Ваши, несомненно!
Протопопов. — Я потом припомню, как это было.
Председатель. — Я не имею других вопросов по этому поводу. Я спрашиваю: вы это писали?
Протопопов. — Этого я не помню.
Председатель. — Но почерк ваш?
Протопопов. — Да, но я не помню.
Председатель. — Это письмо к Штюрмеру.
Протопопов. — Я должен сказать в дополнение к этому, что тут я просил государя императора приостановить уже подписанный им доклад, которым продовольственное дело передавалось мне, ибо подходило 1 ноября, т.-е. открытие думы, и по 87 ст. передавать казалось мне невозможно.
Председатель. — По поводу письма Сухомлиновой я хотел бы еще спросить: почему вас поздравляют: «С удачным выступлением с Катениным?»
Протопопов. — Я его взял, когда ушел Удинцов.
Председатель. — Вы его взяли на пост начальника главного управления по делам печати?
Протопопов. — Да.
Председатель. — А что это за «удачное выступление с Военно-промышленным комитетом»?
Протопопов. — Не знаю, этого не было.
Председатель. — Поверьте, что я точно прочел (показывает письмо).
Протопопов. — Она пишет: «Амфитеатров выслан». — Совершенно верно, но не министерством внутренних дел.
Председатель. — Что же, министерство внутренних дел не имело к этому никакого отношения?
Протопопов. — Министерство внутренних дел предложило ему выехать заграницу.
Председатель. — А когда он не уехал, — тогда что?
Протопопов. — Что же я мог сделать?
Председатель. — За что вы предложили ему уехать?
Протопопов. — Повод, это — акростих, который он написал (начальные буквы), криптограмма, а сначала была резкая статья.
Председатель. — Значит «удачные выступления», это: Амфитеатрова — выслали, Катенина — назначили начальником главного управления по делам печати. А с Военно-промышленным комитетом что сделали? Вероятно, арестовали часть рабочих?
Протопопов ничего не отвечает.
Родичев. — Кроме провокаторов?
Протопопов. — Меня убивает эта штука. Что это такое? Разве там, действительно, были провокаторы? Я до сих пор не верю.
Председатель. — Теперь скажите вот что. Вы знали, что дума вместе, позволю себе сказать, вместе со страной относилась к Курлову в высокой мере отрицательно?
Протопопов. — Знал.
Председатель. — Не было такого момента, когда это вас начало беспокоить?
Протопопов. — Весьма.
Председатель. — Что же вы решили с Курловым сделать?
Протопопов. — Я хотел его взять, как командующего корпусом жандармов. А тут, после ноября, когда совершенно ясно выразилось непримиримое отношение, тогда…
Председатель. — Вы признаете, что допустили некоторую незакономерность, терпя Курлова около министерства внутренних дел?
Протопопов. — Это не есть незакономерность. Это есть громадная ошибка, даже больше.
Председатель. — Так, значит, вы его хотели вместо Татищева поставить? А с Татищевым что вы хотели сделать?
Протопопов. — Татищеву дать надлежащее назначение.
Председатель. — Какое именно?
Протопопов. — Ну, членом государственного совета, может быть.
Председатель. — Значит, из сената в государственный совет?[*]
Протопопов. — Я не знаю, про что была речь.
Председатель. — Я могу сказать, что вы именно так и предполагали. Скажите, за что вы предполагали увеличить пенсию Комиссарову?
Протопопов. — Комиссаров был уволен по 3-му пункту.
Председатель. — За свою деятельность в качестве градоначальника?
Протопопов. — Да, в Ростове. После этого он приехал сюда, и тут произошли какие-то особого рода переговоры, мне понятные, но не точно мне известные, после чего этот 3-й пункт был уничтожен.
Председатель. — С кем были переговоры?
Протопопов. — Это было до меня.
Председатель. — Но вам хорошо известно это, скажите с кем?
Протопопов. — Это до моего назначения.
Председатель. — Но вы знаете, с кем он переговорил?
Протопопов. — Я даю слово, что не знаю. Но 3-й пункт был уничтожен. Затем была ревизия генерала Попова. Потом я послал Михайлова (второй раз) проверить генерала Попова.
Председатель. — Генерал Попов к каким выводам пришел?
Протопопов. — К ужасным.
Председатель. — Почему же нужно было проверять «ужасные выводы» Попова?
Протопопов. — Меня просил тот же Комиссаров.
Председатель. — Сам просил или кто-нибудь поддержал эту просьбу?
Протопопов. — Белецкий, мне думается, поддерживал… Я точно боюсь сказать.
Председатель. — И Распутин?
Протопопов. — Когда приехал Михайлов, Распутина уже не было, — мне так помнится.
Председатель. — Хорошо, значит, вас просили. Вам известна роль Комиссарова при Распутине? Как вы ее себе представляете?
Протопопов. — Я представляю так, что Манасевич был хранителем святого, а Комиссаров был в курсе всех дел.
Председатель. — Чьих?
Протопопов. — Распутинских и мануйловских. Это люди неладные.
Председатель. — Так за что же этому «неладному» человеку увеличить пенсию?
Протопопов. — За что? — Это я помню. Мне хотелось дать ему известную сумму, чтобы он уехал из Петрограда.
Председатель. — Мне непонятно: человек неладный, но при том, усилить ему пенсию; если же усилить пенсию, зачем высылать из Петрограда?
Протопопов. — Мне хотелось убрать из Петрограда этих людей. Я считал их людьми вредными, потому что они интриговали ужасно, больную атмосферу создали; хотелось очистить.
Смиттен. — Вы так характеризуете Комиссарова: плохой, около него больная атмосфера; вы делаете ревизию, но ревизии не поверили.
Протопопов. — Я поверил.
Смиттен. — Раз поверили, зачем же вы назначили вторую? Вы понимаете, что израсходование средств на ревизии, это не есть дело государственной необходимости.
Протопопов. — Я смотрел на это, как на мелочи.
Председатель. — Значит, нельзя объяснить иначе, как просьбой?
Протопопов. — Вероятно, просьбой.
Председатель. — Но все-таки, за что же увеличить пенсию? Человек по 3-му пункту уволен, ревизия дает отрицательные данные, министр внутренних дел находит, что он человек неладный и даже просто скверный, — почему же увеличить пенсию?
Протопопов. — Для того, чтобы этот человек больше здесь не был. Вот, собственно, в чем была моя мысль: удалить его.
Председатель. — Амфитеатрова, чтобы он тут не был, выслали.
Протопопов. — Да, я тут уже думал об этом, но я не знаю, удалось ли бы это. Это вопрос.
Иванов. — Почему?
Протопопов. — Нашлись бы заступники. Конечно, я глубоко виноват, но уверяю, я пришел в очень тяжелое место, самое отвратительное, какое только можно себе представить. Я одно могу сказать: воровства не было. Это факт.
Председатель. — Позвольте мне огласить письмо. «Глубокоуважаемый и богом благословенный и обожаемый государь… (читает). Это вы писали? (Показывает письмо.)
Протопопов. — Нет.
Председатель. — Тогда кто же? Эта рука вам не может не быть знакома?
Протопопов. — Это рука Бурдукова, который написал набросок того, что я бы написал.
Председатель. — Это проект вашего письма к бывшему императору по поводу дня его ангела 6 декабря 1916 г.?
Протопопов. — Это не было послано.
Председатель. — Меня интересует другая сторона: значит, это рука Бурдукова. Теперь. «Ваше императорское величество, всемилостивейший государь, не имея возможности принести вам в день вашего ангела мои верноподданнические…» (читает.) Это кто писал? (Показывает.)
Протопопов. — Это моя рука. Но это тоже, я думаю, не было послано. Я так не пишу.
Председатель. — Я точно прочел.
Протопопов. — Я стараюсь вспомнить, было ли послано или нет.
Председатель. — Занесите, г. секретарь, что было предъявлено. Письмо это на бланке от управляющего министерством внутренних дел. Будьте добры сказать, кто это писал? (Показывает.)
Протопопов. — Не узнаю этого почерка.
Родичев. — Слова те же самые, что и у Бурдукова.
Протопопов. — Почти те же, но другая рука. Я не помню, г. председатель.
Председатель. — Какие отношения существовали между вами и Бурдуковым?
Протопопов. — Он часто ходил. Мы были в кавалерийском училище. Вероятно, когда-нибудь он был у меня…
Председатель. — Но это не почерк Бурдукова?
Протопопов. — Нет.
Председатель. — Вы давно знакомы с Бурдуковым?
Протопопов. — Я с ним знаком года три.
Председатель. — Вы говорите, вы были с ним в кавалерийском училище?
Протопопов. — Мы однокашники.
Председатель. — Как вы познакомились и по какому поводу?
Протопопов. — Я с ним встретился в Азовско-Донском банке, затем он стал бывать, и так познакомились.
Председатель. — Какое его общественное положение?
Протопопов. — Он был шталмейстером двора.
Председатель. — Это — звание, а что он делал в жизни?
Протопопов. — Я не знаю. Он и коммерческими делами занимается в значительной мере.
Председатель. — Он тоже член какой-нибудь патриотической организации?
Протопопов. — Да, он правый, но не такой безумно правый человек.
Председатель. — Я вернусь немножко назад. Я задал несколько вопросов, но забыл предъявить документ, сюда относящийся, — «2–3 октября. Совет министров — дороговизна» Что же, государь согласился с меньшинством?
Протопопов. — Он хотел мне передать.
Председатель. — А вы в меньшинстве голосовали?
Протопопов. — Я и председатель совета министров.
Председатель. — Т.-е. вы и Штюрмер. Дело идет о продовольствии.
Протопопов. — 31 октября мой доклад государыне. Просил не приводить в исполнение решения.
Председатель. — Почему министр внутренних дел просит о неприведении в исполнение государыню, а не государя?
Протопопов. — Потому что это скорее. Я мог поехать в Царское, а государю нельзя было объяснить, меня это затрудняло.
Председатель. — Вы не представляете себе того, что вы говорите. Министр внутренних дел и глава верховной власти… отношения такие, что, очевидно, по представлении министром внутренних дел, государь, в силу предоставленной ему власти, соглашается с меньшинством совета министров. Потом министр внутренних дел решает не приводить в исполнение решение этого меньшинства. Так вот, на мой вопрос: «Почему вы об этом докладываете государыне?», вы отвечаете: «Это скорее».
Протопопов. — По докладу министра внутренних дел, государь решил присоединить свое согласие «и я» — к меньшинству. Я этого не мог докладывать. Все дело шло к тому, чтобы передать мне продовольствие.
Председатель. — Как оно шло? Вы боролись за это?
Протопопов. — Это не есть удовольствие — дело продовольствия, работать над этим делом. Это есть колоссальный крест, который… Я мог бы, может быть, это сделать.
Председатель. — Вы так думали и этого добивались?
Протопопов. — Я не добивался. Меня царь позвал и сказал: «Главное — продовольствие, можете ли вы что-нибудь сделать?» Я собирал, я работал.
Председатель. — Так что это была не ваша инициатива, а приказание?
Протопопов. — Не приказание, а программа: вот, что нужно делать. Когда пришло согласие государя, подходит сессия государственной думы. Как можно допустить? Накануне или 30-го, за день-два, по 87 ст. это — вещь невозможная. Что я мог сделать? Телеграфировать государю, это — долго. Между тем, если сказать государыне, то через 10 минут ее телеграмма в Ставке. Я тогда поехал к государыне и объяснил ей.
Председатель. — Так что это было сделано для скорости?
Протопопов. — Государыня была в курсе этого дела…
Председатель. — Скажите, пожалуйста, почему же вы 28-го октября стояли за подписание журнала меньшинства, а 31 октября поняли, что накануне думы нельзя проводить закон в порядке 87 статьи?
Протопопов. — Было так. Сначала государь согласился, а потом я предложил устроить совет трех министров. Продовольственное дело было слишком связано с провозом и земледелием. Уже существовала организация, которая была желательна. Значит, нужно было все это связать вместе. Я думал сделать совет трех министров и об этом говорил государю, докладывал. Это немного затормозило дело. Вследствие этого и журнал так поздно пришел.
Председатель. — На мой вопрос, почему вы докладывали государыне, вы отвечаете для скорости, и потом пояснили, что долго в Ставку, а государыне — через 10 минут. Вам известно было, что существует такая форма общения людей, стоящих у власти, которая называется разговором по телеграфу?
Протопопов. — Я лично никогда этим не пользовался.
Председатель. — У вас принципиального непользования не могло быть. Если министру внутренних дел нужно экстренно снестись с главой верховной власти и если для этого есть возможность пойти в главный штаб, в квартиру военного министра, и переговорить с государем по телеграфу, то зачем министру внутренних дел ехать в Царское Село и т. д.? И когда его спрашивают, зачем он это делает, он говорит: «Я это делаю для скорости».
Протопопов. — Я теперь соображаю, что можно было поехать туда, но я не знал, что есть такой провод. Я думал, что это есть особый царский провод. Затем я не скрывал от государыни этого дела.
Председатель. — Вы несомненно не скрывали, потому что вы докладывали.
Протопопов. — Она была в курсе дела.
Председатель. — Доклад по серьезному вопросу супруге царствующего императора… при чем тут она?
Протопопов. — Это было даже мне указано: если быстро что сделать, — скажите государыне.
Председатель. — Вы ссылаетесь на словесное высочайшее повеление?
Протопопов. — Так точно. Это определенно, я на него должен ссылаться.
Председатель. — Предъявлен листок бумаги, на котором написано: «2–3 октября, совет министров. В правом крыле государственного совета не хватает голосов 10–15» (читает).
Протопопов. — Так точно, это я все помню. Это моей рукой написано. В правом крыле государственного совета не хватает 10–15 голосов.
Председатель. — Т.-е. для чего не хватает? Чтобы дать перевес реакционному правому течению?
Протопопов (читает). — «Дума не примирится с Курловым». Совершенно верно… (читает). Да, правильно… А Комиссарову увеличить пенсию с тем, чтобы не жил в Петрограде. Совершенно верно, это так точно.
Председатель. — Признано, что это правильно. Не разворачивая пока документа, мне хочется спросить: это слово «человек» — вами написано?
Протопопов. — Нет.
Председатель. — Не вами?
Протопопов. — Нет.
Председатель. — Скажите, какие отношения существовали между вами, Бурдуковым и Вырубовой?
Протопопов. — Он ездил туда. Он сам в Царском живет. Он у нее бывал. Ведь, собственно, Бурдуков близкий человек, приемный сын и наследник покойного Мещерского. Мещерского чрезвычайно любил государь.
Председатель. — Вы на «ты» с Бурдуковым?
Протопопов. — Нет, но…
Председатель.— Но он близкий человек вам?
Протопопов. — Да.
Председатель (читает). — «Глубокоуважаемая Анна Александровна. В настоящее время, когда истерзана душа… (документ от 30 января)… 30 января, Царское Село. Ваш Бурдуков».
Протопопов. — Он мне показывал это письмо, я его помню.
Председатель. — Он вам показывал его после отсылки?
Протопопов. — Да.
Председатель. — Скажите, пожалуйста, каким образом, это письмо, отосланное к Анне Александровне, у вас очутилось?
Протопопов. — Может быть, Анна Александровна мне его переслала.
Председатель. — Но вы не знаете, при каких обстоятельствах? Это ваш друг, он вас хвалит. Это письмо идет туда, к Анне Александровне, а Анна Александровна — вам.
Протопопов. — Г. председатель, то, что написано… он написал то, что думал, очень любезно. Потом ко мне пришел.
Председатель. — Я хотел знать, когда он показал вам, до отправления, или после отправления?
Протопопов. — После отправления. До отправления он мне не показывал.
Председатель. — До отправления он вам не показывал?
Протопопов. — Он в Царском живет, а я в Петрограде.
Председатель. — Но Царское не за горами. Теперь позвольте задать вот какой вопрос. Я вам прочел по подлиннику, отправленному им. Тут есть слова: «Вот почему, если среди членов правительства появляется человек с такими верованиями…». А вот у меня другой экземпляр: «Вот почему, если среди членов правительства появляется человек…» Очевидно, нужно думать, что этот человек — вы. Вы говорили, что он показал это письмо после отправки. Каким образом у вас оказались и черновик, и беловое письмо?
Протопопов. — Не знаю. Я говорю: он показывал мне письмо.
Председатель. — Показывал до отправки или после отправки?
Протопопов. — Вот это он показывал (показывает). Вероятно, оно было у меня.
Председатель. — У вас были оба экземпляра, черновик и беловик, который прошел через Анну Александровну.
Протопопов. — Я отлично помню. Я говорил, что очень благодарен за такие лестные аттестации. А затем получилось от Анны Александровны письмо.
Смиттен. — А вам известно, что письмо было доложено императрице? Все то, что дается Анне Александровне, то дается императрице.
Председатель. — Бадмаев был вам довольно близкий человек?
Протопопов. — Бадмаев 27 лет меня лечит. У него хаос в голове, политический хаос. Он постоянно пишет записки, брошюры издает.
Председатель. — Эти записки, которые он пишет, куда он посылает?
Протопопов. — Массами рассылает их своим знакомым. Их читать довольно затруднительно, потому что это полный хаос.
Председатель. — Что же, посылает он их и Вырубовой? Посылает он их…
Протопопов. — Царю.
Председатель. — А может быть и царице. Так?
Протопопов. — Во всяком случае, очень широко рассылает то, что пишет. Это человек такой, у него вся жизнь как-то изрублена в разных занятиях. Он — доктор, принимает, и действительно имеет прекрасные тибетские средства. И вместе с тем, он какие-то бетонные трубы делает. И вместе с тем, политикой занимается и школу имеет бурятскую. Человек он старый.
Председатель. — Позвольте огласить документ. Занесите в протокол, что оглашается документ, взятый по обыску у Бадмаева… (читает). Содержание этого письма вам было известно?
Протопопов. — Первый раз слышу.
Председатель. — Вы знаете, какая дата? 8 ноября 1916 г.?
Протопопов. — Нет. За Бадмаева я вполне уверен, что он таких писем много писал.
Председатель (читает). — «Дума, во главе которой стоят А. и Г.». Памятная записка… (читает). «Протопопов и Курлов власти не имеют, и, поэтому, помешать проискам недоброжелатели не могут без твердой воли царя… (читает) «21 окт. 1916 года» Вы знаете, что это было отправлено?
Протопопов, — Я вообще совершенно не знаю его корреспонденции.
Председатель. — И других записок, которые я вам сейчас покажу, вы тоже не знаете? Одна записка о роспуске думы: «необходимо прервать на продолжительный срок занятия думы…» (читает). В составлении этой записки вы не принимали никакого участия?
Протопопов. — Нет, определенно нет.
Председатель. — О посылке их не знали?
Протопопов. — Знал, что он пишет государю постоянно. У него очень большая беглость мысли.
Председатель. — Но видите ли, он пишет довольно разумно. Ведет известную линию. И вот, эта памятная записка, которую я вам позволю себе предъявить, — она имеет вот какое еще значение: она по содержанию, по мыслям, по смыслу имеет некоторое сходство с той телеграммой, которую вы дали по поводу блока. Она тоже говорит об этом блоке, и так же, как вы, этот Бадмаева — против блока. Только вы пишете об этом срочно Воейкову, а он пишет в памятной записке.
Протопопов. — Может быть. Ведь он видел много людей. Может быть, я ему говорил. Может быть, я от него слышал. Я не знаю. Мысль одна и та же может прийти двум людям, но я в составлении этой записки никогда никакого участия не принимал. Да и он человек настолько самолюбивый, что если бы поправлять его записку, он страшно разобиделся бы.
Председатель. — Вы не имели разговора с Треповым? Трепов вам не говорил, что государь склонен к тому, чтобы вы подали в отставку? (Читает): «Трепов предложил ему принять пост министра путей сообщения».
Протопопов. — Господи боже мой, что же это такое! Нет, г. председатель, это полная фантазия. Трепов говорил мне, что он бы думал, что мне полезно выйти и перейти на пост министра торговли. Я говорю: «Конечно, с великой радостью. Но как это устроить?»
Председатель. — Что это за бумажка (показывает)?
Протопопов. — Не знаю (смотрит). Ах, это почерк… по-моему, это — Моргенштиерна. Знаете, который почерки узнает?
Председатель. — Предъявлен был документ. Оригинальный крупный тип (читает). Теперь скажите, пожалуйста, вы знали г-жу Головину — Марию?
Протопопов. — Как же, Марию Евгеньевну, — немного, но все-таки знал.
Председатель. — Какие у вас были отношения с ней?
Протопопов. — У меня с ней самые лучшие отношения. Я у них был приблизительно в январе, вероятно. Раз я у них вечером был.
Председатель. — К какому политическому кружку она принадлежит?
Протопопов. — Распутина. Она была постоянно при Распутине.
Председатель. — Одно из близких к Распутину лиц?
Протопопов. — Очень близкое лицо. А затем, она родственница гр. Пален.[*]
Председатель. — Теперь скажите, пожалуйста, чем вы объясняете такое письмо (читает): «Многоуважаемый Петр Александрович…» г-жи Головиной к Бадмаеву.
Протопопов. — Это дамские разговоры. Она — молодая девушка.
Председатель. — А давно она стала поклонницей Распутина?
Протопопов. — Да, довольно давно. Это очень близкий человек к нему. Видите ли, это человек очень несчастный.
Председатель. — Вы ее почерк знаете? Не можете ли объяснить, что это значит: в начале письма «Х. В.» и крест?
Протопопов. — Христос воскресе.
Председатель. — Это письмо 1-го сентября 1916 г. Вы не знаете, что это знак распутники?
Протопопов. — Этого я не знал. Крестик многие ставят.
Председатель. — Т.-е. многие сторонники Распутина?
Протопопов. — Самые обыкновенные люди. Но я не знал, что это так.
Председатель. — Скажите, пожалуйста, каково было ваше отношение к московским городским выборам?
Протопопов. — Это довольно сложная вещь. Я плохо с этим делом знаком. Это дело знает Анциферов.
Протопопов. — Что значит: «вести дело московских городских выборов»? Т.-е., так сказать, ждать, пока результат произойдет, и наблюсти, какой есть результат?
Протопопов. — Я не знаю подробностей выборов, г. председатель, я на это ответить не могу. Я знаю одно, что там есть циркуляр, который был утвержден и мной был признан.
Председатель. — Извините, это не циркуляр, а инструкция.
Протопопов. — Я не помню, утверждал я ее или нет.
Председатель. — Что вам известно о вмешательстве министерства внутренних дел в московские городские выборы?
Протопопов. — О вмешательстве я не знаю. Какое же может быть вмешательство, деньги там не истрачены!
Председатель. — Вы это наверное знаете, что деньги там не истрачены?
Протопопов. — Я спрашивал. Деньги там не истрачены.
Председатель. — Не подкупали никого в связи с этими выборами?
Протопопов. — Никого.
Председатель. — Вы московскую знаменитость, домовладельца Москвы Котлецова знали?
Протопопов. — Лично нет, фамилию слышал, но никогда не видал.
Председатель. — Но, может быть, те, кто заведывал выборами, знают?
Протопопов. — Я не сумею ответить.
Председатель. — Итак, вы утверждаете, что это делалось без вашего ведома?
Протопопов. — Мне говорили, что выборы идут неблагополучно.
Председатель. — В каком смысле?
Протопопов. — Чересчур левый элемент проходит.
Председатель. — Для кого же неблагополучно?
Протопопов. — Для партии правых… Что даже Н. И. Гучков забаллотирован.
Председатель. — (Оглашается документ «выписка из отчета главного управления по делам печати о приходе и расходе в течение 1917 г. секретного кредита». Это в сущности не только документ за 1917 г., но также и за 1916 г. По 1916 г. подведен итог: 1.620.284 р. 70 к. Документ за подписью начальника главного управления по делам печати Потемкина.[*] (Оглашаются статьи расхода 41–43 — это порядковый номер.) «30 тысяч рублей субсидии выдано домовладельцу г. Москвы Котлецову».
Протопопов. — Во всяком случае, мне про это никто ни одного слова не докладывал. Не может быть, чтобы о 30 тысячах мне не доложили.
Председатель. — Вам известно, что домовладелец Котлецов начал издавать журнал, которого выпустил ко дню московских выборов три номера, а потом прекратил это издание, — после того, как был забаллотирован? Итого, значит, казне, т.-е. министерству внутренних дел каждый номер стоил 10 тысяч рублей.
Протопопов. — Когда это было?
Председатель. — Даты я не могу вам сказать, но предъявлю документ. Вы были в сношениях с Котлецовым?
Протопопов. — Нет, я совершенно не видел его, и то, что вы говорите: 30 тысяч Котлецову — это я в первый раз слышу.
Председатель. — Вы говорили, что перед выборами вы, по представлению московского градоначальника, утвердили известную инструкцию выборов?
Протопопов. — Да.
Председатель. — Известно ли вам, что когда выборы, неблагоприятные для правых партий, но не для московского населения, прошли, то получивший субсидию в 30 тысяч домовладелец города Москвы, забаллотированный Котлецов, подал на вас жалобу в сенат за то, что вы утвердили неправильную инструкцию?
Протопопов. — Я это слышал.
Председатель. — Только слышали? Или вы это знали?
Протопопов. — Знаю, что жалоба в сенат есть. Это было сделано.
Председатель. — По соглашению с министерством?
Протопопов. — Точно сказать не могу. Выборы нужно провести через присутствие.
Председатель. — Дело шло не о кассации выборов, а о признании вашей инструкции неправильной.
Протопопов. — Я этого не помню.
Председатель. — Вы не помните, что министр внутренних дел, утвердив инструкцию (он утвердил инструкцию до выборов), после выборов, когда на него пожаловались в сенат, признал, что эта инструкция неправильна?
Протопопов. — Это мне говорили.
Председатель. — Вам это не только говорили, но это идет от министерства внутренних дел.
Протопопов. — За министра внутренних дел?
Председатель. — Куколь.
Протопопов. — Думаю, Анциферов.
Председатель. — Но вы это знали?
Протопопов. — Как же, это я безусловно знал. Знал, что это делалось для того, чтобы произвести вторые выборы, в надежде, что они будут более удачные.
Председатель. — Что же вам придало надежду, что они будут более удачные?
Протопопов. — Я спрашивал: что вам подает надежду? И они мне на это сказали, что, может быть, можно будет сговориться.
Председатель. — Кого вы спрашивали?
Протопопов. — Выборами заведывал Анциферов.
Председатель. — Так что вы к этому никакого отношения не имели?
Протопопов. — Не могу сказать, что никакого. Раз мне было доложено, значит — я имел касательство к этому.
Председатель. — Теперь, не известно ли вам, что перед подачей жалобы на эти выборы в городское присутствие, в Москву приезжали командированные министром внутренних дел чиновники, для рассмотрения производства в московском градоначальстве?
Протопопов. — Я не знал, кто приезжал. Кажется, Невиандт.
Председатель. — Да. Что же он вам доложил по возвращении?
Протопопов. — Он ничего не докладывал.
Председатель. — Разве вы не интересовались?
Протопопов. — В подробности я не входил. Г. председатель, когда выборы произошли?
Председатель. — Они произошли в течение ноября и в начале декабря, а что?
Протопопов. — Я в это время был нездоров, я не работал.
Председатель. — Т.-е. фактически нездоровы?
Протопопов. — Фактически.
Председатель. — Но общее руководство министерством вы оставили за собой? В понятие общего руководства входила политика по Москве?
Протопопов. — И да, и нет. Вечером Куколь обыкновенно говорил то, что находил нужным сказать.
Председатель. — Куколь находил нужным сказать про ход московских выборов?
Протопопов. — Я знал то, что я уже сказал.
Председатель. — Вам известно, что после того как Невиандт поехал в Москву, выборы были обжалованы забаллотированным домовладельцем Котлецовым?
Протопопов. — Насчет субсидии я должен сказать, что это для меня было открытие, я этого не знал. Это я заявляю.
Председатель. — Какие инструкции вы дали московскому градоначальнику в связи с поступлением жалобы от Котлецова, который, получив от вас деньги, подал на вас жалобу в сенат, а потом, после приезда Невиандта, принес жалобу московскому градоначальнику?
Протопопов. — Никаких инструкций я не давал, но моим именем могли дать.
Председатель. — Но какие инструкции дали от вашего имени?
Протопопов. — Не знаю. Могу сказать одно, что мне чрезвычайно неприятны эти 30 тысяч. Хотя я должен сказать, что выборы по Москве это не есть что-нибудь новое, это не есть тот обычай, который я внес. Это то, что я, может быть, должен был изменить, но чего я не изменил.
Председатель. — Вы можете указать другой пример такой настойчивой борьбы с московским населением?
Протопопов. — Это борьба… Она, собственно говоря, не была борьбой, потому что хода жизни московской она не нарушала. Выборы должны были быть скоро сделаны, это только ошибка вышла.
Председатель. — Вы приняли меры, чтобы они были назначены?
Протопопов. — Есть сроки.
Председатель. — Никаких сроков не было. Я все это дело знаю.
Протопопов. — Но что 30 тысяч за Котлецова заплачено, — это мне совершенно неизвестно. Как видите, они проведены по литературному кредиту. Я положительно этого не усматривал.
Председатель. — Они проведены по литературному, как и многие другие?
Протопопов. — Я должен сказать, что я не только не успел подробно рассмотреть этих отчетов, но я даже совершенно не знаю отчетов департамента полиции. Мне некогда было до них дойти… Г. председатель, разрешите мне спросить по поводу дела Перрена. Я вспомнил, когда я его видел; я составил себе гранки 1914–15–16 г.г., и прихожу к убеждению, что я его видел до войны за несколько месяцев.
Председатель. — Вы помните, к какому времени относится телеграмма, которую я оглашал?
Протопопов. — Я все это соображал и все записал. Я его видел раз в жизни.
Председатель. — У вас есть несколько документов, которые вы должны нам предъявить. Мы их разобрали.
Протопопов. — Они ужасно написаны, я экономил бумагу.
Председатель. — Я бы их разобрал, и в следующее ваше объяснение мы бы рассмотрели их.
Протопопов. — Разрешите мне сказать вот что. Тут очень трудно припомнить, но все говорит за то, что это именно было до войны, потому что я с семьей поехал к нему. Затем гадали о женихе моей дочери.
Председатель. — Не будем на этом останавливаться. Я бы хотел прочитать эти записки.
Протопопов. — Они дают довольно полную картину.
Председатель. — Это все про ваши отношения с Перреном. Хорошо, если вы их можете переписать, тогда я их возьму в следующий раз.
Протопопов. — Я их перепишу. Но ужасно трудно вспоминать. Например, дней через 15–20, в конце ноября, было получено второе письмо из Норвегии, в котором он просит помочь ему устроиться в Петрограде. А видел я его только до войны.
Председатель. — При каких условиях вы получили дело о выборах и знали ли вы это дело? Я вам представлял документы и копии секретного рапорта военного агента в Бельгии и Нидерландах от 16 октября 1916 года, касающегося провокатора Малиновского, члена государственной думы.
Протопопов. — Положительно у меня в руках не было.
Председатель. — Этого производства вы сами не брали?
Протопопов. — Нет, никогда.
Председатель. — Я вернусь к документу, о котором я вас раньше спрашивал. Вы помните вашу операцию с векселями — кажется, на 100–150 тысяч, — на покупку хлеба этому обществу. Во главе этого общества стоял Кушнырь-Кушнырев. Вы знали деятельность этого общества?
Протопопов. — Нет. Кушнырь-Кушнырева создали, помнится, А. Н. Хвостов и Белецкий, но он действительно выплатил большую часть данных ему денег и вносил аккуратно то, что ему было авансировано. И именно сам Куколь давал лестные отзывы о пользовании этими лавками от рабочих на заводах, причем высказывал, что сами рабочие занимаются торговлей в этих лавках.
Председатель. — Черновик вашего поздравительного письма на имя государя составлял Бурдуков?
Протопопов. — Нет, я его не посылал.
Председатель. — Я не говорю, что вы его посылали.
Протопопов. — Это было так: мне надо было написать государю, а он хорошо пишет.
Председатель. — Именно потому, что он хорошо пишет, я вас и спрашиваю: не составлял ли он вам черновики некоторых нужных вам вещей, вроде писем или речей — по крайней мере одной речи?
Протопопов. — Очень может быть. Он составлял мне речь при вступлении в должность.
Председатель. — Это была единственная речь, которую он для вас составил, та, которую вы произнесли перед чинами министерства внутренних дел при вступлении в должность?
Протопопов. — Но я все переделал. Я несколько раз просил людей писать мне, и, если что нравилось, я брал оттуда, но редко я посылал в жизнь чужое.
Смиттен. — Так как вы охраняли интересы династии и царствующего дома, то напрашивается вопрос: известно ли вам было, что личность Распутина дискредитирует в глазах общества престол? Говорили ли вы императрице, пользуясь возможностью иметь личное свидание, о том, что Распутин — грязная личность, распутник и что он пользуется дурной репутацией в городе и стране?
Протопопов. — Царице я никогда не говорил. Царю я резко так никогда не говорил. Когда я говорил, я старался эту мысль чуть-чуть трогать. С государыней было довольно трудно говорить.
Председатель. — Вы стояли на той точке зрения, на которой стояли и некоторые общественные деятели. Вы полюбили царя, царь полюбил вас. Вы считали долгом ему служить и говорить правду. Чем объясняется, что по такому больному вопросу, значение которого вы понимали, вы не сделали этого?
Протопопов. — Я в камере думал об этом. Вообще я теперь нахожусь в положении человека, жизнь которого вскрыта. Очень тяжело, но что же делать! Тут есть гораздо хуже: это — сторона душевная, то, что в итоге я и не заметил, как Распутин стал меня очень поддерживать. Ведь он меня поддерживал.
Председатель. — Вы знали, что он вас поддерживает?
Протопопов. — Конечно, я знал, потому что он меня всегда хвалил в глаза.
Председатель. — Поддерживал, значит, и перед Царским Селом, поддерживал и при личных свиданиях, и в письмах?
Протопопов. — Я думаю так. Даже наверное знаю, что так. Это гораздо хуже.
Смиттен. — Позвольте сказать так, что, благодаря создавшимся между вами и Распутиным отношениям и тому, что он вас поддерживал, вы, защищая свои личные интересы перед лицом государя, не могли разоблачать Распутина?
Протопопов. — Нет, это не так. До такой степени это не дошло. Я считал, что Распутина совершенно бесполезно разоблачать. Я считал возможным только одно — говорить мягко: «Государь, он стал притчей во языцех». Он спрашивает: «Что же вы особенного замечаете?» — «Ничего особенного, но он стал притчей во языцех». Идее монархической он принес вред.
Смиттен. — Мне хотелось бы получить определенный ответ. Как министр внутренних дел, вы не могли не понять, что устои трона расшатываются, потому что в общественном сознании Распутин слит с самым понятием Царского Села. Не указывали ли вы, что для государственного порядка и спокойствия представляется нетерпимой эта фигура?
Протопопов. — Я думал, что ему надо уехать в Тобольск.
Председатель. — Вы прямо эту мысль никогда не высказывали?
Протопопов. — Я трогал этот вопрос, но прямо, ребром никогда его не ставил. Но говорил, что хорошо ему уехать в Тобольск. Мне казалось, что это лучшая мера; и он бы уехал: это было дело решонное.
Председатель. — Т.-е. перед тем, как его убили? Значит вы приготовите это к после-завтра?
Протопопов. — Я спутался — либо в 1914, либо в 1915–16 году.
Председатель. — Мы потом в этом разберемся.
Протопопов. — Пожалуйста, если будете допрашивать мою семью по этому поводу, то моя дочь, которая живет в Москве, она беременна, пожалуйста, я вас прошу, испуг будет невероятный.
Председатель. — Хорошо, будьте покойны.
XXV. Допрос Н. А. Добровольского. 21 апреля 1917 г.
Содержание: Назначение Добровольского на пост министра юстиции. Отношения с б. царем и его семьей. Материальные средства Добровольского. Задолженность и денежные операции. В. М. Макаров и Плетнев. Секретарь Распутина, Симанович. Знакомство с Распутиным и отношения с ним. М. Головина и ее роль в интриге против Добровольского. Назначение Добровольского членом государственного совета. Вырубова и встреча с б. императрицей. Разговор с б. царем. Дело Нахимова. Вопрос об обвинениях при отсутствии состава преступления.
* * *
Председатель. — Вы были назначены министром юстиции 20 декабря 1916 г., а до того занимали должность обер-прокурора 1 департамента. Скажите, кроме ваших отношений к великому князю Михаилу Александровичу, кому еще вы приписываете ваше назначение на пост министра?
Добровольский. — Я, положительно, ничего не могу сказать, но позволю себе сослаться на то, что сам за всю жизнь ни к каким протекциям не прибегал и не допускал этого по отношению к моим подчиненным. Думаю даже, что мои сослуживцы по министерству Юстиции могут вам удостоверить, как я к этому вопросу относился. Позволю себе все же сослаться на такой факт. Великий князь Михаил Александрович, с которым я был близок, просил за двух членов петроградского суда. Я справился, мне доложил вице-директор департамента Иванов и весь состав, который всегда присутствовал, что хотя это и вполне достойные работники, заслужившие поощрения, но они моложе многих других и, поэтому, предпочтение их было бы несправедливо. Узнав это, я не счел возможным исполнить просьбу. Относительно себя лично, я вам уже указывал на отношения мои к Михаилу Александровичу, но у меня ко двору были и другие давние и чрезвычайно близкие отношения. Мать моя была замужем вторым браком. Мой отчим был близким человеком к царской семье в двух поколениях. Он состоял преподавателем императора Александра III, когда тот был еще ребенком. Его учениками были также Алексей, Сергей и Павел Александровичи. Отношения с ними были у него настолько близкими, что в семье даже императрица Мария Феодоровна называла его уменьшительным именем — Рудинька. Государь Николай Александрович и Михаил Александрович, они точно так же его называли. Я бы мог в жизни воспользоваться известными отношениями, но никогда ни я, ни братья мои, которые оба сделали точно так же карьеру, ни один из нас ни к каким протекциям не прибегал. К Михаилу Александровичу я никогда ни с чем не обращался. Может быть, этим объясняются те особенно теплые, близкие отношения, которые у нас установились.
Смиттен. — Если позволите, я поставлю несколько вопросов, на которые мне хотелось бы иметь ваш краткий и прямой ответ. Каковы ваши материальные средства?
Добровольский. — Видите ли, мои средства были в довольно плохом положении. Но сейчас я имею наследство, полученное мною после смерти тетушки моей Ададуровой, около 40 тысяч.
Смиттен. — Когда это было?
Добровольский. — Я настолько их недавно получил, что по разделу душеприказчиком был мой брат. Бумаги, по которым я должен был эти деньги получить, кроме 10.000, полученных раньше, я имел при себе, когда явился в думу. Затем, 7 марта во время моего пребывания здесь, умерла моя сестра, и, вероятно, после ее смерти я получу 25 тысяч. Затем, мы имеем в Смоленской губ. имение, которое досталось моей жене и которое давало нам возможность жить там с семьею 4–5 месяцев в год и еще кое-какой доход.
Смиттен. — В каком уезде?
Добровольский. — В Смоленском уезде. Там усадьба, дом и 350 дес. земли.
Смиттен. — Значит, наследство от Ададуровой в 40 тысяч еще вами не получено?
Добровольский. — Нет, теперь, вероятно, получено. Я уже дал доверенность моей жене.
Смиттен. — Кроме имения жены — 350 дес. в Смоленской губ. и содержания, вами получаемого по службе, вы не имели никаких других источников?
Добровольский. — 31 декабря я получил 10.000 рублей. Не знаю, все ли министры получили.
Председатель. — Это откуда?
Добровольский. — Я никогда не слыхал раньше об этом. Может быть, это в виду общего затруднительного положения. Может быть, это не в таком размере давалось, не всем одинаково. Но 31 числа явился ко мне чиновник министерства финансов, который мне дал деньги и взял с меня расписку.
Смиттен. — Из сметы министерства двора?
Добровольский. — Нет, я думаю, что из 10-миллионного фонда. Чиновник был министерства финансов.
Смиттен. — Вам приходилось проживать большее количество денег, чем обеспечивает служба?
Добровольский. — Вам должен дать объяснение. Мне, я слышал, ставилась в упрек моя задолженность. Она не была никогда очень значительна, я был человек очень скромной жизни. Вы можете легко проверить это, не выходя из крепости. У меня был товарищ, очень близкий мне человек, известный в судебном ведомстве, А. А. Познанский,[*] когда-то прокурор окружного суда. Этот, мне самый близкий после моих братьев, человек причинил мне очень много горя в смысле материальном, но я и в настоящее время его люблю и сохранил с ним отношения. Даже помогал его сыну и дочери, которые здесь. Он сам живет заграницей. Я считал его безусловно честным и талантливейшим человеком, но он запутался. Получивши довольно порядочное наследство после своей бабушки, он купил большое имение в Уфимской губ., увлекся им и вложил туда довольно много денег. Причем значительная часть была взята под имение, которое ему досталось в Казанской губ. Он выстроил там завод, обошедшийся ему около 2-х миллионов. Тут подошла японская война. Затем, 1905–1906 г.г. Кредиты сузились. Он попал в очень тяжелое положение, и в этом положении несколько близких ему лиц, в том числе государственный секретарь Крыжановский и Пыхачев, должны были ему помогать векселями. Кредит он имел огромный в то время, и вот случился такой момент, когда бюджет его стеснился до чрезвычайности и когда его нужно было выручить. Я настолько стал близкий человек к нему, что решился на это, тем более, что он человек, который не имеет состояния. Мне в обществе взаимного кредита петербургского земства — тогдашний директор этого общества убеждал меня — открыли кредит, и я Познанского выручил.
Иванов. — В каком банке?
Добровольский. — Петроградского уездного земства. Я поручился за него в трех банках. В банке Петербургского общества взаимного кредита — 17 тысяч, если не больше, Торгово-Промышленном банке — 9 тысяч и около 12-ти тысяч в Волжско-Камском банке.
Смиттен. — В котором году?
Добровольский. — В 1905–1906. Вот источник моей задолженности. Я выплачивал понемногу до последнего времени. Познанский потерял все, его взяли под администрацию; он уехал сам заграницу. Его дела сейчас, повидимому, поправляются. Он выстроил где-то какой-то завод. И остался я таким образом, что с меня взыскивали, причем Петроградское общество взаимного кредита поступило со мной бессовестно. Администрация не согласилась 10 коп. за рубль, и с меня продолжала взыскивать рубль с процентами, ссылаясь на то, что там она взяла 30 коп., а с вас надо дополучить. И вот до последнего времени я уплачивал по 100 рублей в месяц на покрытие суммы. В Волжско-Камском банке осталось, вероятно, около 2 тысяч, не больше. Там мне помогал, не знаю, кажется, бывший директор банка Мухин, очень близкий человек к моей семье. В Торгово-Промышленном банке с меня прямо не взыскивали, так как они меня хорошо знали и знали, что долг не мой. Здесь, в крепости, находится Щегловитов, это тоже один из товарищей Познанского, которому известна история относительно моей задолженности. Вы можете легко установить, что в этих пределах меня нисколько не стесняли, что я никогда, ни по одному поводу в неприятном положении не был. На жалованье мое никаких взысканий не было. Никогда описи никакой не подвергался. При этом, должен сказать, что два имения, которые достались моей жене после смерти матери и которые я получил, когда женился, благодаря этой задолженности являлись почти бездоходными…
Смиттен. — Поясните мне пожалуйста, это были ваши вексельные обязательства, вернее, ваши бланки на векселя к Познанскому?
Добровольский. — Сначала, да, а когда он попал под администрацию, нужно было заменить.
Смиттен. — Чем заменить?
Добровольский. — Тогда Посадский принял от меня вместо подписи Познанского подпись г. Годило-Годлевского.
Смиттен. — Это в каком банке?
Добровольский. — В обществе взаимного кредита. А затем, я не знаю, почему-то Годило-Годлевский отказался возобновить свою подпись. Пришлось сделать подпись моей жене. Тут помогло ужасное горе, моя жена заболела очень тяжко, она 3 год была больна, 1½ года почти без сознания. Тогда они приняли какую-то другую подпись, они сами это сделали.
Смиттен. — Сначала была фамилия Познанского, потом Годило-Годлевского, затем вашей жены, а когда она заболела, то заменили другим лицом?
Добровольский. — Очень легко получить справку.
Смиттен. — По течению счета в банке можно установить?
Добровольский. — Я думаю.
Смиттен. — По течению счета Торгово-Промышленного банка, там нет движения?
Добровольский. — Нет.
Смиттен. — А в Волжско-Камском банке?
Добровольский. — Там, вероятно, осталось около 2 тысяч.
Смиттен. — Но там тоже шла замена?
Добровольский. — Да. Там только моей женой.
Смиттен. — Вам приходилось, кроме этой операции, которая выясняется по отношению к Познанскому, обязываться в других кредитных установлениях по другим поводам?
Добровольский. — Да. Видите ли, когда мне нужно было срочно платить в одном из банков, я учитывал небольшие векселя. Пустые векселя. Одна, две, три тысячи, больше трех тысяч обыкновенно не было.
Смиттен. — Была какая-нибудь определенная система или лица, которые давали бланки?
Добровольский. — Нет, только с женой.
Смиттен. — Таким образом, в обращении могут быть векселя либо Годилы-Годлевского, либо Познанского, либо вашей жены?
Добровольский. — Я думаю.
Смиттен. — К настоящему моменту, вы не можете сказать, в портфелях банков находятся ваши векселя и на какую сумму?
Добровольский. — Я думаю, сейчас в Международном банке есть вексель моей жены, около 2 тысяч рублей, по которому я уплачивал тоже частями.
Смиттен. — Вам не приходилось пользоваться услугами лиц, которые могли бы дискредитировать ваше положение?
Добровольский. — Никогда.
Смиттен. — Вы не называли фамилию Макарова, Василия Михайловича. Кто это такой?
Добровольский. — В. М. Макаров? — У меня был еще один товарищ, который умирая мне тоже оставил память. Вексель я ему дал для учета — Плетнев. С Макаровым были какие-то дела.
Смиттен. — Кто этот Плетнев?
Добровольский. — Плетнев был членом горного совета. У него были нефтяные прииски в Вологодской губ., и, когда он умер, мне пришлось за него платить 10 с половиной тысяч. Между прочим, он передал через этого Макарова…
Смиттен. — А Макаров кто был?
Добровольский. — Я не знаю кто. Он мне вручил пай Вологодского товарищества, которого цена была, кажется, 350 руб.
Смиттен. — Векселей Макарову вы не давали?
Добровольский. — Не могу вам сказать наверное, может быть.
Смиттен. — В связи с какими обстоятельствами вы выдали В. М. Макарову в мае месяце 1915 года вексель на 1.000 рублей (показывает Добровольскому документ)?
Добровольский. — В мае, вы говорите; это — первая поездка для лечения заграницу. Очень может быть, что я у него взял. Хотя меня удивляет только, что вексель этот может быть в ходу.
Смиттен. — Я не говорю, что в ходу. Меня интересует, в каких отношениях вы были с Макаровым, когда вы выдали на одну тысячу рублей вексель?
Добровольский. — Я прямо не допускаю возможности. Я думал, что с ним расквитался. Последнее время я его не видал совершенно.
Смиттен. — Но что же это было, что вы у него взяли тысячу рублей, или это было для учета в банке?
Добровольский. — Я не могу сказать. Я получил тысячу рублей; получил ли он по векселю, не знаю.
Смиттен. — А когда, при каких обстоятельствах вы уплатили этот долг?
Добровольский. — Не могу сказать, я думаю, что если я его не уплачу, то он напомнит мне о нем.
Смиттен. — На бланке имеется надпись «В. М. Макаров», а по надписи видно, что уплата произведена некиим Реймером. Кто этот Реймер?
Добровольский. — Не могу сказать.
Смиттен. — Но у вас нет среди служащих близкого лица, которого вы посылали в банк для оплаты счетов, с фамилией Реймер?
Добровольский. — Нет.
Смиттен. — Не можете ли вы объяснить, в каких отношениях вы находились с Симановичем. Вам известно такое лицо, секретарь Распутина?
Добровольский. — О том, что он секретарь Распутина, я узнал, когда был министром. Мое отношение к нему было таково. Симанович явился ко мне еще до войны с просьбой помочь его сыну поступить в политехникум, ссылаясь на то, что ему известны мои отношения с вел. кн. Михаилом Александровичем. Он сказал, что уже хлопотал через других, подал прошение, но до сих пор ответа нет, что мальчик чрезвычайно способный, он даже предъявил мне его аттестат, в котором, между прочим, имелись все пятерки по всем предметам, но, тем не менее, его не принимают, потому что процентная норма, и т. д. Я ему сказал, что справлюсь у великого князя, предприняли ли что-нибудь. Справился у его секретаря. Тот мне сказал, что такое прошение было, но что он не знает, сделано ли что-нибудь, или нет. Затем Симанович пришел ко мне. Я вообще довольно много помогал. Я дал письмо Симановичу, кажется, товарищу министра торговли и промышленности Тимашеву, где просил помочь этому мальчику, поводимому, способному, поступить. Это никакого последствия не имело. Насколько мне помнится, Тимашев ответил, что принимают по конкурсу баллов или по процентной норме, одним словом, его не приняли. Прошло довольно много времени. Однажды, этот самый юноша, уже студентом, является ко мне и заявляет, что когда-то я принял участие в нем, что его прислала ко мне его мать, потому что с отцом его случилось несчастье. Он говорит: отец мой арестован. Как и что? Оказалось, что это был арест по делу Ржевского и что у Симановича было с бумагами отобрано много векселей великого князя Михаила Александровича. Меня это очень взволновало и обеспокоило. Великий князь в это время находился в Англии. Я позвонил секретарю, который управлял всеми делами, он сказал: «Не может быть, я все дела знаю давно. Может быть, когда великий князь жил в Англии без меня, но я этого совершенно не допускаю». Я позвонил прокурору здешнего суда, чтобы проверить в виду того, что указывалось на то, что это имеет отношение к великому князю. Он обещал, и через несколько времени, в тот же день, позвонил и сказал, что это совершенная неправда. Очевидно, на этом они хотели сыграть, чтобы я вступился и помог. Затем, когда я уже был министром юстиции, однажды мне докладывают, что пришел секретарь Распутина. Это меня очень удивило. Является этот самый Симанович с просьбой по делу Рубинштейна. Очень настойчиво говорит, что этим делом заинтересованы очень высокопоставленные лица. Что Рубинштейн обещал чуть ли не полмиллиона за свое освобождение. Что эти деньги должны поступить в пользу его семьи. Говорил он совершенно недопустимым тоном о том, что будто бы (это очень тяжело высказать), что будто бы делом интересуется императрица, хотя я должен прибавить, что дважды видел императрицу за свое министерство и она не говорила совершенно об этом ни одного слова. Я совершенно сомневаюсь в том, что она могла принимать в этом участие. Это, вероятно, кампания около них была. Он даже мне сказал такую фразу: «Вы рискуете тем, что императрица будет вами недовольна». Тогда я его выгнал, причем ему сказал: «Если вы позволите еще где-нибудь сказать что-нибудь подобное на императрицу, то я буду просить министра внутренних дел о высылке вас из Петрограда». Это я сейчас же сообщил моему секретарю и сказал, чтобы впредь его не принимать и не пускать.
Смиттен. — Скажите, пожалуйста, как вы можете объяснить, что на этом векселе под подписью Макарова имеется бланк Симановича?
Добровольский (читает). — Макаров.
Смиттен. — А следующая подпись чья, вы не можете сказать?
Добровольский. — Совершенно незнакомая. Я даже думаю, мне приходит в голову, что очень может быть, Симановича ко мне Макаров направил. Может быть, они раньше были знакомы.
Смиттен. — Как вы поняли обращение к вам Симановича, когда вы были министром, с упоминанием о том, что Рубинштейн может уделить на благотворительные цели 500.000?
Добровольский. — Трудно сказать. Мое положение было такое, мне казалось, если я дам ему сказать еще что-нибудь, то он способен мне предложить.
Смиттен. — Ну, а знакомство ваше с Распутиным. Вы были лично знакомы?
Добровольский. — Я его раз в жизни видел. Это было или до войны или в начале войны, точно не припомню. Я сидел и занимался. Мне говорит человек, что звонят по телефону и просят принять. Я собирался уходить или я занимался, и сказал, что никак не могу, что прошу прийти ко мне завтра. Фамилию не сказали, но так как это было на другой день, я торопился и не спросил. Через несколько времени опять приходит курьер и говорит, что господин просит настойчиво, чтобы приняли сегодня, потому что он вечером уезжает. Тогда я сказал, чтобы приезжали скорей.
Председатель.— А у вас добивались аудиенции определенно для Распутина?
Добровольский. — Совсем никакой фамилии не было сказано.
Председатель. — Это было у вас на квартире, но разве вы принимаете так неизвестных?
Добровольский. — Я исполнял известные обязанности. Я никогда не принимал. Это меня наводит на мысль, что это было, когда я был обер-прокурором 1-го департамента, потому что, кажется, так это было, — я сказал на другой день, а другой день оказался неприсутственным. Я никогда не принимал по делам дома, потому что никаких справок под руками не могу иметь. Сказал, что завтра в Сенате; когда позвонили второй раз, что завтра день неприсутственный, тогда я сказал, пусть приезжают сюда. Проходит с час времени. Звонок. Человек входит и говорит: «Господин, которому вы разрешили, приехал». Входит ко мне Распутин. Я его узнал сейчас же, потому что видел его портрет на выставке во весь рост. Он мне говорит: «Вы меня не знаете». «Нет, говорю, я вас знаю». «Вы, наверное, обо мне очень много дурного слышали?»
Председатель. — На вы, или на ты?
Добровольский. — На ты… «Но я дурного ничего не делал. Я занимаюсь исключительно добрыми делами. Я слышал, что вы делаете много добра, и решил обратиться к вам». И обратился ко мне с просьбой благотворительного характера, чтобы помочь определиться молодому студенту, у которого на руках разбитый параличем отец. Я предложил ему сесть. Он произвел на меня очень оригинальное впечатление.
Председатель. — Хорошее?
Добровольский. — Я скажу — ненормального человека. Он все время оборачивался, не смотрел в глаза, говорил переходя с предмета на предмет. Если бы меня спросили, о чем шла речь, я бы не мог повторить. Затем он встал и просил меня непременно быть у него. Я к нему не поехал. Мои отношения к Распутину я считаю необходимым вам выяснить так, как я понимал это положение. Когда я приехал, в 1914 году, в Англию к Михаилу Александровичу, в это время пришла как-то почта, среди которой был последний номер «Нового Времени», где сообщалось о том, что рана, нанесенная Распутину этой женщиной, оказалась неопасной. После обеда, когда мы сели просматривать газеты и когда прочитали, то все в один голос вскрикнули: «Какое несчастье!» — Это была бы развязка для всех желательная. Затем, когда Болгария объявила нам войну, я встретился с одним русским врачем, который только что вернулся из Болгарии, и он, между прочим, рассказывал, что он не только слышал, но в руках своих держал манифест или один из манифестов об объявлении войны Болгарией, который начинался словами: «распутинское правительство объявило нам войну». Это произвело на меня такое впечатление, что я сейчас же позвонил в Гатчино Михаилу Александровичу — не могу ли я к нему приехать. Я к нему поехал и застал у него великого князя Александра Михайловича. Там под этим впечатлением я, помню, сказал, что положение совершенно невозможное, невыносимое, и надо, чтобы государь об этом узнал. Неужели никто ему никогда об этом не скажет? Оба они были очень взволнованы, и Михаил Александрович сказал, что он будет с ним говорить. Говорил он тогда или нет — я не знаю, но впоследствии, когда разговор зашел (это было после убийства Распутина, когда Александр Михайлович приезжал ко мне по поводу следствия, к которому имел отношение его beau fils — Юсупов), то я говорил: «Неужели царская семья не могла уберечь государя от такого положения?» Великий князь Александр Михайлович сказал: «Никто не решался говорить». — «А как же Михаил Александрович?» Он отвечает: «Да, Михаил говорил, но не имел на него влияния». Вот, как я относился к этому положению. Я сейчас глубоко убежден, что все то, что говорилось, что вешалось на императрицу дурного, что она сознательно участвовала в дурных и грязных делах, думаю, это неправда, но антураж там был ужасный.
Смиттен. — Вы утверждаете, что вы видели Распутина один раз, когда были обер-прокурором 1 департамента?
Добровольский. — Думаю, что это было в 1914 году.
Смиттен. — А квартиру Распутина вы никогда не посещали?
Добровольский. — Я не хотел об этом говорить, потому что я не хотел называть лицо, которое, может быть, мне не следовало бы называть. Я думаю, по вопросу, который вы мне раньше ставили, — не участвовал ли кто-нибудь в моем назначении, думаю, что не ошибусь, если скажу, что делались попытки меня связать, так сказать, до известной степени, и вот, что меня на это наводит.
Смиттен. — Что значит связать?
Добровольский. — То-есть к известной компании, к Распутину меня притянуть, как-нибудь дать мне понять, что благодаря им, что ли, я достиг известного положения, чтобы этим иметь возможность меня использовать. Я сейчас скажу. Я думаю, что это было в ноябре или в начале декабря, мне говорит, однажды, Протопопов: «Вам бы нужно поехать к императрице». Я спрашиваю: «Почему?» — «Да так, — говорит, — нужно поехать». Я на это говорю, что в прежнее время я бывал у императрицы очень часто и даже своих детей возил к ней, но с 1911 года она перестала принимать и поехать к ней уже не было никакой возможности. Я мог только представляться по случаю какого-нибудь назначения или получения награды. Однажды мне звонит по телефону дама, которую я светски немножко знал и которая имеет известное положение. Ее близких я знаю. Я очень стесняюсь; может быть, можно ее не называть.
Председатель. — Я думаю, наши вопросы не вызываются любопытством. Мы хотим исследовать некоторые действия, и мне казалось бы, что вам не надлежало бы ставить эти вопросы, потому что есть интересы более важные, чем имя какой-то дамы.
Добровольский. — Звонила мне г-жа Головина, племянница графини Палей.[*]
Председатель. — Та, которая близка к Распутину?
Добровольский. — Да. Так вот, звонит она мне по телефону и говорит: «Вам бы следовало поехать к императрице». Почему Головина? Почему мне поехать к императрице? Я ей говорю то же самое, что и Протопопову.
Председатель. — Вскоре после Протопопова вам звонила Головина?
Добровольский. — Несколько дней прошло. Я думаю, это было около 10 декабря, одним словом, после 6 декабря. Я не помню, когда уехал государь, но это было после его отъезда. Я ей говорю, что это невозможно, что если бы императрице было желательно, она могла бы мне назначить прием. Затем, на следующий день или через день, мне опять звонит по телефону Головина и говорит: «Ваша поездка в Царское безусловно необходима, кто-то из ваших врагов сделал вам крупную гадость, и государю доложили о вас что-то нехорошее. Это может вам повредить, вам нужно непременно видеть императрицу». Я спрашиваю: «Почему, что такое могли обо мне доложить?».
Председатель. — По какому поводу вдруг государю сообщили какую-то гадость?
Добровольский. — Другого ничего не было, кроме того, что государь сказал, что я назначен членом государственного совета.
Председатель. — Когда это было?
Добровольский. — 26 ноября, в день Георгиевского праздника.
Председатель. — В связи с тем, что он видел вашу деятельность по Георгиевскому комитету?
Добровольский. — Я думаю, не только это. Я не знаю, в каких выражениях говорил Михаил Александрович, но я в объяснении писал о том, что Михаил Александрович предложил это сам.
Председатель. — Вы меня простите, но в ваших объяснениях есть некоторая неполнота. Вы даете показания, например, об обстоятельствах назначения вас на пост управляющего министерством юстиции, и нам хотелось бы, чтобы вы по собственной инициативе сказали, что вы знаете, а вы сперва ждете, знаем мы или нет.
Добровольский. — Я только относительно Головиной стеснялся сказать.
Смиттен. — Нет, например, относительно Распутина.
Добровольский. — Это было в связи, поэтому, я не мог тоже сказать. Я заявляю честью, что я никогда ни с кем, кроме государя, о моем назначении разговоров не имел. Клянусь моей жизнью и всем. Если кто-нибудь мог подсказать там, мог принять участие, — так этого я знать не могу и за это отвечать не могу. Но со мной у них разговора об этом не было. Это я положительно утверждаю. Во всей этой истории я усмотрел как бы желание притянуть меня к этой компании. Мне говорят такую вещь, — с чем это может быть связано? Мне это в голову не приходило. Меня это ошарашило.
Председатель. — Вас ошарашил разговор с кем?
Добровольский. — С Головиной. Представьте себе, что про вас за спиной скажут и вы даже не имеете возможности оправдаться. Что мне «непременно нужно видеться». Это было утром, числа я не помню, около 10 декабря. Мне было сказано: «Я сейчас высылаю вам автомобиль, приезжайте». Мне дается адрес Распутина: Гороховая, не помню номер. «Я вас встречу». Я был в большом затруднении. С одной стороны — ехать к Распутину, с другой стороны — допустить возможность распустить про меня гадость. В конце концов решил поехать. Приезжаю туда. Меня Головина встретила.
Председатель. — Кого вы у Распутина застали, кроме Головиной?
Добровольский. — Девочка какая-то была, дочь, кажется, я не знаю. В тот же день или на другой я получил по телефону приглашение ехать в Царское. Мне был дан адрес: Церковная 4 или 6. Я не знаю, что это такое. Поехал туда.
Смиттен. — Кем был дан адрес?
Добровольский. — Мне говорил скороход его величества. Я приехал туда, сейчас не могу сказать, что это было такое — лазарет или частная квартира. Если частная квартира — то, вероятно, квартира Вырубовой. Я вхожу туда, вижу дама, которую я никогда в глаза не видел. Это была г-жа Вырубова. А сбоку стояла ширмочка. Из-за этой ширмочки встает сестра милосердия, делает шаг в мою сторону, протягивает руку, и я узнаю императрицу. Она принимает меня очень любезно, говорит о разных вещах, о том, что она столько лет меня не видела, расспрашивает меня про семью, — одной из дочерей моих, которая ребенком прекрасно играла на скрипке, она интересовалась. Затем говорит о Михаиле Александровиче, о его жене, и ни одного слова ни о каком деле. Так прошло 15–20 минут, потом она опять протянула руку, и я уехал. Уже выходя от нее, я не мог не сопоставить того, что мне говорили о том, что будто бы мне необходимо ехать, чтобы снять с себя какое-то обвинение и ради этого меня, так сказать, заманили туда. Потом уже, когда наслаивалось дальнейшее, когда ко мне по разным делам и, между прочим, по делу Сухомлинова и Рубинштейна, являлись какие-то сестры милосердия, разные лица и высокопоставленные дамы и все ссылались на императрицу, — у меня сложилось такое впечатление, что меня просто на этом изловили, и второй раз, когда я видел императрицу (по назначении), она ни одного слова со мной не говорила. Я скажу больше. Меня до такой степени это взволновало, что я государя спросил: «Ваше величество, у меня был момент, когда я думал, что какие-то враги меня в чем-то перед вами очернили или обвинили». — «Никогда, ничего подобного.» Результат всего — у меня было впечатление, что меня просто туда заманили для того, чтобы потом на этом сыграть, но увидели с первого шага, что они ошиблись.
Председатель. — Через сколько времени после вашего визита к Распутину вы увидели в квартире Вырубовой бывшую императрицу?
Добровольский. — Теперь трудно сказать. Я думаю, через несколько дней.
Председатель. — К чему сводился ваш разговор с Распутиным в этот раз?
Добровольский. — С ним у меня не было разговора. Он всегда говорил что-то такое…
Председатель. — Но вас вызвали, стало быть, имели к вам какое-нибудь дело?
Добровольский. — Головина была там, и с ней я говорил.
Председатель. — А с Распутиным говорили мало?
Добровольский. — Может быть, он что-нибудь и сказал, но я не помню. Он постоянно отдельные слова бросал, но я положительно удостоверяю, что никакого разговора не было.
Председатель. — Он говорил «ты» или «вы»?
Добровольский. — «Вы».
Смиттен. — Известна вам теперь связь вашего вызова в Царское с назначением министром?
Добровольский. — Я не знаю.
Смиттен. — Вы доложили при свидании императору, когда он вызвал вас для предложения вам поста министра, о том, что были вызваны императрицею и имели с ней беседу?
Добровольский. — У меня не было разговора с ней о моем назначении.
Смиттен. — Так что об этом свидании с императрицею вы государю не сказали?
Добровольский. — Я совершенно искренно вам написал в прошлый раз, что для меня было совершенно неожиданно, когда государь сказал мне о назначении.
Смиттен. — Значит, ни с Головиной, ни с Распутиным о предполагаемом назначении вас министром никаких разговоров не было?
Добровольский. — Не было; больше я никогда в квартире Распутина не был и его не видел.
Смиттен. — В связи с вашим назначением на пост министра юстиции, вам пришлось принять личное участие в судьбе некоего Нахимова. Будьте добры, скажите, какие именно обстоятельства остановили ваше внимание на этом деле?
Добровольский. — Я это дело помню, когда я писал объяснение, я о нем не вспомнил, но потом уже вспомнил, что, сидя в павильоне в думе, прочел в какой-то газете, кажется, в «Известиях Рабочих Депутатов», что мне ставится в обвинение это дело. О нем я скажу по порядку, как было. Ко мне его направил очень близкий человек, Адам Ржевуский, который был начальником Терской области. Нахимов явился ко мне с письмом от него. Имел я, кроме того, письмо, тогда же предъявленное мне или потом полученное, от генерала Шатилова, тоже бывшего управляющего областью.
Смиттен. — Это не бывший помощник наместника на Кавказе?
Добровольский. — Думаю, что да. Нахимов мне представил копии, какие-то прошения. Тогда еще дело в сенате не слушалось. Я обратил внимание, что он обвинен, насколько помню, в том, что по его подстрекательству чиновник удостоверил дату явки доверенности. Причем такая специальная доверенность требовалась впервые. Раньше этого не было. Я тогда уже довольно значительно отстал от практической судебной деятельности, так как я с 1896 г. ушел в администрацию и уже не возвращался к этой деятельности. Но в мое время, несомненно, подстрекательство к должностному преступлению не преследовалось. Основанием к этому служило то, что это есть своеобразное преступление, которое может быть совершено только должностным лицом, и частное лицо отвечает в том случае, если должностное лицо совершило при участии его общее преступление. Тогда они обвиняются в соучастии. В то время была такая практика. В дальнейшем, я получил подтверждение этого мнения, потому что был членом комиссии прокурорского надзора петроградской судебной палаты при рассмотрении проекта нового уложения о должностных преступлениях. Но я отстал от этой практики и помню то, что было в мое время. Я обратился к сенатору Чебышеву, который был в присутствии, где рассматриваются должностные преступления, и просил мне сказать его мнение. Он сразу сказал то же самое, что и я думал. Затем я говорю: «Ты поговори с кем нибудь в сенате».
Председатель. — Когда вы обратились к сенатору Чебышеву?
Добровольский. — До назначения меня на пост министра. Он мне через несколько дней дает ответ (выписал мне на бумаге), где устанавливает, что действительно в теории права по нашему законодательству ответственность не падает на частных лиц; но прибавил, что в последнее время сенат иногда отклоняется. Таким образом, мне представилось, что здесь есть то, что покойный обер-прокурор 2 департамента, профессор Неклюдов, называл кассационным преступлением, т.-е., что преступление это не предусмотрено законом, а по аналогии теории уголовного права распространяется по толкованию.[*] Нахимова близко знали такие лица, как Шатилов и Ржевуский; я не помню теперь, к кому я позвонил в министерство; я просил обратить внимание на это дело, указав, что, по моему мнению, тут как будто состава преступления нет. Так дело и оставалось. Когда я был назначен министром юстиции, ко мне опять явился Нахимов. Тут мне доложили дело; оказалось, между прочим, что поступила масса всяких ходатайств за него от разных учреждений, от разных гимназий, благотворительных учреждений, затем телеграммы городского управления, кажется, гродненского,[*] с ходатайствами за него. Затем мне доложил вице-директор Н. Н. Чаплин, что по этому делу имеется ходатайство императрицы через Ростовцева.[*] Я доложил государю. Нужно сказать, что вопросами об обвинениях при отсутствии состава преступления я бы был заинтересован. Я имел перед глазами такой случай: доктор, медицинский инспектор в Смоленске, обвинялся в том, что признавал людей негодными к военной службе за деньги. Когда дело началось, он сознался в этом и назвал целый ряд лиц; одного назвал, кажется, Яншин. Этот господин был признан негодным к военной службе, поступив вольноопределяющимся (значит, не по набору, а в госпитале), и он был отослан. Когда началось это дело, то хотя прошло два года, но в виду того, что было преступление, все были переосвидетельствованы. Его также переосвидетельствовали и опять признали негодным. Тем не менее, когда привлекли этого доктора, то он в числе освобожденных лиц признал Яншина, и, представьте себе, хотя этот господин был негодным, все равно он был осужден. Затем, не знаю, чем это кончилось. Он подавал прошение на высочайшее имя о помиловании. Выходило, таким образом, что люди, подстрекая и подговаривая, платят за то, что правительство имеет в своем распоряжении негодных агентов. Вот почему я возбудил вопрос. Я предложил в уголовном департаменте министерства юстиции разработать законопроект, который допускает жалобы на отсутствие состава преступления. Сейчас можно жаловаться только на постановление судебного следователя в окружный суд, а на окружный суд — палате, дальше жалобы не допускаются, тогда как на самом деле, очевидно, палата может так же ошибаться, как может ошибаться и окружный суд и судебный следователь. И практика это показывает, потому что неоднократно сенат кассировал приговоры, где не было состава преступления.
Смиттен. — Вы считали для себя, как министра юстиции, возможным в путях монаршего милосердия исправлять незаконные, по вашему мнению, решения в трех инстанциях суда. В такой мотивировке, о которой вы говорите, исходатайствованная милость равносильна исправлению явного беззакония, сделанного сенатом. По данному делу вопрос был решон тремя инстанциями суда.
Добровольский. — Да ведь все же представляют на помилование.
Смиттен. — Я хочу получить ответ на вопрос: разве в путях монаршего милосердия вы, в юридических основаниях и обстоятельствах дела, ищете решения этого вопроса?
Добровольский. — Я не помню, как доклад был написан, но здесь играло роль отсутствие всякого вреда от этого, потому что сам документ был признан подложным. Так что этим воспользоваться нельзя было, значит, вреда не было.
Смиттен. — Позвольте еще подробно остановиться на одной стороне. Богатый человек за деньги подговаривает мелкого чиновника составить подложный документ в свою пользу. Нахимов крупная фигура, о нем пишут.
Добровольский. — Я даже не знаю, богатый ли он человек.
Смиттен. — Положим, что бедный, но он защищает свои крупные интересы. Он подговаривает за крупную сумму маленького чиновника составить доверенность.
Добровольский. — Не составить доверенность, а засвидетельствовать.
Смиттен. — Совершить подлог, все равно. Вы считаете, что с точки зрения нравственной бесспорно, что Нахимов менее виновен, чем тот чиновник. Вы ходатайствуете о помиловании Нахимова, а по отношению к тому чиновнику вы не возбуждаете вопроса о помиловании, хотя доверенность оказалась подложной и ничего вредного не произошло.
Добровольский. — Тот, несомненно, виноват. Он мог этого не сделать. В этом же и заключается весь строй этой мысли. В этом отношении я был, как посторонний человек: тогда был Чебышев, и при докладе я никаких возражений по этому поводу не встретил.
Смиттен. — Не докладывал ли вам Лядов и не было ли составлено записки, что спор сводился к вопросу о квалификации преступления?
Добровольский. — Никаких записок не было. Я хотел сказать, что, между прочим, — не помню, в этом докладе, или в другом, — было дело такого рода: осуждена была целая компания в Курской губ., чуть ли не в Брянском уезде, под названием «пиковые валеты». Это была все молодежь, студенты, гимназисты, какие-то барышни, которые составили компанию для экспроприации с политическим характером и ходили по магазинам. По их делу точно так же был приговор, затем ходатайство о смягчении участи, а государю я доложил, что хотя преступление судом признано, тем не менее, есть основание для помилования. Они были освобождены от наказания.
Председатель. — Кто ходатайствовал за них? Суд?
Добровольский. — Суд.
Председатель. — А кроме суда?
Добровольский. — А вот не помню, кажется, никто.
Председатель. — Яншин тоже помилован?
Добровольский. — Я думаю, нет; я бы знал.
Смиттен. — Позвольте мне продолжить вопрос. Следовательно, вы говорите, что Лядов вам не докладывал, доклад впервые был представлен Чаплиным и оставлен в благоприятном смысле, без вашего указания?
Добровольский. — Беседа была.
Смиттен. — Разрешение дела было благоприятно для Нахимова?
Добровольский. — Я все подробно доложил государю.
Смиттен. — До того, как вы были назначены министром юстиции, все ваше участие в деле заключалось в том, что, выслушав просьбу ген. Шатилова, вы переговорили об этом с сенатором Чебышевым?
Добровольский. — Я проверил мое мнение.
Смиттен. — Не обратились ли вы с просьбой в министерство юстиции задержать это дело? Не предупреждали ли вы, что будет просьба о помиловании?
Добровольский. — Я даже не знаю, когда Нахимовым был подано прошение.
Смиттен. — Значит, вы впервые узнали, вступив в должность?
Добровольский. — Да.
Председатель. — Вы твердо помните, что до назначения вашего министром юстиции вы не знали об этой, по вашему мнению, несправедливости, причиненной судом Нахимову?
Добровольский. — Т.-е. как? Я не могу вам сказать, состоялось решение сената до или после этого.
Председатель. — На вопрос о том, не знали ли вы до вашего назначения об этом деле, вы отвечаете отрицательно?
Добровольский. — Да.
Смиттен. — Вам не было известно, что в решении этого дела, в смысле искания путей в Царском Селе для благоприятного разрешения, близкое участие принимает Распутин?
Добровольский. — Нет. Было письмо Ростовцева,[*] секретаря императрицы.
Смиттен. — Письмо Ростовцева[*] могло быть ответом на просьбу. До вашего назначения министром Нахимов к вам не обращался лично и вам никто не передавал?
Добровольский. — Никто.
XXVI. Допрос И. Г. Щегловитова. 24 апреля 1917 г.
Содержание: Политические взгляды Щегловитова. Характеристика кабинета Горемыкина 1906 г. Программа Щегловитова при назначении его министром юстиции. Восторг Щегловитова от 17-го октября и разочарование. Щегловитов и правосудие. Отношение к процессу «выборжцев» и к введению полевых судов. Об уставах 1864 года. Политика и личный состав судебных учреждений. Основная идея Щегловитова — синтез законности и охранительной политики. Отношение к народному представительству. О политической целесообразности и законности. Министр юстиции — лишь передаточная инстанция. О процессе с.-д. фракции 2-й государственной думы. О подложности документов. О провокаторе Шорниковой. Щегловитов и несменяемость судей. О некотором давлении на принцип несменяемости. Эпизод с увольнением Николича (товарища прокурора в Симбирске). Прекращение дел, начатых судом. Политические соображения. Признание опасности для правосудия. Мотивы прекращения дела Дашнакцутюн и Дубровина. Отношение к правым группам. О политическом течении того времени. Председательствование на съезде правых. Характеристика этих правых. Одна из больших ошибок Щегловитова. О помиловании лиц, преступления коих «сделаны по вражде к евреям». Эпизод с выборами в 4-ю государственную думу от Нижнего-Новгорода. О циркулярных письмах к правым организациям на местах. Дело об убийстве Герценштейна. Дело об убийстве Караваева. Испрашивание помилования для полицейских, осужденных за истязание и убийство. Политика и правосудие. О прокурорах Благовещенском и Крестьянове. Министр юстиции и администрация на местах. Об истязаниях в сыскном отделении в Риге. Причина перемещения Максимовича (старш. председ. петербургской суд. палаты). Вопрос о ревизорах, назначаемых министром юстиции для наблюдения за ходом политических процессов. Личные указания министра. О закономерности посылки ревизоров. Строгость приговоров. О контроле над судьями и их приговорами со стороны ревизоров. Закон в широком смысле. Повышение судебной санкции. О переводе прокурора Войткевича из Кашина. Кондуитные списки судей. Неблагонадежность лиц польского происхождения, католического исповедания. О «засорении суда поляками». Увольнение Шаланина (прокурора владим. суда). «Евреям судебная деятельность не по плечу». Перевод из Митавы прокурора Шабловсксго. О следователе Золотницком. О следователе Бувайлове. Изменение устава военно-медицинской академии. Щегловитов и сенат. Отношение к уголовному кассационному департаменту сената. О С. М. Зарудном. Систематическое назначение новых сенаторов в 4-е отделение кассационного департамента. Назначение Бахтиарова[*] по просьбе Крашенинникова. Откладывание дел до нового состава присутствия. Дело о сенаторе Иванове. Удаление из Москвы старшего председателя палаты Арнольда. Дело Бейлиса. Всеподданейшая записка Щегловитова по делу Бейлиса. Признание «смелыми» утверждения всеподданнейшей записки. Признание незакономерности в дознании. Сношения с департаментом полиции. Обращение за содействием в министерство внутренних дел. Выдача денег Пранайтису и Косоротову. Об эксперте Пранайтисе. Беседы с Замысловским. Выбор обвинителя. Наблюдение за присяжными. Награждение судей. Приветственная телеграмма «героям процесса». Отношение Щегловитова к постановке обвинения и к экспертизе Пранайтиса. Случаи нарушения несменяемости судей. Дело Кочубея. Дело члена виленской палаты Зегница.
* * *
Председатель. — Комиссия в настоящем заседании находится не в полном составе, вследствие отсутствия товарища председателя Комиссии, сенатора Иванова, от которого поступило отношение, где он заявляет о следующем: «В 1909 году последовал высочайший указ об освобождении меня от присутствования как в департаменте правительствующего сената, так и в общих его собраниях. Принимая во внимание, что в устранении меня принимал ближайшее участие бывший в то время министром юстиции Щегловитов, я не считаю возможным участвовать в расследовании противозаконных по должности действий г-на Щегловитова и, в частности, на его допросе. Товарищ председателя сенатор Иванов». Это заявление товарища председателя принимается к сведению Комиссией. Иван Григорьевич, прежде чем приступить к соответствующим действиям, Комиссия хотела бы услышать ваши объяснения по некоторым обстоятельствам, которые Комиссию интересуют. У нас есть несколько намеченных вопросов. Вы совершенно свободны в ваших объяснениях и можете давать их по собственному плану. Но может быть вам будет удобнее по намеченным нами вопросам давать ваши объяснения?
Щегловитов. — Я думаю, что это, конечно, было бы лучше.
Председатель. — Вы назначены были министром юстиции 24-го апреля 1906 года, при этом вы вошли министром юстиции как в кабинет Горемыкина, так и в сменивший его кабинет Столыпина.
Щегловитов. — Совершенно верно.
Председатель. — Так вот, может быть, вы будете добры сообщить вкратце, при каких условиях вы вступили как в тот, так и в другой кабинет? Повидимому, по своему направлению эта были два весьма отличных один от другого кабинета, как отличны были в некоторых отношениях и председатели этих кабинетов, между тем, министр юстиции оставался один и тот же… Что вы можете сказать относительно тех условий, при которых вы вступили в первый кабинет Горемыкина, а затем нашли возможным оставаться и в следующем кабинете — Столыпина?
Щегловитов. — Я затруднился бы характеризовать кабинет Горемыкина, потому что это был кабинет, который, мне помнится, образовался совершенно случайно. Я потому употребляю это выражение «случайно», что, как мне известно, от покойного министра юстиции, моего предместника, Акимова, собственно ему было предложено быть председателем совета министров, именно в тот период, который, может быть, неделей-двумя не более того, отделял правительство от созыва первой государственно думы. Слышал я это от покойного Акимова и потому позволю себе это удостоверить. Акимов категорически отверг предложение, сославшись, как он мне передавал, на то, что он считает себя совершенно неподготовленным к такого рода обязанностям и не сочувствует тем переговорам (с партией к.-д.), которые в то время происходили. В конце концов ему был предложен вопрос, кого же он мог бы рекомендовать на эту должность, — и он назвал Горемыкина, который, затем, и выразил согласие принять назначение. И вот, помнится мне, приблизительно за неделю перед датой созыва думы, т.-е. перед 24 апреля, ко мне в один прекрасный день, совершенно неожиданно, утром приехал А. А. Хвостов, который впоследствии, в 1915 г., меня заменил. А. А. Хвостов тогда занимал, подобно мне, должность товарища министра юстиции. Хвостов передал мне, что он только что от Горемыкина. Нужно сказать, что с Горемыкиным он был связан очень хорошими, давними отношениями. На мой вопрос: что же? Почему он ссылается на Горемыкина? Он говорит, что имеет от него полномочие передать мне желание Горемыкина в тот же день, около 5–6 часов вечера повидаться со мной. На мой вопрос: для какой цели? — он мне сказал, что это должно составлять пока большой секрет, но от меня он этого скрывать не будет: суть была в том, что речь шла о назначении меня министром юстиции.
Председатель. — Это внешняя сторона. А нас больше интересует внутренняя сторона дела. К вашему рассказу будьте добры присовокупить объяснения о вашей первоначальной программе, как министра юстиции, и тех последующих переменах, которые в этой программе произошли: когда произошли эти перемены и почему?
Щегловитов. — Внешняя сторона события, о которой я не буду дальше распространяться, закончилась моим назначением. Было объяснение с Горемыкиным, которое, собственно говоря, существа вопроса совершенно не касалось. На мой вопрос: что же мы должны делать? — он сказал: мы это обсудим, об этом потолкуем… Но, так это и осталось совершенно открытым. Очутившись в положении человека, намеченного на должность министра юстиции, я себе задал вопрос: какова же должна быть дальнейшая деятельность министра юстиции? — и здесь оказалось, что министр юстиции должен будет посвятить все свои силы выработке тех законопроектов, которые уже, так сказать, самой жизнью были намечены. Вот в этом я, прежде всего, видел задание, которому должна была соответствовать предстоящая мне деятельность; затем, в отношении судебной деятельности, — поддержание ее на той высоте, которая требуется судебными Уставами 1864 г. Вот те главные основания, какими определялась, с моей точки зрения, предстоявшая мне деятельность. Что касается вопросов широкой политики, то они оставались вне моего ведения.
Председатель. — Как же понять ваше утверждение: вы считаете, что ваша программа была одинакова как при первой думе, так и в период реакции, которая шла под знаменем Столыпина?
Щегловитов. — Я считаю, что, в сущности говоря, это было так.
Председатель. — А ваши общие политические взгляды претерпели некоторые изменения или нет?
Щегловитов. — Я бы сказал, что до известной степени — да. Изменение произошло в период существования первой думы. Я принадлежал к числу людей, которые, могу сказать, не только радовались, но приходили в восторг от последовавших 17-го октября изменений государственного устройства и, затем, от осуществления этих изменений, в виде созыва первой думы 27-го апреля. Но затем, не скрою, некоторое разочарование пришлось испытать, потому что те ожидания, которые у меня были, оказались не вполне оправдавшимися, а работа законодательная, как известно, не налаживалась. Это обстоятельство возбудило во мне известного рода разочарование.
Председатель. — Вы были в восторге от созыва первой думы, т.-е. вообще от акта 17-го октября и от обновления строя. Но первая дума открылась требованием амнистии. Какое же было ваше отношение к этому требованию?
Щегловитов. — К этому мое личное отношение было крайне сдержанным. Я находил, что это было преждевременно, именно потому, что я был непосредственный автор того указа, который последовал 21-го октября 1905 года относительно дарования облегчения всем государственным преступникам, как они назывались в то время (пострадавшим за их деятельность в предшествующий период). Надежды на то, что этот указ 21 октября внесет значительное успокоение, не оправдались. Напротив, получился как будто противоположный результат. Это тоже было источником значительного, с моей стороны, разочарования и заставило меня к вопросу об амнистии не относиться с тем сочувствием, которое я первоначально проявил.
Председатель. — Так что эта перемена вашего взгляда произошла в период, предшествовавший открытию первой государственной думы?
Щегловитов. — Я говорю по частному вопросу — об амнистии.
Председатель. — Затем, значит, наступили дальнейшие события — после роспуска первой думы? Какова была позиция министра юстиции по отношению к создавшимся тогда процессам, затем, в дальнейшее время, — к введению полевых судов?
Щегловитов. — Я принимал участие во всех этих действиях правительства.
Председатель. — И относились положительно как к постановке процесса членов первой думы, так и к введению полевого суда?
Щегловитов. — Это — да.
Председатель. — Как вязалось это с поддержанием судебной жизни в стране на той высоте, которая требуется Уставами 1864 года?
Щегловитов. — Эта идея полевых судов принадлежала Столыпину и признавалась как бы государственной необходимостью: жизнь настолько оказалась взбаломученной, что пока не будет достигнуто, как выражался покойный, известного успокоения в этой области, нельзя…
Председатель. — Значит, поддержание правосудия в стране на той высоте, которая требовалась Уставами 1864 года, — это мыслилось министерству юстиции, как программа, которая годна только в некоторые периоды жизни, а в другие должна быть отброшена?
Щегловитов. — Жизнь в тех условиях, в которых она протекала, на мой взгляд, давала такие указания.
Председатель. — Но что же делало министерство юстиции для проведения в жизнь начал 1864 года, для поддержания на высоте судебных Уставов?
Щегловитов. — Прежде всего, министерство юстиции, по крайней мере в моем лице выступало в первой государственной думе с заявлением, которое коротко может быть выражено, в смысле своего содержания, так: нужно, прежде всего, заботиться об устройстве местного суда. Никаких свобод не касались, о них не могло быть и речи, ибо не было тех органов на местах, которые были бы ближайшими хранителями всех народных свобод. Вот что было заявлено, и это для меня представлялось совершенно непреложным положением.
Председатель. — Это — мысль о некотором распространении суда. Но в тех областях, в которых суд уже существовал, какие меры принимались, чтобы поддержать его на высоте Уставов 1864 года, а не свести его, наоборот, с этой высоты, даже в тех случаях, когда он на этой высоте оставался?
Щегловитов. — В этом отношении какие же меры могли приниматься? — только подбор личного состава…
Председатель. — Какой же был критерий в подборе личного состава?
Щегловитов. — В подборе личного состава критерий был один — подбирать людей более твердых, более монархически настроенных, которые являлись бы хранителями того строя, который тогда существовал.
Председатель. — Но мне кажется, твердость монархических начал и охранение строя, это — задача политики, между тем, задача судьи должна быть определена, как охранение законности. — Не правда ли?
Щегловитов. — Несомненно.
Председатель. — Так что критерий при выборе судей был, как вы говорите, — твердость, монархическое настроение и охранение строя… Ведь вы не раз выступали в государственной думе, как в первой, так и второй и в последующих. И что же, во время этих выступлений ваше внимание обращалось на необходимость не делать в своих речах утверждений, расходящихся с истиной?
Щегловитов. — Само собой разумеется.
Председатель. — Вы не помните случаев, когда бы ваши выступления не соответствовали таким заданиям, т.-е. когда ваши речи противоречили бы действительности? Позвольте вам поставить конкретный вопрос: вы помните вашу речь относительно перевода черниговского прокурора Ющенко?
Щегловитов. — Насколько помнится, я вероятно сказал, что нелады с губернатором были причиной этому…
Председатель. — Нас интересует не вопрос о неладах с губернатором, а ваши объяснения по вопросу о том, насколько этот перевод черниговского прокурора Ющенко был вынужден и насколько он зависел от доброй воли самого прокурора. Вы не помните этого вашего выступления?
Щегловитов. — Нет.
Завадский. — Насколько мне припоминается стенограмма вашей речи, вы утверждали, что сам Ющенко желал перевода в Харьков, но ему можно было предоставить пост товарища прокурора палаты, а вы предоставили пост товарища прокурора суда, т.-е. понизили его, хотя и дали желательный ему город: по крайней мере, так в отчете государственной думы была изложена ваша речь…
Щегловитов. — Если это было изложено так, то я должен сказать, что это не совсем верно…
Завадский. — Может быть, вы тогда скажете, как было в действительности, — почему он был переведен?
Щегловитов. — Он был переведен вследствие письма губернатора Маклакова, который указывал на совершенную для него невозможность действий после того, как (кажется, в заседании одного из губернских присутствий, в котором участвовал прокурор в качестве члена) вышло между ними разногласие: прокурор суда был против мнения, которое отстаивал губернатор. Затем дело было решено, кажется, согласно мнению прокурора, и прокурор всюду в городе об этом рассказывал, что чрезвычайно дискредитировало, по заявлению губернатора, его положение и делало это положение крайне затруднительным… При этом он ссылался на то, что это уже не первый случай такого рода выступлений со стороны прокурора против губернатора, и просил меня возможно скорее устранить Ющенко из Чернигова. Вот, собственно говоря, насколько мне помнится, тот повод, который послужил основанием для моих думских объяснений. Но я не позволил бы себе утверждать перед Комиссией, что перевод в Харьков был сделан согласно желанию Ющенко…
Завадский. — Значит, вы считали вполне достаточным основанием для этого перевода разногласие между прокурором и губернатором; в случае такого разногласия, прокурор был уже немыслим в качестве такового?
Щегловитов. — Нет, дело было в том, что он разъезжал по городу и рассказывал разным лицам, что он одержал верх над губернатором.
Завадский. — Чем же это доказано, кроме голословного заявления Маклакова?
Щегловитов. — Это не отвергалось и самим Ющенко, что он держится отрицательного отношения к Маклакову.
Завадский. — Значит, Ющенко сам признавал, что он высказывал отрицательное отношение?
Щегловитов. — Да, вообще, что он относился отрицательно…
Завадский. — И это вы признавали недопустимым?
Щегловитов. — Во всяком случае, на мой взгляд, чрезвычайно трудное создается положение, когда между губернатором и прокурором происходят серьезные нелады.
Завадский. — Независимо от того, кто из них нарушал и кто не нарушал закон?
Щегловитов. — Насколько помнится, прокурор не оказался до такой степени прав, чтобы можно было утверждать виновность губернатора…
Завадский. — Значит, вы считали по существу прокурора неправым?
Щегловитов. — Не в такой степени правым, чтобы я мог его горячо защищать.
Завадский. — Но от горячей защиты до смещения на низшую должность — расстояние большое.
Щегловитов. — Это объяснялось тем, что подходящих вакансий в это время не было, и пришлось тогда прибегнуть к этой мере, при чем впоследствии это было исправлено.
Завадский. — Ведь к чинам судебного ведомства, даже не пользующимся несменяемостью, так называемый 3-й пункт (сомнительный вообще) неприменим. Они не могут быть смещаемы в порядке дисциплинарного производства.[*] В законе об Учреждении судебных установлений указывается порядок дисциплинарного производства, в результате которого министр может сместить прокурора. Мне интересно знать, почему вы не считали нужным сообразоваться с этим порядком (т.-е. истребование письменных заявлений, конкретизирование факта, чтобы обвиняющий чин администрации сказал: вот такой-то факт, в том-то нарушение закона со стороны прокурора; а чтобы прокурор, со своей стороны, возражал…)? По крайней мере, в делах министра юстиции теперь ничего Комиссией не найдено…
Щегловитов. — Дисциплинарного производства не было.
Завадский. — Вы считали возможным применять пункт 3-й?
Щегловитов. — Т.-е. не пункт 3-й был здесь применен; мне казалось, что это мое постановление вытекает из общих полномочий министра юстиции по учреждению судебных установлений…
Председатель. — Из каких полномочий?
Щегловитов. — Ведь лица, пользующиеся несменяемостью, они точно перечислены в статье 243 Учр., а следовательно все остальные — сменяемы.
Завадский. — Итак, смещение на низшую должность указано в качестве дисциплинарного наказания для лиц, которые вообще служат в судебном ведомстве. Следовательно, Ющенко, когда он был назначен из прокуроров в товарищи прокурора харьковского суда, фактически был смещен, и, таким образом, это было дисциплинарное наказание?
Щегловитов. — Мне помнится, практика министерства была такая и до моего назначения.
Завадский. — Значит, и до вас так делалось?
Председатель. — Позвольте мне вернуться к основному вопросу. Может быть, потому, что я не привык к подобного рода течению мыслей, я не могу их понять. Когда я вас спросил о том, что было написано на знамени вашего министерства, вы сказали: «Поддержание суда на той высоте, которая требуется Уставами 1864 года». — А затем, когда я вас спросил, какой критерий у вас был при назначении судей, вы сказали: «Твердость монархических начал и охранение существующего строя»… Я хотел бы примирить эти два начала. Вы выбирали по критерию твердости, а идея Уставов, это — «правда и милость». Вы выбирали людей по преданности монархическим началам и по их годности охранять существующий строй, — между тем, на знамени судебных уставов написано: «законность». Как это примирить?
Щегловитов. — Мне кажется, в понятие законности входит идея охранения существующего порядка.
Председатель. — Но вы все-таки согласитесь, что это не две тождественные идеи: ведь мыслимы же такие защитники монархических начал и такие защитники существующего строя, которые нарушают закон? — а тогда, лицо и ведомство, стоящее на точке зрения Уставов 1864 года, защищают закон и идут против носителей монархического начала и против охранителей существующего строя. Таким образом, по собственному вашему признанию, вы вводили в принцип вашего ведомства, как безусловное, такое начало, которое может не совпадать с законностью.
Щегловитов. — Мне казалось, что они должны сочетаться — эти понятия, всецело вкладываться одно и другое…
Родичев. — Я позволю себе задать один вопрос: каково ваше отношение к роспуску 2-й государственной думы и к акту 3-го июня?
Щегловитов. — К роспуску 2-й думы и к акту 3-го июня?
Родичев. — Да, с точки зрения охранения законности…
Щегловитов. — Изволите ли видеть: это был акт, которому я лично не сочувствовал. Я помню многократные совещания, которые у нас происходили по этому предмету. Там я держался мнения, которое меня совершенно обособляло: я находил, что этого акта издавать вообще не следует. Таково было мое личное мнение…
Председатель. — Почему не следует издавать?
Щегловитов. — Я считал, что те основания, которые выдвигались, — чисто фактические, потому что юридические ведь могли быть только слабыми… Известно, что 87 ст. Основных Законов воспрещала изменение закона о выборах вне общего законодательного порядка. Следовательно, могли быть выдвигаемы только основания фактические — для того, чтобы, так сказать, доказывать необходимость нового выборного закона, притом не проведенного тем порядком, который до этого был крепко установлен.
Председатель. — По-моему, вы говорите несколько мягко. Если поставить точку над i, придется сказать: были мотивы политической целесообразности.
Щегловитов. — Совершенно верно.
Председатель. — И эти мотивы противоречили, так сказать, принципам законности, т.-е. акт известной политической целесообразности был противозаконным. И вот, министр юстиции стоял перед таким актом?
Щегловитов. — Да.
Председатель. — Ну, слушаю-с… Что же сделал министр юстиции?
Щегловитов. — Министр юстиции доказывал, что если для роспуска наступило время, то возможность роспуска законом предусматривается. Доказывал, что можно прибегнуть еще раз к роспуску и к новой попытке созыва государственной думы по прежним правилам о выборах (кажется, декабря 1905 года). Но это мнение так и осталось единичным и даже признавалось довольно курьезным.
Председатель. — Признавалось? Так?
Щегловитов. — Да.
Председатель. — Т.-е. по его политической нецелесообразности?
Щегловитов. — Именно — по политической нецелесообразности.
Председатель. — Что же министр юстиции сделал, когда, в частности, председатель совета министров и министры вообще стали на точку зрения беззакония?
Щегловитов. — Министр юстиции был оставлен на своем месте. Я возбуждал вопрос о своем уходе, но…
Председатель. — Он оставлен был на своем месте: это был определенный результат его действий… Вы говорите, что не сочувствовали акту 3-го июня. — Что же, спрашиваю я, вы, как министр юстиции, сделали по отношению к этому акту?
Щегловитов. — Акт, который последовал, был внесен в правительствующий сенат для обнародования.
Председатель. — Так. И внесен в правительствующий сенат министром юстиции?
Щегловитов. — Министром юстиции.
Председатель. — При чем вы говорите, что, как для всякого юриста, вам было ясно, что этот акт противоречит, так сказать, основным законам?
Щегловитов. — Это никакому сомнению не подлежало.
Председатель. — Тогда позволительно спросить, почему же так поступил министр юстиции?
Щегловитов. — Т.-е. какой же у него был другой выход? Он должен был внести подобный акт в сенат. Сенат является, по нашим законам, учреждением, которое рассматривает порядок опубликования законодательных актов. Ведь в основных законах есть статья, которая на правительствующий сенат возлагает обязанности проверять формальную правильность издания того или другого акта, предполагаемого для обнародования…
Председатель. — Т.-е. вы полагаете, что министр юстиции был здесь совершенно не при чем?
Щегловитов. — Да, по-моему, лишь передаточная инстанция: в этом случае он передает…
Председатель. — Но вы не находите, что столь большое лицо в государстве, как министр юстиции, принимая участие в предварительном обсуждении этого акта, в последующей его передаче в сенат, тем самым становится участником этого беззакония?
Щегловитов. — Да, это я признаю.
Родичев. — Я просил бы вас пояснить следующее. В целях создания акта 3-го июня было инсценировано преследование партии социал-демократов во 2-й государственной думе. Если вы припомните, Столыпин относился к этому делу следующим образом: «Я знаю, что партия эта опасна для государства, а та обстановка, в которой они должны быть преданы суду, это — дело Щегловитова…» Это его слова, сказанные им, когда члены думы Маклаков, Струве и Челноков ездили и уговаривали отступиться от требования о выдаче членов думы — социал-демократов. А как вы относились к этому процессу? Ведь вам, если не тогда, то впоследствии, сделалось известным, что тут был со стороны власти употреблен способ беззаконный, что документы были подложены каким-то агентом охранного отделения… Или это вам не сделалось известным? Вы не помните ли речь Тесленко по этому поводу?
Щегловитов. — Нет, я знаю это дело из докладов покойного прокурора Камышанского, который непосредственно этим делом ведал.
Родичев. — И больше не интересовались?
Щегловитов. — Нет. Ничего подобного я не слышал. Он же и в комиссии государственной думы 2-го созыва, кажется, давал объяснения.
Родичев. — Камышанский? — Да. И комиссия эта относилась с большим подозрением к этим документам, которые впоследствии оказались актами подлога.
Щегловитов. — Мне это известно не было.
Председатель. — Вы помните определение сената, прекращающее преследование Шорниковой?
Щегловитов. — Не помню.
Председатель. — Это — агент-провокатор, создавший факт, положенный в основание этого процесса, затем скрывшийся и впоследствии явившийся к властям, на что власти ответили определением сената о прекращении его дела.
Щегловитов. — Вероятно, по заключению прокурорского надзора было прекращено это преследование…
Председатель. — По выслушании заключения… Вы не припомните?
Щегловитов. — Этого я не помню.
Родичев. — Я еще на тему об отношении к государственной думе предложу вопрос. Вы говорите, что относились с уважением к судебным Уставам 64 года. А нарушение основных законов не мешало вам остаться в составе министерства Столыпина, и оставаться министром и продолжать нарушение этих законов?
Щегловитов. — (не отвечает).
Родичев. — Скажите, пожалуйста, как вы относились к другому заявлению Столыпина — к его угрозе принципу несменяемости? Кажется, если мне память не изменяет, подлинное выражение было: «раздвинуть рамки несменяемости». Эта фраза, эта угроза были произнесены в вашем присутствии. Вы являлись ответственными за них…
Щегловитов. — Мне помнится, подобная фраза была… может быть, не в такой именно редакции, как вы изволите говорить…
Родичев. — Я не настаиваю…
Щегловитов. — Мне казалось, что им было сказано так: что он надеется, что правительство не будет вынуждено по отношению к судебному ведомству прибегать к той мере, которая была выдвинута в 80-х годах, после французской революции.
Родичев. — Все равно какая форма: сущность та же самая. Как же вы относились к этому?
Щегловитов.— Ну что же? Это, мне кажется, положение вполне приемлемое: упование на то, что не придется ломать несменяемость, каковая во Франции в указанную эпоху была на время приостановлена…
Председатель. — Желание этого избежать — вполне, конечно, правильное желание, но вопрос-то в том, было ли это в вашем министерстве избегнуто или нет?
Щегловитов. — Принцип несменяемости… Мне казалось, что в общем — да: мы его поддерживали…
Председатель. — Но, вероятно, были исключения, если вы говорите «в общем»?
Щегловитов. — Я потому так выразился, что, вероятно, некоторые исключительные случаи вызывали необходимость некоторого давления с моей стороны, при изменении служебного положения тех или других судей…
Председатель. — Но как же это вяжется с принципом несменяемости? Если допустить «некоторые случаи», то ведь, бог его знает, сколько их будет, этих случаев!… И затем, если допустить некоторое давление, так кто же определит предел этого?
Щегловитов. — Конечно, это почва очень скользкая… Но обстоятельства вынуждали, поневоле приходилось…
Председатель. — Вы, следовательно, признаете нужным нам сказать: «я действовал не по Уставам 64 года, а по обстоятельствам; когда меня обстоятельства вынуждали, в виду ли дефекта твердости в судье или в виду недостаточной с его стороны поддержки строя, или в виду недостаточности в нем крепких монархических начал, — я от принципа несменяемости отступал»… Хотелось бы установить общее положение: если вы это признаете, тогда это нужно считать установленным, и тогда целый ряд вопросов отпадает.
Щегловитов. — Да, признаю, что были отдельные случаи, в которых я, так сказать, старался воздействовать на судей, чтобы они наблюдали, согласно своему положению… Это я признаю.
Председатель. — При назначении или смещении вы руководились соображениями о политической твердости данного лица, о преданности монархической идее, о твердости и строгости. Это — выражения, которые нам приходилось повторять уже не раз. А не приходилось ли вам руководиться при назначении судей или при устранении судей отдельными личными мнениями — отдельных частных лиц.
Щегловитов. — Я не помню…
Председатель. — Вы не помните. А при каких обстоятельствах вы назначили председателя гражданского департамента в Москве П. А. Буханова, и кому он обязан своим назначением?
Щегловитов. — П. А. Буханов пользовался хорошей репутацией. Он был, как помнится, товарищем председателя московского окружного суда…
Председатель. — Так. Но ведь мало ли товарищей председателя пользуются хорошей репутацией, а их не делают председателями департаментов… Кажется, это даже в смысле иерархии не допускается?
Щегловитов. — Это, несомненно, исключение.
Председатель. — Но вы не помните, при каких обстоятельствах произошло это исключение и кто то лицо, которое настояло на этом исключении или ради кого исключение было сделано?
Щегловитов. — Могла быть просьба члена думы Шубинского.
Председатель. — «Могла быть»? — Нет, она и была.
Щегловитов. — Она была несомненно, но не была, так сказать, исключительна…
Председатель. — Вы знаете, что председатель департамента Буханов должен был впоследствии уйти из председателей по личным, не особенно-таки благовидным причинам, если не ошибаюсь, уже в министерство вашего преемника?
Щегловитов. — Этого я не знаю.
Председатель. — Он при Хвостове ушел (в декабре 1915 г.).
Щегловитов. — Мне помнится, его здоровье сильно пошатнулось…
Председатель. — Т.-е. Буханова?
Щегловитов. — Да.
Председатель. — Вы не помните случая увольнения товарища прокурора Николича в Симбирске?
Щегловитов. — Если бы вы мне немного помогли вспомнить…
Председатель. — Его судьба связана с делом некоего Степанова, брата жены Рудина (ныне сенатора, землевладельца Симбирской губ.). Степанов обвинялся в том, что нанес тяжкое увечье матросу волжского парохода. Присяжные его обвинили. Кассационную жалобу подавал присяжный поверенный Шубинский. И после того, как сенатом был отменен вердикт присяжных заседателей, по вашему распоряжению, прокурору палаты было предложено Николичу уйти в отставку.
Щегловитов. — Вероятно, здесь были серьезные основания… Сейчас не могу вспомнить. Вероятно, в переписке министерской есть…
Завадский. — В переписке министерской ничего нет, кроме того, что прокурор палаты и прокурор суда не считали это справедливым и считали даже невозможным, так как не было оснований для такого распоряжения. Тогда это приписывалось влиянию члена думы Шубинского. Не помните ли: разговаривали вы с ним по этому поводу?…
Председатель. — Поводом для удаления Николича было выступление его в деле противником присяжного поверенного Шубинского.
Щегловитов. — А где раньше был Николич?
Завадский. — Он в Симбирске был товарищем прокурора.
Щегловитов. — А до этого?
Завадский. — Я не знаю. Это можно будет посмотреть в деле (наводит справку). Он был в Симбирске.
Щегловитов. — Мне помнится, что тут были какие-то совершенно другие основания…
Завадский. — Во всяком случае, ни прокурор симбирского суда Кондратович, ни прокурор палаты Бальц никаких оснований не могли выставить для удаления Николича.
Щегловитов. — К какому году относится этот вопрос?
Завадский. — По всей вероятности, к 1910–1911 г.г.
Щегловитов. — С этой фамилией у меня связано представление, что удаление состоялось на основании серьезного судебного нарушения…
Завадский. — Это, вероятно, другое дело: был еще Николич, екатеринодарский прокурор суда. Это другое лицо…
Щегловитов — молчит.
Председатель. — Скажите, в качестве министра юстиции, вам приходилось представлять на усмотрение бывшего носителя верховной власти о прекращении уже начавшего свое течение судебного дела?
Щегловитов. — Было, вероятно… Да, несколько случаев…
Председатель. — Такие случаи были. Какими же законами руководился министр юстиции, когда преподносил на высочайшее усмотрение эти случаи?
Щегловитов. — Думаю, статьей 23-й Основных Законов.
Завадский. — 23 ст. Основных Законов предоставляет право помилования.
Щегловитов. — И прекращения дела, насколько мне помнится. Хотя редакция и могла возбудить сомнения: я помню, что в литературе даже высказывались по этому поводу различные толкования… И вот, покойный профессор Сергиевский[*] держался того мнения, что при издании в 1906 году новых Основных Законов, в этом отношении прерогативы монарха остались неизменившимися.
Председатель. — Во всяком случае, вы сами признаете, что этот вопрос считался спорным. Почему же вы находили нужным, так сказать, решать этот спорный вопрос в указанном смысле?
Щегловитов. — Это делалось, вероятно, исключительно по политическим соображениям. Здесь юридические, конечно, отпадали.
Председатель. — Нет, простите: в каком же отношении у вас были политические соображения с соображениями юридическими, т.-е. с законными; в постоянном подчинении были у вас законы, принцип законности, по отношению к принципам политики?
Щегловитов. — Нет, я бы сказал: в редких случаях.
Председатель. — Значит, вы, в интересах политических, делали исключение, непредусмотренное законом?
Щегловитов. — Да. И прекращением судебных дел, о которых вы изволите говорить, уж, конечно, делались по политическим соображениям…
Председатель. — Вы не представляли себе ту громадную угрозу, которая таилась в делании этих исключений (а их могло быть очень много) для законности вообще, и в частности — для ведомства, которое должно было олицетворять закон, — для ведомства юстиции?
Щегловитов. — Конечно, тут опасность есть. Это я признаю.
Председатель. — Как же вы смотрели на это?
Щегловитов. — Я смотрел так, что, по возможности, все эти случаи должны быть сводимы до последнего минимума.
Председатель. — Итак, министр юстиции все же признает, что до последнего минимума должны быть доведены случаи отступления от законности… Теперь, позвольте вам задать такой вопрос: как вам известно, в Российском государстве существует, вероятно, более 100 судов. Каждый председатель суда должен стоять на точке зрения министра юстиции, — не правда ли? — и проводить в жизнь эту точку зрения… Затем, в Российском государстве есть еще товарищи председателя, уездные члены и бесчисленное количество властей… Вам не кажется, что если все они будут разделять взгляд главы ведомства, то малое превратится уже в нечто громадное, — и такое, что совершенно нетерпимо для русского народа и для идеи правосудия в стране? Я позволяю себе задавать этот вопрос потому, что я знаю ваши печатные работы, затем вы были профессором… Так что мы, юристы, можем вам задать этот вопрос, потому что мы друг друга должны понимать…
Щегловитов. — Я опасность эту признаю вполне. Это путь опасный.
Председатель. — Почему же вы вели ваше ведомство по этому опасному пути?
Щегловитов. — Да, приходилось!… Потому что время, которое переживалось, — время все-таки необычайно трудное… Это время нормальным никоим образом назвать нельзя. В особенности первые годы моей деятельности…
Председатель. — Ведь вы понимаете: признание такого принципа ведет к признанию постановки таких процессов, которые ставить нельзя. Ведь тут нет пределов… Раз исходишь из подобного принципа, нет пределов того зла, которое вносится этим в страну. Каков же ваш взгляд, как занимавшего пост министра юстиции?
Щегловитов. — Я считаю этот путь ненормальным, — это безусловно. Я его защищать никоим образом не берусь…
Председатель. — Вы не помните, например, почему вы прекратили через поднесение на высочайшее усмотрение дело Дашнакцутюн, т.-е. дело членов этой партии Дарочиана и Аратюна, по тифлисской палате, в 1914 году?
Щегловитов. — Совершенно не помню.
Председатель. — Не помните?
Щегловитов. — Молчит.
Родичев. — Вы не помните, по каким мотивам последовало прекращение дела о Дубровине?
Щегловитов. — О Дубровине?… Нет.
Родичев. — Дубровин должен был быть выдан финляндским властям в связи с делом об убийстве Герценштейна. Дубровин скрылся из Петрограда в Крым, не явился по требованию властей… А засим дело о нем было по высочайшему повелению прекращено. Вы высказывались за это прекращение, т.-е. министр юстиции испрашивал соответствующее повеление?
Щегловитов. — Кажется, высочайшего повеления не испрашивалось…
Завадский. — Было высочайшее повеление.
Родичев. — Вы говорите, что вы не испрашивали его?
Председатель. — Или вы полагаете, что и не было высочайшего повеления?
Щегловитов. — Не было… Не было.
Председатель. — Позвольте теперь задать более общий вопрос — о вашем отношении к крайним правым партиям.
Щегловитов. — О моем отношении к крайним правым партиям… Я сам ведь принадлежал к крайним правым партиям. Я сказал «партиям» потому, что правых партий ведь много… Известно, что существуют разветвления, и я бы сказал: большая разрозненность. Я, лично, считал себя представителем консервативного направления России и в среде правых я, в сущности, возбуждал не мало всякого рода нареканий и сетований против себя, в особенности, в прежнее время моей деятельности… К концу установились более миролюбивые отношения, и затем, я бы сказал, что, собственно, ни одна из существовавших партий не соответствовала моим взглядам. Я принадлежал, повторяю, к консервативному течению. И что же? Когда я перестал быть министром юстиции, я попал в правую группу членов государственного совета, а затем мои бывшие сотоварищи пожелали сделать меня как бы своим представителем, своим лидером после ухода Бобринского… Вот, собственно говоря, мое отношение к правым. Но мы в государственном совете, в нашей правой группе, вовсе не следовали неприменимым лозунгам тех или других правых групп или организаций… У нас были, так сказать, свои воззрения на вопросы…
Председатель. — Позвольте исключить из рассмотрения вопрос о вашем консервативном направлении: это — ваше личное дело. Позвольте также исключить вопрос о принадлежности вашей к правой группе государственного совета, — это также Комиссии не касается. Мы ставим вопрос, как я его именно и ставил, о вашем отношении к правым организациям. Что вы можете сказать относительно этого?
Щегловитов. — Какое у меня было отношение? — Отдельным лицам я сочувствовал, но вообще к этим организациям не принадлежал…
Председатель. — Значит, вы не принадлежали к правым организациям?
Щегловитов. — Нет.
Председатель. — Скажите, чем же объясняется, что вы, не принадлежа к правым организациям, тем не менее находили возможным представлять на высочайшее усмотрение о помиловании целого ряда деятелей правых организаций, которые обвинялись и были обвинены в самых различных преступлениях, вплоть до пролития крови и убийства?
Щегловитов. — Собственно говоря, это было такое политическое течение того времени: к правым организациям установилось такое отношение, что они могут служить опорой… Вот, я думаю, этим, главным образом, и объясняется отмеченное вами явление.
Председатель. — Но каким образом министр юстиции, приводя в движение такое право носителя верховной власти, каким является право помилования, каким образом министр юстиции вводит сюда опять-таки политические начала, т.-е. возбуждает это право носителя верховной власти, по преимуществу, по отношению к деятелям одной определенной политической группы? Ведь статья 23 Основных Законов имеет в виду акт правосудия, т.-е. приведение в соответствие формы с известным правосознанием: человек совершил формальное преступление, и вот помилование является актом справедливости со стороны верховной власти, если форма находится как бы в конфликте с содержанием… Верховная власть, в таком случае, делает то, что делает и суд. Вы сами понимаете, что в этической жизни страны это такое дорогое право… Каким образом министр юстиции допускает, чтобы, осуществляя такое право, высшая власть руководилась политическими соображениями, применяла его лишь для деятелей определенной — правой — политической группы?
Щегловитов. — Я вам объяснил: это происходило именно оттого, что такова была общая политическая точка зрения, которой служило правительство того времени, а я к нему принадлежал. Правительство возлагало на правые организации величайшие надежды, усматривая в них опору существующего порядка…
Председатель. — Следовательно, мы здесь опять имеем дело с одним из тех исключительных случаев, когда министр юстиции действует не по принципу закономерности, а по принципу политической целесообразности, т.-е. делает политику. Вы говорите, что таково было направление ваших товарищей по совету министров, значит, и вы руководились в ваших действиях в подобных случаях, как министр правосудия, этим же направлением?
Щегловитов. — Совершенно верно.
Председатель. — А после того, как вы оставили пост министра юстиции, вы вступили в организацию правых?
Щегловитов. — Нет.
Председатель. — Чем объясняется в таком случае ваше председательствование на их съезде?
Щегловитов. — Усиленной просьбой, с которой ко мне обратилось несколько членов государственной думы, которые были инициаторами этого съезда. Я даже не подозревал, что открывается этот съезд. За три дня до его открытия они усиленно просили меня принять председательствование, которое будет мне предложено в видах объединения этих чрезвычайно раздробившихся организаций. И у них была мысль, что, может быть, мое участие в качестве председателя даст возможность несколько объединить эти группы; а на мой взгляд это могло сделать их сколько-нибудь жизненными, потому что они, в сущности говоря, совершенно не понимали, чего они хотели, и в государственном отношении большой цены (как свидетельствовало ближайшее знакомство с их программой) не представляли… Это и побудило меня согласиться принять на себя председательствование. Председательствование это возбудило во мне глубочайшее разочарование: я увидел, что достигнуть объединения, по крайней мере, в пределах, для меня желательных, нет никакой возможности. Вот почему я и отказался потом председательствовать в сохранившемся после съезда совете из лиц, выбранных на этом съезде.
Председатель. — Скажите, вам известно, что часть этих организаций имела на своей совести некоторые кровавые преступления, например, убийства? Вам известно, что в числе этих патриотических организаций была организация Орлова (московского), на котором тяготело подозрение во всяких вымогательствах и других проделках? Как это сочеталось, мы не будем говорить, с членством в государственном совете, но с тем обстоятельством, что вы ведь только что оставили пост министра юстиции? Вы председательствуете на съезде таких организаций, которые, по вашему собственному признанию, не имели в государственном отношении никакого значения или имели очень мало значения и которые при этом не очистились от обвинения в целом ряде уголовных преступлений?
Щегловитов. — Да, я вполне признавал, что эти организации имеют в своем составе лиц, которым не место было в каких-нибудь политических организациях…
Председатель. — Это совершенно верно. Но вопрос заключается в следующем: почему, если не член государственного совета, то, по крайней мере, министр юстиции остается пассивным в данном случае? Это нам кажется несовместимым…
Щегловитов. — Это, вероятно, одна из больших ошибок, которые я в своей жизни сделал.
Председатель. — Перехожу к другому вопросу. Скажите, пожалуйста, как вы находили возможным, следуя своим политическим убеждениям, представлять о высочайшем помиловании отдельных лиц, т.-е. значит, в сущности говоря, склоняли ваш слух к голосам, которые шли из определенной партии, и на-ряду и параллельно с этим от судей ведомства юстиции вы требовали, чтобы они ни в какие политические партии не вступали (по крайней мере формально требовали, потому что были, судьи, которые находились в сношениях с крайними правыми партиями). Вам не казалось, что здесь было некоторое противоречие?
Щегловитов. — Я за время своей деятельности этого противоречия не усматривал.
Председатель. — Каким образом в некоторых ваших представлениях верховной власти, в качестве одного из оснований для помилования, выдвигается такой, например, мотив: «они сделали это по вражде к евреям». Разве вражда к евреям является в числе обстоятельств, которые должны вызывать со стороны верховной власти акт помилования?
Щегловитов. — Это, вероятно, объясняется тем, что в известных слоях нашего населения эта вражда существует и она могла приводить к таким эксцессам, в которых страсть и известное чувство ненависти играют преобладающую роль, где разум и ясное соображение уже уходят на задний план… Вероятно, этим и объясняется, что я допускал во всеподданнейших докладах такие выражения.
Председатель. — Вы помните вашу переписку с нижегородским губернатором?
Щегловитов. — Я помню, что он обращался ко мне во время выборов в 4-ю государственную думу.
Председатель. — А вы помните, что он беседовал с вами по этому же вопросу?
Щегловитов. — Я помню, что решительно не находил возможным исполнить его желание. Мне помнится, он меня просил о том, чтобы я устранял председательствование отдельных лиц судебного ведомства таким путем, чтобы председатель суда их вызывал в тот день, когда они должны были председательствовать в выборных комиссиях.
Председатель. — Не вполне так это было, но приблизительно так. Но вы не припомните, что до этого письма к вам Хвостова у вас была беседа с нижегородским губернатором, и в этой беседе вы согласились пойти навстречу его просьбе о некоторых назначениях по вашему ведомству, дабы таким путем затруднить этим лицам участие в предвыборной агитации в пользу к.-д. партии: таким образом, аппарат власти министра юстиции, по отношению к лицам судебного ведомства, был двинут с целью дать преобладание в Нижнем-Новгороде правым во время выборов и не дать пройти к.-д. или каким-нибудь другим партиям?
Щегловитов. — Этого, кажется, не было…
Председатель. — Вы не помните такого разговора с Хвостовым?
Щегловитов. — Нет.
Председатель. — Я напомню вам, что это письмо имеет очень конспиративный характер: так, губернатор самолично писал его на машинке. По содержанию же оно являлось иллюстрацией того, что вами было принято во время личной беседы. В беседе вы выработали некоторый общий план, а письмо давало к нему иллюстрацию.
Щегловитов. — Лучшим доказательством, что, вероятно, беседы такой не было, служит то, что по этому письму, я помню, я ровно ничего не предпринимал.
Председатель. — Так что письмо-то это осталось у вас в памяти?
Щегловитов. — Это письмо осталось в моей памяти: его внешность несколько необычна, потому что писавший сам удостоверял, что он сам писал его на машинке и что он придавал сообщению особо конспиративный характер.
Завадский. — Я в письме отмечаю такую фразу (читает): «в виду согласия, полученного при разговоре…».
Соколов. — Вы упоминали о вашем председательствовании среди крайних правых и сказали, что эти группы значения общегосударственного не имели. Вы не вспомните, что после этого съезда ряд монархических организаций и организаций крайних правых в провинции получили письма циркулярного характера: их приглашали мобилизовать свои силы и быть готовыми на случай выступлений, предлагали наметить в провинции всяких представителей либеральных и радикальных взглядов на предмет их арестования в случае надобности?
Щегловитов. — Это совершенно верно.
Соколов. — Вам не известно, какое отношение к правым организациям имел барон Фредерикс?
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — Вам не известно, что после съезда, за подписью барона Фредерикса, провинциальным губернаторам и провинциальным организациям был разослан циркуляр, чтобы они мобилизовали свои силы на случай выступления левого элемента?
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — Вы не пользовались списками, составленными правыми организациями при назначении или увольнении лиц судебного ведомства?
Щегловитов. — Нет, таких списков не было.
Соколов. — Вы указали, что, по вашим сведениям, в эти организации входили лица, которым не место в рядах политических организаций. Какие это лица и какие поступки они делали во время пребывания в своих организациях?
Щегловитов. — Здесь председателем комиссии был назван Орлов, а я бы прибавил еще и Дубровина.
Соколов. — Какие действия этих людей вызвали с вашей стороны такое отношение к ним, какое было вами здесь выражено?
Щегловитов. — О них ходили слухи самые невероятные…
Соколов. — Какие сведения до вас доходили.
Щегловитов. — Дубровину приписывалось участие в убийстве Герценштейна, а Орлову — ряд вымогательств и ряд других действий.
Соколов. — Вы, в качестве генерал-прокурора, принимали участие в раскрытии действий Дубровина и Орлова?
Щегловитов. — Нет, потому что у меня материала не было.
Соколов. — Но те сведения, которые до вас доходили, разве не давали вам основания поручить прокурорскому надзору произвести дознание?
Щегловитов. — Относительно убийства Герценштейна, сколько мне помнится, два члена государственной думы 2-го созыва явились с заявлением о том, что у них имеются фактические данные, по которым на отдельных членов союза русского народа падает обвинение или подозрение в этом убийстве… Я тогда немедленно их заявление передал прокурорскому надзору с поручением, сколько мне помнится, товарищу прокурора Гвоздановичу, заняться расследованием, и это поручение было препровождено в Финляндию.
Соколов. — А по поводу вымогательств Орлова?
Щегловитов. — У меня никаких определенных указаний не было.
Соколов. — Так что по поводу этих сведении вы прокурорскому надзору поручений не давали… А какие меры были приняты вами по вопросу об убийстве Караваева в Екатеринославе?
Щегловитов. — Там производилось следствие.
Соколов. — Когда был запрос членов государственной думы об убийстве Караваева, в основание которого было положено письмо, вы не возобновили следствия, не давали поручений прокурорском у надзору?
Щегловитов. — Не помню.
Соколов. — Значит, с вашей стороны действий не было?
Щегловитов. — Во всяком случае я их не помню…
Председатель. — Позвольте вернуться к делу Дубровина. Здесь, из имеющихся у нас материалов как будто выясняется, что не было актов высочайшей власти по поводу выдачи Дубровина. Что вы помните о вашем участии в вопросе о передаче Дубровина в руки финляндского суда?
Щегловитов. — Сколько мне помнится, дело происходило следующим образом: поступило требование от кивенепского суда о том, чтобы подвергнуть Дубровина приводу на его собственный счет. Как мне помнится, так было постановлено судом, и приходилось, таким образом, осуществлять совершенно неукладывающийся в наше законодательство порядок привода, вследствие чего мне и пришлось отказать в исполнении требования… Вот как это дело происходило.
Председатель. — Так что финляндский суд не имел возможности реализовать эту свою меру?
Щегловитов. — Я указал финляндскому суду на то несоответствие, которое сейчас мною было установлено, так что от суда уже зависело устранить это несоответствие. Но этого сделано не было.
Председатель. — Вы сообщили нам, что использовали право доклада о помиловании отдельных лиц по отношению к деятелям некоторых политических партий, — в пользу правых партий, потому что существовало такое мнение среди министров, что эти правые полезны, в видах охранения существующего строя, монархических начал. А чем объясняются частые случаи испрошения вами помилования полицейским чинам, осужденным за истязания и даже за убийство при исполнении служебных обязанностей?
Щегловитов. — Не было ли тут ходатайств со стороны министерства внутренних дел в каждом отдельном случае?
Председатель. — В этих случаях вы только удовлетворяли ходатайство министра внутренних дел или же и вы сами находили нужным делать представления, может быть, по основаниям, близким к тем, которые заставляли вас представлять о помиловании людей из крайних правых партий?
Щегловитов. — Что касается полиции, я не помню, чтобы я по собственному побуждению делал…
Председатель. — Значит, относительно членов политических партий вы делали по собственному побуждению?
Щегловитов. — Потому что, я говорю, такова была политика, которой держался глава правительства…
Председатель. — Но может быть та же политика говорила, что и к полицейским чинам, которые обвинялись в истязательстве и убийстве, надо проявить снисходительное отношение, в виду того, что они также, может быть, преданы монархическим началам и твердо охраняли строй?
Щегловитов. — Нет, такого вопроса не было…
Председатель. — Я хотел бы еще несколько иллюстрировать те общие разъяснения, которые вы дали относительно политики и правосудия. Вы не помните ли судьбу прокуроров Благовещенского и Крестьянова из Либавы?
Щегловитов. — Если бы вы немного помогли мне вспомнить…
Завадский. — Благовещенский и Крестьянов были назначены вами в прокуроры либавского окружного суда. Тогдашний генерал-губернатор Меллер-Закомельский требовал их смещения, как недостаточно твердых в области репрессий. Мне лично известен, между прочим, такой факт: Благовещенский обнаружил, что один из уездных начальников, какой-то барон (фамилию я забыл), занимался тем, что в то время, когда арестанты препровождались из одной тюрьмы в другую, их заставляли бежать, а затем, под этим предлогом, пристреливали… Благовещенский, между прочим, указал на то, что одна мать плакала, прося спасти сына, а он ей отказал, говоря, что это сплетни, слухи. Но на другой день ее сын, действительно, был убит. Когда прокурор вызвал начальника уезда и потребовал объяснений, то начальник сказал: «Что же вас тут удивляет? Мы так всегда устраняем революционеров, это такой прием»… И в результате оказалось, что он прокурор слабый, и по требованию Меллер-Закомельского, его сделали товарищем прокурора петроградского окружного суда, даже не испрашивая никаких объяснений!…
Щегловитов. — Значит, это так и было. Я отрицать не могу.
Председатель. — Вы не припоминаете этого случая?
Щегловитов. — Я думаю, что то, что было здесь сказано, соответствует действительности.
Председатель. — Если это соответствует действительности, ведь это значит, что центральное ведомство, до известной степени, поощряло беззаконные убийства арестованных, безоружных и беззащитных лиц.
Щегловитов. — Виноват, в этой части мне это известно не было. Мне было известно указание Меллер-Закомельского, что эти прокуроры не соответствуют (своему назначению), по мнению его, как генерал-губернатора…
Завадский. — Я думал, что министр юстиции о подобных фактах знал. Мне интересно ваше отношение к администрации, т.-е. проверка поступающих от нее сведений: если прокурор оказывается слабым в глазах Меллер-Закомельского…
Щегловитов (прерывает). — Приходилось с этим считаться…
Председатель. — Почему приходилось? Что вас заставляло это делать?
Щегловитов. — Так сказать, стремление к тому, чтобы порядок был поскорее водворен в этой местности. Это относилось к 1907 году.
Председатель. — Почему этим водворялся порядок? Вы видите, к каким ужасам это приводило!… Ведь порядок не мог быть восстановлен от того, что полицейские стражники перестреляли ночью безоружных и беззащитных политических арестованных?
Щегловитов. — Я допускать не мог, чтобы такие вопиющие безобразия творились…
Председатель. — Вы изволили сослаться на то, что в министерстве юстиции дело обстояло так же и до вас… Но вам, вероятно, известно, что один из ваших предшественников (который стоял тоже не на точке зрения законности) в подобных случаях умел, по крайней мере, становиться на точку зрения ведомственности — защищать лиц своего ведомства. И Меллер-Закомельский, человек другого ведомства, своим заявлением, вероятно, заставил бы его несколько насторожиться в пользу Благовещенского, как лица, принадлежащего к ведомству министерства юстиции: я говорю о министре юстиции Муравьеве. Но при вас, в данном случае, даже и этого не было. Вы не пришли, хотя бы окольным путем, хотя бы во имя подобного мотива, к отстаиванию законности; вы как бы целиком отдали ваше ведомство в распоряжение ведомства политического, — скажем, министерства внутренних дел!… По крайней мере, эпизод с Благовещенским уполномачивает сделать такой вывод. Может быть, вы разъясните это обстоятельство?
Щегловитов. — Самому мне очень трудно делать выводы… Но в отношении фактов я бы сказал так: если рассмотреть всю обширную деятельность за 9 лет, что я был министром юстиции, переписку, которая возникла почти исключительно с ведомством министерства внутренних дел, потому что это ведомство получало сведения и обращалось в министерство юстиции с указаниями на суд и на его деятелей, — я воздерживался бы от вывода, — но полагаю, что в этой переписке вы найдете некоторый материал в том направлении, которое вы отмечали, т.-е. по вопросу о защите и заступничестве (представителей судебного ведомства).
Председатель. — В этом отношении вы держались практики 80-х годов и 90-х годов?
Щегловитов. — На деле, я думаю, я защищал свое ведомство.
Соколов. — Я желал бы задать вопрос, находящийся в связи с прибалтийскими делами: до вас доходили сообщения или жалобы лиц, истязуемых в сыскном отделении Грегусом?
Щегловитов. — До меня? — Нет. Собственно, известные запросы делались… И тогда, я помню, я командировал товарища обер-прокурора для производства расследования.
Соколов. — Шарко?
Щегловитов. — Нет, мне кажется, не Шарко. Не был ли это Руадзе? Специально командированное лицо, мне помнится, не подтвердило поступавшие ранее сведения.
Соколов. — До вас не доходили постановления военных судов, которые в протоколах своих заседаний записывали показания официальных лиц, лично присутствовавших на истязаниях и заверявших своими свидетельскими показаниями, что они видели, как Грегус истязал лиц, судившихся военным судом?
Щегловитов. — Не помню…
Соколов. — Скажите, вам известно, что шли нарекания не только на Грегуса, но и на лиц рижского прокурорского надзора, наблюдавших за следствием, которые наталкивались на жалобы и заявления привлеченных лиц — об истязаниях, чинимых Грегусом?
Щегловитов. — Мне помнится, в запросе было имя одного из товарищей прокурора.
Соколов. — И вы действия этого товарища прокурора расследовали и тоже ничего неправильного в его действиях не нашли?
Щегловитов. — Расследование, которое было произведено, не принесло никаких результатов…
Соколов. — Не было ли так, что после расследования вновь возникали жалобы на Грегуса? Не останавливало ли ваше внимание, что военные суды массами оправдывали лиц, привлеченных по обвинению в убийстве и других серьезных преступлениях на основании дознания, произведенного Грегусом, — оправдывали, потому что на суде обнаруживалось, что Грегус вымогал у них сознание путем истязания?
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — Ваше внимание не останавливало на себе большое количество оправдательных приговоров в военных судах?
Щегловитов. — Эти сведения ко мне не поступали.
Соколов. — Какие имелись основания для перемещения прокурора Благовещенского?
Щегловитов — не отвечает.
Соколов. — С вашей стороны было оказано давление, чтобы старший председатель петроградской судебной палаты, Максимович, оставил свою должность и перешел в сенат; что собственно было вами поставлено ему в вину?
Щегловитов. — Мне кажется, то обстоятельство, что он не мог восстановить порядок при приступе к рассмотрению дела о Совете Рабочих Депутатов в 1905 году (судились они в 1906 г.). Вот, кажется, эти обстоятельства и были поводом для его перемещения.
Соколов. — А в чем собственно был беспорядок?
Щегловитов. — Беспорядок начался пением в суде, которое совершенно лишило возможности открыть заседание. Председатель был в этом случае совершенно бессилен…
Соколов. — Это обстоятельство было поставлено ему в вину? А не ставились ему в вину мягкие, по вашему мнению, приговоры по политическим делам?
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — Не указывали вы в том разговоре или письме, где ему рекомендовалось перейти в сенат, что его приговоры не соответствуют опасности момента, что требуются более серьезные судебные репрессии?
Щегловитов. — В вашем распоряжении нет указаний, хотя бы приблизительных, относительно времени, когда Максимович ушел?
Завадский. — Он ушел летом 1906 года.
Соколов. — Процесс Совета Рабочих Депутатов был назначен к слушанию весной 1906 года, а летом сенатор Максимович получил перевод в судебный департамент сената. Это было непосредственно после первоначального назначения к слушанию дела о Совете.
Щегловитов. — Я потому и просил указать…
Соколов. — Не было ли поставлено в вину Максимовичу и то, что он многих отпустил на поруки, что значительное количество лиц из Совета Рабочих Депутатов, привлекаемых по делу совета, было освобождено из заключения?…
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — При различного рода перемещениях вы не руководились данными, сообщаемыми вашими ревизорами? Вы не назначали на дела, рассматриваемые судебными палатами, особенно на политические дела, ваших ревизоров?
Щегловитов. — Да, назначал.
Соколов. — Какие поручения давались этим ревизорам? Что они должны были выяснять? — правильное и неправильное в действиях судей?
Щегловитов. — Во - первых, конечно, ставилось, как требование, — проверка степени быстроты деятельности, отсутствие каких-либо беспорядков, а затем — рассмотрение дела по существу.
Соколов. — Вот меня и интересует характер тех указаний, которые вы давали ревизорам по существу политических дел, рассматриваемых членами судебных палат, и затем — вопрос о том, какого характера отчеты они представляли?
Щегловитов. — Насколько постановленный приговор соответствовал материалам следственного производства и протоколам судебного следствия…
Соколов. — Как же ревизоры могли убеждаться в том, что приговор не соответствует обстоятельствам дела? Ведь в протоколы не вносятся мотивы, которыми в том или ином случае руководится суд. В них значится лишь: допрошен такой-то свидетель и только…
Щегловитов. — Здесь, конечно, могли иметься в виду только резкие случаи несоответствия.
Соколов. — В каком направлении обнаруживалось это несоответствие приговоров суда — приговоров не мотивированных — с обстоятельствами дела?
Щегловитов. — Как мне вам ответить?… Я очень затрудняюсь на этот вопрос ответить… Какие материалы обнаруживали указанное несоответствие?
Председатель. — По каким признакам ваши ревизоры могли и должны были судить?
Соколов. — И какими признаками они в действительности руководились? Что они сообщали в докладах о ревизии?
Щегловитов. — Они характеризовали деятельность отдельных судебных установлений и судебных палат.
Соколов. — И отдельных судей, значит?
Щегловитов. — И отдельных судей.
Соколов. — Какие же данные они проводили? «Судья такой-то по существу своих приговоров проявил»… Но что же именно проявил?
Щегловитов. — Достаточную обстоятельность, строгость…
Соколов. — Строгость была одним из тех качеств, идущих на-ряду с обстоятельностью, которые отмечались вами, как положительные качества?
Щегловитов. — То-есть, как сказать?… Очень трудно на это ответить… Да, как применение закона карательного, который был…
Соколов. — Как применение закона… Из чего же извлекали ваши ревизоры материал, чтобы судить: «данный судья строг, данный не строг»? Ведь новое уголовное уложение, которым они руководствовались, не указывало на то, чтобы судьи для смягчения наказания, приводили какие бы то ни было мотивы. Из чего же ревизоры могли умозаключить, что данный судья действовал недостаточно строго применительно к обстоятельствам данного конкретного дела?
Щегловитов. — Очевидно, из рассмотрения всего производства.
Соколов. — Значит, предварительного следствия? Так что отмечалось несоответствие судебного приговора с данными, которые установлены предварительным следствием, т.-е. в большинстве случаев, жандармским дознанием…
Щегловитов. — Очевидно, так.
Соколов. — Скажите, пожалуйста, эти ваши ревизоры делали так, что, приезжая в тот или иной палатский город, они ревизовали дела палаты: не произносили ли они при этом речей и не делали ли общих указаний, согласно вашим директивам, о том, как судьи должны выносить приговоры по политическим делам и чего вы ждете от судей при вынесении таковых приговоров?
Щегловитов. — Этого я уже не знаю, как они поступали…
Соколов. — А не было такой инструкции, что они должны преподать ваши указания судьям, членам судебных палат?
Щегловитов. — Мои общие указания, это те, которые я в самом начале докладывал Комиссии.
Соколов. — Не было ли указаний, что если судьи не будут следовать вашим указаниям, они будут подвергаться репрессиям, переводу или удалению?
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — Вам самим не приходилось при объезде судебных округов лично давать указания?
Щегловитов. — Самые общие…
Соколов. — Не преподавали ли вы нарочитой строгости применения карательных норм по политическим делам?
Щегловитов. — Возможно.
Соколов. — Возможно? Не вспомните ли вы, в частности, что в Тифлисе, принимая членов тифлисской судебной палаты, выделили деятельность члена тифлисской судебной палаты Богородского, отметивши, что, по общей российской статистике, его приговоры отличаются наибольшей строгостью?
Щегловитов. — Может быть.
Соколов. — Вы не отрицаете возможности этого?
Председатель. — Разрешите попросить у вас разъяснений еще по такому вопросу. Член Комиссии Н. Д. Соколов интересовался узнать, по каким, собственно говоря, данным ревизующие лица проверяли соответствие приговора с обстоятельствами дела… Меня интересует еще и другое: по какому праву вы посылали людей ревизовать судей и требовать у них отчета относительно приговоров? Где тот закон, который уполномачивает министра юстиции, при действии судебных уставов, требовать у судей отчета в постановленных ими приговорах, в большинстве или в значительном числе случаев немотивированных?
Щегловитов. — Ведь это не требование отчета: это — поручение обозрения делопроизводства…
Председатель. — Когда вы упомянули о скорости судебного рассмотрения — я вас с волнением слушал, и сказал себе: слава богу! — потому что у нас должен быть суд скорый, не правда ли? То же сказал я себе, когда вы затем говорили о порядке… Но когда вы говорите: пусть ревизующий проверит, насколько приговор соответствует обстоятельствам дела, я хотел бы спросить, на каком законе основывается подобное задание?
Щегловитов. — На том, в котором изложены общие права по надзору: это — 250 ст. и последующие статьи Учреждения судебных установлений, уполномачивающие производить лично или через членов консультаций ревизию членам палат, а кроме того поручать им обозрение делопроизводства.
Председатель. — Да, да! Но на какой предмет выработана статья 249? Ясно, что это надзор лишь за законностью. Министр юстиции может только велеть проверить, все ли там у них, у судей, в законном порядке. Но каким образом министр юстиции посылает ревизовать судей с точки зрения соответствия приговора с обстоятельствами дела? На это 250 статья, насколько могу судить, не уполномачивает министра юстиции…
Щегловитов. — Мне казалось, все-таки характеристика должна быть дана… Это не есть, конечно, основание требовать отчета, — с этим я совершенно согласен. Требовать отчета нельзя… Но во всяком случае можно пользоваться ревизией для характеристики деятельности того или другого судьи и материала, который получается из обозрения делопроизводства…
Председатель. — Простите! Будем юристами: закон не знает слова «характеристика»… Закон уполномачивает вас, как генерал-прокурора, при посредстве известных судебных коллегий, преследовать цели законности: отнюдь не характеристики, а — законности. А вы посылаете людей, чтобы они рассматривали приговор, и как член Комиссии уже обратил ваше внимание, в ряде случаев было с вашей стороны указание проверить немотивированный приговор. Таким образом, министр юстиции посылает ревизора сопоставить результаты судейского убеждения — этот приговор, который не мотивирован, с данными предварительного следствия.
Щегловитов. — Ведь эти приговоры по политическим делам с сословными представителями постановляются немотивированными в части, касающейся фактической оценки обстоятельств дела; а в отношении юридическом, в отношении применимости того или иного закона карательного, по разъяснению сената, мотивировка требуется…
Председатель. — Вы ранее изволили утверждать нечто другое. Мы, как юристы, говорили языком юристов. Когда мы говорим о соответствии приговоров обстоятельствам дела, то мы знаем, что такое обстоятельства дела, и знаем, что в понятие обстоятельства дела не входят нормы закона. Не правда ли?
Щегловитов. — Да.
Соколов. — Г. Щегловитов, были ли с вашей стороны какие-нибудь распоряжения, основанные на подобных ревизиях? Какая судьба постигла членов палаты, которые были вашими чиновниками обревизованы?
Щегловитов. — Если бы вы могли назвать отдельных лиц, я мог бы ответить определенно.
Соколов. — Не было ли случаев переводов, удаления, устранения судей?
Щегловитов. — С их согласия…
Соколов. — Конечно! Вы по закону не могли иначе действовать… Но весьма часто, как мы могли видеть в случае с Максимовичем, это согласие вынуждалось. Чину судебного ведомства указывалось на известные неприятные последствия, если он не выразит своего согласия. Вы не можете в вашей памяти восстановить подобные случаи? Я думаю, что их не так уже много было — этих случаев перемещения или удаления членов судебных палат, вызванных недостаточной их строгостью по политическим делам.
Щегловитов. — В самом начале я объяснил, когда мне был предложен общий вопрос, касающийся несменяемости судей, что были исключительные совершенно случаи, когда мне приходилось, так сказать, путем личных уговоров, склонять того или другого судью на изменение его служебного положения…
Соколов. — Я теперь спрашиваю, в какой связи это склонение находилось с отчетами ревизоров?
Щегловитов. — Могло быть…
Соколов. — Ну вот! Не вспоминаете ли вы случаев определенных, когда именно члены судебных палат подвергались этому склонению с вашей стороны после отчетов ваших чиновников?
Щегловитов. — Сейчас я затрудняюсь припомнить…
Соколов. — Эти чиновники были товарищи министра или директора и вице-директора департаментов?
Щегловитов. — Были директора или вице-директора…
Соколов. — Деятельность членов судебной палаты ставилась в зависимость от взглядов и отчетов вице-директора или директора?
Щегловитов. — Члена консультации.
Соколов. — Так.
Председатель. — Разрешите вам поставить такой вопрос. Вы изволили сказать, что вы заботились о том, чтобы судьи постановляли строгие приговоры. Мне хочется спросить вас, как преподавателя права, как лицо, выступавшее в литературе: как представляете вы себе строгость приговора судьи? Ведь мы с вами, я думаю, оба стоим на той точке зрения, что приговор судьи есть дело его непосредственного убеждения: — результат проверки всех данных, результат выводов, к которым он пришел из развернутого перед ним непосредственно на суде жизненного случая… Как же могут контролировать судью министр юстиции, лицо, стоящее бесконечно далеко от всей сложности этого жизненного случая, — или посланный им заезжий человек-ревизор, не присутствовавший при развертывании этой жизненной картины? Как может он, ваш ревизор, и как можете вы, в качестве юриста, считать мыслимым контролировать: строгий ли постановлен приговор или мягкий?
Щегловитов. — Мне казалось, что в резких случаях это возможно…
Председатель. — То-есть?
Щегловитов. — Т.-е., когда при данных, более или менее не подлежащих сомнению, выносится тем не менее оправдательный приговор. Вот я и говорю: в таких резких случаях расценка возможна и допустима…
Председатель. — Но позвольте: что такое для юриста — не подлежащие сомнению данные? — для юриста, который не присутствовал на суде, не провел судебного следствия, который не просидел за судейским столом? Я еще понимаю, вы едете на процесс Павловских сектантов: перед вами развертывается вся картина; вы не разделяете мнения суда, который жестоко карает. — Здесь вы можете говорить о том, что этот приговор строг, что вы бы другой вынесли… Но чиновник или даже сенатор, post factum посланный в разъезды по Российскому государству, — не причиняет ли такой ревизор громадного вреда делу правосудия, отваживаясь судить судью? Мы просим вашего объяснения, как министра юстиции: интересно выслушать, как вы себе представляете этот вопрос?
Щегловитов. — Мне кажется, все-таки, о каждом судье, и не участвуя и не присутствуя при судебном рассмотрении тех дел, которые протекали в деятельности этого судьи, все-таки всегда можно составить себе представление, что это — мягкий судья, что это — строгий судья, или — нечто, так сказать, индиферентно относящееся, не поддающееся определенной характеристике, лицо… Ведь понимание возможно: мы такие оценки постоянно встречаем. Вот мне и думается, что в этих уловимых рамках характеристика возможна…
Председатель. — Но вы не находите, что эта характеристика, во всяком случае, не дозволена лицу, стоящему на точке зрения законности и наблюдения за законностью?
Щегловитов. — Да ведь для министра юстиции нужна же характеристика? Ведь он должен же знать своих судей…
Председатель. — С точки зрения того, законно ли они судят?
Щегловитов. — Да, если хотите: в широком смысле — закон обнимает собой правильную расценку обстоятельств дела…
Председатель. — Вы чувствуете себя в состоянии проверить правильность этой расценки?
Щегловитов. — Я указывал, что только в грубых случаях это уловимо, а не в случаях, где дело сводится к оценке более тонких, филигранных обстоятельств дела…
Председатель. — Что же при этом вы считаете грубыми случаями?
Щегловитов. — Когда совершенно установлен состав преступления.
Председатель. — А может быть факты пролетели на судебном следствии и исчезли?… Может быть, бесследно исчезли именно те факты, на основании которых правильно предположены юридические нормы и установлена степень виновности?
Щегловитов. — Все-таки в протоколе есть отметки: они представляют данные, согласные или несогласные с предварительным следствием…
Председатель. — В протоколах суда с сословными представителями и таких данных нет.
Соколов. — Вы уже сообщили нам, что вы следили за строгостью судей… Вам известно, что за время вашего министерства судебные санкции повысили свою строгость? Что по целому ряду статей, где раньше выносились приговоры со ссылкой на поселение, стали применяться, в особенности в провинциальных палатах, каторжные работы? Что по 102 статье раньше никогда не выносились каторжные работы, а за время вашего министерства каторжные работы все чаще и чаще применялись?
Щегловитов. — Я думаю, что за время моей деятельности изменение последовало в смысле увеличения числа обвинительных актов; но в отношении усиления строгости — я думаю, что статистика едва ли подтвердит этот факт…
Соколов. — А чем вы объясняете увеличение числа обвинительных приговоров?
Щегловитов. — Во-первых, изменением личного состава, о котором была уже речь раньше, а затем количеством возникавших дел. Ведь, собственно, идея судебного рассмотрения политических дел начинается только с 1904 года, а в 1906 году истекло всего два года моей деятельности, как министра юстиции.[*]
Соколов. — Увеличение числа обвинительных приговоров я понимаю в том смысле, что увеличился процент обвинительных приговоров. Вы установили, что за время вашего министерства увеличился процент. Это вы объясняете изменением личного состава судей, в результате вашего наблюдения и вашего воздействия. Позвольте мне, продолжая иллюстрацию некоторых общих положений, спросить вас: вы помните дело прокурора кашинского окружного суда — Войткевича?
Щегловитов. — Я просил бы напомнить…
Завадский. — Он переведен из Кашина в Великие Луки по настоянию тверского губернатора Бюнтинга, ныне покойного, который указывал, во-первых, на его кадетские симпатии, польские симпатии и на его католическое вероисповедание, которое неудобно для предстоящего прославления мощей Анны Кашинской, а затем ссылался на неодобрительное заявление о нем видного землевладельца Калязинского уезда. Произведено было расследование прокурором Хрулевым, который защищал Войткевича и говорил, что, может быть, он несколько вял, по его выражению, но никаких заслуженных нареканий его деятельность не вызывает. После этого Войткевич был переведен в Великие Луки.
Щегловитов. — Есть письменное сообщение? В деле осталось письменное сообщение?
Завадский. — Да, есть сообщение Хрулева… И этот случай, очевидно, объясняется опять тем же соображением: как неугодный губернатору прокурор, он должен был потерять свое место?
Щегловитов. — Да.
Завадский. — Почему католик мешал прославлению мощей Анны Кашинской?
Щегловитов. — Там другие основания выдвигались…
Завадский. — Там никаких фактов нет, ничего нет, кроме того, что он имеет симпатии кадетские и симпатии польские!… Это все только выводы, так же как и у Маклакова по делу Ющенко: он писал, что Ющенко занимается пустыми разглагольствованиями. Ведь это вывод, неизвестно на чем основанный… Хотя бы один факт! Направляли дело, руководствуясь тем, что обвиняемый — поляк или к.-д.
Щегловитов. — Общая характеристика его была, я думаю, скорее неблагоприятная для него, по сведениям министерства…
Председатель. — В министерстве имелись кондуитные списки?
Щегловитов. — Да. В отношении каждого лица судебного ведомства заносились отзывы, которые поступали от старших членов магистратуры или прокуратуры.
Председатель. — Это не резало ваш слух? Я непривычен к этому: мне казалось, что кондуитные списки ведутся относительно учеников. Оказывается, относительно несменяемых судей тоже велись эти списки!…
Щегловитов. — Это не я сделал. Это до меня существовало…
Председатель. — Сейчас был затронут один вопрос. Вы признаете факт, что в ваше министерство в исключительно неблагоприятное положение были систематически поставляемы лица польского происхождения, католического вероисповедания?
Щегловитов. — Это было в губерниях Царства Польского. Там я этому придавал огромное значение.
Председатель. — А в русских губерниях?
Щегловитов. — А в русских губерниях — нет.
Председатель. — Вы этому придавали большое значение, — но на каком законе вы основывали соответственные мероприятия?
Щегловитов. — Конечно, закона я бы вам не указал…
Соколов. — Вам известно, что в петроградской судебной палате поляков совсем не принимали на должность судебных кандидатов? Таково было распоряжение старшего председателя судебной палаты Крашенинникова.
Щегловитов. — Жалоб я, по крайней мере, не получал…
Соколов. — Но, может быть, и без жалоб со стороны отвергаемых, вы могли наблюдать это явление, что они совсем не принимались?
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — Вам известно, что после издания манифеста великого князя о польской автономии, когда поляки, кандидаты петроградского университета, думали, что отныне их будут принимать в судебное ведомство, — сенатор Крашенинников отдал распоряжение, чтобы поляки не принимались?
Щегловитов. — Мне это было не известно.
Председатель. — Какое у вас было основание для утверждения, которое вы сделали в вашей речи в государственной думе в 1909 году относительно службы в вашем ведомстве лиц польского происхождения, что эти лица «засорят это дело» (т.-е. дело суда) своим сепаратистским направлением?
Щегловитов. — Это касалось губерний Царства Польского, потому что, я помню, я в этой речи говорил: «двери суда в других местностях им открыты…».
Председатель. — Но вам не казалось, что упрек в сепаратистском направлении, обращенный к лицам вашего ведомства, — что такой упрек должен иметь твердые, реальные, фактические основания? — Потому что без этих оснований этот упрек несправедлив и, вероятно, обиден…
Щегловитов. — Я готов признать это горячими словами, которые у меня вырвались… Это не подлежит сомнению.
Председатель. — Вы утверждали, что двери суда в других частях Российской империи полякам открыты.
Щегловитов. — Это есть в стенограмме.
Председатель. — Да, в стенограмме это есть. Но, вы не знаете, насколько этот великолепный принцип равноправия реализовался? Не приходилось ли вам, как вы изволили говорить, в других частях России допускать в своей деятельности значительные отступления от этого принципа?
Щегловитов. — Поляки допускались в судебные палаты.
Председатель. — Вы помните судьбу владимирского прокурора В. М. Шаланина?
Щегловитов. — Здесь, кажется, политические основания были.
Завадский. — Шаланин, это — владимирский прокурор, о котором у меня сведения такие: он, чтобы прекратить беспорядки в тюрьме, где были политические заключенные, вошел туда, позволил им при себе курить, руку подавал, а в результате прекратил голодовку и беспорядки. После этого ему было указано, чтобы он подал прошение об отставке и уходил, хотя прокурор палаты, Александров-Дольник, применение такой суровой меры к нему не признавал справедливым.
Щегловитов. — Это было единственное основание?
Завадский. — Я не знаю. Факт тот, что после этого он должен был уйти из прокуроров суда.
Председатель. — Вы не помните в деталях этого случая?
Щегловитов. — Я могу только сослаться на материал. Это в котором году было?
Завадский. — В 1907 году. Владимирским губернатором был Сазонов. Он указывал на противоправительственный образ мыслей Шаланина, а Александров-Дольник опровергал это в своем рапорте. Шаланин был, однако, уволен от должности владимирского прокурора.
Председатель. — Вам не казалось, что хотя бы даже единичные, подобные случаи должны были страшно деморализовать судей и прокуроров и вообще лиц вашего ведомства. Ибо такая общая характеристика: «противоправительственный образ действий», как причина для увольнения прокурора суда, ведь это же страшно по-моему?
Щегловитов. — Как мне ответить?…
Председатель. — Но ведь вы приняли меры к увольнению Шаланина? — безразлично без 3-го пункта или по 3-му пункту. Ведь вы стояли во главе ведомства: должны вы были заботиться о том, чтобы ведомство давало нам правосудие?
Щегловитов. — Конечно.
Председатель. — Теперь происходит такой случай, как с прокурором Шаланиным. Вы знаете, что такие случаи становятся известными, в особенности в судейских кругах и в кругах адвокатуры. Это деморализует ведомство. Допущение одного случая ведет за собой тысячи последствий. Вы не сознавали этого?
Щегловитов. — Мне не казалось, что будут такие тяжкие последствия.
Соколов. — Скажите, пожалуйста, за время вашего министерства, вы принимали кандидатами на судебные должности евреев?
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — Чем вы при этом руководились?
Щегловитов. — Тем, что им, в виду их религиозных особенностей, не по плечу была бы судебная деятельность.
Соколов. — В чем религиозные особенности могли препятствовать судебной деятельности?
Щегловитов. — В этом отношении, я, чтобы пространно не разъяснять этого вопроса, сошлюсь на особое мнение Ф. Н. Плевако, представленное им статс-секретарю Муравьеву по вопросу о допущении лиц иудейского вероисповедания в адвокатуру.
Соколов. — Вы сочли возможным включить в число основ вашей деятельности этот взгляд на иудейское вероисповедание, как на препятствие правильному отправлению судебных функций?
Щегловитов. — Относительно занятия судебной должности даже в законе о местном суде 15 июня 1912 года включена была оговорка в отношении мировых судей…
Председатель. — Чтобы исчерпать список примеров, иллюстрирующих некоторые свойства управляемого вами ведомства, перейдем к эпизоду с товарищем прокурора в Митаве — Шабловским.
Завадский. — Вот справка: Шабловский был переведен в Петроград раньше, чем на его деятельность в Митаве поступила жалоба в министерство юстиции; но затем, в качестве товарища прокурора петроградского суда, он не был никуда вами двинут, и вы ссылались, когда прокурор палаты представлял его в прокуроры, на неодобрительный отзыв администрации. Вы не припомните этого? Потом Шабловский был сделан вами начальником судебной экспертизы в Москве, потому что движение по прокуратуре вы признали невозможным, в виду отзыва курляндской администрации.
Щегловитов. — Отзыва, который не препятствовал его переводу в Петроград?
Завадский. — Он был переведен раньше, чем эти отзывы поступили. Он оказался в Петрограде. Но дальнейшему движению из Петрограда эти отзывы администрации препятствовали: вы ссылались на его недостаточно твердое направление. И в этом случае местная прокуратура стояла на том, что курляндская администрация ошибается в своих отзывах о Шабловском, но вы, тем не менее, приняли на веру отзывы администрации.
Щегловитов. — Я затрудняюсь на это ответить…
Председатель. — Затем, случай со следователем Золотницким в Варшаве.
Завадский. — Он был вами переведен из Варшавы в Тифлис после того, как составил протокол допроса свидетелей по делу Маршевского, который обвинялся в злоупотреблениях при постройке моста. Он составил несколько протоколов допроса свидетелей, содержавших указания, что на генерал-губернатора Скалона падает подозрение в денежной неотчетности, — выражаясь вежливо, — в смысле преимущественного благоволения к одной подрядной фирме перед другой…
Щегловитов. — Эти действия (Золотницкого) были неправильны, насколько мне помнится… Варшавский прокурор мне представлял об этом.
Завадский. — В этом деле Золотницкого особенно остановило мое внимание следующее обстоятельство. Правильны или неправильны были действия Золотницкого, но они были, приблизительно, за год до его перевода из Варшавы. Перевод же Золотницкого, как видно из дела, состоялся по вашему распоряжению тогда, когда на ваше имя от генерал-губернатора Скалона поступило письмо, в котором он говорит: «Вот сколько времени проходит, и лицо, которое позволило себе составить протокол обо мне, до сих пор еще в Варшаве»… Если действия Золотницкого были неправильны, естественно, было бы тогда же, тотчас по обнаружении их, перевести его в Тифлис. Но я высчитал: оказывается, месяцев 10–11 прошло со времени составления им протокола…
Щегловитов. — Это объясняется тем, что хотелось, так сказать, не менять его служебное положение, пока не оказалось, что, в виду генерал-губернаторского заявления, это сделать невозможно.
Завадский. — Я к этому и подхожу: значит, жалоба генер-губернатора заставила?
Щегловитов. — Приходилось и с этим считаться…
Председатель. — Теперь еще один случай, это — судебный следователь Бувайлов в Коврове.
Завадский. — Бувайлов был переведен в Старый Оскол, а владимирский губернатор Сазонов писал о том, что Бувайлов принадлежит к левым партиям, входит в партию к.-д. и вообще неблагонамеренный человек. Из дела же видно, что председатель владимирского суда и тогдашний прокурор владимирского суда удостоверяли, что Бувайлов пользуется уважением и что он, действительно, был в к.-д. партии, но как только сенат воспретил, моментально из нее вышел. Председатель суда добавляет, что ему лично ничего неизвестно об образе мыслей Бувайлова. Вместе с прокурором они подтверждают только одно: что Бувайлов прошел выборщиком во 2-ю государственную думу при поддержке местной ковровской газеты, которая считалась к.-д.
Щегловитов. — Он был переведен из Коврова в Старый Оскол?
Завадский. — Да, без прошения.
Щегловитов. — Как исправляющий должность?
Завадский. — Да… Губернатор пишет, — и хотя прокурор и председатель возражают, тем не менее, следователь переводится!
Щегловитов. — Его принадлежность все-таки устанавливалась…
Завадский. — Он до тех пор принадлежал, пока было можно, но потом ушел. Вы не припомните этого случая?
Щегловитов. — Раз удостоверено это письмами, я, конечно, возражать не могу.
Председатель. — Скажите, вы помните обстоятельства, при которых был изменен устав военно-медицинской академии?
Щегловитов. — Да, более или менее помню…
Председатель. — Будьте добры, во-первых, изложить факты: т.-е. какие действия вами были совершены по этому поводу, а затем указать закон, положенный в основу этих ваших действий.
Щегловитов. — Первоначально, как, вероятно, известно Комиссии, в сенате возникло сомнение относительно возможности обнародования этого положения о военно-медицинской академии, в виду того, что издание не последовало в общем законодательном порядке; но, затем, я получил указание на необходимость осуществить это обнародование, в виду того, что чуть ли не за год перед фактом внесения в сенат военным министром этого положения для обнародования оно было уже в действительности осуществлено. Обер-прокурор 1-го департамента просил меня ознакомиться ближайшим образом с этим делом и теми сомнениями, которые в сенате возникли. Оказалось, что сомнения эти сводились к нескольким статьям этого положения, которые требовали прохождения общим законодательным порядком. Тогда я просил военного министра дать мне тех лиц, которые ближайшим образом в составлении этого положения участвовали, для того, чтобы обсудить, нельзя ли достигнуть какого-либо изменения этих статей, в виду того, что самое прохождение этого положения последовало по 96 ст. Основных Законов, т.-е. вне общего законодательного порядка, а по пути специально военного — что ли? — законодательства… Были по этому поводу переговоры с несколькими сенаторами, которые были присланы ко мне. Они доказывали, что они правы, но что все-таки сомнение возникало… И тогда я, в конце концов, пригласил несколько сенаторов 1-го департамента для частных переговоров: возможно ли в том виде, как это положение вносилось в сенат, его обнародование? Соглашение было достигнуто, после чего и состоялось обнародование этого положения.
Завадский. — Я не ясно себе представляю, что это за частное совещание сенаторов с министром?
Щегловитов. — Я не видел в этом беззакония.
Завадский. — Вы своего мнения не высказывали в этом собеседовании?
Щегловитов. — Я выслушивал и спрашивал сенаторов, можно ли принять ту точку зрения, которую проводили представители военного ведомства, — вот, собственно говоря, какая была цель этого совещания.
Председатель. — Перехожу к другому вопросу. Скажите, как общие принципы вашей деятельности, как министра юстиции, прилагались по отношению к уголовному кассационному департаменту? Вы и тут проводили требование твердости, требование наклона к монархическим идеям: уголовный кассационный департамент не представлял в этом отношении исключения?
Щегловитов. — Нет.
Председатель. — В чем же заключалось ваше руководство и какие были ваши действия в этом направлении по отношению к уголовному кассационному департаменту, к его деятельности и к личному составу?
Щегловитов. — Прежде всего, в подборе сенаторов. Затем, в известных указаниях, которые приходилось давать прокурорам уголовного кассационного департамента по вопросам, по которым они встречали сомнения. Я ежедневно принимал обер-прокуроров, выслушивал все наиболее серьезные вопросы, которые у них возникали, и предполагаемые возражения, которые они думали излагать в своих заключениях.
Председатель. — Позвольте иллюстрировать одним примером, по отношению к которому хотелось бы слышать ваше разъяснение: вы не помните обстоятельств, при которых был перемещен товарищ обер-прокурора С. М. Зарудный?
Щегловитов. — С назначением его куда?
Председатель. — В другое отделение, где слушаются акцизные дела.
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — Это перемещение было в связи с делом Маргулиеса, редактора газеты: «Радикал», — в связи с тем, что товарищ обер-прокурора Зарудный дал заключение по поводу приговора судебной палаты, что дело подлежит прекращению за отсутствием состава преступления.
Щегловитов. — Я в эти вопросы не вмешивался. Это дело, в котором разбирается прокурорский надзор.
Соколов. — Кто мог содействовать тому, что товарищ обер-прокурора Зарудный был переведен из того отделения, где рассматривались политические дела, в то отделение, куда они попасть не могли?
Щегловитов. — Вероятно, было соглашение между товарищем и обер-прокурором, потому что, в частности, это — лицо, к которому я относился с особой сердечностью…
Соколов. — Так что, с вашей стороны, не было желания, выраженного обер-прокурору, чтобы этот перевод состоялся?
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — А с вашей стороны не было указания обер-прокурору на то, как должно было решиться дело Маргулиеса? Вы не были ближайшим образом ознакомлены с этим делом, не давали указаний, чтобы приговор остался в силе?
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — У вас не было разговоров с председателем петроградской судебной палаты Крашенинниковым, который вынес этот приговор и который был очень изумлен, что его приговор почти целиком кассирован?
Щегловитов. — Не помню…
Соколов. — Вы не вспоминаете, что сенатор Крашенинников указывал, что некоторые решения департамента ставят судей, рассматривающих дело по существу, в большое затруднение, что требования политического момента — одни, а сенатская практика заставляет эти требования не выполнять?
Щегловитов. — Если Крашенинников это удостоверяет, то я, конечно, не отрицаю.
Соколов. — Не отрицаете?… Не находился ли подбор сенаторов, о котором вы сейчас говорили, в связи именно с указаниями судей на то, что если сенатская практика будет продолжаться в том же направлении, им очень трудно выполнять ту политическую служебную миссию, к которой они считали себя призванными?
Щегловитов. — Этого я не знаю…
Соколов. — Не знаете? Не можете сказать или не вспоминаете?
Щегловитов. — Чтобы на выборе лиц, попадавших в сенат, отражалось это обстоятельство?… Видите, тут очень трудно в вопросах разобраться… Собственно говоря, мне казалось всегда правильным стремиться к достижению чего-либо осуществимого… Жалобы на сенат из низших судебных мест постоянно и непрерывно раздавались, и не только вот на тему, которая вас заинтересовала, но и вообще на тему о чрезвычайном осложнении и — как бы сказать? — затруднительности для суда отправлять свои обязанности при тех требованиях, которые выдвигаются сенатом. Даже вот уже за последнее время моей деятельности мне приходилось слышать жалобы от председателей мировых съездов, что сенат давал такие разъяснения известной 159 статье Устава уголовного судопроизводства, которые прямо ставили мировые съезды в крайне затруднительное положение. Этим жалобам, повторяю, конца не было, и я всегда их выслушивал, и могу сказать, что, служа сам в судебном ведомстве, я точно так же всегда, пока не был обер-прокурором в сенате, переживал все эти нарекания сам… Так что, когда они раздались предо мной, как министром юстиции, они меня уже не изумляли. Я просто видел, так сказать, в свойствах самой кассационной деятельности многое такое, что невольно создавало не мало затруднений, без всякого, конечно, намерения со стороны г.г. сенаторов. Так что ответить на поставленный вами вопрос в этом смысле, что эти затруднения отражались на выборах личного состава, очень трудно…
Соколов. — Меня интересует область приговоров по политическим делам: какого рода жалобы вы вспоминаете? Откуда они шли в этой области и какого были содержания? Не указывалось ли в них, что сенат, своими сенатскими решениями и разъяснениями (относящимися к началу вашей деятельности, как министра), мешает судам осуществлять требования политического момента, в смысле ли кары или в смысле доказательств?
Щегловитов. — Нет, я таких не вспоминаю.
Соколов. — Вы сейчас упоминали о жалобах на толкование сенатом 159 статьи. А не поступали ли в начале вашей деятельности, как министра, жалобы от старших председателей судебных палат, что сенат своими решениями в области толкования 126, 102 и 129 ст.ст. уголовного уложения также препятствует осуществлять требования политического момента?
Щегловитов. — Нет, так я не могу сказать…
Соколов. — Не можете ли вы нам удостоверить, что именно в том отделении кассационного департамента сената, который просматривал все эти статьи, за вашу бытность все сенаторы переменились? Так что через несколько лет вашей деятельности все до одного сенаторы были назначены уже вами?
Щегловитов. — Вот в том отделении, 4-м?
Соколов. — Сенатор Бахтиаров[*] назначен вами, сенатор Гредингер, Глищинский… А на-ряду с этим, все — до одного — сенаторы, назначенные при прежних министрах, ушли из этого отделения…
Щегловитов. — Мне кажется, что это случилось естественно, уже в силу обстоятельств…
Соколов. — В силу чего же это случилось?
Щегловитов. — Мне казалось, в силу того, что 4-е отделение, очень тяжелое по свойству своей работы… Я, как бывший обер-прокурор, могу вам доложить, что всегда считалось самым тяжелым то отделение, куда дела поступали из палат с сословными представителями.
Председатель. — В то время, когда вы были обер-прокурором — до 1904 года, были мотивированные приговоры?
Щегловитов. — Я в отношении одного сенатора могу безусловно удостоверить. Это — Фененко, с которым я был связан близкими, дружескими отношениями. Он был в 4-м отделении, а я в 4-м отделении работал, как товарищ обер-прокурора. Я знаю, что он должен перейти в, так называемое, акцизное отделение, первое — для того, чтобы получить некоторое облегчение…
Соколов. — Могу я понять ваше разъяснение в таком смысле, что все сенаторы 4-го отделения ушли по собственному желанию и без вашего желания заменить их другими сенаторами, которые бы больше отвечали вашим взглядам?
Щегловитов. — В эти вопросы я, по крайней мере, никогда не вмешивался. Всегда сенаторы устанавливают между собою взаимное распределение себя по департаментам.
Соколов. — Но за время вашего министерства двое из директоров вашего министерства: Глищинский и Храбро-Василевский, были назначены сенаторами по вашему личному выбору?…
Щегловитов. — Выбор принадлежал мне, но в какое отделение они попадают, это совершенно от меня не зависело, и в этот вопрос я не вмешивался…
Соколов. — И сенатор Бахтиаров[*] был сделан сенатором из членов палаты по вашему выбору?
Щегловитов. — Да.
Соколов. — Такой переход из членов палаты в сенаторы есть обычное явление или экстраординарное, — ведь здесь минуются все иерархические ступени?
Щегловитов. — Это случаи, конечно, экстраординарные… Но и в прошлом я могу указать такой же случай относительно очень уважаемого сенатора П. К. Геракова.
Соколов. — Не была ли вызвана экстраординарная мера особой деятельностью члена палаты Бахтиарова[*] в петербургской судебной палате?
Щегловитов. — Это было усиленное ходатайство старшего председателя Крашенинникова, который рекомендовал его, указывая, что лицо это заслуживает исключительного, так сказать, служебного поощрения.
Соколов. — Так что председатель палаты Крашенинников, подведомственный по своей деятельности сенату, мог влиять на состав своих кассационных судей?…
Щегловитов. — Во всяком случае, ходатайствовал…
Соколов. — И ходатайство это было вами удовлетворено.
Председатель. — Скажите, проведение, по отношению к сенату, вот этих начал, о которых вы говорили, — не приводило ли в иных случаях к замедлению в постановке дел — в тех видах, чтобы за это время произошли или были произведены некоторые перемены в составе того самого присутствия, которому предстояло решить определенное дело?
Щегловитов. — От меня же не зависело задерживать постановку дел! От меня зависело только внесение, например, общих вопросов для разъяснения…
Председатель. — Да, но ведь обер-прокурор стоит в подчиненном отношении к генерал-прокурору с одной стороны, а с другой — канцелярия сената находилась до самого последнего времени в распоряжении обер-прокурора.
Щегловитов. — Совершенно верно, но назначение делалось независимо от обер-прокурора кассационного департамента.
Председатель. — Я говорю не о кассационном департаменте: я имею в виду дисциплинарные проступки членов судебного ведомства.
Щегловитов. — Чтобы тут создавалось…
Председатель. — Чтобы тут создавалась некоторая медленность, некоторое откладывание — в том предположении, что состав департамента изменится, или даже в том предположении, что за известный промежуток времени можно будет изменить этот состав… Я иллюстрирую это положение одним частным случаем. Вы не помните случая со Скарятиным, членом виленской судебной палаты?
Щегловитов. — Это дело задержано…
Председатель. — Или отложено, — скажем.
Щегловитов. — Оно отлагалось высшим дисциплинарным присутствием, а не министром юстиции и прямо post factum докладывалось министру.
Председатель. — Может быть, один из господ сенаторов будет добр напомнить обстоятельства дела.
Завадский. — Насколько мне известно, бывшему члену виленской палаты Скарятину стало известно, что предыдущий состав дисциплинарного суда высказался в большинстве за него, а потом, к 1-му января, оказался другой состав, который в большинстве высказался против него. Таким образом, рубеж года дал другой исход делу.
Щегловитов. — Я здесь никакого влияния не имел…
Завадский. — Мы именно об этом и ставим вопрос.
Щегловитов. — Я? — Нет…
Председатель. — Еще несколько отдельных случаев. Вы помните случай сенатора С. В. Иванова, в связи с подписанием протеста против смертной казни?
Щегловитов. — Это я помню.
Председатель. — Какие были ваши действия в этом случае? Ваше участие к чему сводилось?
Щегловитов. — К представлению всеподданнейшего доклада.
Председатель. — Который клонился к тому, чтобы…
Щегловитов. — Чтобы было предоставлено сенатору С. В. Иванову дать объяснение по поводу этого факта. Высочайшее соизволение на это последовало, но затем сенатор Иванов дал объяснения, которые были признаны неуважительными, и вот последовало то высочайшее повеление, которое перед допросом вы изволили огласить.
Председатель. — Значит, вы были инициатором этого дела или, во всяком случае, лицом, которое возбудило, так сказать, этот вопрос в двух всеподданнейших докладах. Скажите, на каком законе основывалось это ходатайство перед высочайшей властью об истребовании объяснений от сенатора?
Щегловитов. — Это — вот как. Я помню, было заседание совета министров, где впервые я увидел это воззвание (против смертной казни). Это было председателем совета министров предоставлено нам всем… И там, между прочим, оказался в числе лиц, подписавших, Иванов, с отметкой — «сенатор». Это привлекло общее внимание: каким образом лицо подчеркивает свое звание сенатора в воззвании, которое, собственно говоря, вовсе с сенаторским званием никакого соотношения иметь не могло? Вот тут высказывались разные мнения о том, как надлежало поступить… И, в конце концов, восторжествовало то мнение, которое сводилось к тому, что я, как генерал-прокурор, обязан донести об этом случае государю и испросить указаний.
Председатель. — Но с какой точки зрения? Что инкриминировалось сенатору Иванову?
Щегловитов. — Инкриминировалось то обстоятельство, что он в воззвании, которое свидетельствовало об определенном отношении к смертной казни, выделил свое сенаторское звание. В суждениях по вопросу о смертной казни, конечно, каждый волен думать все, что ему угодно, и точно так же в воззваниях, если считает нужным подписывать, никто не стеснен; но вот именно подчеркивание своего сенаторского звания это, так сказать, придавало уже совершенно иной характер этому воззванию…
Председатель. — То, что вы сейчас говорите, вы говорите не как законник: я бы сказал, что то, что вы сейчас сказали, есть рассуждение обывателя. Но меня интересует вопрос: почему всякий волен подписывать, а сенатор Иванов не волен? И почему сенатор Иванов не волен высказывать свое отношение к смертной казни?
Щегловитов. — Он волен его подписывать, как Иванов.
Председатель. — А почему не волен, как сенатор Иванов?
Щегловитов. — Потому что он не призван к составлению этого воззвания, как сенатор.
Председатель. — Это что же, превышение власти?
Щегловитов. — Во всяком случае, поступок, не соответствующий сенаторскому званию.
Председатель. — Т.-е. поступок предосудительный?
Щегловитов. — Во всяком случае, поступок, который не входит в круг предметов, на который, собственно, призываются сенаторы в своей деятельности. — Вот с какой точки зрения…
Председатель. — Тем не менее, С. В. Иванов, когда подписывал эту бумагу, был сенатором Ивановым, значит, это звание ему было присуще. Почему он не мог подписаться «сенатор Иванов»? С какой точки зрения не мог?
Щегловитов. — Так казалось, что это одно с другим, так сказать, никакого соотношения не имеет.
Председатель. — Какой закон лежал под этим «казалось»?
Щегловитов. — Именно тот закон, который был выработан учреждением правительствующего сената, что каждый сенатор находится в непосредственной зависимости от верховной власти.
Председатель. — Вы точно цитируете эту статью?
Щегловитов. — Нет, не точно; я смысл передаю.
Председатель. — Что же? Значит, он нарушил этим самым свою зависимость от верховной власти?
Щегловитов. — Нет, не зависимость, но, во всяком случае, о таком поступке сенатора должно быть доводимо до высочайшего сведения.
Председатель. — Позвольте: мы тут вертимся в логически неправильном кругу: мы просто неправильно рассуждаем. Вы говорите: о таком поступке должно быть доведено до сведения высочайшей власти. Но почему должно быть доведено? Под какую категорию подходит этот поступок? Какой закон нарушен тем, что сенатор Иванов дал свою подпись?
Щегловитов. — На закон, конечно, нельзя было бы указать, но вопрос в том, совместимо ли это с сенаторством, со званием сенатора… Вот, собственно, в какой плоскости могла итти речь.
Председатель. — С какой же точки зрения этот поступок несовместим со званием сенатора: он порочит человека?
Щегловитов. — Я бы не сказал: «порочит», — это неподходящее в данном случае выражение… Но мне казалось бы, в данном случае, подпись со званием сенатора не должна находиться под таким воззванием.
Председатель. — По какому закону?
Щегловитов. — Может быть, вы будете добры дать мне Свод Законов (ищет в Св. Зак.): «Статья 251».
Председатель (читает). — «Если бы паче чаяния, кто-либо из сенаторов, при исполнении его деятельности, преступил пределы установленного порядка, то министр юстиции обязан донести о сем его императорскому величеству…» Так что вы предполагаете, что, когда он подписывал эту бумагу, он был при исполнении своей деятельности?
Щегловитов. — Во всяком случае, он на свое звание ссылался.
Председатель. — Ссылаться на свое звание не значит быть «при исполнении своей деятельности».
Щегловитов. — Сенатор призывается для определенной деятельности в сенате. Во всяком случае, не для участия в воззваниях, которые получают то или другое назначение…
Председатель. — Если сенатор исполнил свою деятельность, он затем волен делать все, что ему угодно, если это не порочит его доброго имени, если это не есть акт, запрещенный законом и добрыми нравами.
Щегловитов. — Но вот оказалось, что этот вопрос…
Председатель. — Что же было в результате второго высочайшего рассмотрения этого дела?
Щегловитов. — Уменьшение содержания, после представления о том…
Председатель. — Представитель верховной власти является лицом безответственным, ответственным является тот министр, который докладывал ему; на каком же законе основывалось такое действие министра, этого вы нам все-таки сказать не можете?
Щегловитов. — Я доложил последние соображения.
Председатель. — Вот еще случай с сенатором, покойным Арнольдом, — случай, который много шума сделал в судебном ведомстве. Говорилось о нем неоднократно и с трибуны государственной думы.
Щегловитов. — По отношению к покойному Федору Федоровичу, при самом вступлении в министерство, я застал такое положение. За разрешение митинга в Кремлевском здании судебных установлений в Москве, о нем последовала высочайшая резолюция в том смысле, чтобы его удалить из Москвы. Но эта резолюция, по ходатайству Акимова, была отложена, и я старался к этой резолюции не возвращаться и, так сказать, не напоминать… Но оттуда-то исходили постоянные напоминания…
Председатель. — Откуда и кому?
Щегловитов. — От верховной власти… Напоминания, которые я слышал в виде вопросов такого рода: «А что же? Все еще продолжает в Москве действовать такой-то?» На что я говорил: «да», и при этом, так как меня с Арнольдом связывали прежние мои добрые отношения, я всегда аттестовывал Арнольда с самой лучшей стороны и никогда против этого человека не позволил бы себе ни одного намека, сколько-нибудь могущего затемнить добрую память этого, на мой взгляд, действительно хорошего судебного деятеля… Так тянулось, если не ошибаюсь, года полтора. Его управление, как старшего председателя, относится ко времени 1907 года.[*] И вот этот видный процесс… Я с ним много раз говорил лично, потому что, повторяю, нас связывали добрые отношения, — я говорил, что вот такое, собственно говоря, печальное положение: к такому уважаемому человеку создалось такое предвзятое отношение!… И его это самого огорчало, потому что, я должен сказать, этому человеку совершенно напрасно приписывали даже какой-то чрезмерный либерализм… Конечно, он не был человеком консервативного направления: я себя считал более консервативным, чем он. Он был более отзывчив, так сказать, к явлениям либерального порядка и к их оценке… Но, во всяком случае, это был глубокий монархист. Это я могу, ссылаясь на мои, прямо дружеские разговоры с ним, удостоверить. И вот, наступило, наконец, время, когда я получил прямое указание, во что бы то ни стало, заменить его другим лицом… Я ходатайствовал, тем более, что я знал, что Федора Федоровича Петроград совершенно не устраивал, а Москва им дорожила. К Москве, так сказать, и его симпатии тяготели… Но, тем не менее, это приказание было категорическое. И вот тогда я пригласил Ф. Ф. и сказал ему об этом. Он мне сказал: «Ну, что же делать, Иван Григорьевич! Ведь как видно было и раньше, — этот вопрос неустраним. Я вас покорнейше прошу только об одном — позаботьтесь о возможно лучшем материальном моем обеспечении…» Тогда я просил министра финансов того времени, Коковцова, в этом случае помочь моему приятелю, дать размер содержания, который превосходил обычную норму. Ему было испрошено тысяч девять, — если память не изменяет. Вот, собственно говоря, как это происходило. Теперь вопрос о нарушении несменяемости. Не желая Комиссию затруднять какими-нибудь разъяснениями, я признаю, что здесь нарушение несменяемости допущено было. Существует, однако, иное мнение, которое я слышал, — и оно мне казалось правильным: достаточно взглянуть на труды московского юридического общества, касающиеся устройства сената. Там встречается вопрос о сенаторской несменяемости: оказывается, сенаторы кассационного департамента не пользуются несменяемостью до нового закона по учреждению сената, который, вероятно, скоро войдет в жизнь. И вот, в силу этого, существовало такое мнение: если старший председатель имеет звание сенатора, то, как сенатор, есть должность 3-го класса, а старший председатель — 4-го, его служебное положение должно, так сказать, учитываться по этому высшему рангу…
Председатель. — Он был сенатор.
Щегловитов. — Я все-таки хочу сказать, что я здесь в таком отношении…
Председатель. — Почему вы не ответили non possumus, — ибо деспотии нет? Почему министр юстиции не ответил представителю верховной власти: мы не можем?…
Щегловитов. — За это, я повторяю, я заслуживаю осуждения, — не только потому, что нарушение было допущено, что я не умел остановить верховную власть (потому что, как вы правильно изволили сказать: верховная власть безответственна, ответственны мы, министры, — это никакому сомнению не подлежит)… Но, кроме того, мне это еще обидно, по чувству того отношения, которое, простите, я несколько подробно характеризовал, потому что это обстоятельство у меня осталось, как обстоятельство очень тяжелое…
Председатель. — Обстоятельство тяжелое — не только в виду вашего отношения к Арнольду, а принимая во внимание личность этого человека: это совершенно бескорыстный человек и судья.
Щегловитов. — Для меня — человек, которого я очень высоко ценю…
Председатель. — Какое участие вы принимали в деле Бейлиса.
Щегловитов. — Обычное, которое вообще я проявлял к возникающим уголовным делам…
Председатель. — Разве это дело было обычное?
Щегловитов. — Нет, это дело было исключительное.
Председатель. — Может быть, и внимание, которое вы уделяли этому делу, было также необычное?
Щегловитов. — Нет, особого внимания не было… Это дело в судебном порядке велось.
Председатель. — Во всяком случае, вы хорошо были осведомлены о ходе этого дела?
Щегловитов. — Донесения поступали все время.
Председатель. — Чем была вызвана командировка в Киев по делу Бейлиса вице-директора Лядова!
Щегловитов. — Очевидно, для более подробного ознакомления с предварительным следствием.
Председатель. — Но ведь не по каждому делу командируется вице-директор. Это первый факт, на который я натыкаюсь при рассмотрении этого дела, и он говорит, что дело это было чрезвычайное и отношение к нему министерства было тоже несколько необычное.
Щегловитов. — Газеты очень шумно к нему относились, и невольно министру юстиции приходилось несколько более вооружать свои способы осведомления этим делом. Этим и объясняется командирование Лядова.
Председатель. — Вы командировали, т.-е. это было по вашему распоряжению?
Щегловитов. — Конечно.
Председатель. — Какое же поручение было дано Лядову?
Щегловитов. — Ознакомиться со всеми подробностями дела.
Председатель. — Он вам представил доклад?
Щегловитов. — Очевидно.
Председатель. — То-есть вы говорите предположительно?
Щегловитов. — Я сейчас не помню, есть письменный доклад или нет. Может быть, ограничилось и устным докладом…
Председатель. — Разве обычно такие исключительные командировки кончаются устным докладом.
Щегловитов. — Да, возможно…
Председатель. — Вами делались по этому поводу доклады представителю верховной власти того времени?
Щегловитов. — Нет… кроме, может быть, самого общего по этому делу.
Председатель. — Вы не помните, чтобы вам, по возвращении Лядова, было предоставлено в письменной форме содержание дела? Список был представлен?
Щегловитов. — Этого я не помню.
Председатель. — Вы не помните о том моменте дела Бейлиса, когда следователь Фененко не хотел его привлекать?
Щегловитов. — Это я помню, что он встречал затруднение…
Председатель. — Вы помните, чем разрешилось это затруднение следователя?
Щегловитов. — Не последовало ли передачи Машкевичу этого дела?…
Председатель. — Это произошло несколько позже. А тогда, вы помните, прокурор киевской палаты предложил привлечь Фененко к ответственности… Каково же было ваше участие в этом эпизоде?
Щегловитов. — Тут я не помню… А было мое участие здесь?
Председатель. — Значит, вы этого не помните?
Щегловитов. — Я не помню.
Председатель. — Вы помните рапорт прокурора киевской палаты по делу Бейлиса от 29-го июня 1911 года, с изложением имеющихся или добытых против Бейлиса улик, с донесением о том, что Бейлис привлечен к делу на основании изложенных в этом рапорте данных и заключен под стражу?
Щегловитов. — Я этого в своей деятельности не помню… Может быть, я был в отпуску…
Председатель. — Мне бы хотелось поставить вопрос: не обратили ли вы, как генерал-прокурор, внимания на ничтожность данных, имеющихся против человека, подвергнутого тюремному заключению, в качестве меры пресечения, против него принятой?
Щегловитов. — Во всяком случае, такого распоряжения в этом направлении не было…
Председатель. — Об этом вам доносил формально прокурор киевской судебной палаты.
Щегловитов. — С моей стороны не было предписания об освобождении…
Председатель. — Предписание вами не было дано… Вы говорите, что не помните, докладывали ли вы бывшему императору о деле Бейлиса или нет. Но есть сведения, что 21-го декабря 1911 года вы представили бывшему императору всеподданнейшую записку по этому делу.
Щегловитов. — Раз записка эта существует, очевидно, это было…
Председатель. — Вы не помните, что в этой записке говорится о том, что следователем были добыты прямые указания на то, что одним из участников убийства Ющинского был еврей Мендель Бейлис?
Щегловитов. — Это в докладе выражено? — Значит, это так было.
Председатель. — Вы как бы доверяете моему утверждению, а память вам ничего не сохранила?
Щегловитов. — Нет.
Председатель. — Вы в общих чертах дело Бейлиса знаете, знаете улики. Можно было, говоря об этих уликах, назвать их прямыми указаниями на его участие?
Щегловитов. — Я бы сказал, это — смелое утверждение, потому что там косвенные улики…
Председатель. — Тем не менее, вы, донося об этом деле носителю тогдашней верховной власти, утверждали это. Вы не помните, чтобы вы по делу Бейлиса сносились с прокурором киевской палаты, кроме официальных бумаг, еще и частными письмами?
Щегловитов. — Нет, этого я не помню.
Председатель. — Не известно ли вам, что прокурором киевской судебной палаты по этому делу было допущено, параллельно с предварительным следствием, еще и дознание полицейское и другие акты, принятые в порядке дознания, к заарестованию Веры Чеберяк и т. д.?
Щегловитов. — Этого я хорошо сейчас не припомню… Но сведения об этом в министерство поступали.
Председатель. — Вы считаете такой порядок незакономерным?
Щегловитов. — Да, я думаю, что это неправильный порядок.
Председатель. — Вы приняли какие-нибудь меры, чтобы восстановить действия закона в данном случае?
Щегловитов. — Мне помнится, что было отдельное дознание относительно Мищука, относительно вещественных доказательств, которые возбуждали сомнение… Это я помню.
Председатель. — Но кроме того были арестованы и содержались под стражей Лука и Николай Приходько и Вера Чеберяк?
Щегловитов. — Очевидно, это было параллельное дознание.
Председатель. — Интересно, на каком основании генерал-прокурор не принял мер к тому, чтобы действие закона было восстановлено? Вам доносил об этом прокурор Чаплинский в своем рапорте?
Щегловитов. — Мне кажется, по закону следователь может отменять все распоряжения.
Председатель. — Следователь может; но независимо от того, отменил или не отменил следователь известные распоряжения, он должен принять меры к тому, чтобы они полицией не нарушались.
Щегловитов. — Я не отрицаю этого.
Председатель. — То-есть вы не отрицаете, что вами не были приняты меры?
Щегловитов. — Во всяком случае следа такого нет, и я этого не удостоверяю.
Председатель. — Скажите, пожалуйста, вы помните историю с выставлением обвинительных актов по делу Бейлиса? В частности, вы помните, что было два проекта обвинительного акта: один отвергнутый и другой, позднейший, — принятый?
Щегловитов. — Их было два до обращения дела к доследованию: я эти два обвинительных акта видел.
Председатель. — Чем объясняется, чем могло аргументироваться, что в первый обвинительный акт был внесен признак мучительности: «согласившись мучительным способом лишить жизни мальчика Ющинского», — а после доследования редакция была изменена, и этот признак мучительности превратился уже в признак ритуальности, который составом преступления не вызывался и ничего не прибавлял в данном случае?
Щегловитов. — Это в зависимости от дополнительного следствия, которое и выяснило ритуальный характер… Мне кажется, этим и объясняется это различие…
Председатель. — Вы были в контакте по поводу этого дела с департаментом полиции, органом министерства внутренних дел?
Щегловитов. — Я просил, кажется, департамент полиции относительно того, чтобы там были надлежащие розыскные органы…
Председатель. — То-есть на время производства предварительного следствия?
Щегловитов. — Да.
Председатель. — Вы не помните о сношениях министерства с департаментом полиции, в стадии поступления дела в суд и приготовительных распоряжений, т.-е. в стадии после предания суду Бейлиса?
Щегловитов. — Не было ли там содействия департамента полиции к явке экспертов?…
Председатель. — В чем заключалось это содействие? Почему оно было необходимо?
Щегловитов. — Ксендз Пранайтис находился в Ташкенте, и потому ему затруднительно было явиться, затем Косоротов — из Петрограда… Кажется, относительно двух этих лиц департамент полиции оказывал содействие к их явке.
Председатель. — По чьей инициативе он оказывал содействие?
Щегловитов. — Ко мне было обращено ходатайство киевского прокурора.
Председатель. — Вы удовлетворили это ходатайство?
Щегловитов. — Я обратился в департамент полиции.
Председатель. — Какое же содействие должно было быть оказано департаментом полиции?
Щегловитов. — Вероятно, материальное, насколько я помню… Потому что у министерства юстиции других источников нет. А вознаграждение, которое получают эксперты, — совершенно ничтожно…
Председатель. — Почему же министр юстиции по делу, несколько исключительному, обращается в департамент полиции? Какое имел отношение к процессу департамент полиции? У министерства юстиции — свои деньги, у департамента полиции — свои. Почему департамент полиции должен был тратить деньги на экспертизу по делу Бейлиса?
Щегловитов. — В виду исключительного характера дела, пришлось прибегнуть к этой мере.
Председатель. — Но почему вы обратились в департамент полиции?
Щегловитов. — Да потому, что министерство внутренних дел оказывало содействие в данном случае…
Председатель. — А почему министерство внутренних дел оказывало содействие? В какой мере дело Бейлиса могло интересовать министерство внутренних дел?
Щегловитов. — Я не могу сказать почему, но факт тот, что оно им интересовалось.
Председатель. — Вы говорите, что вы обратились за содействием в министерство внутренних дел. Почему вам пришло в голову обратиться именно в это министерство?
Щегловитов. — Потому, что оно все время изъявляло готовность в этом деле оказывать полную помощь правосудию. Вот единственно почему туда пришлось направиться.
Председатель. — Разве в министерстве юстиции нет никаких источников, из которых этот небольшой расход мог бы быть произведен?
Щегловитов. — Таких источников нет. Смета ведь очень ограниченная.
Председатель. — Что же сделало министерство внутренних дел или, в частности, департамент полиции, к которому вы обратились?
Щегловитов. — Насколько мне помнится, кажется, последовала выдача известных сумм этим лицам для того, чтобы они могли явиться и там прожить.
Председатель. — Кому именно?
Щегловитов. — Косоротову и Пранайтису.
Председатель. — Только этим лицам или еще и другим?
Щегловитов. — Насколько помню, — только этим.
Председатель. — Какие были суммы даны этим людям?
Щегловитов. — Это мне неизвестно.
Председатель. — Почему все-таки министерство юстиции может обращаться по судебному делу к содействию департамента полиции? Неужели момент материальных средств является здесь решающим и момент законности должен отступить перед моментом материальным?
Щегловитов. — Все дело розыска в руках департамента полиции.
Председатель. — Какое же может иметь отношение к делу розыска материальное содействие экспертам, чтобы они прибыли на суд? Вы в какой момент обратились к содействию департамента полиции?
Щегловитов. — В то время, когда делались приготовительные распоряжения.
Председатель. — Но не раньше?
Щегловитов. — Нет, не раньше.
Председатель. — Но у суда имеются законные средства для этого: послать повестку, настаивать на вызове?
Щегловитов. — А если проживает в другом округе, это — препятствие.
Председатель. — Наконец, через министерство суд мог снестись, чтобы в этом отношении было оказано содействие. Ведь постановка каждого дела стоит значительных денег: свидетелям выдаются некоторые суммы, экспертам также. Можно было авансировать из средств суда некоторые суммы. Почему департамент полиции усиливает по данному делу средства министерства юстиции, может быть, даже средства киевского окружного суда, где должно было слушаться дело?
Щегловитов. — Совершенно верно.
Председатель. — Вы не чувствуете в этом какое-то большое, я бы сказал, падение суда, — в этом обращении к департаменту полиции?
Щегловитов. — Готов это признать.
Председатель. — Вы вместе с департаментом полиции заботились об экспертах. А заботились вы о гражданских истцах?
Щегловитов — (молчит).
Председатель. — А департамент полиции?
Щегловитов. — Мне это неизвестно.
Председатель. — С кем в департаменте полиции вы были в сношениях по этому делу?
Щегловитов. — Вероятно, с Белецким, который стоял во главе… Одним словом, с тем директором, который тогда стоял во главе…
Председатель. — В какой форме вы сносились, — по телефону?
Щегловитов. — Да, по телефону.
Председатель. — Он у вас не бывал по этому вопросу?
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — Вы сказали, что вы обратились в департамент полиции, потому что министерство внутренних дел вообще сочувствовало розыскам по этому делу. Так что прежде, чем обратиться, вы знали, что министерство внутренних дел проявляет большой интерес к этому делу?
Щегловитов. — Оно командировало сыскных агентов.
Соколов. — Командирование агентов входит в область прямых обязанностей полиции. Когда судебная власть нуждается в сыскных действиях, то министерство внутренних дел обязано оказывать содействие. Так что из того факта, что департамент полиции командировал своих агентов, вы еще не могли вывести исключительного внимания к процессу со стороны органов министерства внутренних дел. А вот ассигновка из средств министерства внутренних дел на покрытие расходов экспертов — это уже не обычная форма внимания. Мне хочется знать, какие слова министра внутренних дел или директора департамента полиции или какие меры министерства внутренних дел создали у вас убеждение, что министерство внутренних дел особливо заинтересовано в этом деле и готово итти на особливые меры внимания?
Щегловитов. — Первое — обращение относительно органов розыска…
Соколов. — Что же такое Белецкий сказал вам в своем ответе на ваше обращение к нему, что у вас создалось убеждение, что министерство внутренних дел особенно заинтересовано в этом деле?
Щегловитов. — Он выразил полную готовность помочь в этом деле.
Соколов. — Но особая заинтересованность департамента полиции в чем выразилась?
Щегловитов. — Насколько я помню, характер всего разговора свидетельствовал о том.
Соколов. — Вы не можете, кроме общего характера разговора, привести отдельные мысли Белецкого: отчего он считал это дело делом чрезвычайной важности, почему министерство было заинтересовано в раскрытии этого преступления?
Щегловитов. — Я не могу сказать…
Соколов. — Прокурор палаты вам указал, что один из экспертов проживает в Ташкенте и что поэтому требуются большие расходы из государственного казначейства. Вы не ставили вопроса: почему нужен эксперт из Ташкента? Я понимаю: если из Петрограда или Москвы, вообще из культурных центров. Но ведь Ташкент среди таких центров не числится в нашем сознании…
Щегловитов. — Например, Пранайтис — как исключительный знаток.
Соколов. — Но разве прокурор киевской палаты был более компетентен, чем министр юстиции, который, имея местопребывание в Петрограде, мог бы спросить соответственные научные или ученые учреждения Петрограда или Москвы или даже самого Киева, вероятно, более и уж, конечно, не менее авторитетные в вопросах гебраизма, чем ксендз Пранайтис?
Щегловитов. — Это уже по делу так указывалось, из Киева…
Соколов. — Не остановил на себе вашего внимания вопрос: почему, собственно, кладезь учености находится в Ташкенте? Разве ксендз Пранайтис занимал какую-нибудь такую должность в государстве, такое место, которое говорило бы, что он, не в пример прочим, специалист по вопросу об еврейской религии и еврейской литературе, — настолько необыкновенный специалист, что для него требуется экстренный расход из государственного казначейства?
Щегловитов. — Кажется, какое-то исследование его приводилось, как доказательство…
Соколов. — Но в Петрограде, в Академии Наук, Петроградском университете, в Духовной академии, — вы не могли справиться, нет ли соответственных ученых, для которых не требовалось такого большого расхода из государственного казначейства?
Щегловитов. — От меня не могла зависеть замена лица.
Соколов. — Но указать же вы могли прокурору, что он, может быть, другого подыщет?
Председатель. — Кроме того, я нахожу, что ваше заявление вряд ли основывается на законе: генерал-прокурор может прокурору предписать.
Соколов. — Вам неизвестно было из дела, что защита, в качестве экспертов, вызвала крупных ученых, так что частные лица сумели найти ученых по вопросу еврейской литературы и еврейской религии в Европе, тут же в Петрограде, и им не пришлось в Ташкент обращаться?…
Щегловитов. — Я не считал себя в праве этим вопросом заниматься.
Председатель. — Не были ли вы в сношении с департаментом полиции по поводу гражданского истца, по этому делу?
Щегловитов. — Нет.
Председатель. — Ну, а сами вы или министерство не были ли в сношении с гражданским истцом по этому делу — с одним, по крайней мере, гражданским истцом — Замысловским?
Щегловитов. — Замысловский несколько раз заходил… беседовал со мной по этому делу.
Председатель. — Чем это вызывалось?
Щегловитов. — Ничем… Как это вообще бывало, — члены думы заходят по тем или иным судебным делам, их интересующим… Они рассказывают о том, что привлекает их внимание в этом отношении. Это бывало не с одним Замысловским…
Председатель. — Я имею в виду сношения министерства юстиции с Замысловским именно в связи с делом Бейлиса, и с ним, как с гражданским истцом.
Щегловитов. — Сношения министерства юстиции? О таких сношениях я не знаю.
Председатель. — Не знаете? Вы помните, что вы крайне подробно следили за делом Бейлиса. Вам известно, например, как рассматривали документы по делу? У вас в копиях даже были все прошения защитников Бейлиса о допросе дополнительных свидетелей. Вы помните, у вас были документы о вызове экспертов, были списки присяжных заседателей, даже копии особого мнения членов палаты, полагавших, при предании суду, при утверждении обвинительного акта, что не следует возбуждать преследования?
Щегловитов. — Кем это было представлено? Не прокурором палаты?
Председатель. — Прокурором палаты.
Щегловитов. — Прокурором палаты был представлен весь материал?
Председатель. — Вы, вероятно, припоминаете, — так как вы подробно интересовались этим делом…
Щегловитов. — Да, прокурор считал себя обязанным все сведения доносить…
Председатель. — Не знаете ли вы, что министерство юстиции выписывало копии следственного производства по этому делу для гражданского истца Замысловского?
Щегловитов. — Нет, этого я не знаю.
Председатель. — Вы не имели доклада Лядова по этому поводу? Вот относительно этого вы и сносились с департаментом полиции в связи с этим делом…
Соколов. — Скажите, пожалуйста, с Замысловским вы не сносились по вопросу о назначении того или другого обвинителя из состава прокурорского надзора?
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — Не было у вас совещаний, — кто бы из всероссийской прокуратуры явился наиболее достойным обвинителем обвиняемого Бейлиса?
Щегловитов. — Нет, это исключительно был мой выбор.
Соколов. — Почему вы не предоставили это местному прокурору, а сочли нужным командировать из Петрограда?
Щегловитов. — Потому, что киевский прокурор судебной палаты находил, что у него подходящих сил нет.
Соколов. — Так что вопрос о назначении прокурора вы сами решили, а по вопросу об экспертах вы никакого вмешательства не допускали?
Щегловитов. — Эксперт мог по закону не явиться, командированный же товарищ прокурора поехал — и был материальными средствами обставлен.
Соколов. — Скажите, у вас не было колебаний между Виппером и Ненарокомовым? И почему вы остановились на Виппере?
Щегловитов. — Это — два выдающихся обвинителя.
Соколов. — Именно между этими двумя лицами вы и колебались?
Щегловитов. — Нет, на Виппере все время мой выбор останавливался…
Соколов. — По вопросу об этом с Замысловским у вас совещания не было?
Щегловитов. — Нет, совещания не было.
Председатель. — Не сносились ли вы с директором департамента полиции по поводу наблюдения за присяжными заседателями по делу Бейлиса? Кто был командирован для наблюдения за всем процессом от министерства юстиции?
Щегловитов. — Лядов, вероятно…[*]
Председатель. — Вы помните, что командированный туда из министерства внутренних дел Дьяченко присылал сему министерству телеграммы по этому делу, которые в копиях сообщались вам?
Щегловитов.— Это я помню.
Председатель. — Вы интересовались этими телеграммами, — вероятно, их читали?
Щегловитов. — Да, читал.
Председатель. — Не остановили ли ваше внимание такие слова телеграммы, вам в копии сообщенной: «Наружное наблюдение за присяжными заседателями пока не провалено. Осуществляется осторожность, но результатов не дает и дать не может…»!?
Щегловитов. — Это я совершенно не помню… Была телеграмма? — значит, я читал…
Председатель. — Если вы это читали, то не можете ли припомнить течение ваших мыслей, которое привело вас к бездействию, к игнорированию таких вещей?
Щегловитов. — Ведь, мне кажется, по этому делу присяжные заседатели были оставлены все время слушания дела в здании суда… Кажется, это было так? Следовательно, какое же могло иметь значение наблюдение за ними?
Председатель. — Тем более, скажу я, что эта телеграмма относится к несколько более раннему времени. Но к какому бы времени она ни относилась, ведь ясно, что здесь чиновник, командированный министерством внутренних дел, совершает действия беззаконные?
Щегловитов. — Конечно, беззаконные.
Председатель. — И, как на зло, свой рапорт в телеграфной форме посылает не только министру внутренних дел, но и министру юстиции, т.-е. лицу, которое блюдет за законами!… «Наружное наблюдение за присяжными заседателями пока не провалено…» — это совсем сыщический язык. «Осуществляется осторожность, но результатов это наблюдение не дает…» 23 сентября 1913 года вам препровождена эта телеграмма… Скажите, почему при доследовании дела дело не дали судебному следователю Фененко, а дали судебному следователю Машкевичу?
Щегловитов. — Потому, что я считал его лучшим из следователей.
Председатель. — Машкевича?
Щегловитов. — Машкевича.
Председатель. — Позвольте вам поставить вопрос, который уже ставился перед вами в государственной думе: как вы вообще относитесь к вопросу о вознаграждении судей, служебном вознаграждении судей в форме их повышения, после какого-либо судебного процесса, в котором они принимали участие?
Щегловитов. — Т.-е. придавал ли я значение?
Председатель. — Нет, не придавали ли вы значение, — а ведь вся Россия знает и знаете вы, что после дела Бейлиса лица, принимавшие участие и не выделявшиеся отрицательным отношением к вопросу о виновности Бейлиса, были все вознаграждены. Вы помните, член государственной думы Маклаков в своей речи обращал на это внимание? Мне интересно: как вы относитесь или относились, в качестве министра юстиции, вот к такому явлению, к такому действию министра юстиции?
Щегловитов. — Мне казалось, что министр юстиции очевидно усматривал в этом случае выдающуюся деятельность этих лиц, и потому этим лицам давал дальнейшее движение…
Председатель. — Причем выдающимися характер этой деятельности определялся не только внешними признаками — энергичностью действий, но еще и внутренними признаками — деятельностью в известном направлении: т.-е. повышались судьи, которые не проявляли себя отношением отрицательным к обвинению, а напротив, проявляли себя положительно в отношении к такому направлению процесса…
Щегловитов. — Но ведь процесс закончился оправданием…
Председатель. — Но процесс закончился, вместе с тем, признанием факта — в известной постановке… Как вы знаете, при тогдашних условиях, добиться такого признания являлось уже некоторым результатом…
Щегловитов. — Во всяком случае, деятельность этих лиц не привела к торжеству обвинения.
Председатель. — Но они, по крайней мере, стремились к этому… Мне интересно знать точку зрения министра юстиции: как с интересами правосудия, с соблюдением интересов правосудия (которые обязан блюсти министр юстиции) вяжется такое отношение к делу, что судьи двигаются или не двигаются, т.-е. награждаются или не награждаются, в зависимости от того или другого отношения к разбирательству дела, не в смысле формального рвения, а в смысле отношения, по существу, к обвинению или оправданию?
Щегловитов. — Я думаю, что это обстоятельство собственно не играло роли, т.-е. отношение к обвинению или оправданию: в данном случае, этот процесс — громадный, проводить его было нелегко всем его участникам… Поэтому, я признавал справедливым этим участникам затем дать дальнейшее движение…
Председатель. — Ну, а те судьи, которые остались при особом мнении, при предании суду, — Каменцов и Рыжов, — получили какое-нибудь движение по службе?
Щегловитов. — Каменцов и Рыжов? — у меня справки нет.
Завадский. — Они до сих пор — члены палат.
Председатель. — Известно ли вам, что наблюдение за присяжными заседателями было установлено не только на время суда, но и до суда?
Щегловитов. — Нет… это мне не известно.
Председатель. — Не известно ли вам о тех мерах, которые были приняты департаментом полиции к тому, чтобы выяснить еще до суда отношение присяжных заседателей к существу обвинения?
Щегловитов. — Нет.
Председатель. — Не известно ли вам, что прокурору судебной палаты все это было известно и что органы местной администрации получили предписание содействовать в этом отношении местным судебным властям?
Щегловитов. — Это мне совершенно не известно.
Председатель. — Вы сами не просили о содействии — во всех отношениях — между прочим, Белецкого?
Щегловитов. — Белецкого? Нет, не просил.
Председатель. — Каким образом вы сочли совместимым с вашим достоинством или с вашим положением министра юстиции — помещение вашего имени под приветственной телеграммой некоторым действующим лицам процесса, которые в телеграмме именовались «героями этого процесса»?
Щегловитов. — Что я допускал помещение моего имени?…
Председатель. — Нет, вы сами приветствовали, как «героев этого процесса», лиц, которых департамент полиции на свои деньги туда посылал!…
Щегловитов. — Я не мог посылать таких телеграмм…
Председатель (читает). — Телеграмма 9-го ноября 1913 года: «Митрополит Флавиан, архиепископ Никон, София Ивановна Сазонова-Смирнова, Елена Адриановна Полубояринова, Иван Григорьевич Щегловитов, Николай Андреевич Зверев, директор училища правоведения генерал Мицкевич, академик Соболевский, доктор Дубровин, Оскар Юрьевич Виппер, Михаил Осипович Меньшиков, генерал Никольский, Григорий Григорьевич Елисеев, Сергей Владимирович Штюрмер, Николай Петрович Харламов, протоиерей Лохотский,[*] профессор Грибовский и Вячеслав Осипович Первольф, псевдоним — Иван Пересветов, к которым позвольте присоединиться мне с женой и сыновьями, собравшись вчера у нас за обеденным столом в честь героев киевского процесса, выразили единодушное желание приветствовать прокурора киевской судебной палаты Георгия Гавриловича Чаплинского, судебного следователя Ивана Акимовича Машкевича,[*] профессора Ивана Алексеевича Сикорского, члена государственной думы Замысловского, присяжного поверенного Алексея Семеновича Шмакова и отсутствовавшего по нездоровью Дмитрия Петровича Косоротова, за благородное гражданское мужество и высокое нравственное достоинство неподкупных независимых русских людей»… Вы знаете, что профессору Косоротову 4.000 руб. заплатили из департамента полиции, — вы знаете это?
Щегловитов. — Сам не помню… но это, вероятно, так и есть…
Председатель. — «Неподкупных и независимых русских людей»… это пишет группа людей, имея в своей среде Дубровина… (продолжает чтение):… «желая своим сочувствием, уважением и самым горячим сердечным расположением превысить и покрыть ту ненависть, клеветы и яростные нападки, которые расточают против наших доблестных сограждан все темные силы России со своими продажными, преступными и безумными приспешниками»… Как это случилось, что Россия в подобном сообществе, по такому поводу, участником приветствия такого содержания видела своего министра правосудия? Впрочем, тогда не видела — теперь видит…
Щегловитов. — Это — телеграмма Бориса Никольского, им подписанная…
Председатель. — Но с вашего, вероятно, ведома и согласия?
Щегловитов. — Я не помню, чтобы телеграмма… Он действительно устраивал обед, и вот некоторые из лиц, которых вы изволили прочитать, они были на этом обеде…
Председатель. — Но доктор Дубровин был?
Щегловитов. — Доктора Дубровина там не было.
Председатель. — Не было? А Михаил Осипович Меньшиков был?
Щегловитов. — Да.
Председатель. — Итак, вы утверждаете, что такой случай был, такой обед, хотя в несколько ином составе, был, но что вы не давали согласия своего на посылку этой телеграммы…
Щегловитов — (не отвечает).
Соколов. — Прокурор Виппер там был?
Щегловитов (вспоминает). — Если он не был, то должен был быть…
Соколов. — Косоротов тоже должен был быть?
Щегловитов. — О Косоротове был разговор…
Соколов. — Обед, без участия Виппера, Косоротова, был связан с процессом Бейлиса. Такой обед состоялся. Так что эта телеграмма соответствует фактическим обстоятельствам. Скажите, с Борисом Владимировичем Никольским вы знакомы?
Щегловитов. — Да.
Соколов. — Он профессор правоведения?
Щегловитов. — Да. С ним я был в хороших отношениях.
Соколов. — Из всех ваших ответов, а также из документов по делу видно, что вы находились в полном курсе всех сведений, так что в частности вам была известна та экспертиза Пранайтиса, которую он дал на предварительном следствии. В этой экспертизе проводилась полная связь между убийством мальчика Ющинского и рядом религиозных верований еврейского народа…
Щегловитов. — Особой секты.
Соколов. — Разве там, в экспертизе Пранайтиса, не приводилось указаний на библию? — Речь шла не о сектантском учении… Разве не выводилась в этой экспертизе возможность ритуальных убийств из самой основы библейского учения?
Щегловитов. — Выводилась.
Соколов. — Разве в обвинительном акте говорилось о Бейлисе, как о члене какой-нибудь секты?… Не считали ли вы, что этот обвинительный акт есть обвинительный акт против религиозных верований миллионов сограждан наших? Не считали ли вы вообще, что этот обвинительный акт позорит честь России, которая создает в XX веке процесс, приличествующий разве только средним векам?
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — Документы в экспертизе Пранайтиса и свидетельских показаниях монаха были таковы, что каждый культурный человек, сколько-нибудь близко прикоснувшийся к этому делу, должен был с некоторым ужасом отпрянуть: это совершенно вздорное учение о том, будто иудеи обладают какими-то особенными свойствами телесными, что это особое племя, обладающее иными свойствами, чем все остальные люди, и т. д. Вы не считали нужным, как генерал-прокурор, дать указания, что подобные вещи неправильно попадают в судебное следствие, что обвинительный акт не может опираться на такие данные, что Пранайтис, который говорит такие дикие вещи, вообще не может быть приглашаем в качестве эксперта? Вы к такому решению не пришли?
Щегловитов. — Нет.
Председатель. — Разрешите мне закончить допрос постановкой вопросов еще о двух, трех случаях вашей деятельности… Скажите: в деле Кочубея, при вашем содействии, был нарушен принцип несменяемости?
Щегловитов. — Да, я готов признать, — потому что это один из тех случаев, который я вам вообще первоначально указал, где мне пришлось путем переговоров добиваться известного согласия. Я, как юрист, не могу признать такое согласие вполне добровольным.
Председатель. — Но что же в отношении Кочубея вас заставляло добиваться такого согласия?
Щегловитов. — Совершенно хаотическое положение, которое создалось при нем в тифлисской судебной палате, в межевом ее департаменте.
Председатель. — В котором он председательствовал?
Щегловитов. — Нет, в котором он должен был председательствовать, но фактически своего обещания не выполнил; а, между тем, назначенный, мне помнится, председателем департамента Рубинцов,[*] который предназначался для уголовного департамента с тем, что Кочубей займется межевым, оказался во главе межевого департамента, будучи совершенно некомпетентным. Поэтому, и без того создавшееся там накопление дел стало разрастаться до таких размеров, которые нетерпимы…
Завадский. — Ваш разговор с Кочубеем касался увольнения его из уголовного кассационного департамента?
Щегловитов. — Нет, виноват, — назначения его в уголовный кассационный, потому что он на это не соглашался…
Завадский. — Кочубей до сих пор стоит на том, что он никакого прошения об увольнении не подавал. В указе, поданном вами государю, было написано: «Согласно прошению», — а в деле никаких следов прошения нет.
Щегловитов. — Помню, что это было по соглашению… Но, повторяю, свое указание на то, какого характера было это соглашение… Оно было получено, вероятно, в сентябре 1910 года, а осуществлено было в самом конце 1910 года, именно по его настойчивой просьбе не предавать — во всяком случае, в отношении срока — решению этому уже очень спешный характер… Ревизию делопроизводства межевого департамента производил обер-прокурор Рейнеке.[*]
Завадский. — Значит, Кочубей просил на словах: в деле следа этого нет…
Щегловитов. — Мне кажется это было письменное прошение…
Председатель. — Еще один вопрос: относительно увольнения члена виленской палаты Зегница…
Завадский. — Я думаю, что это был результат посещения Вильны Глищинским?
Щегловитов. — Глищинский, это — тот, что был в Новочеркасске, если память мне не изменяет.[*]
Председатель. — Может быть, мы на этом сегодня и кончим.
XXVII. Допрос И. Г. Щегловитова. 26 апреля 1917 г.
Содержание: Дело Лопухина. Высочайшие отметки на докладах. Ленские события. Вопрос об Азефе. Щегловитов и Скалон. О деле Малышева и Кривошеева (администрации варшавского казенного театра). Щегловитов и правосудие на Кавказе. Председатель тифлисской судебной палаты Лагода не смещен в виду «правильного» отношения к туземцам. Высочайшее повеление и право министра юстиции. Нарушение закона из осторожности. Нарушение закона в интересах правосудия и умиротворения местного населения. Вместо расследования злоупотреблений — кресло сенатора с усиленным окладом. Лагода и дело члена государственной думы Недоноскова. Перемещение судебных деятелей и мотивы этих перемещений. Прекращение дел до суда. Дело Лыжина. История постановления соединенного присутствия сената по 1-му делу о подлогах Лыжина. Орден Лыжину. О мировом судье Пальчиковском и следователе Холодковском.[*] Представители судебного ведомства, пострадавшие за свидетельские показания. Чрезвычайные полномочия Лыжина во время следствия Дашнакцутюн. Дело о партии Дашнакцутюн. Мотивы создания процесса. Прокурорский надзор и тюремное ведомство при Щегловитове. О начальнике костромского арестантского отделения и начальнике тюремного управления Хрулеве. Секретное письмо Щегловитова. Статьи «Тюремного Вестника» о телесном наказании. Применение к политическим заключенным телесных наказаний. Щегловитов — председатель государственного совета. Причины назначения. Политическая программа, указанная монархом. Вопрос об усилении правой группы государственного совета. Состав группы Римского-Корсакова. Щегловитов и Трепов. Щегловитов и Распутин. Свидание с Распутиным перед назначением Щегловитова в председатели государственного совета. Законность и усиление правого крыла государственного совета. Советы Крыжановского. Законность и покушения на Николая II: дневники Мещерского. Протест Акимова. Совещание совета министров об упразднении законодательных прав государственной думы 18 июня 1914 г. Щегловитов защищает законодательную власть государственной думы. Характеристика Столыпина.
* * *
Председатель. — Наши ближайшие вопросы касаются дела Лопухина. Вы помните это дело?
Щегловитов. — Да.
Председатель. — Вы не усматриваете в самом возникновении, а затем и в течение этого процесса никаких неправильностей, на которые вы могли бы обратить внимание Комиссии?
Щегловитов. — Я могу доложить Комиссии, что при возникновении этого дела у меня были сомнения относительно состава преступления, по тому обвинению, которое предъявлялось… Обвинение заключалось в том, что Лопухин отправился заграницу, по вызову, который был сделан со стороны социалистов-революционеров, для того, чтобы разоблачить деятельность Азефа, как мне помнится. Весь вопрос, конечно, сводился к тому: можно ли в этом разоблачении, если таковое действительно имело место, можно ли в нем усматривать наличность признаков преступления? Это дело было возбуждено, и еще до производства предварительного следствия Лопухин признал это обстоятельство, что, действительно, он отправился, был в Лондоне, и там дал те сведения, которые от него требовали эс-эры…
Председатель. — Но как же обстояло дело с юридической стороной вопроса?
Щегловитов. — Вот это я уже, так сказать, оставлял исключительно в ведении суда… Потому что сомнения, которые могли у меня возникнуть, решающего значения иметь не могли.
Председатель. — Вы не приняли никаких мер, чтобы восторжествовала при разрешении этого юридического вопроса точка зрения обвинения?
Щегловитов. — Чтобы восторжествовала точка зрения обвинения? — Нет.
Председатель. — Вы делали доклады тогдашнему главе верховной власти в связи с этим делом?
Щегловитов. — О возникновении… Я не помню… Вероятно, доклад был… Это дело должно было принадлежать к числу дел выдающихся…
Председатель. — Какие высочайшие отметки последовали на ваших докладах? — На одном, который предшествовал судебному рассмотрению, и на другом докладе, который был уже после рассмотрения?
Щегловитов. — Я помню одну отметку, которая была на докладе, в котором вкратце излагалась резолюция, последовавшая в особом присутствии.
Председатель. — А именно?
Щегловитов. — Там было написано: «Здорово!», с восклицательным знаком. Лопухин, мне помнится, был приговорен к четырехлетней каторге. Но затем общее собрание заменило этот приговор наказанием ссылкой на поселение…
Председатель. — А какова та отметка, которая предшествовала разбирательству дела?
Щегловитов. — Вот этой отметки я не помню…
Председатель. — Не помните… Эта отметка была: «Надеюсь, что будет каторга». — Не вспоминаете?
Щегловитов. — Нет, я не помню.
Председатель.— То-есть вы помните, что такой отметки не было?
Щегловитов. — Такой резолюции не было.
Председатель. — Так. Скажите: почему председательствование по этому делу было поручено Варварину?
Щегловитов. — Потому что он был назначен на этот год.
Председатель. — Он был назначен на этот год… Вы не помните, когда было разбирательство, — память не сохранила дату?
Щегловитов. — Нет, я не мог бы ответить…
Председатель. — Позвольте перейти к делу о Ленских событиях. — Вы припоминаете, что по этому делу вам пришлось выслушать доклад Нимандера, прокурора иркутской судебной палаты?
Щегловитов. — Я помню, да: я его возил в заседание совета министров, для представления…
Председатель. — Это несколько позже, повидимому, было. А раньше он вам не докладывал свое мнение о невозможности поставить это дело на суд, о невозможности преследования?
Щегловитов. — Мне помнится, что он свои сомнения докладывал по этому поводу…
Председатель. — А не помните, чем вы разрешили эти сомнения?
Щегловитов. — Я по этому поводу, насколько помнится, совещался с обер-прокурором уголовного кассационного департамента и выслушал его мнение о том, что имеются приемлемые основания…
Председатель. — Какое же распоряжение и в каких именно выражениях отдали вы прокурору иркутской судебной палаты?
Щегловитов. — Я прямо рекомендовал держаться тех соображений, которые исходили от обер-прокурора уголовного департамента.
Завадский. — Сколько мне помнится, вопрос шел о том, насколько правильно введена статья уголовного уложения: нужен ли политический мотив или можно обойтись и без политического, ограничиваясь экономическими и другими; кажется, в этом был вопрос?
Щегловитов. — Эти подробности, простите, у меня сейчас не сохранились…
Завадский. — Прокурор утверждал, что нет состава преступления, так как политические мотивы не доказаны.
Щегловитов. — Ведь, самая забастовка, я помню, была на экономической почве; а затем уже, так сказать, политический характер приобрело столкновение с войсковыми частями, которые были там вызваны…
Завадский. — Было два дела. Одно дело о стачечном комитете: здесь был поставлен вопрос о политических мотивах. Затем, другое дело было о вооруженном сопротивлении, — так было квалифицировано, — и вопрос шел о достаточности улик.
Щегловитов.— По отношению первого речь шла о 126 ст. Угол. Улож.
Председатель. — Вы не помните вашу беседу по этому поводу с прокурором иркутской палаты?
Щегловитов. — Я помню, что было известное разногласие у меня с ним, которое разрешилось на основании соображений, которые были представлены обер-прокурором уголовного кассационного департамента. Так у меня в памяти это осталось…
Председатель. — Скажите, что вам было известно, как генерал-прокурору, о деятельности Азефа?
Щегловитов. — Ничего решительно, кроме того, что обнаружилось по запросу, который предъявлялся покойному председателю совета министров Столыпину государственной думой.
Председатель. — Не обращался ли к вам Азеф с какими-то прошениями, и если обращался, то с какими именно?
Щегловитов (думает). — Я не получал заявлений…
Председатель. — Вы ни от кого не получали указаний на причастность Азефа к убийству Столыпина?
Щегловитов — думает.
Председатель. — Вы не помните настояний Бурцева о предании суду ряда лиц, в связи с деятельностью Азефа?
Щегловитов. — От Бурцева поступали заявления…
Председатель. — Как вы отнеслись к этим заявлениям?
Щегловитов. — Как к заявлениям, которые не могли быть использованы, потому что они были весьма неопределенны: они сводились к готовности дать все разоблачения, которыми располагал Бурцев…
Председатель. — Вы говорите: эти заявления были слишком неопределенного свойства, и потому не давали вам основание к каким-нибудь распоряжениям?
Щегловитов. — Я помню, что одно, вероятно, самое определенное, — может быть, первое, которое поступило, — я направил в министерство внутренних дел, потому что оно касалось деятельности органов этого ведомства.
Председатель. — Но в виду тех ужасных разоблачений, которые делались с трибуны государственной думы и в связи с ними, не казалось ли вам необходимым обратить особенное внимание на малейшие указания, касающиеся дела Азефа?
Щегловитов. — Да, я неоднократно покойному Столыпину на это указывал, — на необходимость в этом отношении возможно большего выяснения… Он мне говорил всегда, что все, зависящее в этом отношении от министерства внутренних дел, — делается.
Председатель. — Делалось все, зависящее от министра внутренних дел… Так. Ну, а все зависящее от министра юстиции?
Щегловитов. — Но ведь в этом отношении закон связывал министра юстиции, — прежний закон, касавшийся порядка 1085 ст.
Председатель. — Эти указания делались Бурцевым только в бытность министром внутренних дел Столыпина?
Щегловитов. — Нет, мне думается, что и позже. Я вот не могу вам наверное удостоверить, были ли два или три заявления; во всяком случае, не одним ограничился Бурцев…
Председатель. — И что же было сделано по этим заявлениям?
Щегловитов. — Первое было направлено в министерство внутренних дел…
Председатель. — При Столыпине?
Щегловитов. — Да, мне думается, при Столыпине…
Председатель. — А последующие — после Столыпина?
Щегловитов. — Последующие, мне казалось, были неопределенного свойства и сводились к предложению дать объяснения по тем вопросам, которые могли быть предложены…
Председатель. — И следовательно?
Щегловитов. — Тут ничего предпринять нельзя было, потому что дипломатическим порядком политические дела не могут быть проверяемы.
Председатель. — Причем же тут политические дела? Ведь в заявлениях Бурцева говорилось об убийственной деятельности Азефа, которая была убийственна и в моральном смысле и в том смысле, что он организовал убийства… Эта деятельность выходила за пределы политических преступлений и, притом, была деятельностью не политического деятеля, а агента правительства.
Щегловитов. — Но самые преступления носили характер политический: ведь ему приписывалось участие в убийстве великого князя, кажется…
Председатель. — Но разве вам не известны в истории русского правосудия случаи, где, обусловливая выдачу соблюдением некоторых процессуальных обрядов, иностранные державы выдавали русским властям политических преступников именно тогда, когда политическое преступление было связано с общеуголовным? Так что ваше возражение, казалось бы, должно было отпасть…
Щегловитов. — Надо было начать с предварительного следствия. Нужно было, чтобы требование исходило от судебной власти. Ведь не иначе можно было…
Председатель. — Вы опять ссылаетесь на административные гарантии?
Щегловитов. — На административные гарантии…
Председатель. — Но сделали вы попытку, в виду заявлений Бурцева, снестись с начальством Азефа, то-есть с министерством внутренних дел? А если не сделали, то почему не сделали?
Щегловитов. — У меня в памяти не удержались эти обстоятельства, то-есть были ли сношения с министерством внутренних дел по второму заявлению, или нет…
Председатель. — Если допустить, что не было этих сношений, то в силу каких соображений не сделали вы этого необходимого для представителя юстиции шага?
Щегловитов. — Я очень затрудняюсь ответить… Мне кажется, что невозможно было бы предъявить требование относительно допроса, за нахождением заявителя вне нашей территории…
Председатель. — Но вам это препятствие не казалось преоборимым и слишком внешним, сравнительно с серьезностью дела? Потому что дело шло об обвинении целой правительственной системы в том, что она пользуется убийствами, или по крайней мере в лице своих агентов допускает, а в некоторых случаях даже организует убийства, и притом весьма высокопоставленных лиц в государстве?…
Щегловитов. — Совершенно верно. Это обстоятельство было, очевидно, мною упущено.
Председатель. — Переходя опять к отдельным случаям, я хотел бы просить вас вспомнить варшавское дело о злоупотреблениях инженера Маршевского, при постройке моста через реку Вислу, в 1911 году: вы по этому поводу входили с докладом о необходимости прекращения высочайшей волей расследования о действиях Скалона?
Щегловитов. — В следственное производство о злоупотреблениях по постройке моста было включено заявление следователем, кажется, Золотницким. Предстояло, так сказать, решить судьбу этого заявления. Так как, несомненно, оно не могло получить дальнейшего течения в порядке того следственного производства, которое находилось у следователя Золотницкого, я требовал высочайших, так сказать, дальнейших указаний, подлежит ли дело передаче в первый департамент государственного совета или нет… И вот всеподданнейший доклад, очевидно, и был составлен — в виду постановлений о том, что против генерал-губернаторов может быть возбуждено преследование только с высочайшего соизволения.
Председатель. — Это формальная сторона, а по существу, какую позицию по этому вопросу занял министр юстиции?
Щегловитов. — А по существу, мне казалось, что это заявление является просто плодом вымысла, потому что в этом заявлении содержалось изложение разговора, происходившего чуть ли не на улице, — о том, что бывший генерал-губернатор взял взятку… А между тем, насколько приходилось слышать, самое имя этого генерал-губернатора Скалона было ограждено в отношении подобных подозрений… Напротив, были сведения совершенно противоположные. Вот, в виду этого, мне казалось, что едва ли надлежало давать дальнейший ход подобному заявлению, появившемуся в следственном производстве…
Завадский. — Мне одно хотелось бы вас спросить: почему министр юстиции должен был докладывать государю? Почему дело не пошло в первый департамент государственного совета, который является тем учреждением, от которого это зависит? Зачем было беспокоить царскую власть докладами, когда, быть может, первый департамент государственного совета не усмотрел бы данных для расследования дела генерал-адъютанта Скалона?
Щегловитов. — Но в статьях 95, 96, 97 Учрежд. государственного совета прямо было, кажется, указано, что донесения и сообщения о преступлениях по должности таких-то лиц направляются в 1-й департамент государственного совета с высочайшего разрешения или соизволения.
Завадский. — Но тогда всеподданнейший доклад министра юстиции имел бы, так сказать, своим содержанием просьбу о передаче дела в 1-й департамент; а вы просили об его прекращении.
Щегловитов. — Да, я испрашивал высочайших указаний и излагал мое мнение. Вероятно, таково было мнение. Я не имею доклад под рукой, но не отрицаю, что могли быть изложены мои соображения.
Завадский. — Насколько мне помнится, там напоминается о государственных заслугах Скалона и о недостоверности свидетельских показаний.
Председатель. — Вы не отрицаете, значит, что судебному следователю было воспрещено дальнейшее расследование по сделанным заявлениям и что ему было предъявлено требование об изъятии из дела некоторых компрометирующих Скалона документов.
Щегловитов. — То-есть, об изъятии именно этого заявления, — потому, что оно, повторяю, в порядке следственного производства не должно было иметь места.
Председатель. — Значит, вы утверждаете, что это распоряжение было вами сделано уже после того, как вы тогдашнему носителю верховной власти сделали известное представление?
Щегловитов. — Нет, я думаю, не наоборот ли это было: то-есть, что я просил выделить эту часть из следственного производства, и вот, вероятно, эта выделенная часть и составила предмет всеподданнейшего доклада. Мне кажется, что не было ли это так…
Председатель. — Но вы не находите, что вы несколько вышли за пределы своих полномочий, когда вы лично, как бы предрешая постановление первого департамента, выдвинули в виде аргументов заслуги Скалона, дабы настаивать на полном прекращении дела.
Щегловитов. — Мне казалось, что я должен, раз я выступаю с докладом, высказать и мое мнение.
Председатель. — Вы не припоминаете другого дела — о злоупотреблении в варшавских правительственых театрах? Это — дело Малышева и Кривошеева, директора и председателя правления театров…
Щегловитов. — Да, я помню, что такое дело было…
Председатель. — Вы не помните ваших распоряжений по этому делу?
Щегловитов. — Нет, я бы просил напомнить…
Председатель. — Прокурором палаты Гессе было дано распоряжение следователю, с последующим, а быть может и предварительным — это я не знаю — донесением о таковом министру юстиции, — распоряжение не производить, до особых указаний, осмотр переписки, затребованной из канцелярии варшавского генерал-губернатора, касавшейся увольнения от службы бывшего председателя управления варшавских театров Гершельмана и назначения на эту должность Малышева.
Щегловитов. — Этого я совершенно не помню.
Завадский. — Значит, прокурор палаты собственной властью распоряжался?
Щегловитов. — Я боюсь утверждать что бы то ни было, но мне казалось, что здесь едва ли были указания с моей стороны…
Председатель. — Вы не помните, относительно самого судебного следователя Золотницкого, который возбудил следствие по этим двум делам, по какой причине он был переведен?
Завадский. — Я уже предлагал этот вопрос в понедельник, и И. Г. ответил, что Золотницкий был переведен в виду письма Скалона. По этому письму министр юстиции не нашел возможным оставить это лицо.
Щегловитов. — Скалон указывал на то, что это подрывает его авторитет…
Председатель. — Подрывает его авторитет. — Перейдем непосредственно к другому делу, которое аналогично, по своему содержанию, с только что указанным случаем. Вы помните ряд представлений кавказского наместника относительно старшего председателя тифлисской судебной палаты Лагоды?
Щегловитов. — Помню.
Председатель. — Вы помните, чего касались эти самые представления?
Щегловитов — не отвечает.
Завадский. — Его отношений к туземцам и судебному ведомству.
Председатель. — Вы помните, вывод был такой, что, по мнению наместника, деятельность Лагоды является деятельностью противогосударственной, с точки зрения русских интересов на Кавказе?
Щегловитов. — Я помню, что письмо содержало в себе довольно много указаний на неправильность действий бывшего старшего председателя и заканчивалось очень резким мнением.
Председатель. — Так вот, позволительно спросить: почему в одном случае, в виду того, что варшавский генерал-губернатор находил невозможным пребывание такого-то следователя, вы этого следователя переводите, а в другом случае — занимаете обратную позицию?
Щегловитов. — Потому, что мне казалось, что тут не в достаточной степени был прав покойный наместник…
Председатель. — Какими же путями вы пришли к убеждению, что он недостаточно прав: вы произвели какое-нибудь расследование?
Щегловитов. — Все данные, кажется, были в распоряжении министерства, и они достаточно описывались наместником… Так что можно было судить, собственно говоря, о том, насколько эти указания делаются основательно… А тут, мне кажется, главным образом, все разноречие шло по вопросу об отношении к туземцам. Это было основой, той канвой, на которой уже все подробности лишь приводились в подтверждение. И в этом вопросе я совершенно расходился с покойным наместником…
Председатель. — Но не только в этом вопросе… Вы, быть может, знаете, — до вас, вероятно, доходили сведения, — что Лагода стал ненавистен всему населению Кавказа, а имя его на Кавказе и в России сделалось символом неправосудия. Таким образом, во главе окраинного округа, округа, где, так сказать, государственность должна быть поставлена на особую высоту, вы имели судью, который в глазах населения и общества являл собой олицетворение неправосудия, — имя которого сделалось символом судьи неправедного… Ведь вы знаете, что имя Лагоды стало почти нарицательным, — в том же роде, как «Варварин суд»?
Щегловитов. — Я не думаю, что это в таких пределах…
Председатель. — Но обратимся хотя бы к одной формальной стороне дела… Вы знаете, что было высочайшее распоряжение о том, чтобы в кавказском крае туземцы назначались на открывшиеся вакансии в судебное ведомство на равных основаниях с русскими, и знаете, что Лагода пренебрегал этим высочайшим повелением?
Щегловитов. — А когда такое высочайшее повеление было?
Председатель. — Вам сообщал об этом кавказский наместник. Это указание имеется в переписке по этому вопросу министерства с кавказским наместником.
Щегловитов. — Все-таки кавказский наместник в этом случае не пользовался правами министра. Права министра юстиции оставались и по учреждении наместничества за министром юстиции, так что ответственным за дело Дашнакцутюн, — например, уполномоченным запрашивать объяснения, — был министр юстиции, а не наместник.
Председатель. — Но с точки зрения общего закона, а с другой стороны, скажем, с точки зрения армянской национальности, армяне имели право занимать место судей?
Щегловитов. — Да, закон их не лишал этого…
Председатель. — И вот кавказским наместником вам указывалось, что старший председатель палаты систематически не только не назначает вновь на должности, но не представляет к новому назначению лиц, уже занимавших ранее эту должность и пользующихся общим уважением, — на том исключительно основании, что они принадлежат к армянской национальности.
Щегловитов. — Мне казалось, что на Кавказе к этому вопросу надлежало относиться особенно осторожно и осмотрительно, потому что вражда народностей, населяющих Кавказ, была необычайно обострена.
Председатель. — Дело обстоит так. С одной стороны — министр юстиции, который должен исполнить закон, с другой — наместник верховной власти на Кавказе, который должен вести в крае русскую государственную политику. Наместник говорит: «В интересах моей политики, нужно назначать армян на судебные должности — согласно закону, во всяком случае, нужно не раздражать армянское общество, не усиливать вражду к России непредоставлением должностей бывшим мировым судьям». — Так говорит лицо, которое должно представить государственную политику на Кавказе. Министр юстиции открывает закон, и там не может не прочесть, что лица армянской национальности имеют право занимать эти должности и что признак принадлежности к армянскому племени не есть признак, с точки зрения закона, препятствующий этому. Но здесь министр юстиции становится на точку зрения г. Лагоды, — именно Лагоды… И разве это дело старшего председателя палаты — вести политику и становиться в этой области против кавказского наместника?
Щегловитов. — Как я имел честь доложить, я лично разделял это мнение, — что было скорее неблагоприятно для интересов правосудия назначение судей из армян.
Председатель. — И подобная точка зрения должна царить в суде?
Щегловитов. — Да, политика в выборе лиц: здесь политика всегда неизбежно отразится в той или другой степени…
Председатель. — И отразится в выборе лиц не индивидуальном, а в опорочении и объявлении негодной к судебной деятельности целой категории лиц, по признаку принадлежности к известной национальности.
Щегловитов. — Мне казалось, что назначение армян скорее служило бы к раздражению, а не к умиротворению населения.
Председатель. — В данном случае вы считали возможным поступать так, как вы сами находили нужным с политической государственной точки зрения, и вопреки мнению того лица, которое поставлено было блюсти именно эту точку зрения.
Щегловитов. — Если память не изменяет мне, я этому лицу дал подробный ответ на то его письмо, на которое вы мне изволили указать, и в этом ответе изложены соответствующие соображения…
Председатель. — Мы поднимали вопрос не о популярности Лагоды, а об оценке местным населением и русским обществом его деятельности, как судьи, вы изволили сказать, что вы не знали всего?
Щегловитов. — Не знал, что до такой степени доходило…
Председатель. — Ну вот, 26 октября 1913 года, за № 3385, наместник Кавказа Воронцов-Дашков пишет вам письмо о полном несоответствии Лагоды с занимаемым им положением, и о совершенно отрицательном отношении к нему общества; о крупных неправильностях, допущенных им при расходовании денежных сумм, ассигнованных на ремонт здания тифлисской судебной палаты, и, наконец, о необходимости беспристрастной и тщательной ревизии судебных установлений для того, чтобы осветить криминальную картину дезорганизации правосудия и полного падения судебного авторитета, — в результате деятельности Лагоды. Как же вы относитесь к этому?
Щегловитов. — Мне кажется, его увольнение последовало скоро… вы сказали, 26 октября 1913 года. Я не могу припомнить, но, вероятно, к началу 1914 года он уже не был старшим председателем.
Председатель. — Но власть прощения вам уже никоим образом не принадлежала, не правда ли?
Щегловитов. — Конечно, нет…
Председатель. — В письме наместника делаются указания на злоупотребления Лагоды и даже на злоупотребления такого корыстного свойства, как неправильности, допущенные при расходовании денежных сумм: каким образом после этого Лагода назначается сенатором с усиленным окладом в 8.000 рублей, а по всеподданнейшему докладу вашему — до 9.000 рублей? Вместо расследования — кресло сенатора с усиленным окладом!…
Щегловитов. — Мне кажется, сведения от него были затребованы и рассматривались в министерстве.
Завадский. — Но расследования никакого не было.
Щегловитов. — Сведения им были даны.
Председатель. — Я хотел бы отметить следующее и попросить вас разъяснения по этому поводу: лицо — весьма авторитетное, в особенности для вас, как министра юстиции, указывает на разрушение суда в целой русской области, указывает на «дезорганизацию правосудия и полное падение судебного авторитета»… Вы спрашиваете человека, который именно это сделал — суд дезорганизовал и довел его до полного падения, — и удовлетворяетесь объяснениями этого человека, то-есть предполагаемого преступника перед родиной, перед государством, — преступника, ибо вы знаете, как деликатны наши задачи государственной политики на Кавказе?…
Щегловитов. — Совершенно верно.
Председатель. — Я бы хотел слышать ваши разъяснения…
Щегловитов.— Мне казалось, что, может быть, это неправильно было, — я на своей правильности в данном случае настаивать не решился бы, — но, мне казалось, что все это, написанное или сообщенное мне бывшим наместником в октябре 1913 года, исходит из того недоброжелательного отношения к общей политике, — в отношении пополнения кадров судебного ведомства, — которое проявилось раньше в письме, которое я получил от наместника его величества на Кавказе; и что, очевидно, все горе заключается в том, что эти личные взгляды бывшего старшего председателя до такой степени признаются неправильными наместником, что единственно соответствующим выходом из этого положения было устранение его (Лагоды) из состава судебного ведомства на Кавказе… А то, на что вы изволили указать, это, в моих глазах, было значительным преувеличением…
Председатель. — Почему?
Щегловитов. — Потому, что я никаких нареканий ни от населения, ни от каких-нибудь лиц, бывших на Кавказе, не слышал.
Председатель. — Но разве нарекания наместника на Кавказе для вас мало убедительны? Почему вы так мало ценили сообщения наместника? Почему так защищали Лагоду?
Щегловитов. — Единственно из-за сочувствия этой политике…
Председатель. — Но разве позволительно из-за сочувствия какой бы то ни было политике закрывать глаза на указываемые преступления?
Щегловитов. — В этом я готов признать свои действия неправильными.
Председатель. — Вы не помните ли одно из дел Лагоды — дело о бывшем члене государственной думы Недоноскове, который убил свою возлюбленную на Кавказе, в Кисловодске?
Щегловитов. — Я не помню… Он судился, кажется?…
Председатель. — До вашего сведения не дошло, что в первой инстанции он был признан действовавшим в состоянии умоисступления?
Щегловитов. — Очевидно, эти сведения поступали…
Председатель. — Вы и ваша супруга не заинтересовались делом Недоноскова?
Щегловитов. — Нет.
Председатель. — Вы не помните ваших разговоров с Лагодой по этому вопросу?
Щегловитов. — Нет, не помню… Может быть, он мне это излагал — это возможно, — но у меня лично интереса к этому делу не было…
Председатель. — Вы не помните в «Новом Времени» статей Меньшикова по поводу этого дела?
Щегловитов. — Не помню.
Председатель. — В министерство не доносили о следующем факте: в суде первой инстанции дело было обращено к доследованию по ходатайству защиты, согласно с заключением лица прокурорского надзора. И вот, после необжалования этого определения в срок, был в порядке надзора подан протест на это определение, и он был отменен, то-есть прокурорский надзор опротестовал то самое определение, которое было постановлено не только по заключению, но и с согласия прокурора. — Вот что было допущено по этому делу…
Щегловитов. — Я этого не помню…
Председатель. — Вы не помните другого небольшого эпизода, в связи с деятельностью Лагоды: до вас не дошли сведения о том, что следователь тифлисского окружного суда по особо важным делам — Малиновский, оскорбленный Лагодой, покушался в его служебном кабинете на самоубийство?
Щегловитов. — Нет, этого я совершенно не припомню…
Председатель. — Я должен вам задать еще несколько вопросов по поводу нескольких частных случаев. Вы помните обстоятельства отставки бывшего прокурора окружного суда В. Ф. Арнольда?
Щегловитов. — Я бы попросил вас помочь мне в этом отношении…
Председатель. — У него вышло разномыслие с губернатором Джунковским по поводу Бабина, из-за указания на причастность этого человека к экспроприации. Джунковский его защищал, а Арнольд был против, это — во-первых, а во-вторых — вышло разногласие Арнольда с администрацией по вопросу о Рейнботе. Вы этого не помните?
Щегловитов. — Я не помню.
Председатель. — Вы не помните, при каких условиях Александров-Дольник получил назначение члена консультации?
Щегловитов. — Могу заявить, что вообще его деятельность вызывала во мне большие сомнения… Это и было поводом.
Председатель. — Вызывала сомнения — в каком отношении?
Щегловитов. — Я считал, что деятельность его, как прокурора московской судебной палаты, неудовлетворительна…
Председатель. — С каких точек зрения?
Щегловитов. — Недостаточность надзора за прокуратурой…
Председатель. — Я должен задать еще один вопрос — о Войткевиче. Я прошлый раз его касался. Он был прокурором великолуцкого суда, ему было предложено выйти в отставку. За него вступился Камышанский, и отставка была заменена переводом в Петроград на должность товарища прокурора петроградского окружного суда. Вы не помните этого обстоятельства?
Щегловитов. — Письменного материала в объяснение дела нет?
Завадский. — Там есть указания на обвинения его в каких-то польских симпатиях, но опять без фактов.
Щегловитов. — Откуда исходившее? Вы не изволите припомнить?…
Завадский. — Видимо, от псковского губернатора: там есть небольшие заметки.
Председатель. — Затем представляет некоторый интерес случай увольнения мирового судьи в Вильне, Лашенки:[*] он «провинился» в том, что присудил товарища прокурора Филиппова к нескольким дням ареста за оскорбление еврея, фамилии которого я не помню.
Щегловитов. — Этого я совершенно не помню…
Завадский. — Прокурор Двусловский[*] настоял на удалении Лашенки…[*]
Щегловитов. — Это было лет пять-шесть тому назад? Вероятно, это обстоятельство мне мотивировал бывший прокурор виленской палаты. Вероятно, я этими данными и поделился…
Завадский. — Мне принципиально интересно, как можно лишать места мирового судью за то, что он считает данного человека виновным? В деле доказано, что улики достаточные и состав преступления есть…
Щегловитов. — Это, конечно, неосновательно, если все сводилось только к тому…
Завадский. — Во всяком случае, Филиппов был переведен в Архангельск.
Председатель. — Нас еще интересует дело, о котором вы, может быть, забыли: дело госпожи Обриен-де-Ласси, которая, по вашему представлению, была высочайше помилована и над которой тяготело обвинение в недозволенном браке.
Щегловитов. — Совершенно не помню, какие были основания…
Завадский. — Было два дела о недозволенных браках: в 1911 году — дело Обриен-де-Ласси и в 1912 году — дело Павловских. По делу Павловского у вас во всеподданнейшем докладе была ссылка на статью 23, и вы полагали, что статья 23 не дает царю права прекращать дела до суда; вы указывали, однако, на формальный характер преступления и на чистосердечное признание обвиняемых. А по делу Обриен-де-Ласси вы писали, что новое уголовное уложение знает давность и не считает преступление длящимися, пока брак длится; вы указывали, что, если применять трехлетнюю давность Уголовного Уложения, то к моменту вероятного прохождения будущего приговора эта давность почти истечет. По этим двум делам Комиссии хотелось бы знать, почему вы докладывали не о помиловании, а о прекращении суда?
Щегловитов. — Указаний там никаких не было?…
Завадский. — В одном было сказано, что вопреки 23 статье, а в другом даже и этого не говорится…
Председатель. — По делу Павловских говорится, что по 23 статье нельзя прекратить, но что преступление носит формальный характер и что имеется чистосердечное признание…
Щегловитов. — Я это вполне признаю, раз это в всеподданнейшем докладе сказано…
Председатель. — Еще два частных случая. Дело барона Меллер-Закомельского, который, вы помните, продав родовое имущество, утаил от продажной цены 100.000 рублей. Я вам могу напомнить, что вы в представлении на высочайшее имя говорили, что «рассмотрение дела на суде вызвало бы крайне тенденциозные суждения» (позволительно спросить: почему?) «в неблагонамеренных партиях, в связи с энергичными ныне действиями барона Меллер-Закомельского по подавлению смуты». И вот на этом основании и состоялось высочайшее повеление.
Завадский. — Альтернативное: или прекратить, или отложить до возвращения Меллер-Закомельским утаенных им денег.
Щегловитов — не отвечает.
Председатель. — Если судьба правосудия в отдельных проявлениях будет зависеть от таких соображений, если вы вовлекаете в это дело верховную власть, то, во-первых, не убиваете ли вы самую идею правосудия в стране? А во-вторых, не оказываете ли вы плохую услугу носителю верховной власти тем, что вы его вмешиваете в дело извращения правосудия в стране? — Вы понимаете, что для свежего человека получается такая картина?…
Щегловитов. — Это я вполне признаю, это был совершенно неправильный взгляд, и этого не следовало делать.
Председатель. — Нам еще более тяжело читать ваш всеподданнейший доклад по делу Ишера, убитого в Одессе по распоряжению Толмачева: там было 5 человек арестовано.
Щегловитов. — Это я помню, это кошмарное дело…
Председатель. — Вы только теперь пришли к убеждению, что это кошмарное дело?
Щегловитов. — Нет, и тогда оно казалось чудовищным…
Председатель. — Но почему же по делу, которое чудовищно и кошмарно, вы находите нужным представлять о его прекращении?…
Щегловитов. — Мне казалось, что вскрытие такого ужаса произведет потрясающее впечатление…
Председатель. — Ну, а вы не думали тогда и не думаете теперь, что невскрытие такого ужаса потрясет еще более и произведет еще более потрясающее впечатление?
Щегловитов. — Я думаю, вы правы… в конце концов…
После перерыва.
Председатель. — Перейдем к вопросу о Лыжине. Нам бы хотелось узнать от вас о вашем отношении к указаниям на преступные действия этого следователя, — по двум делам.
Щегловитов. — Мое отношение было — глубоко возмущенное чувство!… Я никоим образом и предполагать не мог, чтобы судебный следователь мог совершить те подлоги, которые впоследствии были обнаружены при рассмотрении этого дела на суде, и затем было против него возбуждено преследование… Сведения же, которые о нем поступали в министерство, были самого благоприятного свойства. Если не ошибаюсь, он сперва был следователем в екатеринодарском округе, а затем, по представлению палаты, был перемещен следователем по особо важным делам, в Новочеркасск. Это несомненно одно из печальнейших явлений.
Председатель. — Лыжин служил в Екатеринодарском судебном округе, когда председателем там был Лагода?
Щегловитов. — Нет, он, кажется, до этого был…
Завадский. — Нет, и при Лагоде.
Щегловитов. — По-моему он был раньше Лагоды…
Завадский. — Первое дело рассматривалось в то время, когда Лыжин был в Новочеркасске.
Председатель. — Вы помните, что о действиях Лыжина, об имевших место подлогах, было указано временным военным судом при рассмотрении дела о так называемой «Новороссийской республике»?
Щегловитов. — Это, вероятно, и явилось основанием для рассмотрения екатеринодарским судом.
Завадский. — Указание временного военного суда рассмотрено 29 октября 1909 года екатеринодарским окружным судом в общем собрании.
Председатель. — Вы помните это обстоятельство?
Щегловитов. — Я помню эти указания.
Председатель. — Каким образом случилось, — в особенности, при том отношении к деяниям Лыжина, которое вы обнаруживаете в настоящее время и которое, конечно, и вся комиссия разделяет, — каким образом случилось, что, в бытность вашу министром юстиции, соединенное присутствие правительствующего сената, по поводу этого постановления военного суда, признало, что Лыжиным допущена лишь небрежность при составлении протоколов допросов, в которые внесены известные поправки и дополнительные сведения без установленной законом оговорки? Вот нас и интересует, так сказать, история такого определения правительствующего сената, — постольку, поскольку вы принимали в ней некоторое участие…
Щегловитов. — Участия тут я не принимал.
Председатель. — Вам сейчас представляется, что вы не принимали участия?
Щегловитов. — Мне кажется, да…
Председатель. — Вы не припомните, что вам был доложен рапорт прокурора палаты с определением екатеринодарского окружного суда и с копией постановления временного военного суда от 21 июля 1909 г. о неправильных действиях Лыжина? Что этот рапорт был вам доложен, об этом свидетельствует пометка.
Щегловитов. — Есть пометка, что он доложен? Но…
Председатель. — Но вы не припомните этого?
Щегловитов. — Я не припомню, был ли я налицо в июле.
Председатель. — Были ли вы налицо тогда? Этот рапорт был не только вам доложен, но вы положили и резолюцию: «препроводить для ознакомления обер-прокурора соединенного присутствия первого и кассационного департаментов, с просьбой со мной переговорить»…
Щегловитов. — Значит, я был налицо… Конечно, раз такая пометка есть…
Председатель. — Если мне приходится вам напоминать, а не вы сами вспоминаете, то очевидно вы уже не припомните теперь (или все же припомните?) — в чем заключались ваши переговоры с обер-прокурором?
Щегловитов. — С обер-прокурором? Вероятно, сущность заключалась в том, чтобы обратить внимание… Это все-таки выдающийся факт.
Председатель. — То-есть в каком смысле обратить внимание?…
Щегловитов. — Это я уже боюсь вам сейчас утвердительно сказать: в каком смысле?… Определение суда было в каком духе составлено?
Завадский. — Его составил товарищ председателя судебной палаты Нурович.[*] Он писал: «В виду указания на преступные деяния…»
Председатель. — Так вот вы не припомните ли, какие инструкции вы дали обер-прокурору?
Щегловитов. — Я боюсь вам ответить определенно…
Председатель. — Как совместить то ваше отношение к Лыжину и к его деяниям, которое вы изволили здесь выразить, и которое было мной в вопросе подчеркнуто, как совместить его с тем фактом, что этот самый Лыжин, совершивший подлог, когда все это стало уже вам известно, был представлен к награждению орденом?
Щегловитов. — Это, очевидно, по ходатайству, которое с места исходило.
Председатель. — Ну, да. Но разве министр юстиции — покорный исполнитель тех ходатайств, которые с мест идут, относительно награждения орденами?
Щегловитов. — Хотелось думать… скорее думаешь о человеке хорошо, чем дурно. И раз соединенное присутствие признало, что, в сущности, только небрежность была в его действиях, то я это обстоятельство, так сказать, еще не считал особенным препятствием, раз с места поступали отзывы самые хвалебные о его деятельности и о производстве этого следствия…
Председатель. — Но разве определение соединенного присутствия заставило вас изменить свое отношение к свойствам деяний Лыжина, которое вы выразили здесь, указывая, что вы точно так же считали это дело одним из наиболее тяжелых дел и считали, что в деяниях Лыжина есть преступление?
Щегловитов. — Да, несомненно… Это несомненно.
Председатель. — То-есть, что несомненно?
Щегловитов. — Что преступление было.
Председатель. — Но как же вы могли сочетать эту несомненность преступления с тем, что правительствующий сенат в соединенном присутствии вынес такое определение?
Щегловитов. — Ведь преступность я усматриваю в следствии по делу сообщества Дашнакцутюн…
Председатель. — А при Новороссийском деле?
Щегловитов. — По Новороссийскому, я думал, что дело ограничивается небрежностью…
Председатель. — Какое же было ваше отношение к тем случаям подлога, совершонного Лыжиным, которые были обнаружены в определении временного военного суда в Новороссийске?
Щегловитов. — Ведь дело закончилось определением соединенного присутствия.
Председатель. — Но позвольте: до решения соединенного присутствия вам был доложен соответствующий рапорт, с представлением определения екатеринодарского суда, который также усматривал признаки преступления. Вы обратили на это дело внимание, и именно этим и исключительностью случая, что на судебного следователя падает обвинение в подлоге, и объясняется ваша пометка о желании переговорить с обер-прокурором.
Щегловитов. — Да, совершенно верно…
Председатель. — Какое же ваше было отношение к этим подлогам, то-есть к этим деяниям следователя?
Щегловитов. — Если это подлог, то, конечно, отрицательное отношение; но если сенат признает, что нет подлога, тогда отпадает это предположение…
Председатель. — Но разве составление себе суждений вы отложили до последующего определения сената? Всякий судебный деятель все-таки сам составляет себе некоторое представление о деле. Ведь вы не знали, какой будет вотум сената? Тем не менее, чтобы обратить внимание на это дело, чтобы положить пометку о необходимости переговорить с обер-прокурором, нужно было, очевидно, составить себе известное мнение, вы его и составили…
Щегловитов. — Ну да, это мнение было, — что действительно что-то странное, во всяком случае…
Председатель. — Так… Каково было ваше отношение к той резолюции соединенного присутствия, которую вы, вероятно, помните? Смысл резолюции был такой: соединенное присутствие нашло, что случаи эти были уже в рассмотрении правительствующего сената. Ведь это было вопреки очевидности, потому что на суждение правительствующего сената был в данном случае предложен именно ряд новых подлогов Лыжина.
Завадский. — Этот второй случай тоже относится к Новороссийску. Военный суд в Новороссийске обнаружил новый подлог Лыжина. Соединенное присутствие сказало, что так как это однородный случай, то второго суждения не иметь…
Председатель. — Это вы помните?
Щегловитов. — Этого я не помню…
Председатель. — Мне хотелось бы вернуться к вопросу о награждении Лыжина орденом…
Щегловитов. — Когда, виноват, он был награжден?
Председатель. — Он был награжден 1-го января 1911 года, а копия определения соединенного присутствия, от 21 января 1910 года, была представлена министру обер-прокурором 5 февраля 1910 года. Не пожелаете ли дать какие-нибудь разъяснения?…
Щегловитов — молчит.
Соколов. — Скажите пожалуйста: когда временный военный суд в Новороссийске составил определение о подлогах Лыжина, и, одновременно с этим, военный прокурор препроводил кассационный протест по Новороссийскому делу в главный военный суд, — не приходилось ли вам тогда иметь сношение с главным военным прокурором по вопросу о том, желательно или нежелательно касаться этого приговора?
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — А не приходилось ли иметь сношения с тогдашним министром внутренних дел, Столыпиным, по вопросу о том, что, может быть, он окажет давление на главный суд, чтобы этот приговор был кассирован?
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — Не приходилось ли тогда на Кавказе иметь на эту тему разговор?… Вы тогда проезжали через Кавказ, через Тифлис…
Щегловитов. — Это какой год? Может быть…
Соколов. — Октябрь 1909 года.
Щегловитов. — Нет, мне кажется, я был в Тифлисе в 1910 году.
Соколов. — В 1910 году? — Но тогда не приходилось ли вам высказывать суждение по этому делу в беседе с председателем екатеринодарского суда? Вас не заинтересовала личность Лыжина в связи с Новороссийским процессом?
Щегловитов. — Нет, я не помню такого разговора…
Соколов. — Вообще, вам известна судьба Новороссийского дела? — Известно вам, что второй суд вынес сравнительно мягкий приговор, и этот приговор был кассирован, а потом дело третий раз слушалось, и тогда вынесен совершенно иной приговор?…
Щегловитов. — Нет.
Председатель. — В связи с Новороссийским делом, нам интересно еще одно обстоятельство. До вашего сведения было доведено, в 1910 году, старшим председателем палаты, что в результате показаний, данных мировым судьею Пальчиковским, при первом рассмотрении дела Новороссийской республики Холодовский[*] произвел расследование, а результатом расследования явилось перемещение Пальчиковского на низший оклад. Это тоже один из скандалов в ведомстве юстиции, тогда нашумевший…
Щегловитов. — И кто — Холодовский[*] — ходатайствовал об этом?
Председатель. — Очевидно, он, потому что там судьи по назначению, и изменение оклада зависит от министра юстиции. Так что, очевидно, он ходатайствовал…
Щегловитов. — Я затрудняюсь что-либо сказать…
Председатель. — Не припомните, что этот случай дошел до соединенного присутствия, и соединенное присутствие не только обороняло судебное ведомство, но и перешло в нападение: по вопросу о действиях Холодовского[*] оно ничего не сказало, а зато сказало свое мнение о действиях временного военного суда, а именно — объявило, что оценка закономерности действий должностных лиц судебного ведомства — эта оценка принадлежит только соединенному присутствию, при этом определило о вышеизложенном дать знать указом военному министру. Вот пример того, как легко было из обвинителя, при старом режиме и при нашем русском правосудии, обратиться в обвиняемого. Временный военный суд занес в протокол совершенно добросовестно то, что человек показал о неправильных, повидимому, действиях Холодовского,[*] и оказывается, что военный суд превысил власть, присвоил себе власть соединенного присутствия сената… И не только был оставлен без внимания тот факт, который таким образом был занесен в протокол, но на самый временный военный суд было сделано поползновение. И все это было в городе Петрограде в правительствующем сенате и при участии обер-прокурора или представителя обер-прокурорского надзора, подчиненного генерал-прокурору. Нам было бы интересно знать: как генерал-прокурор реагировал на это? Мы должны преклоняться перед решением судебных мест, но когда получается явное противоречие, когда они постановляют — «рассудку вопреки», — ведь приходится задуматься над этим вопросом …
Щегловитов. — Но что же мог генерал-прокурор предпринять при определении соединенного присутствия?
Председатель. — Вопрос о том, что именно предпринять, требует некоторого обдумывания. Но во всяком случае вы имели все это в виду, до вашего сведения это дошло?…
Щегловитов. — Я помню, что такое определение было, где, действительно, сенат очень решительно высказался против действий военного суда. Я помню, что такой случай был в практике сената… Я помню…
Председатель. — У нас затребована копия этого определения…
Соколов. — Вы не помните, что тогда же, кроме мирового судьи, возбуждалось дисциплинарное производство о товарище председателя екатеринодарского окружного суда, которому тоже ставилось в вину его показание под присягою на суде?
Щегловитов. — Кем же оно было возбуждено?…
Соколов. — Кажется, сначала окружным судом. Вообще потерпевшими по этому делу оказались трое свидетелей из представителей судебного ведомства: два мировых судьи и один товарищ председателя, которые в конце концов все ушли из судебного ведомства за то, что давали свидетельские показания, не совпадавшие с интересами обвинения по данному делу. Вы этого не вспомните?
Щегловитов. — Этого совершенно не помню…
Председатель. — Казалось бы, вы могли бы, по крайней мере, сказать так: за невозможностью что-либо сделать, я ничего не сделал, но тем не менее такое определение сената, конечно, обратило на себя мое внимание… Итак, дело относительно Новороссийской республики кончилось для Лыжина благополучно. Было признано, что он просто допустил некоторый канцелярский промах. Но как же судебный следователь Лыжин продолжал после этого, после возбуждения такого дела, производить следствие по делу Дашнакцутюн?
Щегловитов. — Я мог бы по этому поводу объяснить, что местные судебные власти, представители прокурорского надзора, давали благоприятные отзывы о Лыжине, выдвигая его энергию, трудоспособность. Этим обстоятельством и объясняется, что я не считал возможным возбуждать вопрос, не видел оснований возбуждать вопрос о замене его другим следователем.
Соколов. — Вы не вспоминаете, что Лыжин не только продолжал производить расследование по делу Дашнакцутюн, но ему были предоставлены совершенно экстраординарные права? Он производил следствие не только в пределах новочеркасской судебной палаты, но и тифлисской палаты. Все другие следователи, которые начали следствие в пределах тифлисской палаты, были подчинены ему в этом деле. Может быть, он пользовался правами, которыми следователи вообще не пользовались? Может быть, для этого требовался ордер министра юстиции?
Щегловитов. — О соединении, — может быть, это и было… Я не помню наверняка…
Соколов. — Да, это так было. Следователь новочеркасской палаты Лыжин получил право производить следствие и в пределах тифлисской судебной палаты, и все самостоятельные действия в тифлисской палате были остановлены, и следователи производили следствие лишь по отдельным поручениям Лыжина. Ведь такое соединение функций следователей новочеркасской и тифлисской палат без вашего специального ордера не могло произойти. Ему были предоставлены чрезвычайные права после дефектов, обнаруженных в его деятельности по делу новороссийской республики…
Щегловитов. — Которые, однако, сенатом не признаны таковыми…
Соколов. — Небрежность была установлена, не был признан подлог, а небрежность была установлена. Скажите, пожалуйста: а как производилось следствие Лыжиным? Тогда, не в пример прочим предварительным следствиям, все материалы предварительно печатались. Вы это вспоминаете?
Щегловитов. — Да.
Соколов. — Для этого министерство юстиции ассигновало крупные средства, была оборудована специальная типография — в здании новочеркасской судебной палаты, и все копии, по мере напечатания, препровождали вам. И что же, несмотря на то, что ваше внимание в особой форме было обращено на это дело, вы все-таки не заметили неправильностей его действий?
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — Даже обнаружившаяся на суде масса невинно привлеченных явилась для вас полной неожиданностью?
Щегловитов. — Полной неожиданностью…
Соколов. — И не известно вам несоответствие между тем, что свидетели показывали, и между тем, что записывал следователь?
Щегловитов. — Нет, я имел постоянные донесения прокурорского надзора, который следил за этим делом, и никому даже на месте не приходило в голову, что совершается нечто подобное…
Соколов. — Вы не вспоминаете по поводу дела Дашнакцутюн, что были серьезные столкновения между министром внутренних дел и наместником на Кавказе Воронцовым-Дашковым? Со стороны наместника было указание, что этого процесса создавать не следует, что партия Дашнакцутюн не является столь преступной, что арестовывать таких людей, какие были привлечены, — людей, пользующихся общим доверием, — значит, раздражать население…
Щегловитов. — Это выяснилось после окончания дела Дашнакцутюн…
Соколов. — После окончания дела Дашнакцутюн подтвердилось мнение наместника, выяснилось, что его предсказание, его взгляд подтверждаются приговором… Но раньше, когда создавался процесс, наместник разве не пытался унять чересчур большое рвение органов судебного и административного ведомств?
Щегловитов. — Наместник не вмешивался…
Соколов. — Не было столкновения между вами и наместником по вопросу о переносе дела из тифлисской палаты в Петроград, в особое присутствие сената?
Щегловитов. — По этому вопросу с наместником разговоров не было.
Соколов. — Вам, может быть, приходилось по этому поводу говорить с министром внутренних дел?
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — Почему, в то время, когда процессы о всех других партиях рассматриваются каждый отдельно и каждый в своем городе, — здесь все было соединено в одно дело, где бы ни происходили инкриминируемые факты — в Новочеркасске, Баку, Тифлисе? Ведь, например, дела отдельных групп партии социал-демократов, социал-революционеров, объединенных центральным органом, рассматривались за время вашего министерства, но члены этих организаций судились по месту проявления своей деятельности — в Харькове, Полтаве, Киеве… И только одно дело Дашнакцутюнов вдруг рассматривается в совершенно другой плоскости. Какие политические или юридические мотивы легли в основание создания такого грандиозного процесса-монстра?
Щегловитов. — Дело это раскрывало массу участников, дело это в высшей степени серьезное, и это обстоятельство легло в основание…
Соколов. — В отношении каждой партии можно было создать такой процесс, с еще большим количеством участников. Сложите в 1907–08 году процессы отдельных групп социал-демократических партий, — вероятно, число участников превысит число участников партии Дашнакцутюн. Так что этот призыв мог бы быть распространен с равным правом на все политические партии…
Щегловитов. — Если хотите, — да…
Соколов. — Почему же именно по отношению к партии дашнакцаканов был проявлен такой исключительный метод? — В вашем ответе указаний на это не имеется.
Щегловитов. — Дело это обрисовывалось, как грандиозное, по данным этого следствия…
Соколов. — Вам не приходилось беседовать с министром внутренних дел на такую тему, что желательно, создавши подобный процесс, направить его как бы против целой армянской народности, и что деяния дашнакцаканов должны пасть на всю общественную армянскую среду?
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — Не намечалась цель — лишить армянскую церковь известных форм самоуправления или автономности?
Щегловитов. — Нет.
Соколов. — Вы не вспоминаете сношений письменных или устных по этому вопросу с тогдашним министром внутренних дел?
Щегловитов. — Я не помню.
Председатель. — Скажите: какое было ваше мнение, ваше profession de foi в области тюремного управления, — по вопросу об отношении прокурорского надзора к представителям тюремного ведомства?
Щегловитов. — Мое profession de foi заключалось в том, что прокурорский надзор должен, в пределах предоставленных ему законом полномочий, следить за законностью содержания под стражею.
Председатель. — То-есть в каком смысле? — В том смысле, что на каждого арестованного было бы надлежащее постановление?
Щегловитов. — Чтобы было надлежащее постановление и затем, чтобы самый порядок содержания соответствовал тем требованиям, которые в законе указаны.
Председатель. — Какие директивы давались — в отдельных случаях или в форме общей инструкции?
Щегловитов. — Мне кажется, давались циркулярные указания по этому предмету.
Председатель. — Какая была мысль вложена в эти циркуляры, а именно: насколько товарищу прокурора или местному прокурорскому надзору принадлежит власть в пределах его надзора за лицами тюремного ведомства. Вы не можете этого сказать?
Щегловитов. — Я сейчас не могу.
Завадский. — Я бы хотел предложить вопрос: вы ничего не изменили в правах прокурорского надзора по посещению тюрем и в отношениях к товарищам прокурора со стороны начальников тюрем?
Щегловитов. — Мне кажется, ничего не изменил…
Завадский. — Так что ваша инструкция, которая, кажется, в 1910 году была издана вами, не сокращает права прокурорского надзора?
Щегловитов. — Инструкция тюремная… вероятно, проект… инструкции.
Завадский. — Она была примерно введена в действие в некоторых округах.
Щегловитов. — Да, кажется, последние годы это было… Вы изволили указать на 1910 год, — не позже ли это было? Это, впрочем, все равно: не в датах дело… Мне думается, — нет, не сокращались права прокурора… Это всесторонним образом обсуждалось в министерстве, все эти вопросы, и казалось, что тут изменений никаких не делается…
Завадский. — И никто из прокуроров палат вам не докладывал, что возражает против этого проекта инструкции, — как, например, прокурор казанской палаты Бальц?
Щегловитов. — Не помню… Я знаю, что это вырабатывалось путем совещания.
Завадский. — До вас не доходили сведения, вам не докладывали, что в некоторых тюрьмах не пускали товарищей прокурора в тюрьмы (начальник тюрьмы не выходил к ним)? В иных случаях — товарища прокурора не пускали в известные камеры, говоря, что начальник тюрьмы не желает пустить и дать товарищу прокурора удостовериться, сидит ли кто-нибудь в камере или нет…
Щегловитов. — Я помню, что столкновения на этой почве бывали…
Завадский. — Комиссии очень важно знать отношение генерал-прокурора к таким случаям. Столкновения бывали, и всегда прокурорский надзор должен был уступать тюремной инспекции. Как это примирить с идеей прокурорского надзора за правильностью содержания в тюрьмах?
Щегловитов. — Не были ли в некоторых случаях эксцессы со стороны прокурорского надзора, которые и давали повод к тому, что вы изволили отметить?…
Завадский. — Вы помните, что было в костромском исправительном арестантском отделении: как прокурорский надзор боролся там с начальником, который отпускал арестантов гулять по городу? А в конце концов выяснилось, что сам начальник — беглый из арестантского исправительного отделения!…
Председатель. — Это где?
Завадский. — Это — в Костроме. После долгой борьбы прокурора московской судебной палаты Степанова с начальником главного управления Хрулевым, наконец, дело было выяснено; но начальник арестантского отделения был удален только тогда, когда оказалось, что он самозванец, а до тех пор он продолжал отпускать арестантов на частные работы, и прокурорский надзор так ничего не мог добиться…
Щегловитов. — Тут и бывали столкновения с прокурорским надзором?…
Завадский. — Они не допускали лиц прокурорского надзора, — вы помните?
Щегловитов. — Я помню, что в костромском исправительном арестантском отделении были крупные злоупотребления…
Завадский. — Ничем не установлено, чтобы эти злоупотребления были вам известны до того момента, как решилась судьба этого начальника исправительного арестантского отделения… Мне интересно знать ваше мнение об отношении прокуратуры к тюремной инспекции. Вы соответствующие циркуляры помните? От вас исходило секретное письмо о том, чтобы вообще к тюремной инспекции относиться с осторожностью и уступать — таков был смысл письма…
Щегловитов. — Чтобы уступать? — я не помню…
Завадский. — Доходили до таких мелочей, что обычное «представление» предлагалось заменить «отношением» от прокурорского надзора к тюремным надзирателям…
Щегловитов. — Это, во всяком случае, без какой-нибудь цели подчеркнуть мое отношение…
Соколов. — Скажите, пожалуйста, «Тюремный Вестник» издавался при министерстве юстиции?
Щегловитов. — При главном тюремном управлении.
Соколов. — Он считался органом вашего министерства, вы не вспоминаете, что за время вашего министерства этот орган стал усиленно, из книжки в книжку, анализируя отчеты отдельных тюремных инспекторов, проводить мысль, что следовало бы ввести телесные наказания в каторжных тюрьмах для политических, что это благотворно будет?… Говорилось, что тюремное начальство не прибегало к этому из боязни мести политических, но что гражданский долг требует игнорировать это чувство страха и применять наказание…
Щегловитов. — Я таких указаний не давал …
Соколов. — Но в том органе, который издавался в вашем министерстве, вы вспоминаете, что бывали такие отчеты?
Щегловитов. — Я их не просматривал…
Соколов. — Но вы можете признать и подтвердить, что за время вашего министерства стали применять телесные наказания?
Щегловитов. — Мне кажется, очень редко, — если это было…
Соколов. — Вы не припомните: в начале вашего министерства вы объяснили, в вашем выступлении в государственной думе, что вы не поощряли телесных наказаний; а затем — случился известный перелом, и именно за время вашего министерства они посыпались в весьма большой мере, между тем, как до вашего министерства случаи применения были единичные на протяжении многих лет, если не десятилетий?…
Щегловитов. — Я относился очень несочувственно к этой мере…
Соколов. — Но главное тюремное управление в вашем ведении?
Щегловитов. — Начальникам тюремного управления, с которыми мне приходилось работать, я подобных указаний не давал…
Соколов. — А обратных указаний вы тоже не давали? После того, как вы усмотрели, что появились весьма частые случаи применения телесного наказания, вы не давали указаний, что этого не следует делать?
Щегловитов. — Я думаю, что давал…
Соколов. — Но они оставались без практического влияния… Вы употребляли более решительные меры — перевод на низшие должности лиц, которые действовали несоответственно вашим взглядам?
Щегловитов. — Я думаю, что это делалось…
Соколов. — Словом, вы не вспоминаете?
Щегловитов. — Насколько мне помнится, — может, мне память изменяет в данном случае, — но эксцессы в этой области случались в начале моей деятельности — вероятно, в 1907–8 г.г.; но в последующее время я совершенно не помню, чтобы эти случаи были…
Соколов. — Но вы все-таки можете установить, что эксцессы применения телесного наказания и статьи о применении телесного наказания появились именно при вас.
Щегловитов. — Я говорю, что, кажется, в 1907–8 году…
Соколов. — Вы не сделали указания редактору «Тюремного Вестника», что помещаемые в нем статьи не соответствуют вашим взглядам? Ведь нельзя же такие взгляды пропагандировать и развивать, если они не соответствуют взглядам главы ведомства?…
Щегловитов. — Я их не просматривал…
Председатель. — Вы были назначены председателем государственного совета 1 января 1917 года?
Щегловитов. — Совершенно верно.
Председатель. — Это верно, что вам было предложено на выбор три поста: пост председателя совета министров, председателя государственного совета и, затем, пост министра внутренних дел?
Щегловитов. — Нет.
Председатель. — При каких обстоятельствах состоялось ваше назначение на пост председателя государственного совета?
Щегловитов. — Я был вызван государем 23 или 24 декабря. Сразу после обычного приветствия государь мне заявил: «Я вас вызвал для того, чтобы вам предложить должность председателя государственного совета». На что я сказал, что я чрезвычайно польщен этим милостивым вниманием его величества, но чувствую, что мне будет очень трудно занять это место, в виду того, что принадлежу к правой группе, а правая группа не пользуется сочувствием большинства государственного совета. Тогда его величеству угодно было указать мне на то, что он, тем не менее, свой выбор окончательно остановил на мне и что обстоятельство, на которое я ссылаюсь, он учитывает и что его желание сводится к тому, чтобы правая группа была по возможности усилена. При этом указал, что и председатель совета министров А. Ф. Трепов именно меня представил на эту должность в числе пяти кандидатов, которые и были его величеством тут же названы.
Председатель. — Кто именно?
Щегловитов. — Эти лица были, насколько мне помнится: адмирал Алексеев, А. А. Макаров, Булыгин, Танеев и я.
Председатель. — Кому вы приписывали ваше назначение? Ведь живя в Российском государстве, вы, конечно, знали, что назначению на более или менее видный государственный пост предшествовала обыкновенно игра влияний и борьба за того или другого кандидата?
Щегловитов. — Я не знаю… Слухи, этому предшествовавшие, указывали… Я в этом случае очень затруднился бы ответить, кому я именно мог бы считать себя обязанным…
Председатель. — Но вы говорите, что некоторые слухи ходили по этому вопросу?
Щегловитов. — Да, по крайней мере, в недрах государственного совета говорили: «вы будете 1 января назначены председателем»…
Председатель. — Вы сами предпринимали что-нибудь около этого времени для того, чтобы в той или другой форме вернуться к государственной деятельности?
Щегловитов. — Нет, напротив, я считал для себя это большим несчастием; после тех 9 лет, когда я освободился, я был далек от мысли искать что-нибудь…
Председатель. — Беседовали вы с бывшим императором во время этой аудиенции по вопросу о направлении вашей будущей деятельности, — о том, какой политики вам надлежит держаться?
Щегловитов. — В этом отношении я получил совершенно определенные указания, кратко выраженные в словах: «Вы хорошо знали деятельность Акимова, — он вас очень ценил, — и мое желание в том, чтобы вы следовали тому направлению, которого тот держался».
Председатель. — Только это?
Щегловитов. — Да, — это указание…
Председатель. — Но что же, собственно, говорилось о том, как реализовать направление, которого держался Акимов?
Щегловитов. — Тут вопрос свелся к тому, что правая группа государственного совета должна быть усилена…
Председатель. — Кем был вопрос сведен к этому?
Щегловитов. — Я сейчас в точности не могу воспроизвести, но очень может быть, я вполне допускаю, что этот вопрос был выдвинут мною…
Председатель. — Бывший император дал свое согласие на это?
Щегловитов. — И высказал, что это именно соответствует…
Председатель. — Вы имели одну эту аудиенцию или еще другую, по поводу некоторых реформ, которые нужно было ввести в государственный совет?
Щегловитов. — Относительно личного состава? Мне был передан список лиц, которые были намечены к устранению… По крайней мере, его величеству их указал Трепов… Там, если я не ошибаюсь, было до 10–12 лиц указано…
Председатель. — Вы не оговорились, когда сказали: «по крайней мере, бывший государь сказал, что эти лица намечены Треповым»? И как вы считаете: эти лица были, действительно, намечены Треповым или через Трепова кем-нибудь?
Щегловитов. — До известной степени, тут было мое участие, потому что правая группа государственного совета, во главе которой я состоял как председатель, она, еще задолго до 1 января, не раз останавливалась на этом вопросе, и вырабатывался список тех лиц, которых правая группа желала бы иметь в своей среде, как членов государственного совета. И вот список таких лиц я передавал А. Ф. Трепову. В списке, который я получил от его величества, не все фамилии оказались, которые были в том списке, который я передавал Трепову, но некоторые были. Так что на ваш вопрос, можно ли считать, что весь этот список, который я получил в Царском Селе, исходил непосредственно от самого Трепова, я должен ответить — нет, потому что по тем объяснениям, которые я дал, следует, что все-таки, в известной мере, отразилось как бы мое участие , как председателя правой группы членов государственного совета.
Председатель. — Какое участие в правой группе принимал Римский-Корсаков?
Щегловитов. — Особенной роли в правой группе он не играл, он только посещал все заседания.
Председатель. — Значит, правая группа имела свои заседания?
Щегловитов. — Как же…
Председатель. — Велись протоколы этих заседаний?
Щегловитов. — Нет. Обыкновенно я, в качестве председателя, отмечал себе для памяти.
Председатель. — Где происходили заседания?
Щегловитов. — В здании Мариинского дворца.
Председатель. — Вы принимали участие в заседаниях некоторых членов государственного совета, которые группировались около Римского-Корсакова или в числе которых был Римский-Корсаков?
Щегловитов. — Нет. Я получал приглашения, но ни в одном из этих заседаний я не был. Я помню, — перед 1 января или, может быть, после 1 января, — было приглашение в виде билета, но я на заседание не пошел…
Председатель. — Вам известно было, что среди некоторых членов государственного совета вырабатывалась программа некоторых изменений, которые нужно было произвести в существующих порядках или в существующих законах?
Щегловитов. — Я знал, что у Римского-Корсакова собираются, но никогда, собственно, толком не мог себе выяснить. И, спрашивая отдельных лиц — на чем, собственно говоря, остановились? — получал ответ: толковали и разошлись, не придя ни к какому выводу…
Председатель. — По вашим сведениям, кто бывал у Римского-Корсакова на этих собраниях, на которые вы получали приглашения?
Щегловитов. — Я боюсь утверждать потому, что придется называть имена, относительно которых я не могу удостоверить, — были они там или нет… Это поставило бы меня в очень затруднительное положение…
Председатель. — Но, быть может, вы сделаете это, с той оговоркой, что вы вполне определенно утверждать не можете…
Щегловитов. — Я думаю, там был Марков, думается, Замысловский мог быть… Но повторяю, ради бога…
Председатель. — Вы просите не считать этот факт установленным вашим показанием?
Щегловитов. — …Потому что я там не присутствовал, не видел и не могу установить…
Председатель. — Вы не были осведомлены о целях, в каких вырабатывалась программа этих реформ — реформ весьма существенных — в области русского государственного строительства?
Щегловитов. — Я по этому поводу могу дать вам объяснение, в частности лишь — в отношении Римского-Корсакова, потому что относительно происходившего в заседаниях я ничего не могу засвидетельствовать… Но Римский-Корсаков (простите, если я так выражусь) — большой сумбурист, разговоры мои с ним всегда меня повергали в большое недоумение: чего же, собственно говоря, человек хочет? Всем недоволен, все осуждает, а в конце концов никакой сколько-нибудь приемлемой программы не имеет!… Поэтому, я и сказал, что он второстепенную роль играл, — я его серьезной величиной считать не мог…
Председатель. — Вы сказали, что правая группа наметила желательность пополнения ее десятью или двенадцатью лицами… Так как число членов государственного совета определенно, то правая группа наметила также, кого именно нужно устранить из состава государственного совета, чтобы иметь возможность пополнить состав группы этими лицами?
Щегловитов. — Как же! — это обсуждалось…
Председатель. — В той записке, которую вам передал бывший государь, значилась часть лиц или все лица, которые должны были быть устранены?
Щегловитов. — Совершенно верно.
Председатель. — Я спрашиваю: часть или все лица, в отношении устранения, были там намечены правой группой? Или только в отношении назначения?
Щегловитов. — И там и там, мне кажется, часть была…
Председатель. — Вам известно, что в тех предположениях, которые были выработаны кружком, в который входил Римский-Корсаков, имелся пункт: «усиление правого крыла государственного совета на несколько человек».
Щегловитов. — Это мнение всей правой группой развивалось, как я вам объяснял, задолго, еще до 1 января, и даже, можно сказать, постоянно правая группа на этом вопросе останавливалась, считая, что иначе она никакой роли не играла…
Председатель. — Вы говорили, что вы еще раз имели аудиенцию у бывшего императора; эта вторая аудиенция была в премьерство Трепова или Голицына?
Щегловитов. — Я могу вам ответить на этот вопрос: я был у государя 23, в четверг: на следующий неделе я был тоже в четверг, значит — 29-го.[*]
Председатель. — Следовательно, уже при Голицыне. И тут вы решили окончательно с бывшим императором вопрос об изменении состава государственного совета… Имел какое-нибудь отношение к этому покойный князь Голицын?[*]
Щегловитов. — Князь Н. Д. Голицын не имел отношения.
Председатель. — В период премьерства Трепова, какие у вас были отношения с Александром Федоровичем?
Щегловитов. — Самые лучшие… В первые же дни его выступления, около 10-го ноября, я не успел еще привести себя в порядок утром, как мне прислуга передала, что звонил статс-секретарь Трепов. Одевшись, я позвонил ему, спрашиваю: «Мне передали, что ко мне звонил статс-секретарь Трепов»… — Мне был дан ответ, что статс-секретарь хотел лично ко мне заехать в этот день, но не найдет свободной минуты и просит меня заехать. Я спросил: в каком часу я мог бы его застать. Было указано, кажется, 4 часа. Встреча была самого дружественного характера. Я его приветствовал, выразил ему самые лучшие пожелания. Он сказал, что он искал сегодняшнего свидания со мной, чтобы поговорить со мной. Я сказал, что помощь моя едва ли может быть для него полезной, потому что, при тех общественных настроениях, которые создались и которые преобладают, я симпатий не имею, и, поэтому, мое сотрудничество могло бы скорее ему принести вред, чем пользу… Он мне сказал, что это обстоятельство он прекрасно учитывает, но думает, что я, как он выразился, сумел бы придать деловой характер тому, во главе чего я стоял бы… Тогда я, оставаясь при своем утверждении, указал и привел в подтверждение, что я убежден в совершенно противоположном. Он говорит: «Я бы вам сказал, займитесь вы делом продовольствия»… На что я говорю: «Позвольте! Как мне продовольствием заняться: я, прежде всего, даже не осведомлен — что в этой области желательно предпринять? Следовательно, я попал бы в положение человека, которому пришлось бы еще учиться, а между тем попал бы в полный разгар расстройства этой части: — где же тут время для науки? — Нужно действовать с первого момента… Нет уж! — я сказал, — ради бога избавьте; ни в каком случае!»… Он говорит: «Раз мы на этой почве сговориться не можем, может быть, вы тогда будете мне полезным в государственном совете, — вот в этой роли?»… Вот тут-то, так сказать, впервые я слышал…
Председатель. — Первая аудиенция у прежнего императора когда у вас была?
Щегловитов. — Голицын назначен был 21 декабря; моя аудиенция была 23-го, — я помню…
Председатель. — Значит, в первые дни назначения Голицына…
Председатель. — Каковы были ваши отношения с Треповым около времени назначения вашего в государственный совет? И затем, в декабре или ноябре, не делали ли вы попыток к возобновлению некоторых отношений с Распутиным, или Распутин не делал ли некоторых попыток завязать отношения с вами?
Щегловитов. — Относительно этого я могу объяснить… Распутина в моей жизни я видел два раза. Во время моей бытности на той должности, по которой вы мне предлагали вопросы, — на должности министра юстиции меня, так сказать, судьба хранила, и никогда я его не видел… Но слышал — об этом нечего распространяться — достаточно много слышал… А в особенности мне приходилось с особой скорбью слышать по отдельным, главным образом, донесениям Лядова, который был вице-директором; он передавал мне постоянно, что вот такое-то помилование, это — распутинское, и даже приводились цифры денег, которые тот получил… Я помню два дела, по которым я получил непосредственно всеподданнейшие прошения, — прошения с приказанием доложить (и я представлял доклад об отклонении этих ходатайств): вопрос касался одного нотариуса, который был осужден за растрату, и затем, было дело смоленских дантистов. И вот по этим делам, — я думаю, не ошибаюсь, — раза два приходилось мне докладывать… Заключение мое об отклонении принималось, а потом, по прошествии 2–3 недель, может быть — месяца, снова такое же всеподданнейшее прошение… И, когда я говорил снова, что ведь вот внимание было уже утруждаемо и я подробности уже докладывал, приказывалось еще раз доложить… В своем новом докладе я оставался при прежнем высказанном мнении, и тогда завершалось дело прямым приказанием: «даровать помилование», — уже после вторичного отклонения… Так, я говорю, было за мою деятельность, как министра юстиции, но, приблизительно, летом 1915 года бывший у меня Белецкий стал мне говорить о том, что необходимо, чтобы я повидал этого самого Распутина… Я говорю: «боже меня упаси! зачем? — нет, нет…». — Он говорит: «Это совершенно необходимо, я вас убедительно прошу, примите его…». Ну, скажу, больше всего любопытство, мною овладевшее, — посмотреть эту физиономию (я, в этом отношении, до сих пор себе этого простить не могу!), — заставило меня согласиться, и я согласился… И вот, в один из последующих дней после этого он явился… Это был субъект с чрезвычайно несвязанной речью, так что не сразу можно было понять, о чем он толковал… Но суть его разговора сводилась к тому, что я должен, по его мнению, вернуться в прежнее положение… Это, вероятно, было 6 июля 1915 года. И вот он говорит, чтобы я вернулся… Я ему на это сказал, что вообще странно слышать разговор об этом, — с его стороны… И прибавил, что ведь недаром же в городе так усиленно все говорят, что то он одного провел, а такого-то потопил, и что какое ему дело вмешиваться во все эти назначения, и т. д.?… На что он стал своей скороговоркой говорить: «Но ведь все просят, все просят…». Но я решительно сказал: «Я не только прошу, но я умоляю моего имени не употреблять и меня никуда не проводить, потому что я считаю, что то, что я за 9 лет испытал, — этого для меня совершенно достаточно, что, как помню, когда мне сказал бывший председатель совета министров И. Л. Горемыкин, что государь принял решение заменить меня другим лицом, я невольно осенил себя крестным знамением; и что, вот, поэтому, никаких разговоров быть не может…» Он стал говорить: «Да, напрасно» и т. д. Но я сказал: «Нет, пожалуйста!…». И затем я сказал ему, что всем тем, что он проделывает, он чрезвычайно губит того, особа которого для нас священна… Зачем он это делает? Если его приглашают, если его выслушивают, то не нужно мешаться в дела… Вот собственно сущность беседы, которая продолжалась около часа.
Председатель. — Я не расслышал: он был у вас, или вы у него?
Щегловитов. — Нет, он был у меня…
Председатель. — Белецкий присутствовал при этом?
Щегловитов. — Нет.
Председатель. — За 2–3 недели до этого Белецкий и Хвостов были назначены на свои посты?
Щегловитов. — Я думаю, что это относится ко времени, когда Белецкий был товарищем министра…
Председатель. — 27 сентября он был назначен, вы тут не говорили Распутину, что вот при его участии состоялось назначение Хвостова и Белецкого?
Щегловитов. — Я говорил вообще, что так говорили… Он говорит: «Все просят, просят…». Я говорю: «Мало ли о чем просят! Нельзя же соваться со всякой просьбой, а между тем…».
Председатель. — Вы отметили этот факт вашей встречи — летом 1915 года. Мой же вопрос был несколько иной, — я спрашивал вас относительно 1916 года…
Щегловитов. — Вот после того я совершенно был оставлен в покое… А в 16 году (кажется, это было в 16 году, не 15-м? Да, — вероятно, в 16 году) я получаю письмо от моего сотоварища по государственному совету, А. П. Никольского, который пишет, что его давний знакомый по редакции «Нового Времени», Г. И. Сазонов,[*] чрезвычайно желает меня повидать, но не знает, каким образом достигнуть этого. Нужно вам сказать, что я держался правила никаких сотрудников к себе не пускать.
Председатель. — Газетных сотрудников?
Щегловитов. — Газетных сотрудников. — Совершенно не пускал… Я ответил Александру Петровичу, что если Сазонов хочет меня посетить, то я препятствий не встречаю… Думается мне, что это было в начале 16 года… Появился ко мне Сазонов, которого я раньше не видел, и начал мне говорить, что знает меня по моей деятельности и считает меня чрезвычайно выдающимся человеком… Я сказал, что хотя я и обладаю, как каждый человек, известным, свойственным всем самомнением, но самомнение мое, однако, не достигает таких пределов, чтобы лично себя признавать таким необычайно выдающимся… Но, как бы то ни было, он стал говорить о том, что чуть ли не от меня должны зависеть судьбы России и т. д. на эту тему… Я сказал, что это он может повторять сколько угодно раз, на меня это никакого впечатления произвести не может. Он мне сказал: «Тем не менее, как хотите, но вы должны стать во главе…» и т. д. Я сказал, чтобы он оставил меня в покое с этим вопросом. Затем он стал говорить о том, что он — гласный петроградской городской думы… Это, значит, относилось к февралю или марту 16 года, — потому что здесь, в нашем разговоре, была затронута его деятельность, как гласного городской думы — его предположение, которое затрагивало заготовку для населения г. Петрограда к осени овощей, и что вот он желал бы моего непосредственного участия по экономическим вопросам, к которым он особенно близко по своим прошлым занятиям стоял… Я сказал, что в этих экономических вопросах я — совершенный невежда. Я знаком только с юридическими вопросами, и то в несколько обуженном виде, — в области уголовного процесса. Какие же я могу давать полезные советы и высказывать мнения по экономическим вопросам?! Ну, тут последовали обычные изъявления, что с моим умом и т. д. Потом я ответил ему посещением, во время которого он дал мне некоторые свои корректуры. Он сказал, что он пишет воспоминания: в этих воспоминаниях он охарактеризовал деятелей, между прочим, Столыпина, которого он изображал в статье, под заглавием: «Голгофа русского народа». Сазонов оказался горячим противником всей землеустроительной политики Столыпина. Он находил, что эта политика сулит только одно горе русскому народу, а вовсе не даст того благосостояния, о котором мечтал Столыпин. Там, между прочим, была тоже глава, посвященная этому Распутину-Новых, которого он чрезвычайно расхваливал… Но опять-таки это время никакого разговора, никакой беседы о Распутине у нас не было… И так продолжалось, думается мне, до ноября 1916 года, когда в один прекрасный день ко мне позвонил Сазонов и говорит, что ему до крайности необходимо меня видеть… Я ему на это сказал: «Милости просим». Он говорит: «Видите, что происходит? Вот вы не хотели, я вас убеждал — становиться во главе правительства…». Я отвечаю: «Бросьте эти разговоры, потому что я к этому делу не считаю себя пригодным…». «Нет, говорит, как хотите, но я считал бы, что единственно подходящим человеком был бы П. Н. Дурново. Его нет. И, следовательно, все мои упования — на вас, и вы будете председателем Совета министров…» На что я говорю: «Боже меня упаси! — никогда, ни при каких условиях я на это не соглашусь…». На это он сказал: «Все равно, — это вопрос решонный: что хотите делайте, но вы должны повидаться с Распутиным!». — «Это еще что?» — Он отвечает: «А вот вы посмотрите…». Я не могу сказать, какого числа это было; свидание это произошло в квартире Сазонова. Одно могу сказать, что там появился Распутин, точно помешанный.
Председатель. — Вы числа не помните?
Щегловитов. — Число я боюсь сказать, но я думаю, это было, когда уже собралась Дума. Дума началась 1 ноября, — так что поэтому это было в ноябре; но во всяком случае — до назначения Трепова, это — безусловно; значит — в этот промежуток… Распутин выскочил и говорит: «Ну что же? — председателем, председателем!…». Я говорю: «Это еще что такое?». Он опять: «Да да!…». Тут Сазонов его поддержал: «Да, это вопрос конченный…». На что я возразил, что я не могу… Затем Распутин очень быстро повернулся и исчез. Я Сазонову говорю: «Что же мне делать? Я не могу, это совершенно невозможная вещь, я ни при каких условиях председателем не буду!…». «Ничего, — говорит, — вам нужно только добиться диктаторских полномочий».— «Что я буду делать с этими диктаторскими полномочиями? — легко сказать! — какое же употребление из них сделать.» — «Какое угодно.» Вот, каким образом все это происходило… После этого было двоекратное обращение ко мне Распутина… Я не помню, когда он был убит…
Завадский. — 17 декабря прошлого года.
Щегловитов. — Следовательно, это было, вероятно, дней за 10, может за две недели… Первый разговор по телефону был такой: я спрашиваю: «Что нужно?». — Мне отвечают: «Ваш приятель, Добровольский, годится в министры юстиции?». Я говорю, что — «Опять, с этими назначениями?!». — «Да, нет! — говорит, — годится он или нет?»…
Председатель. — Он сам говорил по телефону или кто-нибудь по его поручению?
Щегловитов. — Повидимому, он сам: оттенок его речи… Я сказал, что мое мнение: он (Добровольский) не годится… Он говорит: «Как же так? — он хороший человек: это один из тех людей, которых я люблю»… На этом разговор и кончился… Другой разговор был такой. Он говорит: «Председателем Совета министров»… — «Как? Опять старая песня? Никогда, ни при каких условиях!»… Вот, собственно говоря, что было…
Председатель. — Вы не можете объяснить, что побудило его говорить, что вы хотите назначения, — «Щегловитов хочет», — но что сам он, будто бы, высказал несколько отрицательное к вам отношение?…
Щегловитов. — Я вам изложил все. Судите сами — насколько это соответствует действительности…
Председатель. — Я возвращаю вашу мысль к 20 числам декабря. Вы решаете усилить правую группу Государственного Совета некоторыми лицами… Но ведь перед вами, как юристом, не мог не стать юридический вопрос о законности: о том, есть ли законный путь это сделать? И является законным или нет тот путь, на который вы стали?…
Щегловитов. — Это — вопрос, который у меня почти не возник… Я говорю — почти, потому что, конечно, как юриста, каждый вопрос, который приходится решать, он всегда и непременно своей юридической стороной заинтересует… Статьи Учр. Государственного Совета, относящиеся к этому вопросу, известны, и нечего их повторять. Но дело заключается вот в чем, — что с самого существования так называемого обновленного Государственного Совета была принята практика, в силу которой ежегодно не опубликовывался (как это говорится, кажется, в 9-й ст. Учр. Гос. Совета) список членов Государственного Совета по назначению, а стали опубликовывать лиц, назначаемых в Государственный Совет, в форме именных указов, дававшихся Государственному Совету. Это установилось с первого дня существования обновленного Государственного Совета. Итак, первый осуществивший эту форму, был покойный Э. В. Фриш, который скоро занял место председателя Государственного Совета, так что к 1 января 1917 года это появилось в такой форме, и тут же было допущено исключение из состава присутствующих (перечень которых помещался в указе) без ходатайства лиц, которых это касалось… Затем тот же порядок соблюдался и при преемнике Фриша — М. Г. Акимове. Таким образом, практика разрешила этот вопрос именно в том смысле, что в прерогативы монарха входит замена из числа призываемых к присутствованию на каждый год одних лиц — другими, по своему усмотрению, без прошения. И создалась, таким образом, категория членов Государственного Совета, назначаемых — присутствующих и членов Государственного Совета, назначаемых неприсутствующих… Статья 9 или 11, которая говорит о том, что увольнение членов Государственного Совета может последовать не иначе, как по их о том прошению, получила на практике разрешение в том смысле, что она касается самой должности членов Государственного Совета, а не вопроса о том, присутствуют ли члены Государственного Совета или нет… По вопросу о лишении этого звания, этой должности, указанная статья связывает монарха, но по вопросу об устранении или неустранении из числа присутствующих — не связывает. Эта практика и побудила меня на этом вопросе не останавливаться. Я советовался по этому вопросу с лицом, которое я считал довольно посвященным в этот вопрос, — с государственным секретарем Крыжановским, который мне говорил: «Да, статьи Учр. Гос. Совета дают возможность так и этак истолковывать этот вопрос, но практика его разрешает в таком смысле…» Поэтому, я не скрою от Комиссии, что перед монархом вопроса о том, возможно ли произвести такую замену, притом в таком большом количестве, — потому что замена свелась, кажется, к 17–18 лицам, — я не поднимал…
Председатель. — Скажите, в состав реформ или изменений, которые предполагалось ввести правой группой Государственного Совета, входило изменение положения о Государственной Думе?
Щегловитов. — Нет.
Председатель. — Вы знали о том, что изменение правового положения Государственной Думы входит в проект реформ, выработанных в кружке лиц, при участии Римского-Корсакова?
Щегловитов. — Я этого не знал… Но могу вам пояснить, что этот вопрос, по крайней мере, по тем сведениям, которыми я располагал, — этот вопрос еще несколько ранее возникал…
Председатель. — Где?
Щегловитов. — Возникал, мне кажется, главным образом, под влиянием дневников покойного Мещерского… Если бы вы остановили ваше внимание на этих дневниках, — они закончились в половине 1914 года, когда умер Мещерский, — то увидели бы, что в последнее время он очень настойчиво подчеркивал мысль о том, что положение царя России является ненормальным, ибо если царь приходит к убеждению, что та или другая мера необходима для блага родины, то царь в осуществлении ее стеснен вотумами своих законодательных палат, которые в той или другой палате могут оказаться неблагоприятными для меры, которая была предрешена… Затем, еще и раньше, собственно говоря, приблизительно в 1909–10 г.г. (я точно удостоверить не могу, помню, что личное собеседование у меня происходило по этому вопросу), значит, в 1909, но, повторяю, может быть, и в 1910 году, — после одного из всеподданнейших докладов, мне было указано (вы догадаетесь сами, где мне было указано) — в виде вопроса: считаю ли я такой порядок нормальным, при котором отклоненное одной из законодательных палат уже на вершину не поступает? На что я сказал, что вопрос ведь, собственно говоря, как всякое положение правовое, может представлять известные, так сказать, неудобства, потому что человечеству достигать абсолютного совершенства не дано. То положение, которое усвоено со времени издания Основных Законов, может быть, и содержит в себе то неудобство, на которое мне было указано, но что я его считаю, как юрист, неизбежным во всяком правовом построении. И тогда мне было сказано: «Вы все-таки об этом подумайте и побеседуйте по этому вопросу только с одним лицом, именно с председателем Государственного Совета» (которым был тогда Акимов)… Я помню, что, едва успев переодеться дома, я отправился к Акимову и говорю: «Вот какого рода поручение я имею»… Старик пришел в полный ужас и говорит, что это такое положение… что на этом вопросе даже останавливаться нельзя!… Я говорю: «Во всяком случае, я лично уже высказал мнение, собственно говоря, совершенно отвергающее возможность этого решения, но вот мне поручено побеседовать с вами»… Но он говорит: «Я в первую же аудиенцию, которая мне будет дана, этот вопрос тоже покончу, чтобы он не возникал»… И потом, как он мне лично передавал, он сказал государю, — это было свойство Михаила Григорьевича, довольно резко высказывать свои суждения: — «Такой-то передал ваше поручение, но я могу по этому поводу сказать только одно: худ или хорош этот порядок, — но на нем помирился весь мир, и поэтому мириться с ним нужно и вам. И нечего рассуждать, что его нужно ломать»…
Председатель. — Это он передал вам после аудиенции у императора?
Щегловитов. — Потом со мной разговор на эту тему не возобновлялся, и я также со своей стороны…
Председатель. — То, что вы сейчас сообщили, покойный Акимов передавал вам после беседы с государем?
Щегловитов. — После беседы с государем… И со мной государю больше не угодно было касаться этого вопроса…
Председатель. — А кто был тогда министром внутренних дел? Это было до смерти Столыпина?
Завадский. — До смерти Столыпина.
Председатель. — Так что у вас составилось впечатление, что кто-то подал государю мысль о новом перевороте, подобном акту 3-го июня?
Щегловитов. — Повидимому… Я возвращаюсь к моему рассказу — к тому, что я отметил, относительно Мещерского, потому что только этим я могу объяснить обстоятельство, которое произошло: по крайней мере, все члены Совета министров того времени не могли мне дать никаких определенных объяснений, для чего нас созывают… Но дату я помню, это врезалось мне в память, — 18 июня 1914 года, за месяц с одним днем до наступления этой ужасной войны… Накануне все члены Совета министров того времени получили приглашение пожаловать. Это было в Петергофе. И вот, 18 июня все собрались туда. И министры все, отправляясь туда, друг друга спрашивали: «А зачем собственно?». И повторяю, мне не удалось ни от кого узнать, какова цель… Когда мы собрались, то начали обсуждать, и был поставлен тот самый вопрос, о котором вы изволили спрашивать в связи с собранием, которое было у Римского-Корсакова. При чем ссылки были сделаны в подтверждение необходимости, так сказать, изменить в этом отношении существовавшее положение, ссылки — на Государственный Совет: на отклонение Государственным Советом законопроекта, касавшегося введения городового положения в губерниях Царства Польского, — что вот эта мера, которая была, так сказать, с высоты престола признана необходимою, мера, по поводу которой давались обещания, тем не менее останется без осуществления, в виду того, что Государственный Совет ее отклонил, что этот порядок совершенно ненормальный… И вот начались по этому предмету суждения. Как вы сами понимаете, о чем же нужно было судить? — Судить надо было о том, чтобы возвращаться к оставшемуся без осуществления положению 6 августа 1905 г., то-есть о превращении Государственной Думы из законодательного учреждения в законосовещательное учреждение. Но я помню, все, по мере сил своих, высказывались… И, в смысле справки, приводились доводы покойным Харитоновым, — все то, что в свое время было обсуждено, после 6 августа, и что признавалось основанием, по которому должны в будущем действовать русские законодательные учреждения… Лично я все время изображал молчаливую фигуру и был последним, — который просил слова, когда все уже высказались, — последним, который выступил с кратким заявлением, что — вот обсуждался вопрос и до сих пор, в лице министра юстиции, который, казалось бы, первым должен был высказаться по этому вопросу, — до сих пор этот вопрос встретил лишь только молчаливого участника; но он все-таки решил теперь, в заключение всего сказанного, тоже сказать несколько слов… И вот я заявил, что, конечно, для монарха должно быть печально то, что произошло в отношении городового положения. Возможно, что это случится еще и в другом каком-нибудь случае… Но, с другой стороны, ведь если стать на ту точку зрения, что мнения меньшинства будут утверждаться против большинства, отвергнувшего какую-нибудь меру, тогда монарх может оказаться в необычайном положении: он пойдет против тех, которые, худо или хорошо, но представляют народ, являясь, так сказать, выразителями его участия в законодательной деятельности, которая признана с высоты престола… Конечно, можно рассуждать, что, как всякие выборы, выборы в данном составе Государственной Думы были почему-нибудь не отражающими в достаточной степени всех желаний, которыми располагает народ в данное время… Но как бы то ни было, рисковать в этом отношении монарху я бы считал до такой степени опасным, — у меня остались в памяти слова, вырвавшиеся у меня (просто, я очень горячился, когда говорил), — что я бы лично считал себя изменником своего государя, если бы сказал: «Ваше величество, осуществите эту меру, на которой ваше внимание в настоящее время остановилось»… После этих моих слов, монарх сказал: «Этого совершенно достаточно. Очевидно, вопрос надо оставить»…
Председатель. — Вы не имели обыкновения вести дневник, делать записи?
Щегловитов. — Дневник? — К сожалению, нет. Многие указывали мне на это, — потому что мои воспоминания за то время, которое я провел у кормила власти, дали бы обширнейший материал…
Председатель. — Скажите, пожалуйста, кто был тогда на заседании: военный министр Сухомлинов, министр иностранных дел Сазонов и председатель Совета Горемыкин?
Щегловитов. — Да, все были.
Председатель. — Харитонова вы назвали… И Маклаков был?
Щегловитов. — Был.
Председатель. — Совещание 18 июня 1914 года не ставило вопросов о том, как же, собственно, быть с законом?
Щегловитов. — Путь, которым это могло осуществиться, не обсуждался…
Председатель. — Но вопрос о законности, о том, что этот путь будет неизбежно незаконный, — каков бы он ни был по существу, — не поднимался?
Щегловитов. — Эта сторона никем не затрагивалась.
Председатель. — Но какое у вас получилось впечатление? Ведь вы имели некоторый опыт, вращались в государственной жизни: кем была подсказана эта мысль тогдашнему главе государства?
Щегловитов. — Я это приписываю дневникам Мещерского…
Председатель. — А насчет акта 3-го июня — каково ваше мнение? Ведь инициатором этого акта 3-го июня был Столыпин, а его исполнителем был Крыжановский. Как относился Столыпин к вопросу о законности этого акта? Для него было ясно, что он делает государственный переворот? Какое было ваше впечатление, относящееся к тому времени?
Щегловитов. — Я должен сказать, что Столыпин был человеком своеобразным, очень одаренным, очень пылким человеком, который юридической стороне придавал наименьшее значение, и если для него какая-нибудь мера представлялась необходимой, то он никаких препятствий не усматривал…
Председатель. — Он отдавал себе какой-нибудь отчет в том, что есть такая маленькая вещь в государственной жизни, которая называется законом, и такое маленькое начало, которое называется законностью? Он, кажется, не был юристом?
Щегловитов. — Нет, не был.
Председатель. — Я спрашиваю: в его сознании стоял все же принцип законности? Он его преступал, придавая ему мало значения, но все-таки — зная о нем и имея его в виду?
Щегловитов. — Тут его рассуждения были таковы, что когда в государственной жизни создается необходимость какой-нибудь меры, — для таких случаев закона нет… Отсюда и попавшее в манифест, который сопровождал акт 3 июня, выражение об исторических правах, которые принадлежат монарху. Это, собственно говоря, и была та подкладка, которая должна была сглаживать эту незакономерность, которая едва ли может быть оспариваема, как я раньше говорил.
Важнейшие опечатки.
Воспроизводя точно текст стенограмм допросов, мы должны были воспроизводить и ошибки, сделанные или стенографистками или теми, чьи речи застенографировались. Все эти ошибки будут оговорены в особом приложении к изданию. Сейчас же следует исправить следующие крупнейшие ошибки:
Стр. 429, строка 23. Очевидно, ошибка стенограммы: последний председатель царского совета министров князь Н. Д. Голицын назван покойным, тогда как он здравствует и поныне.
Стр. 394, строка 2. Опечатка: вместо «М. Г. Щегловитова» следует читать «И. Г. Щегловитова».[*]
Стран. 4, сн. 17 стр. и т. IV, стр. 3, сн. 6–5 стр.
«Ultérieurement manquerais pas de donner nouvelles» — «я не премину несколько позже сообщить вам новости».
(обратно)Стран. 4, сн. 5–4 стр.
«et espère dans quelque temps réaliser mon désir écouter vos conseils» — «и надеюсь в непродолжительном времени осуществить свое желание следовать вашим советам».
(обратно)Стран. 16, св. 10 стр.
«Vous vous sentez piqué? — ce n'est pas vous». — «Вы чувствуете себя задетым? — это не вы».
(обратно)Стран. 18, св. 10 стр.
«trait d'union» — связующее звено.
(обратно)Стран. 18, св. 16 стр.
«Е. П. Соколова» — Быть может, Елиз. Петровна Соловьева, жена д. с. с. Ник. Вас. С., казначея и чл. уч. сов. при св. синоде.
(обратно)Стран. 19, сн. 15–14 стр.
«Тулузаков», надо: «Толузаков».
(обратно)Стран. 20, св. 9 стр.
«А. Д. Поливанов», надо: «А. А. Поливанов».
(обратно)Стран. 23, сн. 13 стр.
«Les imbécilités que fait le Ministre de la guerre!» — Глупости, которые делает военный министр!
(обратно)Стран. 25, св. 3 стр.
«2 апреля 1916 г.» — А. Т. Васильев был назначен дир. д-та пол. 28 сент. 1916 г.
(обратно)Стран. 29, св. 12 стр. и далее на стр. 41, св. 13 и 17 стр.
«Юденич», надо: «Юдичев».
(обратно)Стран. 34, сн. 2 стр.
«il fait la sourde oreille» — он делает вид, что не слышит.
(обратно)Стран. 43, св. 5 стр.
«Хвостому», надо: «Хвостову» (А. Н.).
(обратно)Стран. 43, сн. 7 стр. и стр. 44, св. 7 стр.
«Иолоса», надо: «Иоллоса».
(обратно)Стран. 44, св. 15 стр.
«Иолоса», надо: «Иоллоса». — Прим. В.М.
(обратно)Стран. 45. св. 6 стр.
«Это — 1916 год?», надо: «Это — 1906 год?»
(обратно)Стран. 46, св. 17–18 стр.
«Обер-прокурор св. синода Кульчицкий», надо: «мин. нар. просв. Кульчицкий».
(обратно)Стран. 53, сн. 8–7 стр.
«Шимкевича», надо: «Шиллинга».
(обратно)Стран. 60, св. 19–20 стр.
«Celui-là veut s'asseoir sur ma chaise». — Этот хочет сесть на мое место.
(обратно)Стран. 67, св. 3 стр.
«и Саблера», надо: «и Саблина».
(обратно)Стран. 68, сн. 23 стр.
«Акилина Лахтинская», надо: «Акулина Лаптинская».
(обратно)Стран. 75, св. 17–18 стр.
«грек Мицакис» — Вероятно, имеется в виду сотрудник загран. агентуры грек Георгий Анастасьевич Мелас.
(обратно)Стран. 78, сн. 7 стр. и стр. 79, св. 6 стр. и в III т. стр. 141, св. 14 стр.
«sûreté générale» — охранное отделение.
(обратно)Стран. 87, сн. 6 стр.
«Это» — (Кюрц) — «румын, подозреваемый в шпионстве»: — Кюрц (см. указ.) француз, а не румын, командированн. воен. м-вом в Румынию в 1915 г. с контр-развед. целями.
(обратно)Стран. 90, св. 12 стр.
«а затем», надо: «а также».
(обратно)Стран. 91, св. 14 стр.
«княжна Тарханова», надо: «княгиня Тарханова».
(обратно)Стран. 101, сн. 10–9 стр.
«уволить Герасимова, заменить генерала Трусевича», надо: «уволить генерала Герасимова, заменить Трусевича».
(обратно)Стран. 102, св. 8 и 14 стр.
«Гершельмана», надо: «Герасимова».
(обратно)Стран. 107, св. 3 стр.
«товарищем министра», надо: «товарищами министра».
(обратно)Стран. 111, сн. 15 стр.
«неведомого ему», надо: «не подчиненного ему».
(обратно)Стран. 114, сн. 21–20 стр.
«охранное отделение», надо: «охранные отделения».
(обратно)Стран. 119, сн. 16 стр.
«6-го декабря 1912 г., кажется, он исправлял должность вице-директора», надо: «4 апр. 1912 г. (дата Ленского расстрела) он испр. должность директора».
(обратно)Стран. 122, сн. 17 стр.
«7 апр. 1916 г.», надо: «7 июля 1916 г.».
(обратно)Стран. 128, сн. 12 стр. и далее на стр. 162, 179, 182, 184, 251, 333 и 336. То же в т. IV, стр. 54, 220, 524
«графа Ростовцева», надо: «графа Ростовцова».
(обратно)Стран. 130, сн. 16–15 стр.
«fronde électorale», надо: «fraude électorale» — выборный маневр (обман).
(обратно)Стран. 144
«непримирению двух частей партий» — видимо, ошибка. Правильным представляется «непримирению двух частей партии». — Прим. В.М.
(обратно)Стран. 147, сн. 4 стр.
«московского градоначальника», надо: «московского главноначальствующего».
(обратно)Стран. 152, св. 1–2 стр.
«начальник корпуса жандармов Николаенко», надо: «начальник штаба корп. жандармов Никольский».
(обратно)Стран. 153, сн. 4 и 2 стр.
«ultérieurement» — позднее, затем.
(обратно)Стран. 157, сн. 14 стр. То же на стр. 158, св. 21 стр.
«17 марта 1915 г.», надо: «15 марта 1916 г.».
(обратно)Стран. 160, сн. 17 стр.
«прокомандует», надо: «прокомандуете».
Стран. 201, сн. 25 стр.
«engagements» — задаточные деньги.
(обратно)Стран. 207, св. 18 стр.
«я не отрицаю этой фразы», надо: «я отрицаю эту фразу».
(обратно)Стран. 213, св. 19 стр.
«с начальником главных управлений», надо: «с начальниками главных управлений».
(обратно)Стран. 216, сн. 1 стр.
«Дебошинский», надо: «Добошинский».
(обратно)Стран. 220, сн. 1 стр.
«членов», надо: «членом».
Стран. 233, сн. 19 стр.
«мав», надо: «вам».
Стран. 236, св. 7 стр.
«доводов», надо: «выводов».
(обратно)Стран. 244, св. 3 стр.
«Туркестанского», надо: «Туркестанова».
(обратно)Стран. 244, сн. 18 стр.
«Смирнова», надо: «Соколова».
(обратно)Стран. 279, сн. 4 стр.
«на кварт. кн. П. Д. Долгорукова в Москве». — В Москве проживали два видных деятеля к.-д.: кн. Павел и Петр Дм. Долгоруковы (см. указ.).
(обратно)Стран. 292, сн. 23 стр.
«печать», надо: «печатать».
(обратно)Стран. 299, св. 4 стр.
«Хвостов, Алексей Александрович», надо: «Хвостов, Александр Алексеевич».
(обратно)Стран. 305, св. 7 стр.
«Значит, из сената в гос. совет». — ком. корп. жанд. гр. Д. Н. Татищев сенатором не был.
(обратно)Стран. 313, св. 4–5 стр.
«гр. Пален», надо: «кн. Палей» (см. указ.).
(обратно)Стран. 314, св. 19–20 стр.
«начальника гл. упр. по д. печати Потемкина» — Д. М. Потемкин — член сов. гл. упр. по дел. печати — временно, после ухода В. А. Удинцова, исправлял должн. нач. гл. упр. по дел. печати.
(обратно)Стран. 322, св. 10 стр.
«А. А. Познанский», надо: «А. Н. Познанский».
(обратно)Стран. 329, св. 21 стр.
«графиня Палей», надо: «княгиня Палей».
(обратно)Стран. 333, св. 17–18 стр.
«обер-прокурор II д-та, проф. Неклюдов». — Н. А. Неклюдов был обер-прокур. угол. касс., а затем общ. собр. и соед. присутствия I и касс. д-тов сената.
(обратно)Стран. 333, сн. 17 стр.
«гродненского», надо: «грозненского».
(обратно)Стран. 338, св. 1 стр. и далее на стр. 377 и 378.
«Бахтиаров» надо: «Бахтеяров».
(обратно)Стран. 343, сн. 1 стр.
«они не могут быть смещаемы», надо: «они могут быть смещаемы».
(обратно)Стран. 349, сн. 11 стр.
«Щегловитов», надо: «Председатель».
Стран. 350, сн. 4 стр.
«Сергиевский», надо: «Сергеевский».
(обратно)Стран. 368, сн. 16 и 15 стр.
«а в 1906 году истекло всего два года моей деятельности, как м-ра юстиции». — Явная ошибка. Щ. назначен м-ром юст. 24 апр. 1906 г., т.-е. через два года после того, как, по его словам, возникла идея судебн. рассмотрения полит. дел.
(обратно)Стран. 382, св. 19 стр.
«управление», надо: «увольнение».
(обратно)Стран. 392, сн. 3 стр.
«Щегловитов. — Лядов, вероятно», — Щ. ошибся: ни Лядов, ни кто-либо другой из чинов м-ва юстиции на суд. рассмотрение д. Бейлиса в Киев командирован не был.
(обратно)Стран. 395, сн. 12 стр.
«Лохотский», надо: «Лахостский».
(обратно)Стран. 395, сн. 6 стр.
«Ивана Акимовича Машкевича», надо: «Николая Акимовича Машкевича».
(обратно)Стран. 398, св. 4 стр.
«Рубинцов», надо: «Лубенцов».
(обратно)Стран. 398, сн. 11 стр.
«Рейнеке», надо: «Рейнке».
(обратно)Стран. 398, сн. 3 стр.
«Щегловитов. — Глищинский, это тот, что был в Новочеркасске…» — Очевидно Щ. сказал или хотел сказать: «Зегниц — это тот, что был в Новочеркасске». Г. никогда в Новочеркасске не служил, и Щ. не мог этого не знать, так как Г. был его ближайшим сотрудником по мин-ву.
(обратно)Стран. 399, св. 2 стр.
«М. Г. Щегловитова», надо: «И. Г. Щегловитова».
Стр. 399, св. 17 стр.
«следователе Холодковском», надо: «ст. председателе суд. палаты Хлодовском».
(обратно)Стран. 412, св. 16 и 21 стр.
«Лашенки», надо: «Лащенки».
(обратно)Стран. 412, св. 20 стр.
«Двусловский», надо: «Тлустовский».
(обратно)Стран. 415, сн. 12 и 11 стр.
«товарищ председателя судебной палаты Нурович», надо: «тов. председ. екатеринодар. окр. суда Мордмиллович».
(обратно)Стран. 418, сн. 5, 15, 24 и 28 стр.
«Холодовский», надо: «Хлодовский».
(обратно)Стран. 429, сн. 24 стр.
«покойный князь Голицын» — князь Н. Д. Голицын в 1917 г. был жив.
(обратно)Стран. 429, св. 19 стр.
«значит — 29-го», надо: «значит — 30-го».
(обратно)Стран. 432, св. 9 стр.
«Г. И. Сазонов», надо: «Г. П. Сазонов».
(обратно)Стран. 440, сн. 2 стр.
«Стр. 394, строка 2.» — Указанная опечатка находится на странице 399, строка 2. — Прим. В.М.
(обратно)

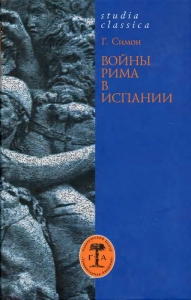


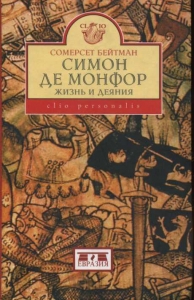
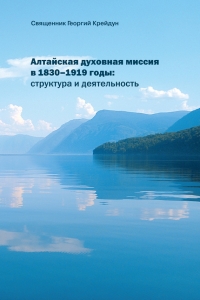
Комментарии к книге «Падение царского режима. Том 2», Павел Елисеевич Щеголев
Всего 0 комментариев