Роджер Кроули Константинополь. Последняя осада. 1453
Посвящаю Джен с любовью — любовью, нанесшей мне рану близ стены у моря во время осады.
Константинополь — город, чье величие превосходит все, что о нем говорят. Да будет соизволение всемилостивейшего и щедрого Аллаха сделать его столицей ислама.
Хасан Абд аль-Харави, арабский писатель XII векаЯ расскажу историю величайших бед… обрушившихся на Константинополь, которую я наблюдал вблизи собственными глазами.
Леонард ХиосскийПролог Красное яблоко
Красное яблоко манит к себе камни.
Турецкая пословицаДельфины — эмблема Константинополя.
Ранняя весна. Черный коршун парит на ветру над Стамбулом. Он медленно чертит круги вокруг Сулеймановой мечети, как будто привязанный к минаретам. Отсюда ему открывается вид на город с пятнадцатимиллионным населением — город, невозмутимо созерцающий смену дней и столетий.
Когда некий предок этой птицы кружил над Константинополем в холодный мартовский день 1453 года, Город был похож на нынешний, однако выглядел гораздо менее суматошным. Зрелище замечательное: оно напоминает треугольник, восточный угол которого слегка приподнят, точно рог рассерженного носорога. С двух сторон Город защищен морем. К северу лежит удобная, глубокая бухта Золотой Рог; к южной стороне примыкает Мраморное море (западнее пролив Дарданеллы соединяет его со Средиземным). С воздуха можно заметить надежную непрерывную линию укреплений, прикрывающую эти две стороны треугольника, обращенные к морю. Оттуда видно, как морские течения разбиваются об острие носорожьего рога со скоростью семь узлов: природа, как и люди, поработала над укреплением обороны Города.
Так выглядел Город в XV веке.
Однако наибольшее впечатление производит основание треугольника. Сложный тройной пояс стен, буквально утыканный башнями, к которому примыкает внушительных размеров ров, тянется от Золотого Рога до Мраморного моря и надежно защищает Город от нападений. Это стена Феодосия, построенная тысячу лет назад, — самое мощное оборонительное сооружение в средневековом мире. Турки Османской империи XIV и XV веков называли ее «костью в горле Аллаха». Она создавала для них своего рода психологическую проблему: дразнила их амбиции и не давала мечтать о завоеваниях. Для западного христианского мира она являлась оплотом против ислама, защищавшим христиан от мусульманского мира и вселявшим в них ощущение благодушия.
Бросив взгляд на тогдашний ландшафт — ландшафт весны 1453 года, — можно было также разглядеть Галату, крохотный итальянский город-государство на северном берегу Золотого Рога, и точно увидеть, где кончается Европа. Босфор разделяет континенты, прорываясь, подобно реке, между низкими лесистыми холмами к Черному морю. С другой стороны лежит Малая Азия, Анатолия — по-гречески «восток» в буквальном смысле слова. Виден блеск снежных шапок на вершинах горы Олимп, расположенной в шестидесяти милях отсюда.
Вдали справа видна Галата.
Поглядим назад, на Европу — местность, покрытую пологими, округлыми холмами, тянущуюся в сторону османского юрода Эдирне (он находится в ста сорока милях к западу). Именно этот ландшафт должен был привлечь всевидящий взор: здесь ему открывалось нечто важное. По плохим дорогам, соединяющим оба города, маршируют люди, построенные в гигантские колонны; белые шапки и красные тюрбаны видны перед толпами; низкое солнце озаряет луки, дротики, фитильные замки и щиты; эскадроны скачущих всадников, проезжая, разбрызгивают грязь; серебрятся и звенят звенья кольчуг. За ними тянутся длинные караваны обозных мулов, лошадей и верблюдов со всеми предметами, нужными для ведения войны, и обслуживающими людьми — минерами, поварами, оружейными мастерами, муллами, плотниками и скупщиками военной добычи. А вдали видно кое-что еще. Целые стада быков и сотни человек с великим трудом тащат пушки по мягкой земле. Вся османская армия пришла в движение.
Чем дальше простирается взгляд, тем больше деталей операции открывается ему. Мы видим целый флот весельных судов, напоминающий задний план средневековой живописи — он тяжело, медленно движется против ветра со стороны Дарданелл. От Черного моря плывут транспортные суда с высокими бортами: они везут лес, зерно и пушечные ядра. Из Анатолии, с плато по направлению к Босфору движутся группы пастухов, святых людей, маркитантов и проституток, бродяг — всех их стронул с места призыв в османскую армию. Это нестройное скопище людей и снаряжения двигалось в одном темпе с армией и имело одну с ней цель: Константинополь — столицу того немногого, что в 1453 году оставалось от древней Византийской империи.
Люди Средневековья, готовые вступить в борьбу, были в высшей степени суеверными. Они верили в пророчества и искали знамений. В самом Константинополе источниками магической силы считались древние памятники и статуи. Люди вычитывали сведения о грядущем, ожидавшем мир, из начертанных на римских колоннах слов (их подлинное содержание уже позабыли). Погода также становилась для них особым знаком, и весна 1453 года встревожила их, оказавшись необычайно дождливой и холодной. Плотный туман застилал в марте Босфор. Происходили землетрясения; выпадал снег, неожиданный в данное время года. Горожане, охваченные напряженным ожиданием, толковали все это как дурные предзнаменования — возможно, предвещающие даже конец света.
Приближавшиеся османы также отличались суеверием. Цель своего натиска они именовали попросту Красным яблоком, расценивая его как символ власти над миром. Захватить его означало исполнить страстное желание мусульман, которому насчитывалось уже восемьсот лет. Его связывали с самим Пророком, и оно обросло легендами, предсказаниями и апокрифами. В воображении воинов, шедших к Константинополю, «яблоко» находилось в определенном месте в центре Города. Близ храма Святой Софии на колонне высотой в сто футов стояла гигантская бронзовая конная статуя императора Юстиниана — памятник могуществу ранней Византийской империи и знак той роли, которую она играла как оплот христианства перед лицом Востока. По словам писателя VI века Прокопия Кесарийского, она была изумительна.
Конь обращен головой к востоку и имеет благородный вид. На коне восседает громадная статуя императора, одетого подобно Ахиллесу… доспехи его подобны доспехам героя. Шлем, покрывающий его голову, ослепительно сверкает; кажется, будто он поднимается и опускается. В левой руке он держит земной шар; этим ваятель хотел показать, что вся земля и море подчиняются ему [императору], хотя у него нет ни меча, ни копья, ни какого-либо иного оружия, за исключением того, что на шаре стоит крест: лишь с его помощью он приобрел свое царство и военное превосходство.
Статуя Юстиниана.
Именно увенчанный крестом земной шар в руке Юстиниана турки отождествляли с Красным яблоком, и именно за ним они шли сюда: казалось, оно содержало в себе всю славу знаменитой древней христианской империи и возможность власти над миром.
Страх перед осадой глубоко врезался в память византийцев. То был призрак, угрожавший их библиотекам, мраморным комнатам и украшенным мозаикой церквям, однако он был слишком хорошо знаком жителям Константинополя и поэтому привычен им. За тысячу сто двадцать три года, прошедшие вплоть до весны 1453-го, Город подвергался осаде двадцать три раза. Однажды его уже захватывали, причем не арабы или болгары, а христианские рыцари, участники Четвертого крестового похода — одного из самых причудливых эпизодов в истории христианства. Стены со стороны суши еще ни разу не смогли пробить насквозь, хотя они и стали ниже в результате землетрясения в V веке. Во всех остальных случаях они остались неповрежденными, так что когда 6 апреля 1453 года армия султана Мехмеда наконец подошла к Городу, защитники столицы питали вполне обоснованные надежды на то, что им удастся выжить.
Именно об этом событии, о том, что привело к нему, что было до него и что случилось после, пойдет речь в данной книге. Мы расскажем о смелости и жестокости, о технических изобретениях, удаче, трусости, предубеждениях и тайнах. Будет затронуто и многое другое из происходившего в мире, переживавшего переломный момент: развитие пушечного дела, искусство ведения осады, тактика войны на море, религиозные верования, мифы и суеверия людей Средневековья. Но прежде всего эта книга — «история места», где пойдет речь о морских течениях, холмах, полуостровах и погоде; о том, как земля поднимается и опускается и пролив разделяет два континента, лежащих столь близко друг к другу, что «они почти целуются» друг с другом; о Городе, надежно укрепленном и защищенном скалистыми берегами, хотя некоторые особенности геологии делали его уязвимым для нападения. Именно с возможностями, предоставляемыми местом положением (имеется в виду все, относящееся к торговле, обороне и снабжению продовольствием), связана ключевая роль Константинополя в судьбах империи; именно они стали причиной того, что столько армий подходило к его воротам. «Константинополь — центр империи ромеев, — писал Георгий Трапезундский, — и он, пребывающий и остающийся их повелителем, также повелевает всей землей».
Современные националисты интерпретируют осаду Константинополя как борьбу между двумя народами — греками и турками, но такое упрощение приводит к ложным выводам. Вряд ли такие ярлыки устроили бы представителей обеих сторон; участники событий даже не поняли бы, о чем идет речь, хотя и те, и другие применяли их по отношению к противнику. Подданные Османской империи, буквально — племя османов — так и называли себя османами (или попросту мусульманами). Слово «турок» по большей части имело пренебрежительный смысл, применяемый к представителям этой национальности в западных странах, а наименование «Турция» оставалось неизвестным для них до 1923 года, когда его заимствовали у европейцев при создании новой республики. Османская империя в 1453 году уже представляла собой мультикультурное явление; она поглощала завоеванные ею народы, мало заботясь о национальной идентичности. Ее знаменитое войско состояло из славян, командующий на суше был грек, адмирал — болгарин, а султан, возможно, наполовину серб или македонянин. Более того, согласно сложной средневековой системе вассальной зависимости, тысячи воинов-христиан сопровождали его по пути из Эдирне. Они пришли, дабы покорить жителей Константинополя, чьим языком являлся греческий, — тех, кого мы теперь называем византийцами (впервые в английском языке это слово употребили в 1853 году, когда прошло ровно четыреста лет после великой осады). Они считались наследниками Римской империи, и поэтому их именовали ромеями. Их, в свою очередь, возглавлял император, бывший наполовину сербом и на четверть итальянцем. Многие укрепления защищали люди из Западной Европы, именуемые византийцами «франками»: венецианцы, генуэзцы и каталонцы, которым помогали несколько турок, критян — и один шотландец. Трудно установить нечто определенное, говоря об идентичности или лояльности по отношению к чему бы то ни было, проявленным участниками осады; в борьбе существовало лишь одно измерение, один аспект, о котором никогда не забывали тогдашние хроники: вера. Мусульмане обращались к своим противникам: «презренные неверные», «проклятые безбожники», «враги веры»; в ответ они слышали: «язычники», «неверные варвары», «турки-безбожники». Константинополь стал передовой линией долгой войны между исламом и христианством — войны за то, какая вера является истинной. Здесь разные воплощения истины противостояли друг другу в войне и мире в течение восьмисот лет, и именно здесь весной 1453 года, в роковой момент истории, на долгий срок закрепились новые отношения между двумя великими монотеистическими религиями.
Глава 1 Пылающее море 629-717 годы
О Христос, правитель и властитель мира, Тебе ныне я посвящаю сей подвластный Тебе город, и эти скипетры, и могущество Рима.
Надпись на колонне Константина Великого в КонстантинополеИмператор на Ипподроме.
Желание мусульман обладать Константинополем почти так же старо, как и сам ислам. Истоки священной войны за город связаны с историей самого Пророка и коренятся в событии, чью достоверность, как и многое другое в истории города, невозможно оценить.
В 629 году двадцативосьмилетний Ираклий, «самодержец ромеев» и император Византии, совершал пешее паломничество в Иерусалим. То был главный момент в его жизни. Он разгромил персов, одержав над ними ряд важных побед, и отвоевал у врага самую почитаемую реликвию христиан — Честной Крест Господень, с триумфом водворив его во Храме Гроба Господня. Согласно мусульманскому преданию, достигнув города, он получил письмо. В нем без обиняков говорилось следующее: «Во имя Аллаха, Всемилостивейшего и Милосерднейшего: это письмо от Мухаммеда, раба Аллаха и пророка Его, Ираклию, правителю Византии. Да будет мир с теми, кто следует Его водительству. Я призываю тебя покориться Аллаху. Прими ислам, и Аллах воздаст тебе двойной мерой. Но если ты отвергнешь этот призыв, то ввергнешь свой народ в несчастья». Ираклий не имел представления, кто мог быть автором письма, но, как сообщается, он пытался разузнать это и придал некоторое значение тому, что в нем было сказано. Похожее письмо, отправленное «царю царей» в Персию, было разорвано. Ответ Мухаммеда, узнавшего эту новость, прозвучал резко: «Скажите ему — моя религия и мое господство достигнет пределов, каких никогда не достигало царство Хосрова»[1]. О Хосрове говорить было уже поздно: его умертвили, расстреляв из луков, год назад — однако письмо, о котором говорится в этом апокрифе, предрекало — христианской Византии будет нанесен смертельный удар, который приведет к падению державы ромеев и ее столицы, Константинополя, и уничтожит то, чего удалось достичь всем ее императорам вместе взятым.
Триумф Ираклия, везущего Честной Крест Господень.
В предыдущие десять лет Мухаммед преуспел в объединении враждовавших племен Аравийского полуострова, проповедуя несложные истины ислама. Побуждаемые словом Божьим, банды всадников-кочевников сделались дисциплинированнее благодаря совместным молитвам и превратились в организованную боевую силу. Теперь их необузданные желания простирались за пределы пустынных краев в широкий мир, резко разграниченный по признаку веры на две зоны. По одну сторону рубежа лежал Дар уль-Ислам, «пространство ислама»; по другую (те царства еще не обратились в истинную веру) — Дар уль-Харб, «пространство войны». В 30-е годы VII века арабы начали появляться в приграничных районах Византии, где освоенные земли уступают место пустыне. Они напоминали духов, возникающих из песчаной бури. Арабы отличались быстротой, изобретательностью и отвагой. Они ставили в тупик неуклюжие армии наемников в Сирии. Арабы нападали, а затем отступали в пустыню, выманивали противника из укреплений па голую, пустынную местность, окружали его и устраивали резню. Они пересекали неприютные пустынные территории, убивали своих верблюдов и пили воду из их желудков — чтобы вновь неожиданно появиться в тылу врага. Они осаждали города и учились брать их. Они захватили Дамаск, затем — сам Иерусалим; Египет покорился им в 641-м, Армения — в 653 году; им потребовалось двадцать лет, чтобы нанести полное поражение Персидской империи и обратить ее жителей в мусульманство. Завоевание велось с ошеломляющей быстротой, причем арабы демонстрировали исключительную способность адаптироваться к обстоятельствам. Ведомые словом Божьим и идеей священной войны, люди, всегда жившие в пустыне, построили корабли «для ведения священной войны на море» на судоверфях Египта и Палестины с помощью местных христиан. Они захватили Кипр в 648 году, а затем нанесли поражение византийскому флоту в «битве мачт» у ликийских берегов в 655 году. В итоге в 699 году (еще не прошло и сорока лет со смерти Мухаммеда!) халиф Муавия отправил гигантские силы, способные сражаться как на суше, так и на море, Дабы нанести решающий удар и сокрушить сам Константинополь. Одерживая перед тем победу за победой, он был полностью уверен в успехе.
Взятию Константинополя предстояло стать кульминацией его честолюбивого и долгосрочного плана, задуманного и осуществленного с величайшей предусмотрительностью и тщательностью. В 669 году армия арабов заняла побережье Азии напротив Города. На следующий год флот из четырехсот судов переплыл Дарданеллы и овладел базой на полуострове Кизик на южной стороне Мраморного моря. Арабы накапливали продовольствие, строили сухие доки и ремонтные мастерские, стремясь обеспечить ведение кампании: она должна была продолжаться столько, сколько потребуется. Миновав пролив к западу от Города, мусульмане впервые ступили на побережье Европы. Здесь они овладели гаванью, откуда планировали вести осаду, и провели рейды по территориям в тылу города. Защитники Константинополя укрылись за массивными стенами, в то время как византийский флот, стоявший в доках в бухте Золотой Рог, готовился контратаковать врага.
В течение пяти лет, с 674 по 678 год, арабы успешно проводили кампанию по одному и тому же образцу. В период с весны по осень каждый год они осаждали стены и предпринимали операции на море, включавшие в себя непрерывные сражения с византийским флотом. Обе стороны использовали один и тот же тип судов — весельные галеры; команды также были по большей части одинаковыми, так как мусульмане привлекали к делу искусных моряков-христиан из завоеванного ими Леванта. Зимой арабы перегруппировывались на своей базе в Кизике, чинили корабли и готовились на следующий год вновь усилить натиск. Осада затянулась, но они были непоколебимо уверены в неминуемости своей победы.
А затем в 678 году византийский флот сделал решающий ход. Он атаковал флот мусульман, предположительно нанеся удар по базе в Кизике в конце «сезона битв» — подробности либо неясны, либо тщательно замалчивались. Нападение возглавляла эскадра быстроходных дромонов — легких, маневренных, многовесельных галер. Не сохранилось рассказов современников о том, что происходило дальше, хотя из позднейших сообщений можно составить суждения о деталях. Приблизившись к противнику, атакующие корабли, как обычно, выпустили тучу стрел, а затем обрушили на него исключительной силы поток жидкого огня из сопел, укрепленных высоко на носах судов. Струи огня воспламенили поверхность моря между сблизившимися судами; затем огонь охватил вражеские корабли; «похоже было на то, будто прямо перед ними ударила молния».
Огненная вспышка сопровождалась шумом, напоминавшим гром; дым застлал небо; пар и газы задушили охваченных ужасом моряков на арабских судах. Казалось, огненная буря произошла в нарушение законов природы: ее можно было направлять в сторону или вниз — в любом направлении по желанию «оператора»; там, где она соприкасалась с поверхностью моря, вода вспыхивала. По-видимому, она также обладала способностью прилипать к предметам, «приклеиваясь» к деревянным бортам и мачтам. Потушить ее оказалось совершенно невозможно. Суда и их команды быстро поглотил стремительный поток огня, вызванный словно дуновением некоего злого бога. Чудовищное адское пламя «уничтожило корабли арабов, а их команды сгорели заживо». Флот погиб, а те пострадавшие, кому удалось выжить, «с потерей множества воинов и великим ущербом», сняли осаду и отправились домой. На уцелевшие корабли обрушился зимний шторм, и большая часть из них потерпела крушение, в то время как армия арабов попала на побережье Азии в засаду и была разгромлена. Подавленный Муавия заключил перемирие на тридцать лет на невыгодных для арабов условиях и, сломленный, умер на следующий год. В первый раз мусульманские завоеватели потерпели крупную неудачу.
Хроники представляют сей эпизод как несомненное свидетельство того, что «империю ромеев хранит Господь», однако на самом деле она спаслась благодаря новому техническому изобретению — «греческому огню». История появления необыкновенного оружия до сих пор остается темой усиленных разысканий — технология его изготовления считалась государственной тайной Византийской империи. Предполагают, что приблизительно в период осады беглый грек по имени Каллиник явился в Константинополь из Сирии и привез с собой сведения о том, как выпускать жидкий огонь из сифонов. Если это так, то он, вероятно, основывался на методах распространения пламени, использовавшегося в качестве оружия и широко известного на Ближнем Востоке. Основным компонентом смеси почти наверняка являлась неочищенная нефть из естественных скважин близ Черного моря; она смешивалась с истолченной в порошок смолой, благодаря чему состав прилипал к поверхностям. Вероятно, усовершенствование, проведенное втайне в оружейных мастерских за годы осады, заключалось в разработке способа распространения этого материала. По всей вероятности, византийцы, унаследовавшие практическое инженерное искусство Римской империи, разработали способ нагревания смеси в наглухо закрытых бронзовых контейнерах. По-видимому, ее нагнетали туда с помощью ручных насосов, а затем выпускали через специальные наконечники, поджигая при этом жидкость. Чтобы управляться с горючим материалом, находящимся под давлением, и огнем, будучи при этом на деревянном судне, требовались точные методы производства и высококвалифицированные специалисты. Именно это составляло подлинный секрет «греческого огня» и привело к тому, что в 678 году арабы были деморализованы.
В течение сорока лет поражение под Константинополем не давало покоя дамасским халифам Омейядам. С точки зрения теологии ислама оставалось непостижимым, как это все человечество в надлежащий срок не перешло в эту веру или не покорилось власти мусульман. В 717 году была предпринята вторая, еще лучше подготовленная попытка преодолеть препятствие, не дававшее «истинной вере» распространиться по Европе. Нападение арабов пришлось на тот момент, когда в империи начались беспорядки. Новый император, Лев II, коронованный 25 марта 717 года, пять месяцев спустя обнаружил, что вдоль всей стены, прикрывавшей Город с суши, окопалась армия численностью в восемьдесят тысяч человек, а проливы контролирует флот из тысячи восьмисот кораблей. Арабы усовершенствовали свою стратегию по сравнению с предыдущей осадой. Мусульманский полководец Маслама быстро понял — городские стены неуязвимы для осадных машин; значит, Константинополь следовало полностью блокировать. Серьезность намерений военачальника подчеркивал тот факт, что его армия привезла с собой зерна пшеницы. Осенью 717 года войска вспахали землю вокруг городских стен и посадили хлеб, намереваясь собрать урожай следующей весной и таким образом обеспечить себя продовольствием. Затем они расположились поблизости в ожидании. Натиск кораблей с использованием «греческого огня» принес определенный успех, однако блокаду снять не удалось. Все было тщательно продумано для сокрушения «неверных».
Что действительно случилось с арабами, так это немыслимая катастрофа, неумолимо разворачивавшаяся шаг за шагом. Согласно собственным хроникам завоевателей, Льву удалось обмануть своих врагов с помощью совершенно необычной дипломатической хитрости, впечатляющей даже по византийским меркам. Он убедил Масламу, что сможет сдать город, если арабы, во-первых, уничтожат свои запасы продовольствия и, во-вторых, дадут какое-то количество зерна осажденным. Когда это было исполнено, Лев засел за стенами и отказался продолжать переговоры. Затем обманутая армия стала жертвой необычайно суровой зимы, к которой была плохо подготовлена. Снег лежал на земле сто дней; верблюды и лошади начали гибнуть от холода. Солдатам, все больше терявшим присутствие духа, приходилось питаться падалью. Греческие хроники (правда, неизвестно, насколько они объективны) сообщают и о более ужасных делах. «Рассказывают, — писал Феофан Исповедник сто лет спустя, — будто они даже запекали и ели умерших, а также заквашивали и поедали свои испражнения». Вслед за голодом начались болезни; тысячи человек умерли от холода. Арабы прежде не сталкивались со столь свирепыми зимами на Босфоре; они были застигнуты врасплох. Хоронить мертвых в слишком твердой земле было невозможно: тысячи трупов пришлось сбросить в море.
С наступлением весны прибыл большой арабский флот. Он вез продовольствие и снаряжение для пострадавшей армии, рассчитывая укрепить силы осаждающих. Однако удача отвернулась от них, и им не повезло и на этот раз. Арабы, остерегаясь «греческого огня», после разгрузки кораблей спрятали их у побережья Азии. К несчастью, несколько матросов-христиан из Египта перешли на сторону императора и выдали местоположение флота. Византийские корабли, вооруженные «греческим огнем», застали врасплох арабские суда и уничтожили их. Другая армия, высланная в качестве подкрепления из Сирии, попала в засаду и была в буквальном смысле изрублена в куски византийской пехотой. Тем временем Лев, неутомимо изобретавший все новые хитрости, вел переговоры с язычниками-болгарами. Он убедил их напасть на «неверных» близ стен города; в результате состоялось сражение, унесшее жизни двадцати двух тысяч арабов. 15 августа 718 года (то есть почти по прошествии года с момента прибытия) армии халифа сняли осаду и в беспорядке двинулись домой по суше и по морю. А когда изнуренные солдаты отступали через Анатолийское плато, судьба нанесла по «делу мусульман» еще один удар. Бури на Мраморном море уничтожили несколько кораблей, а остальные погибли в результате подводного извержения вулкана в Эгейском море. «Морская вода закипела, и когда смола, которой просмолены были корабли, растаяла, они потонули в глубинах вместе с командой и со всем, что было на них». Из громадного флота, отправившегося в плавание, лишь пять судов вернулось в Сирию, «дабы принести весть о могуществе Господа и делах его». Византия согнулась, но не погибла под натиском мусульман. Константинополь выстоял благодаря соединению технических инноваций, искусной дипломатии, талантам отдельных людей, мощным укреплениям — и явному везению: всему этому суждено было повториться бесконечное число раз на протяжении грядущих столетий. Неудивительно, что в подобных обстоятельствах византийцы объяснили происшедшее на свой лад: «Господь и Пресвятая Дева, Матерь Божия, защитили Город и империю христиан, и… тех, кто взывает ко Господу, поистине никогда Он не оставляет окончательно, пусть даже наказывая нас на краткое время за грехи наши».
Неудачная попытка мусульман захватить город в 717 году имела далеко идущие последствия. Гибель Константинополя открыла бы путь мусульманской экспансии в Европу, что коренным образом могло изменить все будущее Запада; этот вопрос остается одним из величайших «а что было бы, если» в истории. В результате победы Византии приостановился первый мощный натиск исламского джихада, достигший своей высшей точки пятнадцать лет спустя на противоположной стороне Средиземноморья, где силы мусульман потерпели поражение на берегах Луары, всего в ста пятидесяти милях к югу от Парижа[2].
Для самих мусульман поражение в Константинополе, молва о котором разнеслась очень далеко, стало в гораздо большей степени теологической, нежели военной проблемой. В течение первого столетия существования «истинной веры» мусульмане почти не имели оснований сомневаться в ее окончательной победе. Закон джихада диктовал необходимость завоеваний. Однако под стенами Константинополя ислам получил отпор от, так сказать, своего собственного зеркального отражения: христианство являлось соперником ислама, представляя собой монотеистическую религию, обладавшую таким же миссионерским духом и полную решимости увеличивать число новообращенных. Константинополь обозначил линию фронта в длительной борьбе между двумя во многом похожими представлениями об истине, сохранившуюся в течение нескольких столетий. Между тем исламским мыслителям пришлось признать фактическое изменение отношений между «пространством ислама» и «пространством войны». Окончательное завоевание немусульманского мира, по их мнению, откладывалось, возможно, до самого конца света. Некоторые знатоки законов говорили о третьем состоянии — «пространстве перемирия», чтобы выразить мысль об отсрочке окончательной победы. Эпоха джихада, казалось, закончилась.
Византия больше всех испытала на себе жестокость врагов, а Константинополь оказался для мусульман незаживающей раной и в то же время предметом страстного вожделения. Многие мученики погибли у его валов, и в их числе знаменосец Пророка Аюб в 669 году. Их гибель превращала Город в священное для ислама место и придавала мессианское значение планам его покорения. Осады Константинополя оставили богатое наследие в виде легенд и фольклора, передаваемое из поколения в поколение. Среди них был Хадис — собрание высказываний, приписывавшихся Мухаммеду. Он содержал в себе предсказание цикла, состоящего из поражения, смерти и окончательной победы, которые суждены воинам — поборникам истинной веры: «В джихаде против Константинополя одна треть мусульман даст победить себя (их Аллах не сможет простить); еще одна треть погибнет в бою, явив неведомый дотоле пример мученичества; последняя же треть одержит победу». Итак, борьбе предстояло затянуться надолго. Столь грандиозен был по масштабам своим конфликт между исламом и Византией, что, хотя мусульманские знамена не развевались у городских стен в последующие шестьсот пятьдесят лет — (промежуток, больший, нежели — отделяющий нас от 1453 года), — пророчество тем не менее утверждало — они возвратятся.
Константинополь построили на месте поселения, воздвигнутого на тысячелетие ранее легендарным греком Визой. С того момента, как он стал христианским городом, прошло четыреста лет, прежде чем отряды Масламы начали бродить по родным землям. Место, выбранное императором Константином для новой христианской столицы в 324 году н. э., обладало значительными преимуществами с точки зрения географического положения и рельефа местности. После того как в V веке построили стены со стороны суши, Город стал фактически неуязвим для штурма, до тех пор пока наиболее мощными осадными орудиями оставались катапульты. За внешней стеной, имевшей в длину двенадцать миль, возвышался Константинополь. Он стоял на расположенных рядами крутых холмах, обеспечивая защитникам естественные, господствующие над расстилавшимся вокруг морем позиции, тогда как узкая бухта Золотой Рог, действительно напоминающая по форме искривленный отросток оленьего рога, представляла собой безопасную гавань большой глубины. Единственным недостатком являлась бесплодная земля мыса, но эту проблему впоследствии решили византийские гидротехники с помощью продуманной системы акведуков и цистерн.
Место — уникальное, ведь располагалось оно на перекрестке торговых путей и маршрутах передвижения войск. За годы существования поселений, находившихся здесь в былые времена, возле них не раз звучали топот ног и плеск весел. Ясон и аргонавты проплывали мимо, желая получить бараньи шкуры у тех, кто промывал золото в устье Днепра[3]; персидский царь Дарий провел по мосту из лодок семьсот тысяч человек, дабы сразиться со скифами; римский поэт Овидий с тоской взирал на «громадный порог двух морей», следуя к местам своего изгнания на берегах Черного моря. Построенному близ этого перекрестка христианскому городу суждено было держать под контролем богатство обширных районов, расположенных в глубине от прибрежной полосы. С востока через Босфор проникали богатства Центральной Азии, оседая в главном городе империи: золото варваров, мех и рабы из России, икра с Черного моря, воск и соль, пряности, слоновая кость, янтарь и жемчуг из отдаленных районов Востока. На юге сухопутные дороги вели к городам Ближнего Востока — Дамаску, Алеппо и Багдаду; на западе же морские маршруты через Дарданеллы открывают дорогу ко всему Средиземноморью: пути к Египту и дельте Нила, богатым островам — Сицилии и Криту, Апеннинскому полуострову и всему, что находится за Гибралтарским проливом. Под рукой были строевой лес, известняк и мрамор для возведения громадного города и все необходимое для обеспечения его существования. Удивительные течения Босфора приносили богатый сезонный улов рыбы, тогда как поля европейской Фракии и плодородные долины Анатолийского плато в изобилии давали оливковое масло, зерно и вино.
Процветающий город, выросший здесь, стал олицетворением величия империи, которой управлял римский император и где обитало грекоязычное население. Константин спланировал сеть улиц с колоннадами, по краям которых расположились общественные здания с портиками, а также большие площади, сады, обелиски и триумфальные арки, языческие и христианские. Здесь находились статуи и монументы, сохранившиеся еще от классической эпохи (включая знаменитых коней, сделанных, возможно, скульптором Лисиппом для Александра Великого, ныне символ Венеции), Ипподром, способный соперничать с римским, императорские дворцы и церкви, «которых здесь больше, чем дней в году». Население Константинополя, города из мрамора и порфира, чеканного золота и великолепных мозаик, в лучшие времена насчитывало пятьсот тысяч человек. Он поражал приезжих, прибывающих сюда по торговым делам или для того, чтобы выразить почтение владыкам Восточной Римской империи. Варвары из невежественной Европы, раскрыв рты, смотрели на «Город — предмет вожделений всего мира». Реакция Фульхерия Шартрского, побывавшего в Константинополе в XI веке, типична для многих, чьи свидетельства дошли до нас через столетия: «О блистательный город, сколь он величествен, сколь прекрасен, как много в нем монастырей, как много дворцов, возведенных великими трудами, на его улицах, как много произведений искусства, поражающих тех, кто их созерцает. Трудно описать, сколь велико тут изобилие прекрасных вещей, золота и серебра, одежд разнообразного покроя и столь почитаемых святых реликвий. Корабли в любое время заходят в порт, так что нет ничего такого, чего пожелал бы человек и что не привозилось бы сюда».
Византия являлась не только последней преемницей Римской империи, но и первой христианской страной. С самого основания ее главный город воспринимался как подобие небес, воплощение триумфа Христа, а византийский император рассматривался как наместник Бога на земле. Признаки христианского культа можно было видеть повсюду: вздымающиеся купола церквей, звон колоколов и деревянных гонгов, огромное число монахов и монахинь, монастыри, бесконечные процессии с иконами на улицах и стенах, непрерывные богослужения и христианские церемонии, в которых проводили время набожные горожане и их император. Посты, праздничные дни и всенощные бдения заменяли собой календарь: по ним велся отсчет времени; они составляли основу распорядка жизни. Город сделался сокровищницей реликвий христианства, собранных в Святой земле. Западные христиане с завистью взирали на них. Здесь находились голова Иоанна Крестителя, терновый венец с головы Христа, гвозди из его креста, камень из гробницы Спасителя, реликвии апостолов и тысячи других чудотворных раритетов, помещенных в золотых раках и усыпанных драгоценными камнями. Православная религия оказывала могучее воздействие на человеческие эмоции благодаря ярким цветам мозаики и икон, таинственной красоте своих литургий, когда звуки возносятся и замирают во мраке церкви при мерцании лампад, курящемуся ладану и тщательно разработанному церемониалу, в рамках которого существовали церковь и император. Сама сложная система великолепного ритуала создавала у людей впечатление, будто они вознеслись на небеса. Русский гость, присутствовавший при коронации императора в 1391 году, пораженный зрелищностью и роскошью мероприятия, писал:
Певцы пели пречудно и странно, уму непостижимо. И шествовал царь так медленно и тихо от передних дверей до чертога. По обе стороны царя шли двенадцать вооруженных воинов, одетых с головы до ног в железную броню. А перед ними шли два знаменосца, волосы их черные, а знамена их, одежды и шапки красные. А перед этими двумя знаменосцами шли приставы (подвойские), посохи их серебром и золотом окованы… Когда царь дошел до чертога и вошел в пресветлый чертог, облачился в царскую багряницу и диадему царскую… Тогда началась божественная литургия. Кто может описать всю эту красоту?[4]
Собор Святой Софии.
В центре Города, подобно бросившему якорь громадному кораблю, находился огромный собор Святой Софии, построенный Юстинианом всего за шесть лет и освященный в 537 году, — самое необычное сооружение позднеантичного времени, строение, с необъятностью которого могло соперничать только его великолепие. Огромный, устремленный ввысь купол собора являл собой непостижимое чудо для тех, кто его созерцал. «Кажется, — писал Прокопий, — будто он не опирается на мощные каменные стены, но покрывает пространство под собою, свешиваясь с небес». Под куполом находилось такое огромное пространство, что видевшие его в первый раз в буквальном смысле лишались дара речи. Своды, украшенные четырьмя акрами золотой мозаики, были столь великолепны, что, по словам Павла Силенциария, «золотой поток лучей проливается вниз и поражает взор человека, так что трудно смотреть на него», в то время как красота цветного мрамора ввергала зрителя в поэтический транс. Мраморные плиты выглядели так, словно были «усыпаны звездами… как если бы молоко расплескалось по черной сияющей поверхности… или как море, или как изумруд, или, опять же, как синие васильки в траве, там и сям присыпанные снегом». Именно красота литургии в соборе Святой Софии побудила русских принять православие после того, как в X веке миссия из Киева, посетив церковную службу, сообщила следующее: «И не знали, на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и такой красоты, и не знаем, как и рассказать об этом, — знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми». Великолепию православия, выражавшемуся даже в мелочах, противостояла скромность ислама. Он предлагал отвлеченную простоту пустынного горизонта, несложное богослужение, которое мог исполнять всякий, лишь бы было видно солнце, прямой контакт с Богом, другие образы, краски и музыку, и восхитительные метафоры божественной тайны, призванной вознести дух на небеса. И православные, и мусульмане были полны решимости заставить мир принять их собственное видение Бога.
Духовная жизнь в Византии отличалась такой интенсивностью, какую трудно отыскать еще в истории христианства. Стабильности империи временами угрожали группы военных командиров, удалявшиеся в монастырь; вредило ей и обсуждение теологических вопросов прямо на улицах, протекавшее с такой страстью, что это приводило к мятежам. «Весь Город полон трудового люда и рабов, и все они богословы», — с раздражением сообщал один из путешественников, посетивший Константинополь. «Если вы попросите человека обменять деньги, он расскажет вам, чем Бог Сын отличается от Бога Отца. Если вы спросите о ценах на хлеб, он начнет доказывать, что Сын меньше Отца. Если вы поинтересуетесь, готова ли ванна, вам сообщат, что Сын был создан из ничего». Один Христос или их несколько? Исходит ли Святой Дух только от Отца или от Отца и Сына? Являются иконы идолами или святынями? Это были не праздные вопросы: от ответа на них зависели спасение или гибель души. Проблемы православия и ереси в жизни империи играли такую же взрывоопасную роль, как и гражданские войны, и столь же серьезно угрожали ее единству.
Мир византийского христианства был также до странности фаталистичен. Считалось, что все предопределено Богом, и любое несчастье, от потери кошелька до величайшей осады, рассматривалось как возмездие за личный или общий грех. Император занимал свое положение по Божьей воле, но если его свергали в результате дворцового переворота, разрубали на части заговорщики, нападали на него в ванной, душили, волочили привязанным к коням по улицам или просто ослепляли и отправляли в изгнание (ибо императоры часто становились жертвами превратностей судьбы) — это также считалось проявлением Божьей воли и указывало на какие-то неизвестные грехи. И поскольку, как считалось, участь человека предопределена, то византийцев мучили суеверия, связанные с пророчествами. Обычно сомневавшиеся в прочности своего положения императоры открывали Библию наугад и читали, надеясь узнать собственную судьбу. Всеобщее пристрастие к предсказаниям вызывало озабоченность у церкви, часто поносившей его, но оно слишком глубоко укоренилась в душах греков, чтобы можно его было исторгнуть. Это иногда принимало причудливые формы. Араб, посетивший Константинополь в IX веке, наблюдал забавный обычай узнавать с помощью лошадей о ходе военной операции, протекавшей в далеких краях: «Их вводят в церковь, где подвешены уздечки. Если лошадь берет уздечку ртом, люди говорят: «Мы одержали победу в краю ислама». [Иногда] лошадь подходит, нюхает уздечку, возвращается назад и больше не приближается к ней». Тогда люди, по-видимому, уходили мрачные, охваченные предчувствием поражения».
Опасности, связанные с высоким положением: императора Романа Августа Аргира топят в ванне, 1034 г.
В течение многих столетий образ Византии и ее главного города, блистательного, как солнце, оказывал сильнейшее влияние на соседние с ней страны. От нее исходил ослепительный блеск богатства; казалось, она неподвластна времени. Ее валюта, безант, украшенный изображением императора, являлся золотым стандартом Ближнего Востока. На Византию падал отсвет славы Римской империи. В мусульманском мире ее знали просто как «Рум», Рим, и так же, как и Рим, она представляла собой предмет вожделений и зависти кочевых полуварварских народов за ее пределами. Скитающиеся племена с Балкан и венгерских равнин, из русских лесов и азиатских степей буйными волнами обрушивались на ее рубежи: гунны и готы, славяне и гепиды, авары, тюрки-болгары и дикие печенеги — все они проходили по землям Византии.
В лучшие свои времена империя охватывала все Средиземноморье, от Италии до Туниса, но она расширялась и сжималась подобно огромной карте, то и дело сворачивающейся по краям. Год за годом имперские армии и флоты покидали большие гавани на побережье Мраморного моря с развевающимися знаменами и под пение труб, стремясь вернуть утерянные провинции или защитить границы. Византия всегда оставалась воюющей империей, а Константинополь в силу своего положения на пересечении путей постоянно подвергался давлению со стороны как Европы, так и Азии. Из длинной череды завоевателей, являвшихся под стены Города в первые пять веков его существования, наибольшее упорство проявляли арабы. Персы и авары приходили в 626 году, болгары подступали в VIII, IX и X веках, русский князь Игорь — в 941 году. Осада являлась обычным состоянием для греческого народа и темой его древнейшего мифа: помимо Библии, люди знали также гомеровскую легенду о Трое. Это делало их практичными и суеверными одновременно. Поддержание в должном состоянии городских стен было постоянной заботой горожан. Они следили, чтобы амбары было полны зерна, цистерны — воды. Но первоочередное значение с точки зрения православной религии придавалось духовной защите. Иконы Богородицы, покровительницы города, выставлялись на стенах во время кризисных ситуаций. Они пользовались у византийцев таким же доверием, как и Коран у мусульман. Считалось, именно иконы Богородицы спасли Город во время осады в 717 году.
Ни одной из армий, разбивавших лагеря под стенами Константинополя, не удавалось преодолеть эту духовную и психологическую защиту. Методы штурма укреплений, меры по блокированию Города с моря, попытки уморить осажденных голодом так и не принесли победы никому из осаждающих. Хотя нередко слабость империи и доходила до критического уровня, Византия демонстрировала удивительную устойчивость. Инфраструктура Города, прочность институтов империи и наличие выдающихся лидеров в кризисные моменты создавали впечатление как у византийцев, так и у их врагов, что Восточная Римская империя будет существовать вечно.
Однако опыт арабских осад произвел глубокое впечатление на жителей Константинополя. Люди признали в исламе серьезную силу; мусульмане качественно отличались от других врагов. Собственные пророчества византийцев о сарацинах, под чьим именем были известны арабы у христиан, выражали предчувствия о будущем мира. Один из писателей объявил их четвертым зверем из Апокалипсиса, чье «царствие будет четвертым на земле, оно окажется самым ужасным из всех царств и превратит всю землю в пустыню». А в конце XI века ислам нанес Византии второй удар. Все случилось так неожиданно, что никто в то время не смог оценить его значение.
Глава 2 Мечты о Стамбуле 1071-1422 годы
Я видел, как Бог заставил солнце власти светить над Домом тюрок и окружил его небесными сферами, как Он дал им имя «тюрки», даровал им господство, сделал их царями века сего и предал правивших в те времена народами владык в их руки.
Аль-КашгариСтолкновение ислама и христианства: мусульмане и крестоносцы.
Именно с возвышением тюрок дремавший дух джихада пробудился вновь. Впервые тюрки попали в поле зрения византийцев еще в VI веке, когда они прислали послов в Константинополь просить о союзе против Персидской империи. Для византийцев они являлись участниками бесконечных перемещений племен, пробивавших себе дорогу к великому Городу. Их родина лежала за Черным морем и простиралась до самого Китая. Тюрки — язычники-степняки, обитатели холмистых пастбищ Центральной Азии. Время от времени оттуда выплескивались и разоряли соседние народы сокрушительные волны нашествий кочевников. Они оставили нам слово ordu — орда — как память о тех событиях, подобно слабому отпечатку копыта на песке.
Византия не раз претерпевала нападения кочевников-тюрок еще задолго до того, как узнала их имя. Первыми тюрками, напавшими на поселенцев, говоривших по-гречески, следует считать, вероятно, гуннов, чьи племена волнами прокатились через христианский мир в IV веке. За ними последовали болгары, и каждая следующая волна была неостановима, точно нашествие саранчи, опустошающей землю. Византийцы считали нашествия наказанием Господним за грехи христиан. Подобно своим «родичам»-монголам, тюркские народы вели жизнь в седле меж великой землей и еще более великим небом. Они почитали и то и другое, а посредниками им служили шаманы. Их подвижные племена, кочуя без устали, пасли стада и нападали на соседей — тем они и жили. Грабеж был смыслом их существования, города — их врагами. Использование составного лука и мобильной тактики конницы давало им военное превосходство над оседлыми народами, которое арабский историк Ибн Хальдун считал главной составляющей исторического процесса. «Оседлые народы обленились и привыкли к легкой жизни, — писал он. — Они полностью уверены в собственной безопасности, находясь за стенами, которые их окружают, и укреплениями, которые их защищают. У бедуинов нет ворот и стен. Они носят оружие, не снимая его. В пути они зорко смотрят во все четыре стороны. Они забываются кратким сном… лишь когда находятся в седле. Они не оставляют без внимания ни далекий лай, ни шорох. Стойкость стала их характерной чертой, а храбрость — их сущностью». Этой теме суждено было вскоре отозваться как в христианском, так и мусульманском мире.
Регулярные потрясения в сердце Азии продолжали выбрасывать тюркские племена на запад. К IX веку они вошли в соприкосновение с мусульманским населением Ирана и Ирака. Халиф Багдадский оценил их боевые качества и включил в собственные войска как своего рода военных рабов. К концу X века ислам окончательно утвердился среди тюрок в приграничных областях, и все же они не ассимилировались, сохранив национальное своеобразие и язык. Вскоре им предстояло захватить власть над хозяевами. К середине XI века тюркская династия — сельджуки — заняла султанский трон в Багдаде, а к концу столетия мусульманским миром, от Азии до Египта, по большей части правили тюрки.
Быстрота, с которой они возвысились в мусульманском мире, при том что их нередко воспринимали враждебно, широко воспринималась как чудо, предопределенное свыше, совершенное Господом, «желающим вдохнуть в ислам новую жизнь и восстановить единство мусульман». Возвышение тюрок совпало с правлением шиитской династии в Египте, придерживавшейся неортодоксальных воззрений, так что турки-сельджуки, избранные для поддержки ортодоксальной традиции суннитов, смогли получить легитимный статус как истинные гази — воины за веру, ведущие джихад против неверных и мусульман, впавших в ересь. Воинственный дух ислама весьма соответствовал воинственному нраву тюрок; желание грабить узаконивалось благочестивым служением Аллаху. Под влиянием тюрок у мусульман возродилось рвение, присущее ранним арабским завоеваниям. Вновь в большом масштабе началась война против врагов-христиан. Хотя сам Саладин был курдом, он и его последователи повели в бой армии по преимуществу тюркские. «Хвала Господу, — писал аль-Ревенди в XIII веке, — у мусульманской веры надежная опора… На земли арабские, персидские, византийские и русские турки приходят с мечом, и страх перед ними живет глубоко в людских сердцах».
Он написал так незадолго до того, как война между христианами и мусульманами, медленно тлевшая в течение столетий на южных границах Анатолии, опять разгорелась в результате нового натиска. Сельджуков в Багдаде потревожили непокорные племена кочевников — туркмены, чье желание грабить было неуместно в сердце мусульманских земель. Они воодушевили эти драчливые племена обратить свою энергию на запад, на Византию — на царство Рум. К середине XI века хищные воители-«гази» нападали на христианскую Анатолию «во имя священной войны» столь часто, что император Константинополя оказался перед необходимостью предпринять решительные действия.
В марте 1071 года император Роман IV Диоген самолично отправился на восток, намереваясь исправить ситуацию. В августе он оказался лицом к лицу с армией — но не туркмен, а сельджуков, во главе которой стоял блистательный полководец султан Алп-Арслан, «лев и герой», — близ Манцикерта в восточной Анатолии. Произошло нечто любопытное. Султан не желал драться. Его главной целью была не война против христиан, а низложение ненавистного шиитского режима в Египте. Он предложил перемирие, от которого император отказался. В последовавшей битве мусульмане одержали решительную победу, причем решающую роль сыграла классическая тактика кочевников — засады. Византийские наемные войска дезертировали. Ромей спас себе жизнь, поцеловав землю перед султаном-завоевателем, а тот поставил ему ногу на склоненную шею — символическое зрелище триумфа и поражения. Происшедшее ознаменовало переломный момент мировой истории — и катастрофу для Константинополя.
Для византийцев битва при Манцикерте стала «Днем Ужаса» — поражением, чьи результаты напоминали по масштабам последствия землетрясения, и это видение часто преследовало их в грядущем. Итог явился ужасающим, хотя сами жители Константинополя осознали это далеко не сразу. Туркмены хлынули в Анатолию, не встречая сопротивления. Если прежде они приходили и вновь отступали, то теперь оставались, продвигаясь все дальше и дальше по анатолийской территории, напоминающей своей формой львиную голову. После жарких пустынь Ирана и Ирака высокое ровное плато пришлось по душе кочевникам из Центральной Азии с их юртами и двугорбыми верблюдами. Они принесли с собой ортодоксальную религию суннитов с ее четкой структурой, но с ними шли и более радикально настроенные последователи ислама: суфии, дервиши, бродячие «святые люди», проповедовавшие как джихад, так и мистическое почитание святых, импонировавшее христианским народам. За двадцать лет, прошедших после Манцикерта, тюрки достигли побережья Средиземного моря. В основном они не встречали сопротивления со стороны смешанного христианского населения: часть его перешла в ислам, в то время как остальные были только рады освободиться от налогов и преследований со стороны Константинополя. Мусульмане считали христиан «Народом Книги», поэтому предоставляли им защиту закона и свободу вероисповедания. Схизматические христианские секты даже приветствовали установление турецкого правления: «Памятуя о справедливости и доброте тех, кто правил ими, они предпочитали жить под их властью, — писал Михаил Сириец. — У турок отсутствуют представления о святых тайнах… и потому они не имеют привычки вникать в вопросы веры или преследовать кого бы то ни было по своему усмотрению в отличие от греков, — продолжает он, — народа злодеев и еретиков». Внутренние раздоры в Византийском государстве воодушевили тюрок. Вскоре их пригласили принять участие в гражданских войнах, дробивших Византию на части. Завоевание Малой Азии произошло с такой легкостью и встретило столь малое сопротивление, что к тому моменту, когда другая византийская армия потерпела поражение в 1176 году[5], возможность изгнать пришельцев была утрачена навсегда. Поражение при Манцикерте имело необратимые последствия. К 1220-м годам западные писатели уже именовали Анатолию Турцией. Византия лишилась своего источника продовольствия и живой силы навсегда. И почти в тот же самый момент Константинополь потрясла катастрофа, сравнимая по силе с описанной выше. Она пришла оттуда, откуда ее не ожидали — с христианского Запада.
Задачей крестоносцев считалась попытка остановить военную экспансию турок-мусульман. Именно сельджуков, «ненавистную расу, всецело отвратившуюся от Бога», имел в виду папа Урбан II в своей судьбоносной речи в Клермоне в 1095 году, когда призвал «изгнать эту подлую расу из наших земель» и положил начало крестовым походам, продолжавшимся в течение трехсот пятидесяти лет. Несмотря на поддержку братьев-христиан на Западе, этому предприятию суждено было стать длительным источником беспокойства для византийцев. С 1096 года и далее их посещали шедшие волна за волной рыцари-грабители, ощупью пробиравшиеся через империю к Иерусалиму и ожидавшие поддержки, питания и благодарности от своих православных собратьев. Общение вызвало взаимное непонимание и подозрения. Каждая из сторон имела возможность с близкого расстояния наблюдать различия в обычаях и формах религиозного культа другой стороны. В итоге греки пришли к выводу, что их западные братья, носившие тяжелое вооружение, — немногим лучше, чем неотесанные варвары, ищущие приключений; их миссия — лишь лицемерное прикрытие имперских амбиций, скрывавшихся за мнимым благочестием. «Они отличаются необузданной гордыней, жестоким характером… и вдохновляются глубоко укоренившейся ненавистью к [нашей] Империи», — сожалел Никита Хониат. В действительности византийцы часто отдавали предпочтение живущим с ними бок о бок соседям-мусульманам: близость эта привела к возникновению своего рода знакомства и уважения, которыми сопровождались отношения обеих сторон в течение столетий, прошедших с того момента, как разразилась священная война. «Мы должны жить вместе как братья, хотя наши обычаи, манеры и религия различны», — написал однажды патриарх Константинополя багдадскому халифу. Крестоносцы, со своей стороны, увидели в византийцах развращенных еретиков, чьи взгляды, с их точки зрения, имели восточный характер и потому не внушали доверия. Сельджукские и турецкие солдаты регулярно сражались за византийцев. Крестоносцы ужаснулись и тому, что в Городе, чьей покровительницей считалась Пресвятая Дева, стояла мечеть. «Константинополь надменен в своем богатстве, предатель в делах, и вера его испорчена», — заявил крестоносец Одо де Девиль. Еще более дурным знаком стало изумление, которое испытали крестоносцы, увидев богатства Константинополя и его знаменитое собрание усыпанных драгоценными камнями реликвий. Завистливые интонации проскальзывают в сообщениях, отправлявшихся назад в маленькие города Нормандии и на Рейн: «С тех пор как мир стоит, — писал маршал Шампани[6], — никогда не случалось, чтобы столько богатств было собрано в одном городе». То было несомненное искушение.
Запад оказывал военное, политическое и коммерческое давление на Византийскую империю уже давно, однако к концу XII века оно приняло весьма отчетливые формы. В Городе существовала большая итальянская торговая община — венецианцы и генуэзцы. Им предоставлялись специальные привилегии, и соответственно казна получала от них доход. Приземленные итальянцы, любители наживы, не пользовались популярностью: генуэзцы имели свою колонию в Галате, окруженном стенами городе на другом берегу бухты Золотой Рог. Про обитателей венецианской колонии говорили: они, «богатые и процветающие, ведут себя столь нагло, будто исполнены презрения к власти империи». Волны ксенофобии время от времени захлестывали чернь. В 1171 году Галата подверглась нападению со стороны греков и была уничтожена. В 1183 году итальянскую общину полностью вырезали при попустительстве византийского полководца Андроника Грозного.
В 1204 году проблема взаимного недоверия и насилия вновь возникла, и Константинополь был ввергнут в катастрофу, которую греки так никогда и не простили католическому Западу. В ходе одного из наиболее причудливых событий в истории христианства, Четвертого крестового похода, воины, погрузившиеся на венецианские корабли и номинально отправлявшиеся в Египет, были посланы на атаку Города. Замысел операции принадлежал Энрико Дандоло, полностью ослепшему восьмидесятилетнему венецианскому дожу, человеку бесконечного вероломства, самолично возглавившему экспедицию. Прихватив с собой подходящего претендента на императорский престол, огромный флот вошел в Мраморное море в июне 1203 года. Вероятно, крестоносцы и сами удивились, когда по левому борту показался Константинополь — город, имевший столь важное значение для христиан, — а не берега Египта. Прорвав цепь, защищавшую Золотой Рог, венецианские корабли с ходу въехали на берег, собираясь пробить стены у моря. Когда натиск атакующих ослабел, восьмидесятилетний слепец дож спрыгнул на берег с флагом Святого Марка в руке и призвал венецианцев показать, на что они способны[7]. Стены взяли штурмом, и претендента Алексея с подобающими церемониями возвели на престол.
Вслед за тем в апреле (в течение всей зимы велись сомнительные тайные происки, и крестоносцы становились все более своенравны) Константинополь был полностью разгромлен[8]. Началась ужасная резня, целые районы пожал огонь: «Сгорело больше зданий, чем можно насчитать в трех величайших городах французского королевства», — утверждал французский рыцарь Жоффруаде Виллардуэн. Произведения искусства, хранившиеся в Городе, были уничтожены, а храм Святой Софии осквернен и разграблен. «Они ввели лошадей и мулов в храм, — писал хронист Никита Хониат, — чтобы удобнее было выносить оттуда священные сосуды и золотые и серебряные изображения, которые они срывали с престола и кафедры; когда же некоторые из этих животных поскользнулись и упали, они стали подгонять их мечами, оскверняя церковь их кровью и нечистотами». Венецианцы убрались прочь, увозя с собой великие сокровища: статуи, реликвии и красивейшие предметы, — намереваясь украсить ими собственный храм Святого Марка (в их числе находились и четыре бронзовых коня, стоявших на Ипподроме со времен Константина Великого). Они оставили Константинополь лежащим в дымящихся руинах. «О Город, Город, око всех городов, — стенал хронист Никита Хониат, — ты испил до дна чашу гнева Божия». Типичная для византийцев реакция! Однако последствия не зависели от того, кто являлся виновником катастрофы — Бог или человек: от Константинополя осталась лишь тень былого величия. Почти на шестьдесят лет Город стал столицей Латинской империи. Им правили граф Фландрский и его наследники. Византию расчленили на ряд франкских государств и итальянских колоний, в то время как большая часть населения бежала в Грецию. Ромеи основали царство в изгнании (в Никее, в Анатолии) и сравнительно успешно препятствовали дальнейшему наступлению турок. Когда они в 1261 году вернули себе Константинополь, то обнаружили: инфраструктура Города близка к уничтожению, а его владения сократились до нескольких разрозненных территорий. И пока византийцы пытались восстановить свои богатства и противостоять новым опасностям с Запада, они вновь перестали обращать внимание на мусульманскую Анатолию — и заплатили за это еще большую цену.
Анатолию продолжали потрясать своего рода сейсмические сдвиги — переселение народов в сторону Запада. Через два года после разграбления Константинополя племенной вождь Темучин преуспел в объединении враждующих кочевников внутренней Монголии в организованную военную силу и принял титул Чингисхана — Верховного правителя. Длинноволосые монголы, поклонявшиеся небу, обрушились на мусульманский мир с ужасающей яростью. Когда хаос охватил Персию, множество переселенцев подобно приливной волне устремилось на запад, в Анатолию. Материк превратился в тигель, где творились судьбы наций: греков, турок, иранцев, армян, афганцев, грузин. Когда монголы нанесли поражение наиболее сильному из тамошних государств — сельджукам Рума — в 1243 году, Анатолия превратилась в мозаику из маленьких царств. Кочевым тюркским племенам более было некуда мигрировать: соседей-неверных, которых можно было покорять, встав под знамена ислама, больше не осталось. Когда они достигли моря, некоторые из них построили флоты и начали нападать на прибрежные византийские территории; другие же дрались между собой. Анатолия представляла собой хаос. Она была раздроблена, и находиться здесь было опасно: то был «дикий запад», наводненный мародерами, грабителями и прорицателями, воодушевленными горючей смесью из мистического суфизма и ортодоксального суннизма. Туркмены по-прежнему появлялись на линии горизонта, разъезжая в своих богато украшенных седлах в поисках возможности грабежа и вечно перемещаясь с места на место, как требовала традиция гази. Однако теперь лишь одно царство Османа, не игравшее значительной роли, по-прежнему граничило с «землями неверных» — Византией — в северо-западной Анатолии.
Никто не знает истинного происхождения народа, который ныне мы именуем османами. Он возник из числа безымянных кочевых туркменских племен около 1280 года — неотесанные вояки, обитавшие среди палаток и дыма костров. Они правили, не слезая с седел, вместо подписи ставили отпечаток большого пальца, и история их явилась плодом позднейшего мифотворчества, осуществлявшегося в империи. Легенды гласят, что величие было уготовано Осману самой судьбой. Однажды ночью он уснул и увидел сон. Ему привиделся Константинополь, который, «будучи расположен там, где сходятся два моря и два континента, был подобен бриллианту, помещенному между двумя сапфирами и двумя изумрудами, и казалось, что все это образует прекраснейший камень на кольце огромной власти, охватывающем весь мир». Осман облачился в плащ гази, что вполне отвечало устремлениям и его племени. Удача и находчивость в равной мере, очевидно, способствовали тому, что владения Османа превратились из крохотного царства в мировую империю, приснившуюся ему.
Та область, которой владел Осман в северо-западной Анатолии, находилась непосредственно напротив линии византийских укреплений, защищавших Константинополь. Незавоеванная земля неверных, лицом к лицу с которой оказались гази, притягивала их словно магнитом. Эти искатели приключений, жадные до свободных территорий, хотели попытать счастья под водительством Османа. Будучи вождем племени, он правил, находясь бок о бок со своим народом. В то же время османы имели уникальную возможность изучать находящееся по соседству Византийское государство и имитировать его структуры. Племя училось в буквальном смысле «на копытах», усваивая технологии, правила дипломатического этикета и тактику с исключительной быстротой. В 1302 году Осман одержал первую победу над византийцами, обеспечившую ему престиж и приведшую под его знамена новых сторонников. Надвигаясь на ветшающие укрепления империи, он сумел изолировать город Бурсу. Так как он не располагал технологиями для успешной осады, потребовалось семь лег упорной блокады, прежде чем его сын Орхан взял город в 1326 году и получил возможность устроить здесь столицу своего маленького царства. В 1329 году Орхан нанес поражение императору Андронику III при Пелекане, положив конец попыткам Византии оказать поддержку своим городам, еще остававшимся в Анатолии. Вскоре они пали один за другим: Никея — в 1331 году, Никомедия — в 1337-м, Скутари — на следующий год. Теперь воины-мусульмане получили возможность добраться верхом по собственной земле до берега моря и глядеть через Босфор на Европу. На дальнем берегу они видели Константинополь: тянущаяся вдоль моря линия стен, гигантский собор Святой Софии, флаги империи, развевающиеся на башенках и дворцах.
По мере своего продвижения завоеватели смягчали греческие названия захваченных городов в соответствии с тюркским сингармонизмом гласных. Смирна превратилась в Измир, Никея — место, где появился на свет Никейский Символ веры[9], — в Изник; в названии «Бруса» согласные поменялись местами, так что получилось «Бурса». Константинополь, хотя османы в официальных обращениях продолжали называть его арабским наименованием Костантинийе, превратился в повседневной речи турок в Стамбул. Пути этого превращения неясны до сих пор. Может быть, это слово — испорченное «Константинополь», а может быть, оно было образовано совершенно иным способом. Люди, говорящие по-гречески, имели обыкновение называть Константинополь просто «полис» — город. Человек, идущий туда, должен был бы сказать, что он идет «эйс тин полин» — «в город», что для турецкого уха звучало как «Истанбул».
Могилы Османа и Орхана в Бурсе.
Быстрота продвижения османов казалась предопределенной свыше, подобно тому, как случилось с арабами на семьсот лет раньше. Когда великий арабский путешественник Ибн Баттута посетил царство Орхана в 1331 году, на него произвела глубокое впечатление неослабная энергия, бившая ключом в этих краях: «Говорят, он не задерживается ни в одном городе даже на месяц. Он непрерывно борется с неверными и держит их в осаде». Поначалу правители османов именовали себя гази. Они приняли имя воинов за веру, точно закутались в зеленое знамя Пророка. Вскоре они также стали султанами. В 1337 году Орхан оставил надпись в Бурсе, где именовал себя «султан, сын султана, повелителя гази; Гази, сын Гази, повелитель горизонтов, герой всего мира».
То действительно наступила новая героическая эпоха мусульманского завоевания, и сердца воинствующих приверженцев ислама забились сильнее. «Гази — меч Божий, — писал хронист Ахмети около 1400 года, — защитник и прибежище верных. Если он станет мучеником на путях Господа, не верьте, что он умер — он пребывает во блаженстве с Аллахом, он имеет жизнь вечную». Завоевания вызвали самые невероятные ожидания среди свободно разъезжающих повсюду кочевников-грабителей и дервишей-мистиков в рваных плащах, путешествовавших с ними по пыльным дорогам Анатолии. Воздух гудел от пророчеств и героических песен. Они вспоминали, что гласит Хадис о завоевании Константинополя и легенды о Красном яблоке. Когда император Иоанн Кантакузин в 1350 году предложил военным силам Орхана пересечь Дарданеллы, дабы помочь ему в бесконечных гражданских войнах, шедших в Византийском государстве, мусульмане впервые с 718 года вступили на землю Европы. После того как землетрясение разрушило стены Галлиполи в 1354 году, османы сразу объявили происшедшее знамением Божием, ниспосланным мусульманам, и заняли город. Воители и святые люди потоком хлынули в Европу. В 1359 году мусульманская армия появилась у стен Города впервые за шестьсот пятьдесят лет. Зазвучали отголоски пророчества тысячелетней давности. «Почему гази наконец появились? — вопрошал Ахмети. — Потому что наилучшее всегда приходит в конце. Подобно тому как последний пророк, Мухаммед, явился позже остальных, подобно тому как Коран снизошел с небес после Торы, Псалмов и Евангелия, так и гази явились в мире последними». Взятие Константинополя казалось мечтой на грани возможного.
Быстрота продвижения османов не вызывала удивления, а само их появление не казалось кратковременным — здесь видели руку Господа. География, традиция и удача — все способствовало тому, чтобы османы могли извлечь наибольшие выгоды от разрушения Византийского государства. Первые султаны, жившие в непосредственной близости к своему народу и к природе, пристально следили за изменениями политической ситуации и мгновенно использовали открывающиеся для них возможности. Там, где византийцы коснели, отягощенные тысячелетним церемониалом и традицией, османы проявляли способность быстро ориентироваться, гибкость и открытость. Законы ислама предписывали быть милосердными с завоеванными народами, и бремя османского правления было легким, что, как представляется, зачастую выставляло его в более привлекательном свете, нежели европейский феодализм. Не делалось попыток обратить христиан, составлявших ядро населения, в ислам. В сущности, почти все представители династии, имевшей вкус к имперскому владычеству, считали это нежелательным. Согласно законам шариата, нельзя было облагать мусульман большими податями, чем неверных, хотя в любом случае их налоговое бремя не было тяжелым. Крестьяне на Балканах радовались освобождению от весьма тяжкого ига феодальной зависимости. В то же время османы обладали, так сказать, генетической предрасположенностью к созданию собственной династии правителей. В отличие от других тюркских правителей первые султаны никогда не делили владения между потомками, а также не назначали наследника. Все сыновья готовились к правлению, но занять трон мог лишь один — брутальный обычай, казалось, направленный на обеспечение выживания наиболее подходящего претендента. Больше всего жителей Запада удивляло отсутствие у османов наследования через брак. Если византийские императоры, подобно всем правящим домам Европы, отправлялись в изнурительные путешествия с целью заключения династических союзов, дабы узаконить наследование, породнившись с родовитой знатью, то османов это почти не интересовало. Самое главное — отцом султана должен был быть предыдущий султан, а его матерью могла быть наложница или рабыня, возможно, не родившаяся мусульманкой и с точки зрения национальности принадлежавшая к любому из дюжины покоренных народов. Впоследствии такая, если можно так выразиться, генетическая открытость обеспечила османам чрезвычайные возможности.
Из всех новаций, предпринятых османами, ни одна не имела столь важного значения, как создание регулярной армии. Полные энтузиазма отряды воинов-«гази» были слишком недисциплинированны и не могли удовлетворить растущие день ото дня амбиции османских султанов. Осада хорошо укрепленных городов требовала терпения. Для нее требовалось владение определенными методами боевых действий, а также целым рядом специальных ремесел. К концу XIV века султан Мурад I сформировал новые вооруженные силы из невольников, захваченных в странах Балканского полуострова. Наборы в армию проводились с регулярной частотой. Юношей-христиан обращали в ислам и обучали турецкому языку. Отторгнутые от своих семей новые «рекруты» подчинялись исключительно султану. Из них состояла его личная гвардия: «рабы Врат». Они подразделялись на пехоту — «Йени Чери», или янычар, — и кавалерию и вместе представляли собой первую профессиональную оплачиваемую армию в Европе со времен Римской империи. Ей суждено было сыграть ключевую роль в развитии государства османов. Обычай, о котором идет речь, уходил корнями в историю Османской империи: сами турки поступали на военную службу в качестве военных рабов, сражаясь на рубежах мусульманского мира, — их ноу-хау, обеспечивавшее им успех. Однако христиане, наблюдавшие происходящее со стороны, ужасались: им было присуще совершенное иное представление о рабстве, и потому зрелище того, как захваченных в плен детей-христиан заставляют бороться с христианами же, воспринималось ими как жестокое и бесчеловечное. Подобные впечатления сыграли большую роль в формировании мифа о турках-дикарях.
Термин «турок» распространился на Западе достаточно рано. В значительной мере его следует считать европейским конструктом, причем само название противопоставлялось идентичности западного человека и вряд ли использовалось османами: они находили его уничижительным. Последние, в свою очередь, избирали наименования, никогда не имевшие связи ни с национальной, ни территориальной принадлежностью и отражавшие как их кочевое прошлое, когда территориальные ограничения для них отсутствовали, так и многонациональный состав. Идентичность носила в первую очередь религиозный характер: османские султаны имели обыкновение именовать себя (все более и более цветисто) «владыками ислама», свою империю — «прибежищем веры» или «защищенными землями», а свой народ — «мусульманами» или «османами». Облик Османской империи представлял собой уникальное единство самых разных элементов и народов: тюркского племенного строя, ислама суннитского полка, персидских придворных обычаев, византийского административного устройства, налоговой системы и церемониала — и напыщенного придворного языка, в котором тюркская структура соединялась с арабским и персидским словарем. И вместе с тем османы обладали собственной идентичностью.
Двуглавый орел дома Палеологов.
Можно сказать, взлет Османского государства имел своим отражением и соответствием постепенное ослабление Византии, от которой отвернулась удача. Факторы, послужившие причиной тому, что период после 1300 года стал в Европе «гибельным столетием», играли свою роль и в империи на востоке. Раздробленность, гражданская война, обнищание населения и уменьшение его количества подточили мощь Константинополя. Произошло несколько символичных событий: в 1284 году император Андроник II принял самоубийственное решение уничтожить флот империи. Безработные моряки перешли на сторону османов и помогли им построить собственный флот.
Около 1325 года императорский дом Палеологов принял в качестве своей эмблемы двуглавого орла. Он не символизировал могущество империи, обращенной и к западу, и к востоку (как иногда предполагалось), но скорее обозначал разделение власти меж двумя находящимися в ссоре императорами — представителями одной и той же фамилии. Символ оказался пророческим. С 1341 по 1371 год на страну обрушилась череда бедствий: гражданские войны, одновременное вторжение войск османов и могущественного Сербского государства, религиозные противоречия и чума. Константинополь стал первой столицей Европы, которой суждено было изведать ужас «черной смерти»: крысы, суетившиеся на сходнях в черноморском порту Каффа, проникли на византийский корабль в 1347 году. Чудовищно сократившееся население составляло чуть более ста тысяч человек. Серия землетрясений опустошила Константинополь — собор Святой Софии был разрушен в 1346 году, — и Город «из чистого золота» постепенно ветшал и приходил в упадок, а жителей охватывал религиозный пессимизм. Путешественники, посещавшие Город, отмечали, насколько унылым стал его вид. Ибн Баттута увидел не Город, а тринадцать деревень, отделенных друг от друга полями. Когда туда приехал испанец Перо Тафур, он нашел императорский дворец «в таком состоянии, что вид и его, и Города мог дать явное представление о напастях, которые претерпел народ и которые он продолжает терпеть… жители Города выглядят не должным образом одетыми, но печальными и бедными, что свидетельствует об их тяжелой участи». (Затем автор добавляет в духе, так сказать, истинного христианского милосердия: «которая, однако, еще не так тяжела, как они того заслуживают, ибо они люди порочные, погрязшие во грехе».) Город словно бы сжался внутри своих стен — так старому человеку делаются велики одежды, которые он носил в юности, — и императоры жили нищими в своем дворце. На коронации императора Иоанна VI Кантакузина в 1347 году наблюдатели обратили внимание на то, что драгоценные «камни», украшавшие корону, были стеклянными, а посуда на праздничном пиру — глиняной и оловянной. Золотые блюда давно продали, дабы получить деньги для ведения гражданской войны; драгоценные камни отдали под залог венецианцам — они попали в сокровищницу Святого Марка.
Во время всей этой неразберихи османы продолжали бесконтрольно продвигаться в Европу. В 1362 году они практически окружили Константинополь с тыла, захватив город Адрианополь (на турецком языке Эдирне), расположенный в ста сорока милях к западу, и перенесли столицу своей империи в Европу. Когда они в 1371 году нанесли поражение сербам, император Иоанн оказался изолирован от поддержки христиан. У него не осталось выбора, кроме как стать вассалом султана, обязанным предоставлять ему войска, если тот потребует, и спрашивать его разрешения при назначении на имперские посты. Продвижение осман казалось неудержимым: к концу XIV пека их земли простирались от Дуная до Евфрата. «Нашествие турок, или язычников, подобно морю, — писал серб Михаил Янычар, — которое никогда не бывает спокойным, но постоянно катит свои волны… змея опасна до тех пор, пока вы не размозжите ей голову». Папа издал буллу, объявив крестовый поход против османов в 1366 году, и впустую угрожал отлучением торговым государствам Италии и Адриатики за то, что они снабжали их оружием. В следующие тридцать лет состоялось три крестовых похода. Их возглавили венгры, чье государство подвергалось наибольшей угрозе из европейских стран. То была лебединая песня объединенных сил христианства. Все три похода завершились сокрушительным поражением, и причины его нетрудно найти. В раздробленной Европе царила нищета, ее разорили внутренние междоусобицы и ослабила «черная смерть». Армии были не слишком мобильны; в них царил раздор, дисциплина и тактика хромали. Напротив, войско османов, подвижное, хорошо организованное, сплачивалось вокруг общего дела. Несколько европейцев, наблюдавших его вблизи, не могли удержаться от невольного чувства восхищения «порядком османов». В 1430-х годах французский путешественник Бертрандон де ла Брокьер отмечал:
Они не знают усталости, с готовностью рано встают и питаются скудно… они не придают значения тому, где им доведется спать, и часто ложатся [прямо] на землю… у них хорошие кони, которые едят мало, а скачут резво и на далекие расстояния… их повиновение старшим беспрекословно… когда сигнал подан, те, кто должен идти впереди, движутся очень тихо, а те, кто следует за ними, идут в столь же полном молчании… при этом десять тысяч турок производят меньше шума, чем сотня человек в христианском войске… Должен признать, в самых _ разных ситуациях я убеждался — турки искренни и честны, и там, где необходимо проявить храбрость, они никогда не испытывают в ней недостатка.
На таком фоне начало XV века для Константинополя выглядело безрадостным. Османы начали проводить осады Города регулярно. Когда император Мануил нарушил вассальную клятву в 1394 году, султан Баязид провел серию нападений на Город. Они прекратились лишь тогда, когда сам Баязид потерпел поражение в битве от тюрка, монгола Тимура — Тамерлана из пьесы Марло[10] — в 1402 году. Впоследствии императоры все отчаяннее искали помощи Запада — Мануил даже приехал в Англию в 1400 году, проводя в то же время в отношении османов политику интриг и оказывая поддержку претендентам на трон. В ответ султан Мурад II в 1442 году подверг Константинополь осаде, однако Город вновь выстоял. У османов не было ни флота, чтобы подойти близко к Городу, ни технологий для молниеносного штурма его мощных стен, и Мануил, в то время уже состарившийся, но остававшийся все еще одним из хитрейших дипломатов на свете, умудрился сотворить буквально из ничего еще одного претендента на османский трон, создав тем самым угрозу гражданской войны. Осаду пришлось снять, однако судьба Константинополя висела на волоске. Казалось, новый мощный удар османов по Городу — только вопрос времени. Страх перед закованными в броню европейцами-крестоносцами — единственное, что их удерживало.
Тугра (монограмма Орхана, первого султана, взявшего Город осадой).
Глава 3 Султан и император 1432-1451 годы
Мехмед Челеби — султан — да продлит Господь его власть на веки вечные и укрепит опоры его могущества до предреченного дня!
Надпись на могиле матери Мехмеда IIКонстантин Палеолог, во Христе истинный император и самодержец ромеев.
Официальный титул Константина XI, восемьдесят восьмого императора ВизантииТугра Мехмеда.
Человек, которому самой судьбой предначертано было, так сказать, затянуть мусульманскую петлю вокруг Константинополя, родился через десять лет после осады Мурада. Согласно турецкой легенде, 1432 год стал годом предзнаменований. Многие лошади рожали двойни; деревья гнулись под тяжестью плодов, длиннохвостая комета появилась на полуденном небе над Константинополем. Ночью 29 марта султан Мурад ожидал во дворце в Эдирне, когда придет новость о рождении ребенка. Не в силах заснуть, он начал читать Коран. Лишь только он добрался до Суры победы — стихов, предсказывающих победу над неверными, — как гонец принес ему весть о появлении на свет сына. Его назвали Мехмедом (турецкая форма имени Мухаммед) — так звали отца Мурада.
Подобно многим пророчествам, предвестия ощущаются таковыми лишь в свете последующих событий. Оба единокровных брата Мехмеда, третьего сына Мурада, были существенно старше его, и мальчик никогда не являлся любимцем отца. Его шансы стать султаном были весьма зыбки. Что касается обстоятельств появления Мехмеда на свет, то, возможно, немалое значение здесь имеет неизвестность относительно национальной и религиозной идентичности его матери. Вопреки усилиям некоторых турецких историков, пытающихся доказать, что она была мусульманкой турецкого происхождения, есть немалая вероятность, что она была рабыней с Запада, плененной во время набега на пограничные области или захваченной пиратами. Возможно, она была сербкой или македонянкой и скорее всего родилась христианкой. Подобное происхождение проливает свет на парадоксы натуры Мехмеда. Но каким бы ни был его генетический «коктейль», по характеру Мехмед оказался совершенно несхож со своим отцом Мурадом.
К середине XV века османские султаны давно перестали быть невежественными вождями племен, руководившими военными отрядами, не слезая с седла. Горючая смесь джихада и грабежа уступила место гораздо большей умеренности. Султан по-прежнему пользовался огромным престижем в качестве величайшего вождя священной войны в землях ислама, но это все в большей степени становилось инструментом династической политики. Османские правители теперь именовали себя «султаны Рума» — титул, содержавший в себе претензию на обладание наследием древней христианской империи, — или «падишахами», согласно высокопарной персидской формулировке. От византийцев они усвоили (развив его) вкус к проведению сложной системы церемоний. Их дети-принцы проходили формальное обучение, дабы занять высокий пост. Они жили во дворцах за высокими стенами. Доступ к султану тщательно регламентировался. Страх перед ядом, интригами и убийством все более отдалял правителя от его подданных (процесс усилился в результате гибели Мурада I от рук сербского агента[11] после первой битвы на Косовом поле в 1389 году). Правление Myрада II стало поворотным моментом в этом процессе. Он по-прежнему именовал себя «бей» — древний титул знати в Турции, предпочитая его более пышному «султан», и пользовался популярностью у народа. Венгерского монаха брата Георгия удивляла скромность церемониала при дворе Мурада II. «Ни на его одежде, ни на его лошади нет особого знака, который позволил бы его отличить. Я видел его на похоронах его матери, и если бы мне на него не указали, я бы не признал его». В то же время начала появляться дистанция между султаном и окружающим миром. «Он не вкушает ничего прилюдно, — замечает Бертрандон де ла Брокьер, — и почти никто не может похвастаться тем, что они слышали, как он говорит, или видели, как он ест или пьет». Этот процесс привел последующих султанов в закрытый мир дворца Топкапи с его белыми внешними стенами и тщательно выработанным ритуалом.
Именно такая чопорная атмосфера османского двора окружала Мехмеда в детские годы. Проблема престолонаследия серьезно сказывалась на воспитании султанских детей мужского пола. Прямая передача власти от отца к сыну в рамках династии являлась непременным условием выживания империи. Защиту ее обеспечивала гаремная система, поставлявшая необходимое количество выживших детей мужского пола. Однако в ней же крылась причина великой уязвимости империи. Трон сделался предметом соперничества между наследниками. Закон не давал никаких преимуществ старшему из них: принцы, которым удалось уцелеть, после смерти султана просто добивались власти силой. Исход считался зависящим от воли Божией. «Если Он решил, что ты должен унаследовать царство после меня, — писал один из позднейших султанов своему сыну, — то никто из живущих не сможет помешать этому». В действительности вопрос о престолонаследии часто зависел от исхода борьбы за центр: победителем оказывался наследник, завладевший столицей, сокровищницей и получавший поддержку армии. Это могло помочь выжившему и наиболее подходящему претенденту прийти к власти или, напротив, привести к гражданской войне. Османская империя едва не погибла в начале XV века в результате братоубийственной борьбы за власть, причем Византия самым непосредственным образом оказалась вовлеченной в эту борьбу. Использование династической слабости стало почти что государственной политикой Константинополя, поддерживавшего соперничающих между собой претендентов на престол.
Стремясь уберечь наследников от упреждающих ударов, а также обучить их тому, что должен уметь правитель, султаны отправляли своих сыновей (в весьма юном возрасте) управлять провинциями под бдительным присмотром тщательно выбранных наставников. Первые годы жизни Мехмед провел в дворцовом гареме Эдирне, однако в возрасте двух лет его послали в Амасию, главный город Анатолии, дабы там он мог сделать первые шаги на пути к образованию. В то же время старший из его единокровных братьев, двенадцатилетний Ахмед, стал правителем города. Темные силы преследовали принцев в течение последующего десятилетия. В 1437 году Ахмед внезапно умер в Амасии. Шесть лет спустя, когда правителем был другой единокровный брат Мехмеда, Али, в городе произошло ужасное и таинственное событие — османский вариант истории «Принцев Башни». Один из представителей верхушки знати, Кара-Хизир-паша, отправился в Амасию (причем неизвестно, по чьему приказу). Ему удалось проникнуть во дворец ночью и задушить в постели как Али, так и обоих его маленьких сыновей. Целую ветвь фамилии уничтожили в одну ночь, и Мехмед остался единственным наследником престола. Черной тенью этих мрачных событий стала длительная борьба за власть в государстве внутри правящего класса Османской империи. Во время своего правления Мурад усилил корпус янычар, набиравшихся из славян, и повысил некоторых перешедших в ислам христиан, сделав их визирями, — он пытался уравновесить власть старой турецкой знати и армии. То было состязание, финалу которого суждено было разыграться под стенами Константинополя девять лет спустя.
Смерть Али, любимого сына Мурада, глубоко потрясла султана — хотя в то же время вполне вероятно, что Мурад самолично отдал приказ о казни сына, когда открылся заговор, организованный принцем. Однако он понимал — теперь у него нет иного выбора, кроме как призвать в Эдирне юного Мехмеда и взять под контроль его воспитание: одиннадцатилетний мальчик оставался единственной надеждой османской династии. Мурад пришел в ужас, вновь увидев сына: тот оказался упрямым, своевольным и, можно сказать, совершенно необразованным. Мехмед открыто отказывался повиноваться своим прежним наставникам, не давая себя наказывать и не изучая Коран. Мурад призвал знаменитого муллу Ахмеда Гурани, приказав ему привести юного принца к повиновению. С палкой в руке мулла отправился к наследнику. «Твой отец, — сказал он, — послал меня к тебе учить тебя. Но если ты не будешь слушаться, я тебя накажу». Мехмед громко расхохотался в ответ на угрозу, но мулла задал ему такую трепку, что тот сразу взялся за учение. Под руководством отличного наставника Мехмед начал усваивать Коран, а затем продолжил расширять свои познания. Мальчик обнаружил исключительную понятливость, удваивавшуюся за счет железной воли к успеху. Он преуспел в постижении языков — по единодушному мнению историков, он знал турецкий, персидский и арабский и вдобавок умел говорить по-гречески, на славянском диалекте и немного по-латыни — а также увлекался историей и географией, наукой, инженерным делом и литературой. Все это позволяло надеяться, что он станет выдающейся личностью.
1440-е годы стали новым кризисным периодом для османов. Возникла угроза для империи в Анатолии: восстал один из ее туркменских вассалов, бей Карамана, а тем временем на Западе готовился новый крестовый поход во главе с венграми. Мурад решил ослабить угрозу, заключив перемирие на десять лет, собираясь разобраться с непокорным беем. Однако прежде чем отправиться в дорогу, он предпринял необычный шаг — отказался от трона. Мурад опасался начала гражданской войны в государстве и хотел закрепить власть за Мехмедом прежде, чем умрет сам. Возможно, свою роль сыграла усталость от жизни. Бремя, связанное с его высоким положением, тяготило султана. Кроме того, Мурад был подавлен гибелью своего любимого сына Али. В возрасте двенадцати лет Мехмед короновался в Эдирне. За церемонией наблюдал заслуживающий доверия великий визирь Халил. В честь Мехмеда чеканилась монета. Он упоминался в еженедельных молитвах, как и полагалось в отношении султана.
Эксперимент обернулся катастрофой. Поддавшись соблазну воспользоваться теми возможностями, которые давало появление на престоле юнца, папа немедленно освободил венгерского короля Владислава от клятвы верности, и армия крестоносцев двинулась вперед. В сентябре она пересекла Дунай. Венецианский флот отправился в Дарданеллы, чтобы воспрепятствовать возвращению Мурада. В Эдирне заволновались. В 1444 году религиозный фанатик из секты шиитов появился в городе. Толпы стекались к персидскому миссионеру, обещавшему примирение между исламом и христианством, и Мехмед, привлеченный его проповедями, сам пригласил его во дворец. Религиозные власти были шокированы, а Халила встревожил энтузиазм, который вызывал еретик у народа. Проповедника попытались арестовать. Он искал убежища во дворце, но Мехмеду пришлось согласиться с увещеваниями и выдать его. В конце концов его выволокли на площадь, где обычно подавались прошения, и сожгли заживо, а его последователей перебили. Византийцы также решили извлечь свою выгоду из возникшего замешательства. Претендента на османский престол, принца Орхана, которого они держали наготове в городе, использовали, дабы разжечь мятеж. В европейских провинциях вспыхнули восстания против османов. В Эдирне началась паника. Большая часть города сгорела дотла, началось бегство турок-мусульман назад в Анатолию. Таким образом, правление Мехмеда началось с хаоса.
Тем временем Мурад заключил перемирие с беем Карамана и поспешил назад, решив устранить угрозу. Обнаружив Дарданеллы перекрытыми венецианскими кораблями, он переправился вместе со своей армией через Босфор с помощью их соперников-генуэзцев, щедро заплатив им по дукату за каждого человека, и двинулся вперед. Он встретил армию крестоносцев близ Варны у Черного моря 10 ноября 1444 года. Здесь османы одержали победу, полностью сокрушив врага. Голову Владислава водрузили на пику и отправили в старую османскую столицу Бурсу в качестве символа успеха и превосходства мусульман. То был важный момент в священной войне меж христианством и исламом. После трехсот пятидесяти лет крестовых походов поражение под Варной окончательно отбило у Запада охоту к ним: никогда более христиане не объединялись для изгнания мусульман из Европы. В результате турки закрепились на Балканах. Изоляция Константинополя в качестве анклава в мусульманском мире усилилась, а вероятность помощи от Запада в случае нападения османов снизилась. Еще хуже было то, что Мурад понимал — Византия во многом несет ответственность за хаос 1444 года, и это вскоре отразилось на формировании стратегии османов.
Хотя начало правления Мехмеда сопровождали неурядицы, сразу после победы под Варной Мурад вновь возвратился в Анатолию. Халил-паша оставался первым визирем, однако в большей мере Мехмед находился под влиянием двух человек, действовавших в качестве правителей от его имени: главного евнуха Шехабеддина-паши, управлявшего европейскими провинциями, и могущественного Заганос-паши, христианина-вероотступника. Оба они одобряли планы взятия Константинополя, зная, что в Городе по-прежнему пребывает Орхан, претендент на османский трон. Если бы Мехмед захватил Город, то это упрочило бы его власть и чрезвычайно подняло личный престиж молодого султана. Очевидно, еще в юном возрасте Мехмеда точно магнитом влекла идея захватить столицу христианского мира и самому стать наследником Римской империи. В написанном им стихотворении говорилось «я жажду сокрушить неверных», однако желание Мехмеда овладеть Городом можно в равной мере считать и религиозным, и связанным с имперскими амбициями, причем мотивы его отчасти, как ни странно, не имели отношения к исламу. Султан чрезвычайно интересовался деяниями Александра Македонского и Юлия Цезаря. В средневековом персидском и турецком эпосе Александр превратился в героя-мусульманина. Мехмед знал об Александре с юных лет: во дворце ему каждый день читали по-гречески жизнеописание Покорителя мира, принадлежащее перу римского автора Арриана. В голове Мехмеда возник двойственный образ, и он себя с ним идентифицировал: мусульманский Александр, способный завоевать мир от края и до края, и воитель-гази, который возглавит джихад против неверных. Ему предстояло обратить течение истории вспять: Александр покорил Восток, он же, в свою очередь, прославит Восток и ислам, покорив Запад. Подобное видение будоражило воображение, а личные советники Мехмеда подливали масла в огонь: они понимали — на волне завоеваний им удастся сделать карьеру.
Не по годам развитый Мехмед, поддерживаемый своими воспитателями, начал планировать новый натиск на Константинополь уже в 1445 году. Тогда ему исполнилось тринадцать лет. Халил-паша был чрезвычайно встревожен. Он не одобрял план юного султана и опасался, что после катастрофы 1444 года подобные начинания приведут к еще более тяжелым последствиям. Несмотря на обильные природные ресурсы Османской империи, на памяти живущих была почти полная ее гибель в результате гражданской войны, и Халил разделял глубокий страх многих, опасавшихся крупномасштабным нападением на Константинополь спровоцировать мощное противодействие христиан с Запада. У него были и личные основания возражать против планов Мехмеда: он боялся усиления христиан-ренегатов, подстрекающих султана к войне, за счет ослабления могущества старой турецко-мусульманской знати и его собственной власти. Он решил свергнуть Мехмеда с престола, спровоцировав восстание янычар и упросив Мурада вернуться в Эдирне и вновь взять власть в свои руки. Мурада встретили с величайшим энтузиазмом: надменный, отчужденно державшийся молодой султан не снискал популярности ни у народа, ни у янычар. Мехмед удалился в Манису вместе со своими советниками. Отпор, данный его начинаниям, он воспринял как унижение, которое он никогда не простил и не забыл. Настанет день, когда Халил заплатит за него жизнью.
Мехмед оставался в тени до конца дней Мурада, хотя и продолжал именовать себя султаном. Он сопровождал отца во время второй битвы при Косово в 1448 году, где венгры предприняли последнюю попытку положить конец владычеству османов. Здесь Мехмед принял «крещение огнем». Исход битвы, хотя турки и понесли огромные потери, имел столь же важное значение, как и победа при Варне, и послужил укреплению легенды о непобедимости османов. Запад начал охватывать мрачный пессимизм. «Благодаря своей организации турки имеют неоспоримые преимущества, — писал Михаил Янычар. — Если вы преследуете турка, он убежит; однако если он преследует вас, то вам не уйти… татары несколько раз одерживали победы над турками, но христиане — никогда, особенно в генеральном сражении, причем в большинстве случаев [христиане терпели поражение] из-за того, что давали туркам окружить себя и приблизиться с фланга».
Последние годы жизни Мурад провел в Эдирне. Казалось, султан потерял вкус к военным предприятиям, предпочитая мир и стабильность превратностям войны. Пока он оставался жив, Константинополь получал передышку, наслаждаясь миром, пусть и тревожным. Когда в феврале 1451 года он скончался, его оплакивали как друга и врага одновременно. «Он всегда соблюдал договоры с христианами, скрепленные священной клятвой, — утверждал греческий хронист Дука. — Гнев его был краток и скоро проходил. Он отвратился от войны и предпочел мир, и по этой причине Отец мира послал ему в награду мирную кончину, и жизнь его не прервал удар меча». Греческий хронист вряд ли оказался бы столь щедр на похвалы, знай он, что советовал Мурад своему наследнику. Происки Византии в 1440-х годах убедили его — до тех пор пока Византия продолжает оставаться христианским анклавом, Османская империя никогда не будет в безопасности. «Он завещал своему выдающемуся преемнику, — писал османский хронист Саад-ад-дин, — поднять знамена джихада и захватить Город, в результате чего… тот сможет обеспечить процветание народов ислама и переломить хребет проклятым неверным».
Смерть султана всегда являлась опасным моментом для Османской империи. В соответствии с традицией и для предотвращения всякого рода вооруженных восстаний новость держали в секрете. У Мурада оставался еще один сын — малыш, прозванный Маленьким Ахмедом. Он не представлял непосредственной угрозы для Мехмеда в вопросе престолонаследия, но Орхан, также претендовавший на трон, по-прежнему оставался в Константинополе. К тому же Мехмед не пользовался популярностью. Известие о смерти его отца содержалось в запечатанном письме. Гонец срочно доставил его юному султану. В нем Халил-паша советовал Мехмеду не мешкать; необходимо было прибыть в Эдирне как можно скорее, ведь любая отсрочка могла вызвать восстание. Согласно легенде, Мехмед немедленно оседлал коня и сказал своим приближенным: «Пусть тот, кто любит меня, следует за мной». В сопровождении личной гвардии он пересек Галлиполи за два дня. По дороге к Эдирне ему встретилась громадная толпа: тут были чиновники, визири, муллы, наместники и простой народ. Они исполняли ритуал, уходящий в далекое племенное прошлое — в те времена, когда их предки жили в азиатских степях. Когда они подъехали на расстояние мили, группа, явившаяся приветствовать нового правителя, спешилась и двинулась к нему в мертвом молчании. В полумиле от него они остановились и разразились дикими воплями, оплакивая умершего султана. Мехмед и его свита также спешились и присоединились ко всеобщим стенаниям. Зимний ландшафт наполнился отголосками скорбного плача. Высшие сановники поклонились новому султану, после чего все собравшиеся вновь сели на коней и отправились во дворец.
На следующий день состоялось официальное представление министров. Наступил роковой момент — момент, когда решалась судьба визирей прежнего султана. Мехмед восседал на троне, окруженный своими советниками — его собственными доверенными лицами. Халил-паша попятился назад, ожидая действий Мехмеда. Мальчик-султан молвил: «Почему робеют визири моего отца? Призови их, и пусть Халил займет свое обычное место». Халила восстановили на посту главного визиря. То была обычная манера Мехмеда: сохранять статус-кво и вместе с тем таить глубоко в душе хорошо продуманные планы и выигрывать время.
Новому султану было всего семнадцать лет. Характер его являл смесь доверчивости и подозрительности, он был амбициозен и осторожен одновременно. Очевидно, то, как прошли его детские годы, наложило на Мехмеда глубокий отпечаток. Вероятно, будучи совсем маленьким, разлученным с матерью, он уцелел в полном опасностей мире османского двора во многом благодаря счастливому стечению обстоятельств. Можно даже сказать, что он был столь же молод, сколь скрытен и подозрителен по отношению к другим: уверенный в себе, высокомерный, никого не любящий и чрезвычайно амбициозный — словом, личность сложная и парадоксальная. Человек, которого позднее, в эпоху Ренессанса, воспринимали как чудовище и в котором видели лишь жестокость и извращенность, представлял собой клубок противоречий. Умный, храбрый и чрезвычайно импульсивный, способный на поистине лисью хитрость, тираническую жестокость — он мог неожиданно совершить добрый поступок. Легко поддавался переменам настроения, был непредсказуем; будучи бисексуален, он избегал близких отношений, никогда не прощал обид — однако ему суждено было быть любимым за праведность. К этому времени основные черты его характера уже сформировались: впоследствии он стал тираном, будучи ученым человеком. Стратег, день и ночь думавший о войне, он любил персидскую поэзию и садоводство. Весьма сведущий в вопросах снабжения и создания практических планов, он был столь суеверен, что полагался на придворного астролога, принимая военные решения. Наконец, этот воин ислама был способен на великодушие по отношению к своим подданным-немусульманам и охотно общался с иностранцами и неортодоксальными религиозными мыслителями.
Несколько портретов, созданных за время его жизни, передают (вероятно, впервые) аутентичный облик османского султана. Достаточно последовательно они воссоздают его внешность — орлиный профиль, крючковатый нос, нависающий над чувственными губами (похожий на «клюв попугая над вишнями» — запоминающаяся фраза османского поэта), дополненный рыжеватой бородой на выдающемся подбородке. На стилизованной миниатюре он изящно держит в унизанных кольцами пальцах нежную розу. Султан, таким образом, условно представлен как эстет, любитель садов и автор персидских строф, однако нельзя не заметить его застывший взгляд, как будто он смотрит в некую удаленную точку — туда, где кончается мир. На других изображениях, рисующих его в зрелом возрасте, это человек полный, с бычьей шеей, а на знаменитом позднем портрете кисти Беллини, что висит в Лондоне в Национальной галерее, он уже выглядит отяжелевшим и больным. Все эти изображения содержат в себе мотив твердой власти: очевидно, для султана его авторитет «тени Бога на земле» был самим собой разумеющимся, а представление о том, что весь мир у него в руках — чем-то естественным, а не проявлением заносчивости. Однако в то же время в них ощущается равнодушие и меланхолия, напоминая о тягостном, прошедшем среди опасностей детстве султана.
Изображения дополняет живое описание сложной личности юного Мехмеда, принадлежащее итальянцу Джакомо де Лангуски:
Правитель, Великий Турок Мехмед-бей… хорошо сложенный, роста скорее высокого, чем среднего, искусно владеющий оружием, вида более устрашающего, нежели почтенного, смеется редко, чрезвычайно осмотрительный, наделенный немалым великодушием, упорный в исполнении своих замыслов, во всех своих предприятиях проявляющий храбрость и столь же жадный до славы, сколь Александр Македонский. Ежедневно ему читают сочинения римских и иных историков. Он говорит на трех языках: турецком, греческом и славянском. Он прилагает значительные усилия, чтобы изучить географию Италии… [хочет знать], где пребывает папа, а где император и сколько королевств в Европе. У него есть карта Европы, ее стран и провинций. Ничто не изучает он с большим интересом и энтузиазмом, чем географию мира и войн; его сжигает желание господства; он старательно изучает отношения между государствами. И с таким человеком нам, христианам, приходится иметь дело… Нынче, говорит он, времена изменились, и утверждает, что продвинется с Востока на Запад, как в прежние времена люди Запада продвинулись на Восток. В мире, говорит он, должна быть только одна империя, одна вера и одна власть.
Здесь ярко отображено желание Мехмеда повернуть течение истории, явившись в Европу под знаменами ислама, но при его вступлении на престол его одержимость и ум на Западе не разглядели. Наблюдатели видели лишь неоперившегося и неопытного юнца, чей ранний опыт власти окончился унижением.
За два года до того, как Мехмед вступил на престол, Константинополь также приветствовал нового императора, хотя и при совершенно иных обстоятельствах. Человек, которому судьбой было предназначено противостоять Мехмеду в предстоящей борьбе, носил имя основателя города — факт, вскоре завладевший воображением суеверных византийцев. Константин XI стал восьмым членом правящей династии Палеологов, занимавших трон с 1261 года. Эта семья узурпировала власть, и ее правление сопровождалось неуклонным ослаблением империи, все более погружавшейся в анархию и раздоры. В его жилах текла кровь нескольких народов. Он говорил по-гречески, но вряд ли был греком: Константин взял родовое имя своей матери-сербки «Драгаш», а его отец был наполовину итальянцем. Подобно всем византийцам, он именовал себя ромеем и подписывался гордо звучавшим полным титулом своих предшественников: «Константин Палеолог, во Христе истинный император и автократор ромеев».
Подпись Константина — императора ромеев.
То была типичная, сугубо протокольная форма, использовавшаяся в ритуалах и церемониях, но подобным вещам Византия оставалась верна даже в период своего неудержимого упадка. В империи существовал верховный адмирал, но отсутствовал флот и главнокомандующий, хотя солдат насчитывалось крайне мало. Внутри лилипутского придворного мирка знать препиралась и бранилась за абсурдно звучавшие претенциозные титулы великого доместика, великого канцлера и хранителя императорских платьев. Константин в полном смысле слов являлся императором без власти. Подконтрольная ему территория сжалась до города и его окрестностей, нескольких островов и владений на Пелопоннесе, которые греки весьма поэтично именовали Морея — Лист Шелковицы. Полуостров славился производством шелка, и его форма напоминала им лист тутового дерева — пищу шелковичных червей.
Участи Константина, принявшего трон, трудно позавидовать. Он унаследовал всеобщее оскудение. Он родился в семье, имевшей вкус к гражданским войнам. Столицу раздирали религиозные страсти, а настроения трудового люда были переменчивы. К тому же он сильно обеднел. Империя, охваченная междоусобиями, являла собой змеиное логово: в 1442 году брат Константина Димитрий двинулся на Город с османскими войсками. Византия влачила жалкое существование, находясь в вассальной зависимости от турецкого властителя, который в любое время мог осадить столицу империи. Положение самого Константина нельзя также было назвать безопасным. Его восшествие на трон в 1449 году выглядело не совсем легитимно. Его возвели в сан правителя Византии в Мистре на Пелопоннесе, что было весьма необычно для императора с точки зрения протокола, и впоследствии его не короновали в соборе Святой Софии. При вступлении на трон нового властителя византийцам пришлось спрашивать одобрения Мурада, однако из-за бедности они не могли обеспечить императору транспорт, на котором он мог бы добраться до дома. Унизившись, ему пришлось просить разрешения у каталонцев отправиться в путь на их корабле.
Константин возвратился в Город в 1449 году. Изображений столицы того времени не сохранилось, однако существует несколько более ранняя итальянская карта. Константинополь на ней почти сплошь состоит из пустых пространств. В то же время стоявшая по ту сторону Золотого Рога колония генуэзских торговцев под названием Галата, или Пера, процветала и преуспевала: то был «большой город, населенный греками, евреями и генуэзцами», согласно описанию путешественника Бертрандона де ла Брокьера (он утверждал, что это красивейший порт из всех, какие он когда-либо видел). Сам же Константинополь французский рыцарь нашел очаровательным, но жалким и обедневшим. Храмы производили сильное впечатление, в особенности собор Святой Софии, где он видел «решетку, на которой был изжарен святой Лаврентий, и огромный камень в форме умывальника, на котором, как говорят, Авраам подавал угощение ангелам, когда они собирались уничтожить Содом и Гоморру». Громадная конная статуя Юстиниана, ошибочно принятая им за изображение Константина Великого, по-прежнему стояла на месте: «В левой руке он держал скипетр, а правую простирал в сторону Турции в Азии, указуя также и на дорогу к Иерусалиму, как бы утверждая, что вся эта страна находится под его властью». Однако истина была очевидна: император вряд ли обладал полнотой власти даже у себя дома.
В этом городе есть купцы всех национальностей, но никто из них не обладает таким могуществом, как венецианцы, у которых есть специальный суд, разбирающий все их дела и не зависящий от императора и его министров. У турок также есть чиновник, заведующий их торговлей; подобно венецианскому судебному приставу, он не подчиняется императору. Среди их привилегий есть даже такая: если кто-либо из их рабов убежит и укроется в городе, по их требованию император обязан выдать его. Сей князь, несомненно, находится в великой зависимости от [Великого] Турка, так как платит ему, как мне рассказывали, дань в тысячу дукатов ежегодно.
Де ла Брокьер замечал повсюду знаки былого величия — ничто не могло свидетельствовать о нем более явно, чем (вероятно) три пустых мраморных постамента на Ипподроме: «здесь некогда стояли три позолоченных коня, кои теперь находятся в Венеции». Казалось, рано или поздно османы придут взять Город, а жители сами откроют им ворота; когда это произойдет — лишь вопрос времени. Горожане получили страшное предупреждение, что может произойти в противном случае, когда в 1430 году Фессалоники отказались подчиниться Мураду. Османам понадобилось всего три часа, чтобы взять штурмом стены города. Насилие и грабеж длились три дня. Семь тысяч женщин и детей были обращены в рабство.
Итальянская карта Константинополя (нач. XV в.). Примечателен обширный ров с левой стороны, находящийся за пределами стен со стороны суши. Галата — в верхней части карты.
Мы не слишком хорошо знаем, как выглядел Константин. Можно сказать, для нас его лицо — почти чистый лист. Вероятно, он унаследовал мужественные, правильные черты и осанку от своего отца Мануила II. Но дела в империи шли слишком плохо, чтобы можно было заказать портреты нового правителя, а изображение на золотой государственной печати, где мы видим тонкий ястребиный профиль, слишком схематично, чтобы доверять ему. Однако свойства его личности споров не вызывают. Из всех сыновей Мануила Константин был наиболее одаренным и достойным доверия. «Человеколюбивый и незлобивый», он отличался твердостью характера и храбростью; ему был присущ глубокий патриотизм. В отличие от своих сварливых и беспринципных братьев Константин обладал прямодушием; казалось, он внушал глубокую преданность к себе своему окружению. Все свидетельствуют, что он был скорее человеком действия, нежели умелым администратором или глубоким мыслителем. Он хорошо владел оружием и искусством верховой езды, проявлял смелость и предприимчивость. Наконец, он хранил твердость перед лицом неудач. В его душе жило сильное ощущение ответственности за наследие Византии. Он потратил значительную часть жизни, чтобы укрепить его.
Константин был на двадцать семь лет старше Мехмеда; он родился в Константинополе в 1405 году и, вероятно, с молодых лет сохранил некоторые иллюзии относительно состояния дел в Городе. В 1422 году, когда ему исполнилось семнадцать, он пережил осаду, предпринятую Мурадом. На следующий год его назначили регентом, в то время как его брат Иоанн VIII предпринял очередное путешествие по христианским государствам в поисках поддержки для Византии в ее борьбе. (Как и многие другие, оно не принесло результатов.) Он взошел на престол в сорок четыре года, и за плечами у него насчитывалось двенадцать лет войн. Большую часть этого времени он посвятил попыткам (более или менее успешным) восстановить полный контроль Византии над Пелопоннесом. К 1430 году он уничтожил большинство из маленьких иностранных государств на полуострове. В 1440-х годах, будучи деспотом[12] Мореи, он расширил ее границы, заняв часть территории Северной Греции. То был постоянный источник беспокойства для Мурада — мятежный вассал, которого следовало поставить на место. Решительное возмездие наступило в 1446 году после поражения крестоносцев под Варной. Османская армия ворвалась в Морею, опустошив земли и обратив в рабство шестьдесят тысяч греков. Константину пришлось заключить унизительное перемирие, принести вассальные клятвы султану и заплатить тяжелую дань.
Монета времен правления Константина.
Итак, начинание Константина, желавшего восстановить положение Византии в Греции, потерпело неудачу. Однако его дух, военное мастерство и прямота разительно отличали его от трех его братьев: Димитрия, Фомы и Феодора. Своекорыстные, склонные к предательству, сварливые и нерешительные, они задумали помешать его попыткам поддержать то, что осталось от Византийского государства. Их мать, Елена, вынуждена была поддержать притязания Константина на трон: ему единственному можно было вверить наследие империи.
Согласно позднейшей византийской легенде, неудачи преследовали Константина, словно проклятие: его начинание в Морее, предпринятое с благими намерениями, было доблестным, но, можно сказать, звезды не благоприятствовали ему. После катастрофы под Варной ему пришлось сражаться одному: венецианский флот уплыл домой, а генуэзцам не удалось прислать обещанную помощь, — однако упорство Константина принесло тяжкие страдания греческому населению. Его личная жизнь также сложилась неудачно. Первая его жена умерла бездетной в 1429 году, вторая — в 1442-м. В конце 1440-х годов он неоднократно пытался заключить династический брак, способный упрочить положение короны и обеспечить возможность передачи престола прямому наследнику. Однако накануне восшествия Мехмеда на престол политическая атмосфера становилась все более напряженной, и ни одна из попыток Константина не закончилась удачей.
В феврале 1451 года Мехмед поселился в султанском дворце в Эдирне. Первое его деяние стало решительным и пугающим. Умерший Мурад оставил еще одного ребенка (от другой жены) — Маленького Ахмеда. Через несколько дней его мать явилась с официальным визитом в тронный зал. Пока она выражала свое горе по поводу смерти отца Мехмеда, тот послал своего любовника Али-Бея в жилище женщины, чтобы тот утопил Маленького Ахмеда в ванне. На следующий день он казнил Али-Бея за это преступление, а затем выдал обезумевшую от горя мать за одного из своих приближенных. То был жестокий обдуманный поступок, и тем самым борьба за власть при османском дворе пришла к логическому завершению: лишь один мог править, и чтобы избежать возможности образования фракций, могущего привести к гражданской войне, лишь один должен был выжить. (Для османов это казалось более предпочтительным, нежели бесконечная борьба, истощившая силы Византии.) Одновременно Мехмед упорядочил практику престолонаследия, впоследствии закрепил в ее в законе о братоубийстве: «Кто бы из моих сыновей ни наследовал трон, ему надлежит убить своих братьев в интересах порядка в мире. Большинство юристов одобрило эту процедуру. Действовать следует соответственно». С этого времени казням суждено было стать кошмаром, неизбежно сопровождавшим восшествие султана на престол. Он достиг апогея во времена правления Мехмеда III в 1595 году, когда из дворца было вынесено девятнадцать гробов с телами его братьев. Однако закон о братоубийстве не в силах был предотвратить гражданские войны: он привел к тому, что напуганные сыновья начали бунтовать (впоследствии это отразилось и на самом Мехмеде). В Константинополе обстоятельства смерти Маленького Ахмеда могли заставить правителей лучше понять характер нового султана. Однако этого так и не произошло.
Глава 4 «Перерезанное горло» Февраль 1451 года — ноябрь 1452 года
Босфор — единственный ключ, открывающий и закрывающий два мира, два моря.
Пьер Жилль, французский ученый XVI векаРумелихисар.
Запад встретил известие о смерти Мурада с облегчением. В Венеции, Риме, Генуе и Париже чересчур поспешно согласились с мнением, выраженным в письме итальянца Франческо Филельфо французскому королю Карлу: спустя месяц он писал, что юный Мехмед молод, неопытен и недальновиден. Возможно, меньшее одобрение вызвал бы вывод, сделанный автором письма: он считал, что пришло время с помощью решительных военных действий навсегда изгнать османов, «толпу продажных, развращенных рабов», из Европы. Всякое непосредственное стремление к организации крестовых походов и участию в них исчезло после кровавого поражения под Варной в 1444-м, и властители Европы приветствовали перспективу восшествия на престол неоперившегося и до сей поры бедствовавшего Мехмеда.
Те, кто лучше знал Великого Турка, более трезво восприняли происходящее. Георгий Сфрандзи, посол, пользовавшийся наибольшим доверием Константина, пересекал Черное море по пути от грузинского царя к императору Трапезунда, когда Мурад умер. Он был вовлечен в бесконечные дипломатические переговоры — искал подходящую партию для овдовевшего Константина, дабы укрепить позицию императора (поскольку его окружали противники), обеспечить возможность появления наследника и пополнить казну за счет приданого. В Трапезунде император Иоанн Комнин радостно приветствовал его, сообщив весть о восшествии на престол Мехмеда: «Ну, господин посол, у меня есть хорошая новость для вас, а вы должны поздравить меня». Реакция Сфрандзи оказалась неожиданной: «Пораженный горем, как будто мне сообщили, что тех, кого я сильнее всего любил, нет в живых, я стоял, лишившись дара речи. Наконец, чрезвычайно упав духом, я произнес: «О государь, это не радостная новость; напротив, это повод для скорби». Сфрандзи продолжал объяснять, что он знает о Мехмеде: он «был врагом христиан с самого детства» и страстно желает выступить против Константинополя. Кроме того, Константин так стеснен в средствах, что ему необходим период мира и стабильности для восстановления финансов Города.
По возвращении в Константинополь послы поспешно отправились в Эдирне, дабы засвидетельствовать почтение молодому султану и попытаться получить соответствующие заверения от него. Их приятно удивил оказанный им прием. Мехмед источал милость и благоразумие. Он сказал, что поклялся именем Пророка, Кораном и «ангелами и архангелами свято блюсти мир с Городом и императором Константином всю свою жизнь». Он даже даровал Византии право на ежегодное получение налогов с нескольких греческих городов в нижнем течении Струмы, по закону принадлежащих принцу Орхану, претенденту на османский престол. Деньги следовало тратить на содержание Орхана до тех пор, пока тот будет находиться в Городе.
Посольства прибывали одно за другим, и все они получали сходные заверения. В сентябре венецианцы, имевшие в Эдирне торговые интересы, возобновили с Мехмедом мирный договор. Сербского деспота Георгия Бранковича султан успокоил, возвратив ему дочь Мару, бывшую замужем за Мурадом, и передав ему несколько городов. В свою очередь, Мехмед просил Георгия помочь ему, выступив посредником в отношениях с венграми: их выдающийся лидер, регент Янош Хуньяди, представлял собой наиболее сильную угрозу со стороны христианской Европы. Хуньяди, которому надо было справиться с направленными против него самого интригами у себя на родине, согласился на трехлетнее перемирие. Эмиссарам генуэзцев, живших в Галате, и послам владык Хиоса, Лесбоса и Родоса, а также тем, кто прибыл из Трапезунда, Валахии и Рагузы (Дубровника), также удалось получить гарантии мира на приемлемых условиях. К осени 1451 года все на Западе считали, что Мехмед под башмаком у своего миролюбивого визиря Халила-паши и не будет представлять угрозы ни для кого. Кажется, многие и в Константинополе, менее осторожные или менее опытные, чем Сфрандзи, также успокоились. Королям и правителям во всем христианском мире угодно было считать, что все в порядке. Мехмед действовал очень предусмотрительно.
Не одни христиане недооценивали твердость характера молодого султана. Осенью 1451 года беспокойный бей Карамана еще раз попытался вырвать территорию в западной Анатолии из-под контроля османов. Он занял крепости, вернул власть прежним вождям и вторгся на османские земли. Мехмед послал своих военачальников на подавление восстания и, заключив мирные договоры в Эдирне, сам появился на сцене. Эффект был незамедлительным. Восстание быстро подавили, и Мехмед отправился домой. В Бурсе его твердости суждено было выдержать первое испытание — на сей раз со стороны собственных воинов-янычар. «Стоя с оружием в руках по обе стороны дороги, они кричали ему: «Это первый бой нашего султана, и он должен наградить нас, как положено по обычаю». Тогда ему пришлось согласиться; десять мешков монет раздали мятежникам, однако для Мехмеда то было важнейшее состязание силы духа, и он исполнился решимости выиграть его. Через несколько дней он вызвал их командующего, наказал его и лишил должности; несколько человек из числа офицеров подверглись такому же наказанию. Мехмед пережил второе восстание и понял — если он хочет завоевать Константинополь, необходимо обеспечить полную преданность себе войска янычар. В итоге полк реструктурировали; султан присоединил к нему семь тысяч человек из своей личной дворцовой гвардии и передал командование новому генералу.
Именно в тот момент Константин и его советники выступили с собственной инициативой, показавшей, насколько мало они понимали Мехмеда. Принц Орхан, единственный из оставшихся претендентов на османский престол, ютился в Константинополе, и его содержание оплачивалось из налоговых поступлений, о чем летом была достигнута договоренность с султаном. Византийцы отправили послов к Халилу в Бурсу с категорическим требованием:
Император ромеев недополучает ежегодно триста тысяч аспров. Ибо Орхан, равный вашему владыке и потомок Османа, ныне достиг совершеннолетия. Ежедневно множество людей стекается к нему. Они именуют его государем и предводителем. Сам он не имеет средств, чтобы проявить щедрость по отношению к тем, кто ему предан, поэтому просит [денег у] императора, который, испытывая финансовые затруднения, не может удовлетворить эти требования. Поэтому мы предлагаем одно из двух: или вы удвоите выплаты, или мы отпустим Орхана.
Подтекст достаточно очевиден: если юный султан откажется платить, его соперник, также претендующий на трон, окажется на свободе и сможет спровоцировать гражданскую войну в империи.
То был классический ход. В истории Византии династическое соперничество в соседних странах использовалось постоянно и представляло собой краеугольный камень византийской дипломатии — политика, часто применявшаяся в периоды военной слабости и снискавшая Византии незавидную и не имевшую аналогов репутацию за ее коварство. Османы уже сталкивались с этой тактикой во времена правления отца Константина, Мануила II, когда династия едва не погибла в гражданской войне, искусно подогреваемой императором, — эпизод, вызвавший сильнейшее беспокойство Мехмеда. Константин, очевидно, счел Орхана козырной картой (возможно, последней) и решил разыграть ее. С точки зрения сложившихся обстоятельств это оказалось грубым просчетом — и почти необъяснимым, учитывая, что опытные дипломаты вроде Сфрандзи были хорошо осведомлены о политике при дворе Османов. Возможно, этот шаг в большей степени диктовался состоянием финансов в империи, нежели реальной надеждой на возникновение мятежа. Однако для партии сторонников войны при дворе Османов он стал подтверждением того, что Константинополь непременно должен быть взят. Казалось, предложение византийцев было рассчитано на то, чтобы попытки Халила сохранить мир потерпели неудачу, а его позиция при дворе ухудшилась. Гнев охватил старого визиря:
О, глупые греки, довольно я претерпел от вас, ходящих окольными путями. Прежний султан был снисходителен и честен с вами, он был вам другом. Но не таков нынешний султан. Если Константину удастся избежать его мощной хватки, то лишь благодаря попустительству Господа, который не обращает внимания на ваши хитрые и злобные происки. Глупцы, вы думаете, что можете напугать нас вашими выдумками — и это тогда, когда чернила на нашем последнем договоре еще не высохли! Мы не дети, глупые и слабые. Если вы хотите что-либо предпринять — пожалуйста. Если хотите провозгласить Орхана султаном во Фракии — действуйте. Если хотите заставить венгров перейти Дунай — пусть приходят. Если хотите возвратить себе земли, уже давно потерянные вами — что ж, попробуйте. Но знайте: вы не преуспеете ни в чем. Вы добьетесь только одного: лишитесь и того немногого, чем владеете поныне.
Мехмед же принял новость с бесстрастным видом. Он отпустил послов с «изъявлениями вежливости» и обещал рассмотреть дело, когда прибудет в Эдирне. Константин дал ему бесценную возможность нарушить слово как раз в подходящий момент.
Направляясь обратно в Эдирне, Мехмед обнаружил — пересечь пролив и попасть в Галлиполи, как он намеревался, невозможно: корабли итальянцев перекрыли Дарданеллы. Тогда он двинулся вверх по Босфору к османской крепости Анадолухисар — «Анатолийский замок», — построенной его великим дедом Баязидом в 1395-м во времена осады Города. Здесь расстояние, отделяющее Азию от Европы, сокращается до всего-навсего семисот ярдов, давая наилучшую возможность пересечь стремительные, коварные воды. (Это было известно персидскому царю Дарию, который две тысячи лет назад, следуя к месту битвы, перевел здесь по мосту из лодок семьсот тысяч человек.) Покуда маленький флот Мехмеда курсировал взад-вперед, поспешно перевозя людей на территорию Европы, султан размышлял по поводу Босфора и, по-видимому, в его изобретательном уме родилось несколько идей. Проливы представляли собой уязвимый для османов участок: невозможно править двумя континентами, не подвергаясь опасности, если не удастся держать под контролем место переправы между ними. Вместе с тем, найдя способ господствовать на Босфоре, Мехмед смог бы перекрыть подвоз зерна и не дать греческим колониям на Черном море оказывать помощь Городу, а также лишил бы его дохода от таможенных сборов. Итак, ему пришло в голову построить вторую крепость на «европейской» стороне — на землях, принадлежащих Византии, — дабы взять под контроль проливы, что позволит «перекрыть путь судам неверных». Вероятно, именно тогда он также осознал острую надобность в увеличении флота, необходимого для противостояния господству христиан на море.
Вернувшись в Эдирне, Мехмед немедленно предпринял ответные действия в связи с ультиматумом Византии: он конфисковал доходы от налогов с городов на Струме, шедшие на содержание Орхана, и изгнал оттуда греческое население. Вероятно, Константин уже ощутил усиление давления на Город: летом 1451 года он отправил посольство в Италию. Сначала послы прибыли в Венецию с просьбой о разрешении набирать лучников в венецианской колонии на Крите, а затем отправились в Рим с посланием для папы. Но более вероятно, что Константин но-прежнему надеялся вести против нового султана уверенные наступательные действия: в посланиях, направленных в итальянские страны, нет ни одного намека на опасность.
Тем временем приближалась зима 1451 года. Мехмед находился в Эдирне, неустанно строя планы. Здесь он окружил себя группой людей с запада, в особенности итальянцами, с которыми беседовал о великих героях классической древности, Александре и Цезаре, — именно их он намеревался взять себе за образец в будущем. Памятуя о смуте среди янычар, произошедшей осенью, он проводил дальнейшие реформы армии и администрации. Он назначил в некоторые области новых правителей, повысил жалованье солдатам дворцовых полков и начал накапливать вооружение и провиант. Вероятно, он также запустил программу строительства флота. Мехмед разослал объявления по всем провинциям о наборе на службу тысяч каменщиков, рабочих и мастеров по обжигу на следующую весну. К тому же провели приготовления по сбору и перевозке строительных материалов — «камня, и дерева, и железа, и всего необходимого… для строительства замка в «Священных устах» выше Города» — близ руин церкви Святого Михаила.
Известие о решении Мехмеда быстро достигло Константинополя и греческих колоний на Черном море, а также на островах Эгейского моря. Мрачные предчувствия охватили народ; люди вспоминали давние пророчества о конце света: «Теперь вы видите предзнаменования близящегося уничтожения нашего народа. Настали дни антихриста. Что будет с нами? Что нам делать?» В городских церквах служили молебен за молебном, прося о спасении. В конце 1451 года Константин отправил в Венецию нового посланца с более насущными новостями о том, что султан ведет активную подготовку к штурму Города, и если помощь не будет отправлена, он непременно падет. Неторопливый венецианский сенат обдумал ответ и отправил его 14 февраля 1452 года. Что характерно, он оказался осторожным: Венеция не горела желанием подвергать риску свои коммерческие интересы, когда дело касалось Османской империи. Подразумевалось, что византийцам, скорее, следует поискать помощи у других государств, нежели рассчитывать на помощь одной лишь Венеции, хотя сенаторы все же санкционировали отправку пороха и кирас, о чем просил Константин. Пока же императору не оставалось ничего другого, как прямо обратиться с заявлением в адрес Мехмеда. Его послы покатили назад по фракийским холмам на новую аудиенцию. Они подчеркивали: Мехмед нарушил договор, угрожая построить новый замок без предварительного согласования, а ведь когда его великий дед строил крепость Анадолухисар, он обратился с просьбой о разрешении к императору, «подобно тому как сын просит отца». Ответ Мехмеда звучал кратко и точно: «То, что находится в черте Города, принадлежит ему; за пределами рва у него нет владений и ему не принадлежит ничего. Если я хочу построить крепость у «Священных уст», Город не может мне это запретить». Он напомнил грекам — христиане неоднократно пытались перекрыть османам проход через проливы — и заключил в типично откровенной манере: «Уходите и скажите своему императору следующее: «Нынешний султан не похож на своих предшественников. То, чего они желали достичь, он может совершить быстро и с легкостью; он делает и то, чего они делать не желали. Если кто-нибудь еще явится сюда с подобной миссией, с него заживо сдерут кожу». Более внятно выразиться было невозможно.
В середине марта Мехмед выехал из Эдирне, собираясь начать строительные работы. Вначале он поехал в Галлиполи. Там он взял шесть галер и несколько судов поменьше, «хорошо приготовленных для морского боя — на всякий случай», а также шесть транспортных барж для перевозки оборудования. Затем он двинулся вместе с армией по суше к выбранному месту. Вся операция выглядела типичной для его стиля. Благодаря таланту Мехмеда в делах снабжения по его приказу люди и материалы мобилизовывались в огромных количествах; целью же стало выполнение поставленной задачи в сколь возможно более краткие сроки. Наместники провинций, как в Европе, так и в Азии, провели призыв и отправили людей на место. Громадная армия рабочих — «каменщиков, плотников, кузнецов и работников по обжигу, а также всех рабочих необходимых для дела специальностей (ни в ком не было недостатка) с топорами, лопатами, мотыгами, кирками и другими железными орудиями» — прибыла, чтобы начать работу. Строительные материалы подвозили на неуклюжих транспортных баржах: известь и все требуемое для обжига, камень из Анатолии, древесину из лесов на Черном море и из Измита, в то время как османские военные галеры курсировали, охраняя вход в проливы. Мехмед сам объезжал верхом выбранный участок и вместе с архитекторами (оба — бывшие христиане) разрабатывал детали плана: «расстояние между внешними и главными орудийными башнями и воротами и все остальное было им тщательно обдумано». Вероятно, он в общих чертах набросал план замка еще зимой, находясь в Эдирне. Он следил за разметкой земли и сам заложил краеугольный камень. Заклали баранов, и кровь их смешали с мелом и строительным раствором, скрепившим первый ряд кирпичей, — это должно было принести удачу. Глубоко суеверный Мехмед весьма внимательно прислушивался к советам астрологов. Кое-кто утверждал, будто замысловатая форма замка имеет мистический смысл и напоминает переплетенные арабские буквы — инициалы пророка и самого Мехмеда. Скорее причудливая форма крепостных стен продиктована рельефом местности — сложным, обрывистым, включавшим «извилистые, кривые, поросшие густым лесом мысы, вдающиеся в сушу заливы и береговые изгибы». Перепад высоты между побережьем и наиболее возвышенной точкой избранного участка достигал двухсот футов.
Работа началась 15 апреля в субботу и была тщательно организована по сдельной системе с использованием соревнования, основываясь на характерной для Мехмеда смеси угроз и поощрений. В нее были вовлечены все — от великого визиря до последнего подносчика. Постройка имела четыре стены; три ее башни были ориентированы по сторонам света, а четвертая, меньшая, помещалась в юго-восточном углу. За строительство — и его обеспечение — внешних башен отвечали четыре визиря: Халил, Заганос, Шехабеддин и Саружда. Их поощряли соревноваться в скорости строительства на вверенных им участках, чему способствовали также напряженная внутренняя борьба за власть при дворе и бдительный надзор повелителя, «оставлявший всякую мысль об отдыхе». Сам Мехмед взял на себя контроль за строительством связующих стен, а также меньших башен. Все работники числом более шести тысяч, что включало две тысячи каменщиков и четыре тысячи их помощников, а также других рабочих (ни в одной из специальностей не знали недостатка), тщательно подразделялись согласно системе, принятой в армии. У каждого каменщика было два помощника, работавших справа и слева от него; он обязан был построить определенный участок стены в день и нес за это ответственность. За дисциплиной надзирали кади (судьи), собранные со всей империи и имевшие право выносить смертные приговоры. Принуждение и вооруженная защита обеспечивались многочисленными армейскими соединениями. В то же время Мехмед «публично предложил чрезвычайно высокую награду тем, кто будет работать быстро и хорошо». В этой напряженной обстановке, где дух соревнования смешивался со страхом, как пишет Дука, даже знатные люди иногда находили полезным вдохновить рабочих, самолично поднося камни и известку трудившимся в поте лица каменщикам. Место действия напоминало маленький временный город и в то же время — огромную строительную площадку. Тысячи палаток появились поблизости от разрушенной греческой деревни Атоматон. Лодки маневрировали, двигаясь взад-вперед через неспокойно текущие воды пролива. В теплом воздухе раздавался звон молотов; звучали голоса. Работа продолжалась целый день; ночью она шла при свете факелов. Стены, закрытые решеткой из деревянных лесов, росли с поразительной быстротой. Вокруг места строительства цвела весна. На густо поросших лесом склонах раскрылись бутоны глицинии и багряника, свечи каштанов напоминали белые звезды. Среди ночного покоя, когда зыбкий свет луны мерцал на воде проливов, в соснах звучало пение соловьев.
По мере того как жители Города наблюдали за приготовлениями османов, их мрачные предчувствия все более усиливались. Внезапное появление турецкого флота, о существовании которого до тех пор никто не знал, ошеломило греков. С крыши храма Святой Софии и верхней точки Сфендона — до сих пор сохранившегося фрагмента южной части Ипподрома — они могли разглядеть трудящихся подобно пчелам людей в шести милях вверх по проливу. Константин и его министры не знали, как вести себя в сложившейся ситуации, однако Мехмед сам «позаботился» о том, чтобы спровоцировать их реакцию. Еще в начале работ турки начали разорять там и сям разрушенные монастыри и храмы, находившиеся возле замка, добывая таким образом стройматериалы. Греческие крестьяне, жившие поблизости, и обитатели Города по-прежнему считали эти места священными. В то же время османские солдаты и строители начали совершать нападения на их поля. По мере того как шло лето и приближалось время сбора урожая, оба этих обстоятельства усугубились до предела. Рабочие уносили колонны разрушенной церкви Михаила Архангела, и несколько жителей города попыталось остановить их. Их схватили и предали казни. Если Мехмед надеялся вынудить Константина сражаться, то он потерпел неудачу. Возможно, император испытывал искушение предпринять вылазку, однако его отговорили. Вместо этого он решил разрядить обстановку и предложил посылать пищу для тех, кто работал на строительстве, дабы они не разоряли посевы греков. В ответ Мехмед поощрил своих людей пускать животных пастись в поля, в то же время приказав грекам-фермерам не препятствовать им. В конце концов фермеры, не в силах видеть гибель своих посевов, прогнали скот. Последовала стычка, в ходе которой были убитые с обеих сторон. Мехмед приказал своему военачальнику Кара-бею наказать жителей проштрафившейся деревни. На следующий день кавалерийский отряд застиг врасплох жителей, занимавшихся уборкой урожая, и перебил всех.
Услышав об этой резне, Константин закрыл городские ворота. Всех подданных Османской империи, находившихся в Городе, арестовали. Среди них оказалось несколько молодых евнухов Мехмеда, приехавших посетить Город. На третий день своего заключения они обратились к Константину с просьбой освободить их, поскольку их хозяин будет гневаться на них за то, что они не возвращаются. Они молили либо отпустить их сейчас, либо казнить на том основании, что если их освободят позже, им все равно придется принять смерть от руки султана. Константин смилостивился и отпустил их. Он отправил к Мехмеду еще одно посольство с сообщением, представлявшим собой смирение и вызов:
Если ты предпочитаешь миру войну и ни клятвы мои, ни мольбы не в силах вернуть тебя к миру, то да будет на то твоя воля. Прибежище мое — в Господе. Если им предначертано, что Город окажется в твоих руках, кто сможет поспорить с Ним или предотвратить это? Если Он поселит в твоем сердце мысль о мире, я встречу это с радостью. Что касается нынешних дел, то ты нарушил договоры, верность которым я поклялся соблюдать — и да будут они расторгнуты. Впредь я стану держать городские ворота закрытыми. Я буду сражаться за его жителей со всею силой, на какую способен. Действуй и впредь со всей своей мощью, пока Судия Праведный не вынесет приговора каждому из нас.
Таким образом, Константин четко объявил свое решение. Мехмед же попросту казнил послов и коротко ответил: «Сдавай Город или готовься к битве». Отряд османов отправился для опустошения области за пределами городских стен и захвата стад и пленников. Однако Константин перевел почти все население соседних деревень в Город вместе с собранным урожаем. В османских хрониках имеются записи о том, что он также посылал людей с целью подкупить Халила, дабы тот продолжал свои действия с целью достижения мира, однако более вероятно, что здесь отразилась пропаганда недругов визиря. С середины лета воротам Города суждено было стоять закрытыми, и стороны фактически находились в состоянии войны.
Реконструкция замка Румелихисар, «Перерезанного горла».
31 августа 1452 года строительство новой крепости Мехмеда закончилось, причем прошло всего четыре с половиной месяца с того момента, как был положен первый камень. Она была громадной и, говоря словами Критовула, более походила «не на крепость, а на маленький город» и господствовала над морем. Османы назвали ее Богаз Кезен — «Та, что перерезала проливы», или «Перерезанное Горло», хотя в истории она стала известна под названием «Европейский замок», Румелихисар. В плане постройка представляла собой треугольник. В ней насчитывалось четыре больших и тринадцать малых башен. Стены имели двадцать два фута в толщину и пятьдесят футов в высоту. Крыши башен покрыли свинцом. Изумительное для своего времени архитектурное произведение! Способность Мехмеда координировать проекты исключительных масштабов и выполнять их в кратчайшие сроки непрестанно изумляла его противников в последующие месяцы.
28 августа Мехмед вместе со своей армией объехал бухту Золотой Рог и расположился лагерем за пределами городских стен, теперь основательно укрепленных. В течение трех дней он исследовал оборонительные сооружения и местность с придирчивостью судьи, делал заметки и наброски и анализировал возможные недостатки с точки зрения фортификации. 1 сентября, в день наступления осени, он отправился назад в Эдирне, весьма удовлетворенный сделанным за лето, а флот отплыл на базу в Галлиполи. В «Перерезанном горле» остался гарнизон из четырехсот человек под командованием Фируз-бея, получившего приказ задерживать все корабли, проплывающие вверх и вниз по проливу, и собирать с них пошлину. Чтобы угроза стала более внушительной, отлили и привезли в крепость некоторое количество пушек. Небольшие орудия разместили на зубцах крепостной стены, тогда как батарею из больших пушек, «подобных огнедышащим драконам», установили на морском берегу близ стены замка. Орудия расположили под разными углами и нацелили в разных направлениях, дабы держать под огнем обширное пространство. Они могли стрелять огромными каменными ядрами весом в шестьсот фунтов, способными пробить борта проходящих кораблей. Ядра со свистом пролетали над поверхностью воды, подобно камням, подскакивающим по поверхности пруда. Батарею дополняла другая, находившаяся в замке напротив, так что «даже птице не удавалось пролететь от Средиземного моря к Черному». Теперь ни один корабль не мог бесконтрольно проплыть ни вверх, ни вниз по проливу ни днем ни ночью. «Таким образом, — писал османский хронист Саад-аддин, — падишах, прибежище мира, перекрыл этот пролив, преградив путь кораблям неверных, и прижег печень слепого сердцем императора».
В Городе Константин собирал силы, готовясь к войне, теперь казавшейся неизбежной, и рассылая вестников на Запад со все более неотложными просьбами. Он отправил послание к братьям, Фоме и Димитрию, в Морею и умолял их немедленно прибыть в город. Он обещал отдать во владение чрезвычайно обширные территории всякому, кто пришлет помощь: венгру Хуньяди он предложил на выбор Селимбрию или Месембрию на Черном море, Альфонсу Арагонскому и Неаполитанскому — остров Лемнос. Он обратился с просьбами к генуэзцам с острова Хиос, к Дубровнику, Венеции и, наконец, вновь к папе. Реальная помощь вряд ли ожидалась, но европейские государства наконец начали осознавать, хотя и с неохотой, что на Константинополь пала зловещая тень. Последовал интенсивный обмен дипломатическими нотами. В марте папа Николай V убедил императора Священной Римской империи Фридриха III отправить Мехмеду решительный, но пустой ультиматум. Альфонс Неаполитанский отправил флотилию из десяти судов в Эгейское море, однако затем отозвал ее обратно. Генуэзцы были встревожены угрозой, нависшей над их колонией в Галате на Черном море, однако не могли предоставить реальную помощь. Вместо этого они приказали подесту (мэру) Галаты заключить сколь возможно более выгодное соглашение с Мехмедом на случай, если Город падет. Венецианский сенат также дал двусмысленные указания своим командирам в Восточном Средиземноморье: они должны были защищать христиан и в то же время не оказывать сопротивления туркам. Еще до того, как строительство «Перерезанного горла» завершилось, в Венеции понимали: Мехмед угрожает ее черноморской торговле. Вскоре венецианские шпионы прислали подробные карты опасной крепости с ее артиллерией. Проблема становилась все более насущной. Сенат на голосовании в августе без труда «провалил» предложение предоставить Константинополь его судьбе, однако никаких решительных действий в его поддержку не последовало.
Вернувшийся в Эдирне Мехмед либо предугадал, либо узнал об обращении Константина к своим братьям в Морее — и быстро сделал свой ход, стремясь остановить их. 1 октября 1452 года он приказал своему пожилому военачальнику Турахан-бею двинуть армию на Пелопоннес и атаковать Димитрия и Фому. Он опустошил сельскую местность, продвинувшись далеко на юг, в результате чего возвращение войск назад в Константинополь стало невозможным. Тем временем поставки зерна с Черного моря начали иссякать. Осенью в Венецию отправилось новое посольство. Ответ сената от 16 ноября был таким же неопределенным, как и раньше, однако в скором времени внимание венецианцев оказалось приковано к событиям на востоке.
К ноябрю капитаны итальянских кораблей, курсировавших между Черным морем и Средиземноморьем, оказались перед затруднительным выбором: нужно было либо уплачивать таможенные пошлины в «Перерезанном горле», либо игнорировать это требование и подвергаться опасности. Сила течения была такова, что корабли, плывущие вниз по проливу, имели неплохой шанс проскочить «контрольный пункт», прежде чем по ним будет открыт огонь из прибрежных орудий. 26 ноября венецианский капитан Антонио Риццо спускался по Босфору с грузом продовольствия для Города. Приблизившись к замку, он решил рискнуть. С берега раздались предупредительные окрики и требования спустить паруса, но он проигнорировал их и увеличил скорость. Над водой прогремел залп орудий; громадное каменное ядро попало в неукрепленный борт галеры и разбило его на куски. Капитану и тридцати уцелевшим членам экипажа удалось добраться до берега на маленькой лодке. Там их быстро схватили, заковали в цепи и отправили в город Дидимоткон близ Эдирне, где им суждено было испытать на себе последствия ярости султана. Пока моряки томились в темнице, посол Венеции в Константинополе поспешно отправился ко двору правителя просить пощадить их жизни. Однако он опоздал. Мехмед решил преподать венецианцам урок. Большинство пленных казнили. Самого Риццо «пронзили колом через задний проход». Затем все тела оставили гнить за городскими стенами в качестве предостережения непокорным. «Я видел их спустя несколько дней, прибыв туда», — вспоминал греческий хронист Дука. Кое-кого из моряков вернули в Константинополь, чтобы новость наверняка дошла до Города. Кроме них, в живых остался еще один человек: Мехмеду понравился сын секретаря Риццо, и он поместил мальчика в свой гарем.
Столь жестокая демонстрация возымела желаемый эффект. Она ввергла население Константинополя в настоящую панику. На данный момент, несмотря на миссии, отправленные Константином, не было ни малейшего признака реальной помощи от Запада. Лишь папа мог подняться над царившими в Европе меркантильными интересами фракций, над династической враждой и войнами и призвать к помощи во имя христианства. Однако папство и само было вовлечено в непростой, уже давно продолжавшийся спор с православной церковью, бросавший тень на все подобные начинания. Все вместе взятое могло практически свести на нет возможности Константина оказать эффективное сопротивление.
Глава 5 Темная церковь Ноябрь 1452 года — февраль 1453 года
Для страны будет гораздо лучше оставаться под властью мусульман, чем быть под управлением христиан, которые отказываются признавать права католической церкви.
Папа Григорий VII, 1073 г.Бегите от папистов, как вы бежали бы от змеи и от жара пламени.
Святой Марк Евгеник, православный теолог XV в.Храм Святой Софии.
Что касается главного источника затруднении, испытываемых Константином, пытающимся получить от Запада помощь и организовать эффективную оборону города, то его можно связать с драматическим инцидентом, произошедшим летним днем почти четырьмя веками ранее — хотя причины его были еще более давними.
16 июля 1054 года, примерно в три часа пополудни, когда клир в храме Святой Софии готовился к дневному богослужению, три прелата в полном облачении вошли в собор через один из главных западных входов и двинулись прямо к алтарю под пристальными взглядами членов общины. То были кардиналы католической церкви, посланные из Рима папой для участия в теологических диспутах с братьями на востоке. Их возглавлял некий Гумберт из Мармутье. Они пробыли в Городе некоторое время, однако в тот день после долгих и тяжело протекавших переговоров потеряли терпение и перешли к решительным действиям. В руках у Гумберта находился документ, которому суждено было взорвать единство христианского мира. Войдя в святая святых, он положил буллу, содержавшую отлучение, на главный алтарь, круто повернулся и вышел. Стуча каблуками, заносчивый кардинал вернулся на сияющий дневной свет, отряс прах с ног своих и провозгласил: «Пусть Господь увидит и рассудит». Один из священников, бывших в церкви, выбежал на улицу вслед за Гумбертом, размахивая буллой, и умолял взять ее обратно. Тот отказался и ушел, оставив документ лежать в пыли. Через два дня кардиналы отплыли назад в Рим. На улицах начались кровавые столкновения на религиозной почве. Они прекратились лишь после того, как над папской делегацией была произнесена анафема. Оскорбительный документ публично сожгли. Этот инцидент положил начало процессу, получившему в истории наименование Великой Схизмы. Он нанес глубокие раны христианскому миру: анафему отменили в 1965 году, но рубцы остались до сих пор. А для Константина зимой 1452 года они породили сложнейшую проблему.
В действительности события того дня стали лишь кульминацией длительного процесса отделения друг от друга двух форм богопочитания, набиравшего силу в течение столетий. Как ничто другое, процесс сей породили различия в сферах культуры, политики и экономики. На востоке богослужение проводилось на греческом языке, на западе — по-латыни. Формы культа, взгляды на организацию церкви и точки зрения на роль папы также различались между собой. В основном византийцы пришли к восприятию своих западных соседей как неуклюжих варваров; быть может, у них было больше общего с мусульманами, с которыми они имели общую границу, нежели с франками за морем. В центре расхождений между ними, однако, существовало два ключевых вопроса. Православные готовы были согласиться с тем, что папа занимает особое место среди патриархов, однако им претило мнение, сформулированное напой Николаем I в 865 году, о том, что папство властвует «над всею землей, то есть надо всей церковью». Они воспринимали его как претензию на деспотизм.
Второй вопрос касался доктрины. В булле об отлучении восточная церковь обвинялась в исключении одного слова из «Символа веры» (это было принципиально важно для жителей Города, которых чрезвычайно занимали теологические вопросы). На первый взгляд безобидное латинское слово filioque — «и от сына» — имело колоссальное значение. В то время как первоначально «Символ веры», принятый на Никейском соборе, гласил: «Верую… во Святого Духа, Господа, жизни Подателя, происходящего от Отца, которого вместе с Отцом и Сыном почитают и прославляют»[13], западная церковь впоследствии прибавила дополнительное слово «filioque», в результате чего текст стал читаться «происходящего от Отца и от Сына». С течением времени надменные представители римской церкви даже начали обвинять православных в ошибке за то, что они «пропускали» это слово. Православные в ответ заявили: дополнение ложно с теологической точки зрения. Дух Святой происходит только от Отца, а добавление имени Сына — ересь. Вот какие вопросы послужили причиной беспорядков в Константинополе.
Со временем трещина углубилась, несмотря на усилия ее «залатать». Разграбление Константинополя в 1204 году крестоносцами-«христианами», которое сам папа Иннокентий III объявил «проявлением предательства и делом тьмы», усилило, так сказать, общекультурную ненависть ко всему, связанному с Западом. Так же поступали меркантильно настроенные власти итальянских городов-государств, росших за счет прямого грабежа Византии. В 1340 году Варлаам Калабрийский намекнул папе Бенедикту XII на то, что не столько «разница догматов обращает сердца греков против вас, сколько ненависть к латинянам: она вошла в их плоть и кровь вследствие множества великих зол, которые греки претерпели от латинян и которые продолжают терпеть день за днем». Сказано верно и по существу. Однако догмат всегда оставался в центре религиозной жизни рядового населения города. Верность принципам догмата в условиях, когда сами императоры в течение столетий пытались привнести в него то, что противоречило ему с точки зрения горожан, сама стала непоколебимым и устойчивым принципом в мозаике византийской истории.
К XV веку сложилась ситуация, когда неослабевающее давление со стороны османского государства вынуждало императоров одного за другим обращаться на запад с бесконечными мольбами о помощи. Во время путешествия императора Иоанна VIII в 1420-х годах по Италии и Венгрии венгерский король-католик намекнул — просьбы о содействии будут приняты с большей готовностью, если православная церковь объединится с римской церковью, принесет клятву верности папе и признает католический «Символ веры». Для царствующих домов этот потенциальный союз представлялся в такой же мере орудием политики, в какой и вопросом веры: угроза объединенного крестового похода неоднократно использовалась для сдерживания агрессии османов против Города. (Отец Иоанна Мануил, лежа на смертном одре, дал детям типично византийский совет: «Всякий раз, когда турки начнут вас тревожить, сразу же отправляйте посольства на запад, предлагайте заключить союз и как можно дольше затягивайте переговоры; турки настолько боятся подобного союза, что образумятся; и все же союз не будет заключен, поскольку латинские народы враждебны нам!») В прошлом совет не раз бывал полезен, но когда османы усилились, они начали действовать прямо противоположным образом: поиски союза с католиками все в большей мере воспринимались ими как повод для вооруженного нападения. Однако для Иоанна VIII та частота, с которой враг стучался в ворота, перевесила боязнь навлечь на себя недовольство османов и вызвать недоверие у собственного народа. Когда папа Евгений IV предложил провести в Италии совет, чтобы все-таки заключить союз между церквями, в ноябре 1437 года император вновь пустился в плавание, оставив присматривать за Городом своего брата Константина в качестве регента.
Итогом затянувшихся мучительных переговоров стала Флорентийская уния. Ее подписали лишь в июне 1439 года. Когда наконец объявили о союзе церквей, зазвонили колокола по всей Европе вплоть до Англии. Лишь один из представителей православной церкви отказался подписать документ, составленный в таких выражениях, чтобы кое-как смягчить некоторые из ключевых вопросов: претензии папы на верховное господство принимались наряду с понятием filioque, хотя православной церкви не предъявлялось жесткого требования включить его в «Символ веры». Однако одобрительное отношение греков к унии начало таять еще до того, как на документе высохли чернила. Когда посольство вернулось в Город, православные встретили его враждебно; многие из тех, кто поставил на документе свои подписи, немедленно отозвали их. Патриархи восточной церкви выразили несогласие с решением, принятым их послами. Следующий константинопольский патриарх Григорий Мамма, сторонник союза, был чрезвычайно непопулярен, и отпраздновать заключение унии в соборе Святой Софии оказалось невозможным. В итоге горожане разделились на два лагеря. Константин и большая часть его ближайшего окружения (знать, офицеры и гражданские чиновники) поддерживали унию. Все остальные — и народ, и церковники — полагали, что уния была навязана им продажными франками и что их бессмертные души подвергаются опасности из-за низменных материальных причин. Народ был настроен глубоко «антипапистски»: он привык отождествлять папу с Антихристом, «волком, разрушителем». «Рум папа» — «Папа римский» — было распространенной в Городе кличкой собак. В Константинополе сформировался подверженный изменчивым настроениям пролетариат: обедневший, подозрительный, он легко склонялся к мятежу и беспорядку.
«Море религиозных волнений», унаследованное Константином вместе с императорским титулом, не было чем-то нетипичным для долгой византийской истории: одиннадцатью веками раньше доктринальные споры точно так же тревожили Константина Великого. Константин XI, больше солдат, нежели теолог, относился к унии сугубо прагматически. Он думал лишь о том, как спасти Город, чье древнее прошлое было вверено ему, и если уния давала единственную возможность совершить это, он не возражал. Однако такое решение не прибавило ему популярности среди граждан его страны. Конституционный статус императора также вызывал сомнения, поскольку Константина официально не короновали в Мистре. Церемония должна была пройти в храме Святой Софии, однако возникло подозрение, что коронация униата-императора униатом-патриархом может вызвать серьезные общественные беспорядки. Дело замолчали и отложили в долгий ящик. Многие горожане отказывались упоминать нового императора в своих молитвах, а один из наиболее скептически настроенных участников церковного собора, Георгий Схоларий, приняв монашеское имя Геннадий, удалился в монастырь и принялся за организацию сопротивления в виде синода клириков — противников унии. В 1451 году патриарх Григорий устал от неутихавшей враждебности и отправился в Рим, где дал папе Николаю исчерпывающие сведения о действиях противников унии. Подходящей кандидатуры ему на замену не нашлось. С того времени в Константинополе не осталось ни вполне законного императора, ни патриарха.
В то время как угроза войны с Мехмедом возрастала, Константин неоднократно обращался к папе со все более отчаянными мольбами. При этом он совершил неразумный шаг, присовокупив требование противников унии о создании нового синода. Информация, полученная от Григория по поводу состояния вопроса об унии в Константинополе, ожесточила сердце Николая V. Он более не желал давать отступникам-грекам уклончивые ответы. Его реплика прозвучала холодно: «Если вы вместе со знатью и горожанами согласны с решением об унии, то всегда встретите и в Нас, и в Наших преподобных братьях, кардиналах Святой Римской церкви, готовность поддержать вашу честь и вашу империю. Но если вы и ваш народ отказываетесь согласиться с этим решением, то вынудите Нас принять такие меры, которые необходимы для спасения вашей души и Нашей чести». Угроза только ожесточила противников унии, продолжавших расшатывать позиции Константина в Городе. В сентябре 1452 года один из них писал: «Константин Палеолог… остается некоронованным, поскольку у церкви нет главы; в ней царит настоящий раздор, и причиной его явились беспорядок и смятение, вызванные тем, что лживо именуют унией… Эта уния была злом, неугодным Господу; напротив, она расколола церковь, разъединила ее чад и полностью уничтожила ее. Сказать по совести, в ней источник всех наших злоключений».
Что до Рима, то папа Николай V предпринял шаги, дабы провести в жизнь принятые во Флоренции решения. Он решил отправить в Константинополь легата — удостовериться, что принятие унии было отпраздновано в соборе Святой Софии. Выбор его пал на кардинала Исидора, бывшего епископа Киевского. Исидор, византиец, хорошо знал все тонкости проблемы не понаслышке: по возвращении в Киев православная паства отвергла его как сторонника флорентийской унии и бросила в тюрьму[14]. Он отправился в Константинополь в мае 1452 года. При нем находился отряд в двести лучников, снаряженный папой — жест военной поддержки сопутствовал этой миссии, в первую очередь теологической. По дороге к нему присоединился генуэзец Леонард Хиосский, архиепископ Лесбосский — человек, ставший внимательным и пафосным комментатором всего случившегося. Антиуниаты, заблаговременно предупрежденные об их прибытии, ввергли город в еще больший хаос. Геннадий произнес перед народом страстную речь против унии, длившуюся с полудня до вечера. Он заклинал людей больше держаться своей веры, нежели рассчитывать на материальную помощь, от которой будет немного проку. Однако когда кардинал Исидор вступил на берег Константинополя 26 октября 1452 года, вид его небольшого отряда лучников произвел на жителей благоприятное впечатление: ведь небольшое войско могло быть авангардом значительных сил. Таким образом, во мнении людей наметился значительный сдвиг в пользу унии. Некоторое время горожане колебались. Противников унии обвинили в отсутствии патриотизма. Однако другие корабли так и не прибыли. Люди вновь переметнулись на сторону Геннадия, и начались мятежи антиуниатов. Леонард в резких выражениях потребовал от Константина бросить зачинщиков в тюрьму. Он горько сожалел о том, что, «не считая нескольких монахов и мирян, почти все греки охвачены гордыней, так что не осталось ни одного человека, который, ревнуя об истинной вере или о собственном спасении, мог бы явить глазам других сомнения в своем упрямстве». Константин отказался последовать его совету: он боялся ввергнуть Город в хаос. Вместо этого он призвал синод антиуниатов во дворец, дабы те объяснили, чего хотят.
Через десять дней до Города докатился грохот пушек, раздавшийся близ «Перерезанного горла». Когда жители узнали о судьбе, постигшей Риццо и его команду, их охватил новый пароксизм страха. Сторонники унии опять получили их поддержку. Геннадий нанес еще один удар по усомнившимся. Он заявил: помощь Запада приведет к тому, что горожане утратят веру, что сама помощь окажется невелика и что по крайней мере он сам не желает принять ее. Геннадий беспокоился о более серьезных вещах, нежели падение Города: он искренне верил в близкий конец света и был убежден — православные должны встретить Апокалипсис с незапятнанными душами. Беспорядки на улицах разразились вновь. Монахи, монашки и миряне бродили повсюду, крича: «Мы не желаем ни помощи от латинян, ни союза с латинянами; избавимся же от почитания опресноков!» Представляется, что, несмотря на усилия Геннадия, перепуганные жители «пожадничали» и решили принять Флорентийскую унию хотя бы на время. (У византийцев, настоящих софистов, существовал освященный веками принцип, оправдывающий подобные действия, — доктрина икономии [так! — Примеч. пер.], позволявшая принять на время неправославную позицию в богословии, чтобы выжить; этот подход к делам духовным неоднократно приводил католиков в ярость.) Со своей стороны кардинал Исидор решил, что приспело время провести в жизнь дело унии — и спасти души греков, коим угрожает опасность.
В столь накаленной обстановке страха и религиозной истерии 12 декабря 1452 года — стояли унылые зимние дни — была совершена литургия, дабы отпраздновать заключение унии. Ее отслужили в храме Святой Софии; «клир совершал ее с величайшей торжественностью. Также здесь был преподобный кардинал из Русских земель, присланный папой, а также светлейший император со всеми своими сановниками и все население Константинополя». Зачитали договор об унии, и папу упомянули в молитвах наряду с отсутствовавшим патриархом Григорием. Однако детали службы оказались чужды для многих греков, наблюдавших за ней. Язык и ритуал службы были в большей мере католическими, нежели православными, Святое Причастие состояло из опресноков (что является ересью с православной точки зрения), и в чашу с вином добавили холодной воды. Исидор писал папе, объявляя об успехе своей миссии:
Весь Константинополь объединился под предводительством католической церкви; Ваше Святейшество поминали в литургии; наиболее почитаемого патриарха Григория — которого, пока он пребывал в Городе, не поминали ни в одной церкви, в том числе и в его собственном монастыре — после [утверждения] унии стали поминать повсюду. Все они [греки], от мала до велика, и в их числе император, благодаря Господу ныне едины в католичестве.
По сообщению Исидора, только Геннадий и еще восемь монахов отказались принять участие в событии. Однако, возможно, автор выдавал желаемое за действительное. Некий свидетель-итальянец записал, что в этот день в Городе повсюду слышались рыдания. По всей видимости, волнений во время службы не произошло. Более вероятно, православные верующие участвовали в происходящем, стиснув зубы. Затем они двинулись в монастырь Пантократора посоветоваться с Геннадием, который фактически стал духовным отцом православных и чаемым патриархом. Он, однако, в молчании удалился к себе в келью и не вышел оттуда.
С этого времени православные обходили Святую Софию стороной — теперь она была «не лучше иудейской синагоги или языческого храма» — и молились лишь в сугубо православных храмах Города. В огромном соборе, покинутом патриархом и паствой, было темно и тихо. Долгие череды молитв более не звучали, и тысячи масляных ламп, озарявших купол, «точно небосвод, усыпанный мерцающими звездами», шипели и гасли. Толпясь перед алтарем, приверженцы унии изредка совершали свои службы. Вокруг здания печально порхали птицы. Православные чувствовали — проклятия Геннадия сбылись: могучий флот так и не приплыл по Мраморному морю на защиту христианства. С тех пор разрыв между приверженцами унии и православными, между греками и латинянами стал глубже, чем когда-либо. О нем упоминают все отчеты об осаде, которые вели христиане. Тень схизмы надолго легла на попытки Константина защитить Город.
1 ноября 1452 года, незадолго до своего добровольного ухода в затвор, Геннадий вывесил на воротах монастыря Пантократора манифест. Он читался как пророческая речь, содержащая осуждение, проникнутая апокалиптическим пафосом, и самооправдание:
Несчастные ромеи, сколь далеки вы от пути истинного! Вы покинули свой дом, в котором оставался Господь, вверившись власти франков. Как и сам Город, который вскоре будет уничтожен, вы потеряли истинную веру. О Господи, будь милосерден ко мне. Свидетельствую перед лицом Твоим, что я чист и невинен, да не падут на меня проклятия за то, что произошло. Берегитесь, несчастные горожане! О, что вы творите! Рабство нависло над вашими головами, а вы предали истинную веру, кою вручили вам ваши предки. Вы сами признались в своем неблагочестии. Горе вам, когда вы предстанете перед судом!
В Эдирне, находясь в ста пятидесяти милях от места событий, Мехмед следил за ними с неослабевающим интересом. Страх перед объединением христиан всегда был одним из определяющих факторов внешней политики османов. С точки зрения Халил-паши, он оправдывал стремление к мирному урегулированию: любая попытка захватить Город могла вызвать окончательное воссоединение христианства, и тогда Константинополь стал бы поводом для нового крестового похода. Однако разведка принесла Мехмеду данные, которые он счел многообещающими. Это укрепило его решимость.
Султан проводил короткие зимние дни и долгие ночи в мечтах и размышлениях о завоевании. Он был одержим ими, однако ему недоставало уверенности. Пребывая в новом дворце в Эдирне, он мысленно примерял внешние атрибуты императорской власти. Он продолжал реформировать дворцовую гвардию и запускал руку в казну, все это оплачивая. Мехмед собрал вокруг себя группу советников-итальянцев, у которых узнавал сведения о событиях на Западе и военной технике. Целыми днями он сидел над иллюстрированными трактатами по фортификации и ведению осады. Он был неутомим, чрезвычайно деятелен — и неуверен. Он советовался с астрологами, обдумывая план преодоления укреплений Города и споря с консервативной мудростью старых визирей, которая гласила, что это невозможно. В то же время он изучал историю османов и отчеты о прежних осадах Города, с пристрастием выискивая причины тогдашних неудач. Он не мог сомкнуть глаз и проводил долгие ночи, набрасывая чертежи укреплений, тщательно изученных летом, и придумывал стратегии их захвата.
Хронист Дука оставил живой отчет о тех мрачных днях одержимости Мехмеда. Созданный им образ скрытного, недоверчивого султана, снедаемого честолюбием, содержит в себе долю истины, хотя, возможно, автор сгустил краски в расчете на христианскую аудиторию. Согласно Дуке, Мехмед занимался тем, что бродил но улицам в сумерках, одетый простым солдатом, и прислушивался к тому, что болтают о нем на базарах и в караван-сараях. Если у кого-то не хватало ума сделать вид, что он не признал султана, и он приветствовал повелителя как полагалось, Мехмед закалывал его. Такого рода история, повторявшаяся бесконечное количество раз с теми или иными изменениями, полностью удовлетворяла сложившемуся на Западе образу жаждущего крови тирана. Однажды, вскоре после полуночи, Мехмед послал дворцовую стражу за Халилом, в котором он, возможно, видел главного противника своих планов. Старый визирь задрожал, услышав приказ: повеление явиться перед «тенью Аллаха на земле» не сулило ничего доброго. Он обнял жену и детей, словно в последний раз, и последовал за солдатами, неся золотой поднос, полный монет. Дука предполагает, что тот боялся неспроста: ведь греки неоднократно подкупали его, прося отговорить Мехмеда от войны, — хотя до сих пор неизвестно, насколько справедливо такое мнение. (Заметим, что Халил был и сам богат настолько, что одалживал деньги старому султану, отцу нынешнего правителя.)
Когда визирь достиг царской спальни, он увидел Мехмеда одетым и бодрствующим. Старик простерся перед ним на земле и предложил ему блюдо. «Что это?» — спросил Мехмед. «Владыка, — ответил Халил, — есть обычай: когда повелитель призывает вельможу в неурочный час, тот не должен приходить с пустыми руками». «Мне не нужны дары, — сказал Мехмед, — кроме Города». Напуганный до глубины души (он вообще был трусоват) странным требованием и беспокойным поведением султана, Халил всем сердцем поддержал его идею. Мехмед заключил: «Веруя, что Аллах на нашей стороне, и с молитвой Пророка на устах мы непременно возьмем Город», — и отослал напуганного визиря обратно в ночь.
Неизвестно, насколько правдив данный эпизод. Но так или иначе приблизительно в январе 1453 года Мехмед созвал министров и произнес речь, переданную греческим хронистом Критовулом, где выдвинул свои аргументы в пользу войны. В ней проблема Константинополя рассматривается с точки зрения всей истории возвышения османов. Мехмед ясно понимал, какой ущерб нанес Город недавно сформировавшемуся государству в результате разрушительной гражданской войны, произошедшей пятьдесят лет назад. Ныне он «не прекратил выступать против нас, восстанавливая наших людей друг против друга, вызывая раздоры и гражданскую войну и вредя нашему государству». Султан опасался и того, что в грядущем Константинополь может послужить причиной бесконечной войны с христианскими государствами. Если захватить его, то он станет жемчужиной империи, а «без него — или пока сохраняется нынешнее положение — ничто из того, чем мы владеем, не находится в безопасности, и нам не стоит надеяться на лучшее». Слушатели Мехмеда, очевидно, должны были хорошо помнить недавнюю инициативу Константина, вздумавшего использовать Орхана. Султан также попытался опровергнуть глубоко укоренившееся в сознании мусульман убеждение, полностью сложившееся еще во времена осады Константинополя арабами, в том, что взять Город просто невозможно. Мехмед, хорошо осведомленный о недавно произошедших там событиях, знал, что в то время как он произносит речь, жители «сражаются друг с другом, точно враги, из-за отличий в религиозных убеждениях; в Городе царит предательство, а в его внутреннем устройстве — разлад по той же причине». Кроме того, теперь христиане потеряли контроль над побережьем. Также Мехмед воззвал к традиции «гази»: нынешние мусульмане должны были, подобно своим предкам, вести священную войну. Султан особенно склонен был подчеркивать необходимость быстрого удара — сногсшибательного, для которого необходимо сосредоточить все доступные резервы: «Мы ничего не должны жалеть для войны — ни людей, ни денег, ни оружия, ни чего-либо иного, и ничто иное не должно казаться нам важным, пока мы не захватим или не уничтожим Город». Призвав к массированному удару, Мехмед одержал верх. Военные приготовления начали набирать обороты.
Зима на Босфоре может быть удивительно суровой, как убедились арабы во время осады 717 года. Город из-за своего положения (его территория вдается в проливы) остается открытым для жестоких шквалов, приносимых северным ветром с Черного моря. В такую невероятно промозглую погоду температура ниже нуля пробирает до мозга костей; наводящий уныние дождь идет неделями, в результате чего на улицах стоит грязь, а в узких переулках начинается наводнение. Внезапные снежные бури налетают словно из ниоткуда, полностью заметая побережье Азии, находящееся в полумиле от Города, а затем исчезают так же быстро, как появились. Туман стоит долгими безмолвными днями, и тогда кажется, будто зловещая тишина держит Город в стальных тисках. Она зажимает языки церковных колоколов и заглушает стук копыт на площадях, словно лошади обуты в войлочные туфли. Видимо, зимой 1452/53 годов горожане страдали от особенно безрадостной и неустойчивой погоды. Люди стали свидетелями «необычных и странных землетрясений и колебаний почвы, громов и молний в небесах, и ужасающих раскатов и вспышек на небосводе, могучих ветров, наводнений, ливней и проливных дождей». Это не улучшило общего настроения. Христианские флотилии, которые должны были прибыть во исполнение обязательств по условиям унии, также не появились. Ворота Города оставались крепко запертыми, и подвоз продовольствия с Черного моря иссяк под нажимом султана. Простолюдины проводили дни, прислушиваясь к словам своих православных пастырей, распивая неразбавленное вино в тавернах и вознося перед иконой Пресвятой Девы молитвы о защите Города, как она защитила его во дни осады арабов. Истерическое стремление к чистоте духовной овладело людьми (здесь несомненное влияние оказали гневные речи Геннадия). Считалось греховным посещать литургию, которую служит униат, или получить причастие из рук священника, присутствовавшего на униатской службе, даже если он просто наблюдал за обрядом. Когда Константин проезжал по улицам, по его поводу раздавались язвительные замечания.
Печать с изображением Богоматери Охранительницы.[15]
Несмотря на унылую атмосферу, император делал все, что можно, для обороны Города. Он отправил эмиссаров для закупки продовольствия: «зерна, вина, оливкового масла, сушеных фиг, ячменя, а также гороха и других бобовых» — на островах Эгейского моря и в более отдаленных местах. Под контроль была взята работа по восстановлению заброшенных участков укреплений — со стороны как суши, так и моря. Хорошего камня недоставало, а возможности доставить его из каменоломен, находившихся за пределами Города, не было. Материалы брали из разрушенных зданий и покинутых церквей. Даже старые надгробия шли в дело. Ров перед стеной, прикрывавшей Город со стороны суши, расчистили, и, кажется, несмотря на все замечания жителей, Константину удалось убедить их принять участие в этой работе. За счет общественных пожертвований велся сбор денег с частных лиц, а также с храмов и монастырей, чтобы платить за продовольствие и оружие. Все имевшееся в Городе боевое снаряжение — увы, его было слишком мало — собрали и перераспределили. Вооруженный гарнизон отправили в те несколько крепостей, находившихся за пределами Византии, которые еще оставались под ее властью: в Селимбрию и Эпибат на северном побережье Мраморного моря, Ферапию на Босфоре (она находилась выше «Перерезанного горла»), а также на самый большой из Принцевых островов. Последнее, что предпринял Константин в плане противодействия туркам — каким бы слабым оно ни было, — рейд по османским деревням, расположенным на берегу Мраморного моря. Константин послал туда галеры. Тех, кого захватили в плен, продали в Городе в рабство. «И отсюда в турках произошел великий гнев на греков, и они поклялись принести им несчастье».
Единственным утешением для Константина в то время стало прибытие разрозненной группы итальянских кораблей, чьи команды он смог убедить — или принудить силой — принять участие в защите Города. 2 декабря большая транспортная галера из порта Каффа на Черном море под командованием Джакомо Коко сумела благодаря хитрости миновать пушки «Перерезанного горла»: моряки притворились, будто уже уплатили таможенную пошлину, когда корабль находился выше по течению. При приближении судна к замку люди на борту начали салютовать османским пушкарям, «как друзьям, приветствуя их, трубя в трубы и издавая радостные возгласы. И когда наши люди отсалютовали в третий раз, они уже были далеко от замка, и течение понесло их к Константинополю». Тем временем новости об истинном положении вещей достигли венецианцев и генуэзцев (они узнали их от своих представителей в Городе), и республики, хотя и с запозданием, начали проявлять активность. После того как был потоплен корабль Риццо, венецианский сенат отправил своего вице-капитана в заливе Габриэля Тревизано в Константинополь для усиления конвоя, охранявшего купеческие суда на обратном пути из Черного моря. Среди венецианцев, прибывших тогда, находился некто Николо Барбаро, судовой врач, ставший автором дневника, наиболее внятно описавшего события следующих месяцев.
Большая венецианская галера и средиземноморские грузовые суда.
В венецианской колонии в Константинополе нарастало беспокойство. Ее правитель Минотто, человек предприимчивый и решительный, отчаянно пытался сохранить три большие купеческие галеры и две легкие галеры Тревизано, дабы защищать Город. 14 декабря во время встречи с императором, Тревизано и другими капитанами он умолял их об этом, «во-первых, ради любви к Господу, во-вторых, ради славы Константинополя и, наконец, ради славы Синьории нашей Венеции». После длительных переговоров хозяева кораблей, к их чести, согласились остаться, хотя и не обошлось без спора о том, можно ли им будет сохранить свой груз на борту или же они должны будут перенести его в Город в знак своей доброй воли. Константин подозревал, что как только груз будет помещен на борт, хозяева покинут Город и корабли уплывут. Только после того как они поклялись лично императору в том, что этого не сделают, им разрешили погрузить на суда товар — шелк, медь, воск и прочее. Опасения Константина оказались небеспочвенны: ночью 16 февраля один из венецианских кораблей, а также шесть судов из города Кандия на Крите подняли якоря и уплыли, подгоняемые крепким северо-восточным ветром. «На этих кораблях бежало немало состоятельных людей, всего числом около семисот, и эти корабли благополучно достигли Тенедоса, не будучи захвачены турецким флотом».
Столь обескураживающее событие явилось контрастом по отношению к другому, позитивному факту. В ответ на просьбы генуэзского подеста в Галате была предложена конкретная помощь. Примерно 26 января прибыли два больших галеона, груженые «множеством великолепных приспособлений и устройств для ведения войны и отличными солдатами, столь же храбрыми, сколь и верными». Когда корабли вошли в гавань империи, причем на борту у них находилось «четыреста человек в полном вооружении», то это зрелище произвело сильное впечатление и на население, и на императора. Их предводителем был профессиональный военный, принадлежащий к одной из самых знатных и влиятельных фамилий республики, — Джованни Джустиниани Лонго, весьма опытный командир, организовавший эту экспедицию по собственной инициативе и на свои деньги. В общей сложности он привел семьсот хорошо вооруженных воинов, четыреста из которых были набраны в Генуе, а остальные триста — на Родосе и принадлежащем Генуе острове Хиос, на который в основном опиралась семья Джустиниани. Константин быстро понял, какую ценность представляет собой этот человек, и предложил ему во владение остров Лемнос (в том случае если османской угрозе удастся дать отпор). В последующие недели Джустиниани предстояло сыграть роковую роль в защите Города. Явилось и несколько других военных. Три брата-генуэзца — Антонио, Паоло и Трайло Боккьярди привели с собой небольшой отряд. Каталонцы также выслали некоторое количество людей. На призыв откликнулся и дон Франсиско де Толедо, знатный кастильский дворянин. Все остальные воззвания во имя веры Христовой не привели ни к чему, кроме раздоров. Горожанами овладело ощущение, будто их предали. «Мы получили от Рима такую же помощь, как от султана из Каира», — с горечью вспоминал Георгий Сфрандзи.
Глава 6 Стена и пушка Январь — февраль 1453 года
От воспламенения и взрывов неких горючих смесей, а также от ужаса, который вселяет сопутствующий этому шум, происходят удивительные последствия, с которыми никто не может бороться и которые никто не способен выдержать… если количество этого порошка — не большее по величине, нежели человеческий палец — завернуть в пергамент и поджечь, он взрывается с ослепительной вспышкой и оглушительным шумом. Если использовать большее количество порошка или сделать оболочку из более прочного материала, взрыв будет куда более сильным, причем вспышка и грохот станут невыносимыми.
Роджер Бэкон, английский монах XIII века, о действии порохаНадпись на стенах: Башня Святого Николая, разрушенная до основания, восстановлена при Романе, христолюбивом правителе.
С прибытием генуэзских сил приготовления к осаде начали осуществляться куда более интенсивно. Джустиниани, бывший «знатоком в искусстве боя с использованием стен», трезвым глазом оценил оборонительные сооружения Города и принял соответствующие меры. Под его руководством в феврале и марте горожане «углубили ров, починили и надстроили стены: восстановили зубцы, дополнительно укрепили внутренние и внешние башни, а также всю стену — со стороны как суши, так и моря».
Несмотря на полуразрушенное состояние городских укреплений, Город по-прежнему оставался превосходно защищенным. Среди многих причин того, что Византия существовала столько лет, неприступные укрепления столицы оставались фактором кардинальной важности. Ни один город в мире не располагался столь выгодно, как Константинополь. Его периметр насчитывал двенадцать миль — и на протяжении восьми из них его омывало море. С южной стороны его окаймляло Мраморное море. Быстрые течения и неожиданные штормы делали любую высадку здесь рискованным предприятием. Тысячу лет ни один агрессор не предпринимал в этом месте серьезной атаки. Побережье находилось под защитой единственной неразрушенной стены, чья наименьшая высота составляла пятьдесят футов над береговой линией. Она имела цепь из ста восьмидесяти восьми башен и некоторого количества небольших защищенных гаваней. Этой стене угрожали не корабли, а волны, неустанно подтачивающие ее основание. Временами природа проявляла себя еще более жестоко: суровой зимой 764 года стены у моря были разрушены льдинами, которые море бросало на парапеты. По всей длине стены вдоль Мраморного моря были усеяны надписями на мраморе в память о починке, которую один за другим предпринимали императоры. Стремительное морское течение бежало вдоль этого берега до самой оконечности мыса Акрополис, где сворачивало к северу в более спокойные воды Золотого Рога. Сама бухта представляла собой отличную безопасную стоянку для имперского флота; сто десять башен господствовало над одиночной стеной, протянувшейся вдоль этого участка. Здесь имелись многочисленные ворота и две большие гавани, и все же, несмотря на это, расположенные тут оборонительные укрепления всегда считались уязвимыми. Именно здесь венецианцы во время Четвертого крестового похода выскочили на своих кораблях на берег, преодолели крепостной вал и взяли город штурмом. Стремясь перекрыть устье Золотого Рога в военное время, защитники по обыкновению, заведенному еще со времен осады арабами в 717 году, натягивали бон — плавучее заграждение — поперек входа в бухту. Выглядело оно как цепь длиной в 300 ярдов, состоящая из массивных чугунных звеньев в двадцать дюймов каждое, поддерживаемая прочными деревянными буями. По соглашению с генуэзцами цепь на дальней стороне бухты следовало прикрепить к башне стены, ограждавшей Галату со стороны моря. Зимой и цепь, и буи должны были предупреждать возможность нападения кораблей.
Город представлял собой в плане треугольник, и основание этого треугольника с западной стороны защищала с суши стена длиной в четыре мили — так называемая стена Феодосия, проложенная через участок от Мраморного моря до Золотого Рога. Она ограждала Константинополь от любого предполагаемого штурма с суши. Немало важнейших событий в истории Города разыгралось близ столь замечательного сооружения. Стена, почти такая же древняя, как и сам Город, порождала ощущение неизменности мира Средиземноморья, вошедшей в легенды. Глазам любого, кто приближался к Константинополю через плоские Фракийские равнины, будь то купец или паломник, посол двора балканских государств или армия завоевателей, учиняющая грабеж, прежде всего открывалось чрезвычайно впечатляющее зрелище — стены, ограждавшие город с суши. Стены то поднимались, то опускались в соответствии с волнистым рельефом местности по всему горизонту, образуя правильную непрерывную последовательность укреплений и башен. При свете солнца известняковые стены выглядят ослепительно белыми. По ним тянутся, словно шрамы, горизонтальные линии из ярко-красного ромейского кирпича; так же отделаны и бойницы для лучников. Башни — квадратные, шестигранные, восьмигранные, иногда круглые — стоят столь близко друг к другу, что, как выразился один из крестоносцев, «семилетний мальчик мог бы добросить яблоко с одной башни до другой». Стены ярус за ярусом поднимаются к внутренней стене, самой высокой, где императорские знамена с изображением орла гордо плещутся на ветру. Временами глаз может разглядеть темный проем — вход в город (находящийся под мощной охраной), куда в мирные времена проникают один за другим люди и животные. На западном конце, близ Мраморного моря, находятся ворота, отделанные листовым золотом и украшенные статуями из мрамора и бронзы, сияющими на солнце. Это Золотые ворота — огромная арка. Она прикрывалась с флангов двумя массивными башнями из полированного мрамора. Здесь совершались различные церемонии. Во времена расцвета Византии через эти ворота с триумфом возвращались императоры, провозя с собой наглядные свидетельства своих побед: плененных царей, шедших в цепях, отвоеванные реликвии, слонов, рабов-варваров, одетых на иноземный манер, повозки, доверху нагруженные военной добычей. Там же проходила и армия империи, демонстрируя свою мощь. К 1453 году золото и многие украшения исчезли, но сама постройка по-прежнему оставалась впечатляющим памятником славы ромеев.
Стена в разрезе. Показаны три уровня обороны: внутренняя и внешняя стены и ров.
Создателем стены, ограждавшей Константинополь с суши — она очерчивала Город в тех пределах, которые он достиг во времена своего расцвета, — являлся не Феодосий, император-мальчик, чьим именем она названа, а ведущий государственный деятель начала V века — Анфемий, «один из мудрейших людей своего времени». Впоследствии Город оказался бесконечно обязан его дальновидности. Первая линия стен, построенная в 413 году, удержала гунна Атиллу, «бич Божий», от нападения на Город в 447 году. Когда она разрушилась в результате мощного землетрясения в том же году — тогда Атилла находился неподалеку, опустошая Фракию, — все население всколыхнулось. Шестнадцать тысяч горожан полностью отстроили стену заново с невероятной быстротой — за два месяца. Они не только восстановили постройку Анфемия в исходном виде, но и создали внешнюю стену с дополнительным рядом башен, бруствер для защиты и укрепленную кирпичами траншею — ров, дабы создать преграду, которую было бы почти невозможно преодолеть. Теперь с этой стороны Город защищала цепь из ста девяноста двух башен. Оборонительная система включала в себя пять отдельных поясов шириной в двести футов и высотой в сто футов, если считать от дна рва до верхушек башен. Завершение строительства увековечили подходящей к случаю хвастливой надписью: «Менее чем за два года Константин выстроил эти крепкие стены, совершив величайший подвиг. Сама Паллада вряд ли могла бы создать столь мощную цитадель столь быстро».
Будучи законченной, стена Феодосия стала плодом собранных воедино достижений греко-византийского военно-инженерного искусства в части, касавшейся обороны городов (дело было до изобретения пороха). Сердцевиной всей системы оставалась внутренняя стена, построенная Анфемием: внутренняя часть ее была сделана из бетона и с двух сторон облицована известняковыми блоками, пригнанными близко друг к другу. В конструкцию также включили горизонтальные ряды кирпичной кладки, дабы прочнее скрепить стену. Бастионы защищались зубцами; к ним вели лестницы в несколько пролетов. В соответствии с практикой ромеев башни не примыкали к стенам, в результате чего каждая постройка существовала автономно и разрушение одной не повлекло бы разрушение другой. Сами башни вздымались на высоту шестьдесят футов и состояли из двух помещений с плоской крышей, где можно было разместить орудия для метания камней и «греческого огня». Отсюда часовые неустанно озирали горизонт, и каждый окликал соседа по линии, чтобы не уснуть. Внутренняя стена имела в высоту сорок футов. Внешняя была ниже, примерно двадцать семь футов в высоту, и ее башни, помещавшиеся в промежутках, оставленных башнями внутренней стены, соответственно, были меньше. Две стены разделялись террасой шириной в шестьдесят футов, где сосредотачивались воины, готовые войти в соприкосновение с противником. Под внешней стеной находилась другая шестидесятифутовая терраса; она должна была стать зоной смерти для любого агрессора, который достигнет ее, перебравшись через ров. Сам ров, выложенный кирпичом, представлял собой еще одно препятствие шестидесяти футов шириной. С внутренней стороны он завершался стеной. Остается неясным, был ли он в 1453 году частично затоплен или просто представлял собой сухую канаву. Глубина и сложность данной системы, прочность стен, а также их высота, обеспечивавшая их господство над зоной обстрела, — благодаря всему этому стена Феодосия считалась практически несокрушимым препятствием для любой армии, располагавшей обычными для Средневековья средствами ведения осады.
В стене, ограждавшей Город с суши, имелось несколько ворот. Через некоторые можно было войти с пригородной территории по мостам, проложенным надо рвом. При подготовке к осаде мосты следовало уничтожить. В стене также находилось несколько боковых калиток — небольших дополнительных входов, — однако византийцы всегда помнили о том, какую угрозу эти ворота для вылазок представляли для безопасности Города, и пользовались ими с величайшей осмотрительностью. Вообще два типа ворот чередовались по всей длине стены, причем военные ворота имели номера, а ворота, использовавшиеся в невоенных целях, — названия. Тут были и врата Источника, получившие свое название в честь святого источника за пределами Города, и ворота Деревянного цирка, и ворота Сапожников, и ворота Серебряного Озера. У некоторых появлялись различные названия по мере того, как одни ассоциации забывались, а другие возникали вновь. Третьи Военные ворота также именовались воротами «Красных» по названию цирковой партии в ранний период существования Города, тогда как ворота Харисия (предводителя партии «синих») получили и другое название — Кладбищенские. Внутри оборонительной системы были выстроены некоторые примечательные памятники, отразившие свойственные Византии противоречия. Неподалеку от Золотого Рога за стеной примостился императорский дворец Влахерны — столь прекрасный, что иностранцы (так говорили о нем) не находили слов для его описания. А по соседству с ним — мрачная сырая тюрьма Анемы, темница со зловещей репутацией, где произошло несколько самых ужасных эпизодов византийской истории. Здесь Иоанн V ослепил своего сына и трехлетнего внука. Отсюда же вывели одного из самых печально известных византийских императоров, Андроника Ужасного, уже зверски изувеченного, посадили на шелудивого верблюда и повезли через издевавшуюся над ним толпу. На Ипподроме его привязали вверх ногами между двумя колоннами и, надругавшись над ним, убили.
Стена существовала так давно, что с каждым ее участком оказалась связана сложная смесь исторических фактов, мифов и полузабытых воспоминаний. Здесь вряд ли нашлось бы место, которое не оказалось бы свидетелем драматических моментов в истории Города, — сцен ужасного предательства, чудесного спасения, смерти. Через Золотые ворота Ираклий провез в 628 году Честной Крест Господень. У врат Источника в 967 году охваченная яростью толпа побила камнями непопулярного императора Никифора Фоку, а в 1261 году было восстановлено правление православных императоров (сторонники тогда открыли им ворота) — они сменили на троне «латинян». В 450 году умирающего императора Феодосия II вывезли из Пятых военных ворот (затем, очутившись в долине, он упал с лошади). Что же до ворот Деревянного цирка, то в XII веке их закрыли из-за пророчества, гласившего, будто император Фридрих Барбаросса воспользуется именно ими, стремясь захватить Город.
Стены символизировали физическое существование обитателей Константинополя почти так же, как храм Святой Софии. Если эта церковь являлась воплощением того, как византийцы мыслили себе небеса, то стены служили им щитом против атак враждебных сил и находились под покровительством самой Святой Девы. Во время осад постоянные молебны и шествия с несением Ее священных реликвий по бастионам воспринимались верующими как нечто куда более существенное, чем чисто военные приготовления. Подобные действа сопровождались возникновением мощного духовного силового поля. Платье Святой Девы, как считалось, хранившееся в церкви поблизости от Влахерн, имело куда более важное значение для изгнания аваров в 626 году и русских в 860 году, нежели достижения военной инженерии. Люди наблюдали видения — ангелов-хранителей на бастионах. По приказу императоров во внешние поверхности стен вделывались мраморные кресты и доски с начертанными на них молитвами. Близ центральной точки стены имеется простой талисман. Слова на нем выражают глубочайшие страхи обитателей Константинополя. Они гласят: «Христе Боже, сохрани свой город в целости и защити его от войны, и умири ярость врагов».
В то же время поддержание стены в целости считалось одной из важнейших общественных повинностей в Городе, и здесь требовалась помощь каждого горожанина (от повинности не освобождался никто). Каким бы ни было состояние византийской экономики, деньги на починку стены находились всегда. Из-за особой важности этого дела им заведовали специальные чиновники, облеченные чрезвычайными полномочиями и именовавшиеся комендантами укреплений. По мере того как время и землетрясения разрушали башни и уничтожали каменную кладку, производился текущий ремонт, что каждый раз отмечалось памятными надписями, сделанными на мраморе и вмурованными в стену. Надписи наносились в течение нескольких столетий, начиная с 447 года, когда произвели первую реконструкцию, до 1433-го, когда полностью обновили внешнюю стену. В памятной надписи, изготовленной во время одного из последних ремонтов перед осадой, упоминается сотрудничество небес и людей в деле укрепления защиты Города. В ней говорится: «Эти Богом хранимые ворота живоносного источника восстановлены при содействии и на средства Мануила Вриенния Леонтари, в царствование благочестивейших правителей Иоанна и Марии Палеолог в месяце мае 1438 года».
Пожалуй, ни одно оборонительное сооружение древности и Средневековья не подвергалось осаде столь часто, как стены Константинополя: можно сказать, близ них наиболее отчетливо проявилась самая суть искусства ведения осады этого времени. Город жил, обороняясь почти постоянно. Его укрепления отразили глубочайшие особенности этого места и его историю, свойственную Городу смесь веры и фатализма, божественного вдохновения и практических навыков, долговечности и консерватизма. Как и сам Город, стены существовали всегда, и каждый обитатель Восточного Средиземноморья полагал, что они будут стоять вечно. Система оборонительных сооружений сформировалась в V веке и с тех пор мало изменилась. Методы строительства носили консервативный характер, восходя к практике греков и римлян. Да особых причин для их изменений и не было, поскольку сама технология осады оставалась прежней. Основные способы и снаряжение — блокада, подкопы и штурм с помощью лестниц, использование таранов, катапульт, [осадных] башен и туннелей — все это в основном не изменилось со времен более отдаленных, чем охватывала память людская. По сравнению с нападающим обороняющийся всегда обладает преимуществом. В случае Константинополя оно обретало еще больший вес благодаря береговому положению Города. Ни одна армия, разбивавшая лагерь у стены, ограждающей Константинополь с суши, не преуспела в попытках пройти через многочисленные слои обороны, в то время как Город всегда заблаговременно принимал меры — то была часть государственной политики, — дабы цистерны стояли до краев наполненными водой, а хранилища — зерном. Авары явились с огромным количеством камнеметов, однако из-за навесной траектории полета удары снарядов оказались слишком слабы и не могли пробить стены. Арабы с наступлением холодов замерзли насмерть. Болгарский хан Крум попытался применить волшебство: он совершил человеческие жертвоприношения и обрызгал своих воинов морской водой. Даже враги Константинополя уверовали — Город находится под покровительством сил небесных. Одним лишь византийцам неизменно сопутствовал успех при взятии своего собственного Города с суши, и всегда при содействии предателей: за последние столетия гражданских войн, в безнравственную эпоху, произошло несколько случаев, когда ворота открывались ночью, причем с чьей-либо помощью, изнутри.
Существовало два места, где стену, ограждавшую Город с суши, по здравом размышлении можно было счесть потенциально ненадежной. Близ центральной части местность понижалась, образуя протяженную долину реки Лик, а затем повышалась. В том месте, где стена спускалась вниз по склону, ее башни не господствовали над более высокими участками местности и находились значительно ниже позиций осаждающей армии, занимавшей стоящий поодаль холм. Более того, сама река, текущая в город по трубе, не давала возможности выкопать здесь глубокий ров. Практически все армии, предпринимавшие осаду Города, считали данный участок уязвимым, и хотя ни одна не преуспела, возможность нанести удар именно тут вселяла в атакующих крупицу надежды. Другая неисправность находилась в северном конце укреплений. Правильная последовательность стен, образующих тройную преграду, внезапно прерывалась вблизи бухты Золотой Рог. Линия неожиданно образовывала прямой угол, дополнительно захватывая таким образом участок территории в виде выступа. На протяжении четырехсот ярдов вплоть до самой бухты строение напоминало лоскутное одеяло из стен и бастионов разных форм. Хотя они и твердо стояли на скалах, вся структура имела в глубину всего одну линию, и ров перед стеной выкопали лишь в некоторых местах. То была позднейшая пристройка, сделанная для того, чтобы включить [в черту Города] Храм Пресвятой Богородицы во Влахернах. Первоначально церковь стояла за стенами. Согласно типичной для византийцев логике, жители поначалу предполагали: покровительства Пресвятой Девы будет достаточно для защиты храма. После того как авары едва не сожгли церковь в 626 году — ее спасла сама Пресвятая Дева, — стену перестроили, чтобы оградить храм, а также дворец во Влахернах, построенный на том же клочке земли. Ненадежность обоих названных мест принял в расчет Мехмед, когда проводил разведку летом 1452 года. Прямоугольному выступу — месту соединения двух стен — следовало уделить особое внимание.
Можно извинить жителей Города, производивших починку стен под руководством Джустиниани и носивших святые иконы по бастионам, за неоправданно сильную веру в мощь укреплений. Их неизменность, грозный вид и неколебимая прочность вновь и вновь убеждали в том, что малыми силами можно удерживать огромную армию, так что та ничего не сможет сделать, до тех пор пока боевой дух защитников не будет сломлен в результате недостатка продовольствия, дизентерии или недовольства населения. Пусть стены местами обветшали — в основном они оставались достаточно прочными. Брокьер, побывавший в Городе в 1430-е годы, полагал: даже уязвимый прямоугольный выступ защищен «крепкой и высокой стеной». Однако защитники Константинополя не знали, что готовятся к сражению в момент, когда совершается технологическая революция, в результате которой правила ведения осады в корне изменятся.
Никто в точности не знает, когда османы обзавелись пушками. Вероятно, огнестрельное оружие появилось в империи, проникнув через Балканы около 1400 года. По средневековым меркам эта технология распространялась со скоростью света: первое письменное упоминание огнестрельного оружия относится только к 1313 году, а первое изображение датируется не ранее 1326 года — однако к концу XIV века пушки изготавливались по всей Европе. Маленькие мастерские по изготовлению огнестрельного оружия из железа и бронзы появлялись, точно грибы, во Франции, Германии и Италии. Там же развивались сопутствующие производства. Возникали селитряные «фабрики»; посредники ввозили медь и олово; наемные техники предлагали свои услуги по выбору металла тем, кто готов был заплатить побольше. С практической точки зрения на ранних этапах существования огнестрельного оружия преимущества его выглядели сомнительными: во время битвы при Азенкуре полевая артиллерия, использовавшаяся наряду с большими луками, сыграла в сражении весьма незначительную роль. Само оружие было громоздким, изготовление его — трудоемким. Точность прицела не выдерживала никакой критики. Наконец, пушки представляли собой не меньшую опасность для тех, кто их обслуживал, чем для врага. Однако стрельба из них дала неожиданный психологический эффект. Король Эдуард III в битве при Креси «поверг в ужас французскую армию с помощью пяти-шести пушек; впервые они [французы] увидели подобные механизмы, издающие гром», а огромная нидерландская пушка Филипа ван Артвельде в 1382 году, «будучи приведена в действие, произвела такой грохот, как будто поблизости очутились все адские духи сразу». Уподобления, связанные с адом, обычны для ранних описаний. Действительно, нечто инфернальное слышалось в громовом реве «дьявольского орудия войны». Пушка опрокинула естественный порядок вещей и изгнала кавалерию с поля боя. Уже в 1137 году церковь запретила использование воспламеняющихся смесей в военных целях и вдобавок прокляла арбалет, однако это почти не имело последствий. Джин вырвался из бутылки.
К 1420 году участие артиллерии в военных действиях, за исключением осад, оставалось минимальным (именно тогда османы стали проявлять к ней серьезный интерес). Ворвавшись на Балканы, турки получили ресурсы и мастеров, необходимых для самостоятельного изготовления пушек. Здесь находились и литейные мастерские, и искусные литейщики, медные рудники, мастера по изготовлению каменных ядер и селитры, «заводы» по выработке пороха. Османы оказались хорошими учениками. В высшей степени восприимчивые к новым технологиям, они очень умело привлекали знающих христиан в ряды своей армии, а также хорошо обучали собственных солдат. Мурад, отец Мехмеда, создал подразделение для артиллерии: он сформировал артиллерийский корпус, а также корпус орудийной прислуги в дворцовых войсках. Одновременно, невзирая на папский эдикт, запрещавший поставки оружия неверным, венецианские и генуэзские купцы начали подвозить его на кораблях через Восточное Средиземноморье, и наемные техники, желающие продать свои знания в набиравшем силу султанате, явились к османскому двору.
Константинополь впервые испытал на себе воздействие новой силы летом 1422 года, когда Мурад осадил Город. Греки записывали, что он привез к стенам громадные «бомбарды» под командованием немцев. Они оказались по большей части неэффективными: семьдесят ядер поразили одну башню, не причинив сколько-нибудь серьезного ущерба. Когда Мурад доставил пушки к другой стене двадцать четыре года спустя, ситуация сложилась совершенно иначе. В 1440-х годах Константин пытался защитить одну из немногих провинций, остававшихся под властью Города — Пелопоннес — от османских набегов и отстроил заново стену длиной в шесть миль — Гексамилион — через Истм Коринфский от моря до моря, пытаясь отогнать турок. То было впечатляющее достижение военно-инженерного искусства, способное выдержать длительную осаду. В начале декабря 1446 года Мурад атаковал стену, использовав длинную пушку, и пробил в ней брешь за пять дней. Константину едва удалось бежать, спасая свою жизнь.
В интервале между двумя данными событиями османы углубили свои познания в артиллерии, причем произошло это в критический момент эволюции устройства пушек и производства взрывчатых веществ. Где-то в 1420-е годы изготовление пороха во всей Европе претерпело изменение, существенно увеличившее его эффективность и стабильность. До того момента ингредиенты, составляющие порох — серу, селитру и древесный уголь, — свозили на нужное место в отдельных бочках, а затем смешивали. Получившийся порошок горел плохо, легко отсыревал и зачастую распадался обратно на составные части. В начале XV века эксперименты показали: если смешать ингредиенты до пастообразного состояния, сформовать из них плитки и высушить, а затем раздробить на гранулы, то это позволит достичь лучших результатов. Так называемый «зернистый» порошок быстрее горел, был на тридцать процентов эффективнее и обнаруживал большую устойчивость к атмосферной влажности. Теперь производимый по городской стене мощный залп обладал впечатляющей силой.
К тому времени начали также появляться гигантские осадные орудия длиной до шестнадцати футов, способные стрелять ядрами весом более семисот пятидесяти фунтов. Дулл Грит («Безумная Грета»), великая бомбарда города Гента, издававшая грохот, «подобный реву адских фурий», разрушила стены Буржа в 1412 году. Правда, с появлением нового вида пороха увеличились опасность для орудийной прислуги и вред, наносимый самим пушкам при выстреле: более мощный порох разрывал слабые орудийные стволы. Поэтому стволы становились все прочнее и длиннее. Пушки все чаще стали отливать целиком, причем непременно из бронзы — и разница в ценах стала колоссальной. Бронзовая пушка стоила втрое дороже орудия из кованого железа, но выгода была очевидна и оправдывала расходы. Впервые с тех времен, когда звуки труб разрушили стены Иерихона, сторона, осаждающая надежно укрепленный замок, получила существенное преимущество перед его защитниками. Европа XV века огласилась ревом гигантских осадных пушек, шумом каменных ядер, разбивающихся о каменные стены, и грохотом от внезапного разрушения бастионов, дотоле считавшихся неуязвимыми.
Изготовление пороха в конце XIV в.
Османы обладали уникальными возможностями, дабы воспользоваться преимуществами, которые обеспечивали эти нововведения. Расширяющаяся империя имела достаточные запасы меди и природной серы. Требовались мастера, которых можно было взять в плен или нанять за деньги. Затем необходимо было выстроить мастерские, дабы распространить приобретенный опыт среди своих войск. Османы быстро овладели искусством отливки и транспортировки артиллерии, а также ведения огня из пушек. Что же до тылового обеспечения войны, ведущейся с использованием пороха, то здесь они не имели себе равных. Размещение эффективно действующей артиллерийской батареи на поле боя в нужный момент во времена Средневековья предъявляло исключительные требования к функционированию каналов поставок: необходимо было подвезти нужное количество каменных ядер, чей размер соответствовал бы калибру стволов, а также порох хорошего качества, причем подгадать его доставку к моменту прибытия медленно движущихся пушек. Османы получали работников и материалы со всей империи: каменные ядра — с Черного моря, селитру — из Белграда, серу — из Вана, медь — из Кастамону. Олово покупалось за морем. На бронзовый лом шли колокола церквей на Балканах. Все поставки распределяли с помощью транспортной сети, покрывавшей всю страну и непревзойденной по эффективности, — перевозки осуществлялись на подводах и на верблюдах. Тщательное и продуманное планирование являлось отличительной особенностью военной машины турок, которые, как и следовало ожидать, применили свои блестящие способности в соответствии со специфическими требованиями, предъявляемыми «эрой пороха».
Османы столь быстро усваивали технологии производства пушек, что к 1440-м годам, очевидно, овладели уникальным навыком отливать орудия средних размеров близ поля боя в импровизированных плавильнях (существует немало свидетельских комментариев на этот счет). Мурад привез металл для пушек к Гексамилиону и отлил немало длинных орудий на месте. Это обеспечивало исключительную гибкость во время ведения осады: можно было не транспортировать готовое оружие на поле боя, а перевезти его — что было гораздо быстрее — по частям, и затем при необходимости вновь разломать. Пушки, поврежденные при использовании (как это часто случалось), можно было починить и снова пустить в дело, причем в ту эпоху, когда могло случиться так, что имевшиеся в наличии ядра не соответствовали по калибру пушкам, орудия можно было «подогнать» под размеры снарядов. (Использование этой возможности обрело свое логическое завершение во время продолжительной осады венецианского города Кандия на острове Крит в XVII веке. В конце осады, длившейся двадцать один год, османы собрали тридцать тысяч венецианских ядер, не подходивших к их собственным пушкам. Турки отлили три новые пушки того же калибра, что и вражеские ядра, и выпустили снаряды обратно.)
Видимо, осадная артиллерия импонировала какой-то глубокой особенности «племенной души» османов: она соответствовала их глубоко укоренившемуся неприятию защищенных поселений. Потомки степных кочевников явили доказательства своего устойчивого превосходства в открытом бою. Лишь в тех случаях, когда им приходилось иметь дело с городскими стенами — постройками оседлых народов — военное счастье отворачивалось от них. Артиллерия давала возможность быстрого разрешения проблем, связанных с долговременной осадой. Она немедленно привлекла самый пристальный интерес Мехмеда, когда он задумался о неприступных стенах Города. В начале своего правления он начал экспериментировать с отливкой больших пушек.
Византийцы также были осведомлены о возможностях огнестрельного оружия. В Городе имелось несколько пушек среднего размера и ручных пищалей, и Константин предпринял значительные усилия, чтобы запасти необходимые боеприпасы. Ему удалось приобрести некоторое количество пороха у венецианцев, однако империя, слишком стесненная в средствах, не могла потратить значительную сумму на покупку дорогостоящего нового оружия. Тогда — вероятно, до 1452 года — в Город приехал венгерский пушечных дел мастер по имени Урбан, один из представителей все растущего отряда технических наемников, искавших, где бы наняться на службу на Балканах. Он решил попытать счастья при императорском дворе. И предложил византийцам свое умение и навыки в деле отливки больших бронзовых орудий из цельного металла. Император заинтересовался, однако его финансы были ограничены и у него было слишком мало возможностей, чтобы мастер смог использовать свои навыки. Стремясь удержать Урбана в Городе, Константин приказал выдавать ему крохотное жалованье, но даже оно выплачивалось нерегулярно. Незадачливый специалист нуждался все больше и больше. В какой-то момент, в 1452 году, он покинул Город и направился в Эдирне, рассчитывая получить аудиенцию у Мехмеда. Султан приветствовал венгра, обеспечил его пищей и одеждой и тщательно расспросил. Получившееся «интервью» живо воссоздано греческим хронистом Дукой. Мехмед поинтересовался у прибывшего, сможет ли тот отлить пушку, из которой можно будет выстрелить камнем, достаточно большим, чтобы разрушить городские стены, и показал руками размер камня, который имел в виду. Ответ Урбана прозвучал весьма выразительно: «Если тебе угодно, я смогу отлить бронзовую пушку, которая вместит такой камень, какой ты хочешь. Я изучил стены Города во всех подробностях. С помощью моей пушки я могу обратить во прах не только эти стены, но и стены самого Вавилона. Всю работу, какая необходима, чтобы сделать пушку, я полностью беру на себя, но, — прибавил мастер, стремясь ограничить свои обязательства, — я не умею из нее стрелять и не могу пообещать, что у меня это получится». Мехмед приказал ему отлить пушку и заявил — позже тот будет руководить стрельбой из нее.
Какими бы ни были подробности «интервью», видимо, Урбан приступил к созданию своего первого большого орудия примерно тогда же, когда строился замок «Перерезанное горло», — летом 1452 года. Приблизительно в то время и Мехмед должен был начать запасать в значительном количестве материалы для пушек и пороха: медь и олово, селитру, серу и древесный уголь. Наверное, он также должен был послать приказ мастерам в каменоломни на черноморском побережье начать изготавливать ядра из гранита. Через три месяца Урбан отлил свою первую огромную пушку, которую оттащили в «Перерезанное горло», дабы охранять Босфор. Именно это орудие уничтожило галеру Риццо в ноябре 1452 года, и гром выстрела «сообщил» о силе османской артиллерии всему Городу. Довольный результатом Мехмед приказал Урбану отлить пушку вдвое больше — орудие чудовищных размеров, ставшее прототипом монстров XX века.
К этому времени османы, по-видимому, уже занимались литьем пушек в Эдирне; новшество, привнесенное Урбаном, заключалось в искусстве изготовления мульд и в куда большей степени контролировать критически значимые параметры. Зимой 1452 года он приступил к выполнению задания Мехмеда — изготовлению пушки (вряд ли когда-либо было отлито орудие больше этого!). Исключительно сложный и трудоемкий процесс досконально описан греческим хронистом Критовулом. Первым делом изготовили мульду для будущего ствола длиной примерно в двадцать семь футов. Ее сделали из глины, смешанной с тщательно измельченным льном и пенькой. Ширина мульды была неодинакова: передний отдел для той части ствола, где помещалось каменное ядро, имел тридцать дюймов в диаметре. За ним располагалась более узкая камера для пороха. Потребовалось выкопать гигантскую литейную яму, куда поместили сердцевину из обожженной глины, так что дуло должно было быть направлено вниз. Внешней глиняной цилиндрической оболочке, «подобной ножнам», придали такую форму, чтобы сердцевина помещалась в ней, и расположили ее, оставив пространство между двумя глиняными мульдами, куда предстояло залить металл. Всю конструкцию тщательно укрепили со всех сторон «железом и бревнами, землей и камнями; она была обстроена снаружи», дабы выдержать неимоверный вес бронзы. В последний момент следовало засыпать мульду мокрым песком и вновь закрыть всю конструкцию, оставив только одну дыру, через которую заливался расплавленный металл. Тем временем Урбан построил две плавильни — обмурованные кирпичом и покрытые внутри и снаружи обожженной глиной, а также укрепленные большими камнями. Они способны были выдержать температуру 1000 °C — и засыпал каждую целой горой угля, «столь высокой, что печи совершенно скрылись под ним, за исключением устьев».
Работа средневековой плавильни была сопряжена с опасностями для мастеров. В описании Эвлия Челеби, турецкого путешественника, в более поздние времена посетившего пушечную мастерскую, можно уловить мотивы страха и риска, связанные с процессом:
В день, назначенный для отливки пушек, мастера, десятники и литейщики вместе с Главнокомандующим артиллерии, Главным смотрителем, имамом, муэдзином и «хранителем времени» [человеком, следящим за графиком процесса. — Примеч. пер.] собираются вместе. Под крики «Аллах! Аллах!» дрова начинают бросать в плавильни. После того как те раскаляются в течение двадцати четырех часов, литейщики и истопники раздеваются до набедренных повязок и надевают странного вида головные уборы, скрывающие все, кроме глаз, а также толстые рукава, чтобы защитить руки; ибо после того как огонь горел в печах двадцать четыре часа, никто не может приблизиться [к ним] из-за жара, если он не облачен вышеописанным образом. Тому, кто хочет наблюдать правдоподобную картину адского пламени, следует видеть это зрелище.
Когда, по мнению [мастеров], температура в плавильной печи достигала нужного уровня, литейщики начинали бросать в тигель медь и бронзовый лом, на который по горькой для христиан иронии судьбы, вероятно, шли церковные колокола. Работа являлась невероятно опасной. Трудно бросать куски металла один за другим в кипящий котел и снимать окалину с поверхности металлическими черпаками. Примеси олова испускали ядовитые газы. Существовал риск, что, если металлический лом был сырым, вода превратится в пар, разорвет печь, и все вокруг будет уничтожено. Все эти опасности вызывали у окружающих чувство суеверного ужаса. Согласно Эвлию, когда наступало время бросать олово, призываются визири, муфтий и шейхи. Кроме тех, кто обслуживает печь, из вышеперечисленных допускается лишь сорок человек. Остальные присутствующие должны уйти, ибо нельзя допустить, чтобы металл «сглазили» во время плавки. Кроме того, мастера просят визирей и шейхов, сидящих на большом удалении на диванах, чтобы те все время твердили: «Нет силы и мощи вне Аллаха!» Вслед за тем рабочие бросают деревянными лопатами несколько центнеров[16] олова в море кипящей меди, и главный литейщик обращается к великому визирю, визирям и шейхам: «Во имя истинной веры пожертвуйте несколько золотых и серебряных монет, бросьте их в медное море!» Для смешивания золота и серебра с металлом используются шесты длиной с корабельную рею. Сгоревшие тотчас заменяются на новые.
* * *
Три дня и три ночи горящий уголь раскаляли с помощью кузнечных мехов. Их приводили в движение бригады рабочих-литейщиков, до тех пор пока мастер опытным глазом не видел, что расплавленный металл приобрел нужный оттенок красного цвета. Еще один решающий момент — кульминация недели труда, вызвавшая к жизни следующее превосходное описание: «Когда истекает срок… старший мастер и рабочие, облаченные в свои неудобные наряды, открывают устье печи железными крюками, восклицая: «Аллах! Аллах!» Металл начинает литься, озаряя лица людей на расстоянии сотен шагов». Расплавленный металл стекал по глиняному желобу, подобно медленной текущей реке из лавы, и попадал в устье мульды пушки. Взмокшие рабочие протыкали густую массу невероятно длинными деревянными шестами, чтобы лопнули воздушные пузыри — иначе при стрельбе металл, из которого сделана пушка, мог дать трещины. «Бронза текла по желобу в мульду до тех пор, пока та не заполнялась доверху и не покрывалась металлом полностью, причем уровень металла оказывался на локоть выше мульды. Таким образом заканчивалось изготовление пушки». Предполагалось, что сырой песок, которым была обложена мульда, замедлял скорость охлаждения и предохранял бронзу от растрескивания. Когда металл остывал, ствол, похожий в своем глиняном коконе на гигантскую куколку, с величайшим трудом выкапывали из земли и отправляли на место на бычьих упряжках. Настоящая алхимия!
Пушка, отлитая в XV в.
То, что в конце концов вышло из плавильной печи Урбана, когда мульду скололи, а металл отшлифовали и отполировали, оказалось «невероятным, ужасающим чудовищем». Примитивная труба тускло блестела в свете зимнего дня. Она имела в длину двадцать семь футов. Сам ствол с восьмидюймовыми стенками из чистой бронзы, которым предстояло выдержать силу взрыва [при выстреле], имел тридцать дюймов в диаметре. В него мог поместиться человек, опустившийся на четвереньки. Пушка была рассчитана на стрельбу громадными камнями, имевшими в окружности восемь футов и весившими около полутонны. В январе 1453 года Мехмед отдал приказ произвести испытание гигантской пушки в окрестностях своего нового дворца в Эдирне. Мощное орудие приволокли на позицию близ ворот. Чтобы «никого не поразила немота от неожиданного испуга и не произошел выкидыш у беременных женщин», население города предупредили — на следующий день «раздастся взрыв, чей звук будет подобен грому». Утром пушку наполнили порохом. Команда рабочих подтащила гигантское каменное ядро к жерлу пушки и вкатила снаряд внутрь, расположив его точно перед пороховой камерой. К отверстию поднесли зажженную свечку. С оглушительным ревом в облаке дыма, закрывшем небо, могучий снаряд пролетел милю над открытой местностью, а затем зарылся в мягкую землю на глубину шесть футов. Взрыв был слышен на расстоянии десяти миль. «Вот какова мощь этого пороха», — писал Дука, вероятно, присутствовавший при пробной стрельбе. Мехмед самолично убедился — сведения о грозной пушке просочились в Константинополь: она должна была не только найти практическое применение, но и стать психологическим оружием. В Эдирне же плавильня Урбана продолжала производить новые орудия разных размеров. Среди них не было таких больших, как первая сверхпушка, но некоторые превышали длиной четырнадцать футов.
В начале февраля возникла необходимость разрешить значительные практические трудности, связанные с доставкой пушки Урбана от Эдирне к Константинополю, до которого насчитывалось сто сорок миль. На это отрядили большую группу людей и немало тягловых животных. Громадную трубу с трудом погрузили на несколько телег, соединенных между собой цепями. Затем в них запрягли шестьдесят быков. Поддерживать пушку, пока она, кренясь, со скрипом ехала по холмистой местности Фракии, задействовали двести человек. Другая команда, состоявшая из плотников и рабочих, трудилась впереди, выравнивая дорогу и строя деревянные мосты через речки и канавы. Грохоча, гигантская пушка продвигалась по направлению к городским стенам со скоростью в две с половиной мили в день.
Глава 7 Бесчисленные, как звезды Март — апрель 1453 года
Когда они идут, воздух подобен лесу из-за множества копий, а когда они останавливаются, из-под их палаток не видно земли.
Хронист Мехмеда Турсун-бей о турецкой армииМехмед нуждался в артиллерии и численном превосходстве для реализации своих планов. Он намеревался неожиданно прибыть под Константинополь с превосходящими силами и нанести решающий удар христианам еще до того, как они успеют отреагировать. Турки всегда знали: быстрота — ключ к успешному штурму крепостей. Это правило хорошо понимали иностранные наблюдатели, такие как Михаил Янычар, военнопленный, в то время сражавшийся на стороне турок: «Турецкий император штурмует и берет города и крепости дорогой ценой, чтобы не оставаться надолго со своей армией под их стенами». Успех зависел от возможности мобилизовать людей и снаряжение с необходимой быстротой и в достаточном количестве.
Поэтому Мехмед начал традиционный призыв в армию в начале года. По старинному племенному обычаю султан поднял свой бунчук над внутренним двором дворца, объявляя о предстоящей кампании. Сразу же разъехались «посланцы в каждую провинцию с приказом всем явиться для участия в походе на Город». Командная структура двух турецких армий — европейской и анатолийской — обеспечивала быстрое реагирование. Тщательно разработанная система договорных обязательств и воинских наборов предусматривала призыв на службу людей со всей империи. Всадники провинциальной кавалерии, сипахи, составлявшие костяк армии, обязаны были служить, поскольку владели земельными участками, полученными от султана. Им полагалось являться со своим шлемом, кольчугой и вооружением для коня, а также определенным числом слуг в соответствии с размерами их владений. Бок о бок с ними сражалась иррегулярная мусульманская пехота, азабы, набиравшаяся «из ремесленников и крестьян» и оплачивавшаяся их соотечественниками на пропорциональной основе. Во время кампаний эти войска становились «пушечным мясом». «Когда идет бой, — не без цинизма отмечает некий итальянец, — их посылают вперед, как свиней, без всякой жалости, и они гибнут во множестве». Кроме того, Мехмед мобилизовал христианские вспомогательные отряды с Балкан, множество славян и валахов, обязанных служить ему в силу вассальной зависимости, а также привел в готовность профессиональные элитные соединения: пехотные — знаменитых янычар — и кавалерийские отряды, а также все обслуживающие части — пушкарей, оружейников, охранников и военную полицию. Эти великолепные войска, регулярно получавшие жалованье каждые три месяца и вооруженные на средства султана, состояли из христиан (в основном балканских), отобранных в детстве у родителей и обращенных в ислам. Они отличались абсолютной преданностью правителю. Несмотря на свою немногочисленность — вероятно, их насчитывалось не более пяти тысяч человек, — они составляли крепкое ядро турецкой армии.
Бунчук — символ власти турецких пашей.
Мобилизация этого сезона оказалась исключительно эффективной. На собственно мусульманских землях набор в армию проходил без особого нажима. Люди шли в войско пашей по призыву охотно, тем самым поражая очевидцев-европейцев, таких как Георгий Венгр, находившийся в то время в плену у турок.
Как только начинается набор в армию, они собираются с такой готовностью и быстротой, что можно подумать, будто их приглашают на свадьбу, а не на войну. Они являются в течение месяца в том порядке, в каком призваны, собираются — пехотинцы отдельно от кавалеристов, все со своими командирами — в том же порядке, в каком они обычно располагаются в лагере и когда готовятся сражаться… с таким воодушевлением, что люди готовы заместить своих соседей, и те, кто остается дома, считают, что с ними поступили несправедливо. Они утверждают, что лучше пасть на поле боя от копий и стрел врагов, чем [умереть] дома… По тем, кто погибает на войне, не скорбят — их превозносят, как святых и победителей, ставят в пример и глубоко почитают.
«Поспешно явились все, кто слышал, что должно начаться наступление на Город, — добавляет Дука, — и мальчишки, слишком юные для участия в походе, и старые люди, согбенные годами». Их воодушевляла перспектива богатой добычи, возможность возвыситься и идея священной войны (в Коране эти темы неразрывно связаны между собой): по исламскому священному праву город, взятый штурмом, на три дня отдавался на разграбление. Энтузиазм усиливало сознание того, какая перед ними цель. Красное яблоко Константинополя многие считали — по-видимому, ошибочно — вместилищем несметного количества золота и драгоценных камней. Немало пришло и тех, кого никто не звал: добровольцы и наемники, прихлебатели, дервиши и святые люди, вдохновленные древними пророчествами, которые, в свою очередь, вдохновляли людей словами Пророка и славой мученичества. Всю Анатолию охватило воодушевление. Там вспоминали «обетование Пророка, предсказывавшего, что огромный город… станет обиталищем тех, кто исповедует истинную веру». Люди стекались со всех концов Анатолии — «из Токата, Сиваса, Кемаха, Эрзурума, Ганги, Бейбурта и Трапезунда» — на сборные пункты в Бурсе; в Европе они приходили к Эдирне. Шло накопление огромных сил: здесь были «конные и пешие воины, тяжелая пехота, и лучники, и пращники, и уланы». Одновременно пришла в движение османская тыловая служба: велся сбор, ремонт и изготовление доспехов, осадного снаряжения, пушек, кораблей, палаток, инструментов, оружия и продовольствия. Караваны верблюдов пересекали длинное плато. В Галлиполи на скорую руку приводились в порядок корабли. Войска перевозились через Босфор в «Перерезанное горло». Для службы в разведке привлекали венецианских шпионов. Ни одна армия в мире не могла соперничать с османской в подготовке кампании.
В феврале части европейской армии во главе с ее командующим Караджа-беем начали очищать дальние подступы к Городу. Константинополь все еще сохранял укрепленные аванпосты на Черном море, северном побережье Мраморного моря и Босфоре. Греки с окрестных сельских территорий отступили в цитадели. Каждую из них тщательно блокировали. Тем, кто сдался, позволили уйти, не причинив им вреда. Другие — засевшие, например, в крепости Эпибат на Мраморном море, сопротивлялись. Последнюю взяли штурмом, а ее гарнизон уничтожили. Некоторые цитадели турки быстро взять не смогли. Их обошли, но оставили рядом с ними сторожевые отряды. Известия об этих событиях доходили до Константинополя, еще более повергая в уныние его население, и без того расколотое религиозной враждой. За самим Городом уже вели тщательное наблюдение три полка из Анатолии, иначе Константин мог покинуть столицу и помешать вражеским приготовлениям. Пока саперы занимались укреплением мостов и улучшением дорог, чтобы по ним могли пройти пушки и караваны с тяжелым снаряжением, которые начали передвижение по Фракии в феврале. В марте корабли из Галлиполи проплыли мимо Города и стали переправлять авангард анатолийской армии в Европу. Огромные силы начали стягиваться в одну точку.
Наконец 23 марта Мехмед выступил из Эдирне с большой помпой — «со всей своей армией, кавалерией и пехотой, двигаясь по окрестностям, опустошая и разоряя все вокруг, сея ужас, страдания и страх, где шел». Это была пятница, святой день мусульманской недели, специально выбранный для выступления в поход, дабы подчеркнуть его священный характер. Мехмеда сопровождали видные служители религии — «улемы, шейхи и потомки пророка… вознося молитвы… ехали они вперед с армией и держались рядом с султаном». В кавалькаде находился, вероятно, и чиновник по имени Турсун-бей (ему предстояло составить повествование очевидца об осаде Города, которых так мало у турок). В начале апреля вся эта устрашающая сила приблизилась к Константинополю. Первое апреля пришлось на Пасху, самый большой православный праздник, и ее праздновали по всему Городу со смешанным чувством благочестия и страха. В полночь свет свечей и аромат ладана возвестил в городских церквах о таинстве воскресения. Простой рефрен пасхальной литании возникал и угасал. Во мраке Города слышались его таинственные полутоны. Звонили колокола. Только в соборе Святой Софии царила тишина, никого из верующих там не было. В предшествующие недели люди «просили Бога не позволить атаковать Город в святую неделю» и надеялись, что иконы помогут им укрепиться духом. Наиболее почитаемую из них, Одигитрию, чудотворный образ Богоматери, доставили к императорскому дворцу во Влахернах для празднования Пасхи согласно обычаям и традициям.
Янычар.
На следующий день передовые турецкие разъезды появились у городских стен. Константин устроил вылазку для нападения на них, и в результате стычки несколько вражеских всадников было убито. Но еще до конца дня, когда на горизонте во все большем числе стали появляться турецкие войска, Константин принял решение отвести своих людей в Город. Все мосты через ров уничтожили, а ворота заперли. Защитники позаботились, чтобы в Город никто не мог проникнуть. Армия султана начала совершать серию хорошо отработанных маневров, столь же осторожных, сколь и продуманных. 2 апреля основные силы подошли на расстояние в пять миль. Их разбили на соответствующие соединения, и каждый полк занял свое место. В течение следующих нескольких дней они мало-помалу продвигались вперед, напоминая тем, кто наблюдал это, всесокрушающее течение «реки, превращающейся в огромное море» — повторяющийся образ невероятной силы и непрерывного движения армии в рассказах хронистов.
Подготовительные мероприятия шли очень быстро. Саперы начали вырубать фруктовые сады и виноградники за пределами стен, стараясь освободить пространство, откуда пушки смогут вести обстрел. Была вырыта траншея той же длины, что и городская стена, в двухстах пятидесяти ярдах от нее, с земляным валом перед ней для защиты от артиллерийского огня. Сверху в качестве дополнительного прикрытия положили деревянные решетчатые щиты. За этой оборонительной линией Мехмед расположил основную часть армии на долговременных позициях в четверти мили от городских стен. «Согласно обычаю, в день, когда предстояло возвести лагерь близ Истанбула, ей приказали построиться рядами. Мехмед в центре армии расположил вокруг собственной персоны лучников-янычар в белых шапках, турецких и европейских арбалетчиков, а также пищальников и артиллеристов. Азабы в красных шапках стояли справа и слева, смыкаясь в тылу с конницей. Построенная таким образом армия двинулась к Истанбулу». Каждый полк занимал отведенное ему место: анатолийские войска располагались справа, на почетной позиции, под командованием турка Исхак-паши, которому помогал Махмуд-паша, еще один христианин-ренегат. Солдаты-христиане с Балкан под командованием Караджа-паши находились на левом фланге. Еще одному крупному соединению, под руководством перешедшего в мусульманство грека Заганос-паши, поручили провести дорогу через болотистый участок у края Золотого Рога и прикрыть холмы, спускавшиеся к Босфору, а заодно следить за происходящим в генуэзском поселении Галата. Вечером 6 апреля, в следующую пятницу, Мехмед прибыл занять тщательно выбранную им позицию на высоком холме Малтепе в центре расположения его войск: холм стоял напротив тех стен, которые султан считал наиболее уязвимыми при атаке. Именно отсюда руководил осадой Константинополя его отец Мурад в 1442 году.
Перед потрясенными взглядами стоявших на стенах защитников Константинополя на равнине возник палаточный город. Как отмечает один из авторов, «его [Мехмеда] армия казалась бесчисленной, как песчинки, рассыпанные… по земле от берега до берега». Во время кампаний, проводившихся турками, во всем царил должный порядок, их цели оставались в тайне, и тишина выглядела все более зловещей. «Нет ни одного государя, — признавал византийский хронист Халкокондил, — чьи армии и лагеря находились бы в лучшем порядке и имели бы такое изобилие припасов и столь правильное построение, позволяющие им разбивать лагерь без всякой неразберихи и затруднений». Островерхие палатки располагались определенными группами, у каждого отряда — палатка командира в центре и свой особый штандарт, развевавшийся на шесте. В самом сердце лагеря с подобающими ритуалами установили богато расшитую алым и золотым палатку Мехмеда. Шатер правителя являлся зримым символом его величия — воплощением его власти и напоминанием о том, что султаны — потомки ханов, предводителей кочевников. У каждого султана имелся парадный шатер, изготавливавшийся при его вступлении на престол и служивший выражением его персональной монаршей власти. Шатер Мехмеда находился за пределами досягаемости арбалетного выстрела, имевшего большой радиус действия. Как обычно, его защищали палисад, ров и щиты, а также расположившиеся правильными концентрическими кругами, «словно светлые круги, окружающие луну», отряды из наиболее преданных ему войск: «лучшая пехота, лучники, вспомогательные войска и прочие из его личных частей, не имевшие себе равных во всей армии». Они должны были — от этого зависела безопасность империи — охранять жизнь султана как зеницу ока.
Лагерь был грамотно организован. Штандарты и знамена развевались над всем морем палаток: ак-санджак, главное, бело-золотое знамя султана, красное знамя султанской кавалерии, знамена янычарской пехоты — зеленое и красное, красное и золотое — символы мощи и порядка в средневековой армии. Все, кто наблюдал это со стены, могли видеть яркие многоцветные шатры визирей и высших командиров, отличительные головные уборы и форму различных частей: янычары в особых белых шапках дервишского ордена бекташей, азабы в красных тюрбанах, кавалеристы в остроконечных шлемах-тюрбанах и кольчугах, славяне в балканских костюмах. Европейские наблюдатели описывают построение войск и их экипировку. «Четверть оных, — пишет флорентийский купец Джакомо Тетальди, — одета в кольчуги или кожаные рубахи. Что же до остальных, то многие вооружены на французский манер, другие — на венгерский, у третьих, кроме того, есть железные шлемы, турецкие луки и арбалеты. У остальных воинов нет вооружения, если не считать щитов и ятаганов — род турецких мечей». Кроме того, тех, кто взирал на происходящее со стен, поражало огромное количество животных. «Что же касается вьючного скота, то число его в царском лагере, пожалуй, вдвое превосходило число людей. Ведь турки пригоняют в лагерь скот в таком большом количестве для того, чтобы он вез достаточно корма для себя и для [боевых] коней», — замечает Халкокондил. «Только турки… гонят с собой верблюдов, множество мулов, груженных припасами. Мулов гонят и для других своих потребностей. Некоторые ведут с собой лошадей, верблюдов и своих самых красивых мулов — из желания похвастаться ими».
Защитники Города могли лишь наблюдать за столь бурной деятельностью, не сулившей им ничего хорошего. Когда на закате наступал час молитвы, переливчатые звуки голосов тянулись над палатками из десятков мест — то муэдзины призывали людей на молитву. Лагерные огни освещали единственную трапезу в течение суток — в османской армии проявляли бережливость, — и дым плыл по ветру. Всего в двухстах пятидесяти ярдах от укреплений оборонявшиеся могли слышать зловещий шум, сопровождавший подготовительные мероприятия в лагере: невнятный гул голосов, удары молотов, звон затачиваемых мечей, фырканье и ржание лошадей, мулов и верблюдов. И, что самое неприятное, они, вероятно, могли различить слабые звуки христианского богослужения из европейских отрядов турецкой армии. Для империи, собиравшейся вести священную войну, турки управляли своими вассалами с удивительной терпимостью: «Хотя они находились под властью султана, он не принуждал их отречься от христианской веры, и они могли совершать богослужения и молиться, как хотели», — отмечает Тетальди. На то, что помощь туркам оказывали христианские вассалы, купцы, новообращенные и технические специалисты, постоянно жалуются европейские хронисты. «Я могу засвидетельствовать, — восклицает архиепископ Леонард, — греки, латиняне, немцы, венгры, чехи и люди из всех христианских стран находились на стороне турок… О, сколь греховно поступать так, отвергая Христа!» Поношения не всегда обоснованные: многие из христианских воинов шли в поход по принуждению, будучи вассалами султана. «Нам пришлось выступить на Стамбул и помогать туркам», — вспоминает Михаил Янычар, указывая, что альтернативой была смерть. Среди тех, кому пришлось против воли принять участие в осаде, находился молодой православный из русских, Нестор Искандер. Турецкий отряд где-то в Молдавии на южной границе России взял его в плен и обратил в ислам. Когда османская армия приступила к осаде, он, очевидно, проник в Город и написал яркий рассказ о произошедшем.
Никто в точности не знает, сколько людей привел Мехмед для участия в осаде. Умение турок проводить мобилизацию как регулярных войск, так и добровольцев каждый раз ставило их врагов в очень трудное положение. Согласно апологетически настроенному турецкому хронисту, турки, «бесчисленные, как звезды», являли собой «реку стали». Европейские очевидцы более склонны к точности, но и они сообщают весьма округленные цифры. Их расчеты колеблются в пределах от ста шестидесяти до четырехсот тысяч человек. На это обратил внимание Михаил Янычар, видевший турецкую армию достаточно близко и знающий цену подобным «фактам»: «Знайте же, что турецкий повелитель не мог собрать такую огромную армию для такой гигантской битвы, хотя люди говорят о его великом могуществе. Ибо некоторые рассказывают, будто они бесчисленны, но ведь это невозможное дело, чтобы армия не имела числа, поскольку всякий правитель желает знать численность своей армии и правильно организовать ее». Наиболее вероятными представляются расчеты Тетальди, рассудительно замечающего, что «в осаде участвовало двести тысяч человек, из которых, по-видимому, шестьдесят тысяч были воинами, а из них тридцать или сорок тысяч — всадниками». Для XV века, когда в битве при Азенкуре участвовало в общей сложности тридцать пять тысяч англичан и французов, это были гигантские силы. Если оценки Тетальди хотя бы в какой-то степени близки к истине, то даже число всадников, прибывших для участия в осаде, выглядит весьма внушительно. Остальная часть турецкой армии состояла из вспомогательных отрядов и прислуги: обозников, столяров, пушечных дел мастеров, кузнецов, орудийных расчетов, а также «портных, кондитеров, ремесленников, мелких торговцев и других людей, которые следуют за войском в надежде на поживу или грабеж».
Константину было гораздо проще установить, сколько у него воинов. Он просто сосчитал их. В конце марта он приказал провести перепись в округах, намереваясь выяснить, «каково число годных к службе мужчин, включая монахов, и какое оружие есть у каждого». Получив соответствующие сведения, он поручил подвести итоги своему верному секретарю и давнему другу Георгию Сфрандзи. Как вспоминал Сфрандзи, «император вызвал меня и сказал: «Это дело относится к числу твоих обязанностей и ничьих других, поскольку ты достаточно сведущ, чтобы провести необходимые расчеты и выяснить, какие меры надлежит принять для обороны, и сделать все втайне. Возьми списки и изучи их дома. Сосчитай точно, сколько в них значится людей, и какое у них оружие, и сколько у нас щитов, луков и пушек»». Сфрандзи с должным усердием произвел подсчеты. «И вот, выполнив приказанное мне императором, я представил ему подробный отчет о том, какими силами мы располагаем, с грустью и великой печалью». Причины такого настроения вполне понятны: «Несмотря на величину нашего Города, число его защитников составляет 4773 грека, а также 200 иностранцев». К тому же это были далеко не лучшие бойцы — генуэзцы, венецианцы и те, кто тайно пришел из Галаты помочь в деле обороны. Их насчитывалось «едва ли три тысячи». В целом число защитников стен, имевших двенадцать миль в периметре, составляло восемь тысяч человек. Даже из них «бóльшая часть греков не была искушена в военном деле, и они действовали щитами, мечами, дротиками и луками скорее по наитию, чем с каким-либо искусством». Отчаянно не хватало «умелых лучников и арбалетчиков». И было неясно, какую помощь может оказать в этом деле павшее духом православное население. Константин, серьезно обеспокоенный тем, какое впечатление могут произвести данные сведения на боевой дух войск, приказал скрыть их. «Эти цифры остались тайной, известной только императору и мне», — вспоминал Сфрандзи. Стало ясно — осада окажется поединком между горсткой и множеством.
Константин сохранил полученные сведения в тайне и приступил к последним приготовлениям. 2 апреля, в день, когда окончательно заперли ворота, он приказал натянуть цепь через Золотой Рог от Евгениевых ворот недалеко от мыса Акрополис в Городе до одной из башен морских стен Галаты. Операцию осуществил генуэзский инженер Бартоломео Солиго, выбранный, видимо, потому, что он сумел убедить генуэзцев из Галаты закрепить цепь на их стенах. Дело выглядело довольно щекотливым. Позволяя поступить таким образом, генуэзцы рисковали навлечь на себя обвинения в отходе от строгого нейтралитета. Им было понятно, что это вызовет ярость Мехмеда, если осада пойдет неудачно, но они согласились. Для Константина это означало, что четыре мили береговой линии Золотого Рога, в сущности, можно оставить без охраны до тех пор, пока его флот сможет защищать саму цепь.
Когда Мехмед расположил армию вокруг Города, Константин созвал военный совет с участием Джустиниани и других командиров: требовалось решить, как расположить их небольшие силы на двенадцатимильном фронте. Он знал — Золотой Рог в безопасности, пока остается на месте натянутая через него цепь. Другие участки стен вдоль моря также не давали особых поводов для беспокойства. Течения в Босфорском проливе были слишком сильны, чтобы позволить легко осуществить штурм путем высадки десанта с кораблей на территории Города. Участок стен со стороны Мраморного моря также был непригоден для проведения мощной атаки из-за течений и мелководья у берега. Стены же, защищавшие Константинополь с суши, несмотря на свою видимую неприступность, требовали наибольшего внимания.
Обе стороны прекрасно знали о двух слабых местах в обороне Города. Первым из них являлся центральный участок стены, называемый греками Месотихионом («средняя стена»), находившийся между двумя стратегически важными воротами, Святого Романа и Харисия. По обеим сторонам участка начинались подъемы. Между воротами земля понижалась на сто футов по направлению к долине Лика, где небольшая река текла но трубе под стеной в Город. Именно здесь пытались прорваться турки во время осады 1422 года, и Мехмед расположил свою ставку напротив, на холме Малтепе, что ясно указывало на намерения султана.
Вторым уязвимым местом считался короткий участок одинарной стены рядом с Золотым Рогом, где не было рва, в особенности точка, в которой две стены образовывали прямой угол. В конце марта Константин убедил экипажи венецианских галер поскорее выкопать здесь ров, но это место по-прежнему вызывало опасения.
Константин, таким образом, приступил к организации своих сил. Он разделил четырнадцать районов Города на двенадцать военных округов и распределил воинов. Он решил разместить свою ставку в долине Лика, так что император и султан находились почти друг против друга в разных концах долины. Здесь Константин сосредоточил отряд из лучших своих воинов, примерно в две тысячи человек. Джустиниани расположился поначалу у ворот Харисия, на гребне, но затем он побудил своих генуэзских солдат присоединиться к императору в центральном участке и взять на себя непосредственный контроль над этим чрезвычайно угрожаемым сектором.
Руководство обороной различных отрезков стен возложили на «первых людей Константинополя». Справа от императора руководство обороной ворот Харисия поручили Феодору из Кариста, «старому, но сильному греку, весьма искусному в стрельбе из лука». Следующий участок северной стены поставили оборонять генуэзцев — братьев Боккьярди, взявших на себя «расходы и на свой счет приобретших [необходимое] им снаряжение». Оно включало ручницы и мощные арк-баллисты. Уязвимый участок одинарной стены рядом с Влахернским дворцом также в значительной степени доверили заботам итальянцев. Венецианский бальи, Минотто, устроил свою резиденцию в самом дворце. Знамя Святого Марка развевалось над башней дворца рядом со знаменем императора. Защитой еще одних ворот, Калигарийских, руководил «Иоанн из Германии», профессиональный солдат и «способный военный инженер» — в действительности он был шотландцем. На него возложили организацию обеспечения Города «греческим огнем».
Силы Константина могли бы поистине называться многонациональными, однако их соответственно разделяли религия, национальность и экономическое соперничество. Пытаясь свести к минимуму возможные трения между генуэзцами и венецианцами, православными и католиками, греками и итальянцами, Константин, как представляется, проводил обдуманную политику перемешивания своих отрядов в надежде усилить у них чувство взаимозависимости. Обороной участка стены по левую руку от него руководил родственник императора, «грек Феофил, знатный человек из дома Палеологов, глубоко сведущий в литературе и геометрии». Вероятно, он имел лучшее представление об «Илиаде», чем об укреплениях, которые в действительности защищали Трою. Стена у Золотых ворот находилась под защитой греческих, венецианских и генуэзских солдат, причем точку, где смыкались стены, прикрывавшие Город с суши и со стороны Мраморного моря, оборонял аристократ из видного византийского рода Кантакузинов, Димитрий.
Силы, защищавшие берег Мраморного моря, являлись еще более многонациональными. Еще один венецианец, Якопо Контарини, занимал деревню Студион, в то время как православные монахи наблюдали за соседним сектором, где ожидалась незначительная атака. Константин разместил контингент из перешедших на его сторону турок во главе с претендентом на османский престол принцем Орханом в Элевтерийской гавани — достаточно далеко от стен, прикрывавших Город с суши, хотя в верности этих людей едва ли можно было сомневаться, ибо их судьба в случае падения Города была бы плачевна. Защиту той части Города, которая вдавалась в море, поручили отряду каталонцев, а Акрополис обороняли двести воинов во главе с кардиналом Исидором. О низких боевых качествах солдат, прикрывавших данные участки, свидетельствует то, что, несмотря на естественную защиту, которую обеспечивало им море, Константин решил придать каждой башне метких стрелков — лучника и арбалетчика или пищальника. Золотой Рог обороняли венецианские и генуэзские моряки под командованием венецианского капитана Тревизано, в то время как экипажи двух критских кораблей стерегли ворота в гавани под названием Орейских. Прикрытие выступа и кораблей в гавани поручили Алевизу Дьедо.
Стремясь обеспечить поддержку своей слишком растянутой армии, Константин решил создать резерв из сил быстрого реагирования. Два отряда в состоянии боевой готовности расположились за стенами. Один из них, под командованием Луки Нотараса, искусного воина и «человека, игравшего самую важную роль в Константинополе после императора», размещался в квартале Петра с сотней лошадей и несколькими легкими пушками. Другой, под командованием Никифора Палеолога, расположился на центральном холме рядом с развалинами церкви Святых Апостолов. Эти резервы насчитывали примерно тысячу человек.
Константин применил весь накопленный за прожитые годы боевой опыт, чтобы расположить должным образом войска, но вряд ли он имел представление о том, как соперничающие между собой контингента будут взаимодействовать в дальнейшем. Защиту многих ключевых позиций вверили иностранцам, поскольку император не знал, как повлияет его позиция в деле союза церквей на его отношения с православным населением Города. Ключи от четырех главных ворот он доверил предводителям венецианцев и гарантировал, что греческие командиры на стенах будут по своим религиозным взглядам сторонниками унии. Луку Нотараса, вероятно, являвшегося ее противником, благоразумно отстранили от участия в совместной с католиками обороне стен.
В то время как Константин старался разместить свои ограниченные силы на четырехмильном участке стены, прикрывавшей Город с суши, существовал еще один вопрос принципиальной важности, ожидавший решения. Для обороны тройной стены требовались более многочисленные войска, которых было бы достаточно для защиты двух внутренних высоких стен и внешней, более низкой. Константину не хватало сил для эффективной защиты обоих поясов укреплений, и он оказался перед выбором: какой из них защищать? Стены подверглись бомбардировке в ходе осады 1422 года, и если внешняя была как следует отремонтирована, то внутренняя — нет. Во время предшествующей осады защитники оказались перед той же самой дилеммой и остановили свой выбор на внешней стене, что оправдало себя. Константин и его советник по вопросам осады Джустиниани выбрали сходную стратегию. В отношении некоторых участков это было спорное решение. «Я всегда был против, — писал чрезмерно критически настроенный архиепископ Леонард. — Я настаивал на том, что не следует оставлять без защиты нашу высокую внутреннюю стену». Однако его совет, сам по себе превосходный, был, по-видимому, невыполним.
Император стремился сделать все возможное для поддержания боевого духа своих войск. Зная, что Мехмед опасается прибытия помощи со стороны католиков в Константинополь, он решил устроить небольшую демонстрацию силы. По его просьбе люди с венецианских галер высадились на берег и прошли строем в своем приметном европейском вооружении по периметру стен, прикрывавших Константинополь с суши, «со знаменами впереди… чтобы обнадежить жителей Города». Тем самым они весьма наглядно показали, что франки участвуют в обороне. В тот же день сами галеры отвели на боевые позиции.
Мехмед со своей стороны выслал к городским воротам маленький отряд кавалерии с развевавшимся по ветру знаменем: это означало, что всадники прибыли для переговоров. Они привезли традиционное предложение капитуляции, как того требовал Коран. «И мы не причиним вреда, — гласит Коран, — пока не вышлем глашатая. Когда мы решаем атаковать город, мы предупреждаем тех людей, которые живут в удовольствиях. Если они будут упорствовать в своем грехе, приговор над ними свершится неотвратимо, и мы полностью все разрушим». При такой формулировке защитники-христиане или могли обратиться в ислам, или сдаться и уплачивать подушный налог, или отказаться от капитуляции и подвергнуться трехдневному грабежу в случае взятия города штурмом. Византийцы впервые слышали эту формулировку еще в 674 году, а потом еще несколько раз. Ответ всегда оставался неизменным: «Мы не согласны ни на уплату подушной подати, ни на принятие ислама, ни на капитуляцию крепости». Получив такой отказ, османы могли считать, что осада санкционирована сакральным правом, и по лагерю стали расхаживать глашатаи, официально объявлявшие о ее начале. Мехмед продолжил выдвигать артиллерию.
Константин предпочитал за всем наблюдать лично. Его ставка находилась в большом шатре за воротами Святого Романа, откуда он ежедневно выезжал на маленькой арабской кобыле с Георгием Сфрандзи и испанцем доном Франсиско де Толедо, «воодушевляя солдат, проверяя караулы и разыскивая тех, кто оставил свой пост». Он слушал службу в церкви, близ которой оказывался в тот или иной момент, и старался, чтобы к каждому отряду была приставлена группа монахов и священников для принятия исповеди и совершения последних обрядов на поле боя. Отдали приказ проводить службы день и ночь для спасения Города, а во время утренних литургий проводились шествия с иконами по улицам и стенам для ободрения войск. Солдаты передовых частей мусульман могли видеть христиан и слышать звуки гимнов, разносившиеся в весеннем воздухе.
Погода не способствовала повышению боевого духа оборонявшихся. Случилось несколько небольших землетрясений, прошел проливной дождь. Напряженная атмосфера способствовала тому, что людям мерещились предзнаменования, они вспоминали старые пророчества. «Иконы в церквах покрывались потом, и колонны, и статуи, — писал хронист Критовул. — Мужчины и женщины находились во власти видений и уверялись, что не приходится ждать ничего хорошего, а предсказатели пророчили множество несчастий». Самого Константина, вероятно, в большей степени обеспокоило прибытие пушек. Он наверняка сделал выводы из прежних экспериментов турок в области использования артиллерийского огня против Гексамилиона в 1446 году, когда его тщательно возведенные стены рухнули после пяти дней обстрела, а вслед за тем началась резня.
Мехмед, с его талантами в сфере обеспечения огромного числа людей снаряжением и материалами, был готов теперь действовать. Запасы ядер и метательных камней, оборудование для минного дела, осадные машины и продовольствие — все собиралось, исчислялось и распределялось; оружие чистилось, пушки выдвигались на позиции, люди — пехотинцы и кавалеристы, лучники и уланы, оружейники, артиллеристы, иррегулярная конница и минеры — собрались и с нетерпением ожидали начала событий. Турецкие султаны еще не забыли об общности, совсем недавно связывавшей их с собственными племенами, и потому понимали мотивы поведения своих людей и умело использовали их энтузиазм для общего дела. Мехмед прекрасно знал, как воодушевить солдат на священную войну. Улемы, прибывшие вместе с воинами, пересказывали старинные пророчества из Хадиса о падении Города и его значении для ислама. Мехмед ежедневно молился при всех на ковре перед красно-золотым шатром, обратившись на восток, в сторону Мекки — а также и Святой Софии. Все перемежалось с обещаниями невиданной добычи, ожидающей воинов, если Город будет взят приступом. Красное яблоко притягивало к себе жадные взоры правоверных. Вот на этих-то обещаниях, столь заманчивых для наездников из кочевых племен: возможности грабежа и служении Аллаху — и делал акцент Мехмед.
Мехмед понимал (а его старый визирь Халил знал это еще лучше): главное теперь — быстрота. Захват городов требовал человеческих жертв. Воодушевление и надежды побуждали прибегнуть к штурму — и к тому, чтобы заполнять рвы задавленными телами: это обусловливалось нехваткой времени. В случае неожиданных неудач боевой дух воинов оказался бы подорван. При скоплении такого числа людей слухи, разногласия, недовольство могли вызывать волнения в войсках, подобно ветру на лугу, и даже превосходно организованные лагеря турецкой армии не были застрахованы от сыпного тифа, если в летнюю пору дело слишком затягивалось. Это представляло вполне реальную опасность для рискованного предприятия Мехмеда. Он знал благодаря сети венецианских шпионов, что помощь с Запада может прийти по суше или по морю — то, насколько значительны будут ссоры и расхождения между христианскими державами, не играло существенной роли. Когда Мехмед пристально смотрел с холма Малтепа на прикрывающие Город с суши стены, то взбегавшие на холмы, то уходившие в низины, с их близко стоявшими башнями, с их тройной системой обороны и вспоминал связанную с ними историю стойкого сопротивления горожан, он мог открыто выражать веру в мощь своих войск, но наибольшие надежды, видимо, возлагал на силу пушек.
Что же до Константина, то для него время являлось лучшим союзником. Расчеты оборонявшихся выглядели чрезвычайно просто. Возможность снять осаду с помощью контрудара отсутствовала. Все свои надежды они возлагали на длительное сопротивление: они собирались продержаться достаточно долго для того, чтобы какие-либо силы с запада проложили к ним путь через кольцо блокады. Они отразили натиск арабов в 678 году. Они должны были выстоять и сейчас.
Если у Константина и имелся какой-либо козырь, то это, конечно, Джоваини Джустиниани. Генуэзец прибыл в Город, уже имея репутацию «человека, сведущего в военном деле». Он понимал, как выявить и устранить недостатки в системе укреплений, знал, как лучше всего применять оборонительное оружие (например, катапульты и ручницы) и как наиболее эффективно использовать ограниченные силы, находившиеся в Константинополе. Он обучал защитников искусству обороны крепостей и обдумывал возможности вылазки из калитки в стене. Жестокие войны между итальянскими городами-государствами породили поколения талантливых специалистов, профессионалов-наемников, изучавших оборону городов и как науку, и как искусство. Однако Джустиниани никогда не сталкивался с массированным применением артиллерии. Его мастерству предстояло подвергнуться самой суровой проверке в ходе событий, которые вот-вот должны были произойти.
Глава 8 Взрыв, страшный, словно гибель мира 6-19 апреля 1453 года
Чей язык может поведать или рассказать об этих бедствиях и страхах?
Нестор ИскандерСтрельба из пушки.
Потребовался немалый срок, чтобы большие пушки, трясясь, прибыли по грязным дорогам из Эдирне на повозках с цельнолитыми колесами по весенней распутице. Шум разносился далеко вокруг. Быки в упряжках двигались с трудом, оглашая воздух мычанием. Люди кричали. Оси скрипели, издавая протяжный, однообразный звук, подобный зловещему голосу судьбы.
Когда орудия достигли линии фронта, понадобилось немало времени, чтобы выгрузить их с помощью блоков, нужным образом разместить и нацелить каждую пушку. 6 апреля, вероятно, лишь некоторые из легких орудий уже находились на месте. Первые их выстрелы по стенам не дали особого эффекта. Вскоре после начала осады предприняли энергичный, но плохо организованный штурм силами иррегулярной пехоты в районе уязвимого участка стены в долине Лика. Люди Джустиниани сделали вылазку и обратили в бегство непрошеных гостей, «убивая одних и раня других». Порядок в османском лагере восстановили только в результате мощной контратаки, вынудившей обороняющихся укрыться за стенами. Первое поражение, по-видимому, убедило султана, что лучше подождать до того, как развернется артиллерия, чем идти на риск, чреватый ослаблением боевого духа воинов[17].
Тем временем он продолжил вести осадные мероприятия так, как это было принято у османов. Спрятавшиеся в укрытиях за земляными валами саперы начали осторожно вести работы в центральном секторе. Им предстояло прорыть туннель длиной в двести пятьдесят ярдов в сторону стены, позволивший бы затем подорвать ее. Было также приказано попытаться заполнить большой ров в подходящих местах, «принеся камни, фашинник, куски земли и накапливая иной материал такого рода» до того дня, когда начнется запланированный штурм стен, — опасная, даже смертельно опасная работа для воинов. Ров находился в сорока ярдах от стены и прикрывал незащищенный участок, который можно было выровнять, лишь подвергаясь жестокому обстрелу. Повсюду, где можно было как-то закрепиться или продвинуться вперед, требовалось преодолеть яростное сопротивление. Джустиниани изучил особенности местности и принялся оказывать противодействие усилиям осаждающих. Его люди начали устраивать вылазки и засады в темноте — предполагалось, что защитники «вырвутся из городских ворот, стремясь атаковать тех, кто находится за пределами стен. Иногда, когда они будут выпрыгивать из рва, их будут отбрасывать назад. В других случаях они [защитники] захватят в плен турок», которых нужно будет подвергнуть пыткам для получения информации. Отчаянные вылазки из рва оказались эффективными, но осажденные быстро поняли — соотношение потерь для них неприемлемо. Смерть каждого обученного бойца причиняла защитникам серьезный ущерб, и не имело значения, сколько при этом погибало турок, поэтому вскоре было принято решение сражаться преимущественно со стен: «пусть одни стреляют из арбалетов, другие — простыми стрелами [из луков]». Борьбе за ров суждено было стать одним из самых напряженных эпизодов осады.
После 7 апреля, ожидая прибытия тяжелой артиллерии, нетерпеливый султан занялся другими делами. Двигаясь через Фракию, османская армия захватывала по дороге греческие селения, но некоторые отрезанные от внешнего мира крепости до сих пор не были взяты. Таковые Мехмед обходил, предоставив наблюдение за ними специально выделенным отрядам. Вероятно, 8 апреля он выступил со значительными силами и несколькими пушками, рассчитывая захватить крепость Ферапию, стоявшую на холме, откуда открывался вид на Босфор за «Перерезанным горлом». Цитадель сопротивлялась два дня, пока артиллерия не разрушила ее укрепления и не уничтожила большинство ее защитников. Остальные, «когда уже не могли долее держаться, сдались и сказали [Мехмеду], что он может поступить с ними как пожелает. И он посадил на кол сорок человек». Другой подобный замок, в Студионе на Мраморном море, также быстро смели огнем пушек. На сей раз тридцать шесть несчастных выживших защитников посадили на кол за пределами стен.
Спустя несколько дней Балтоглу, адмирал Мехмеда, направился с частью флота к Принцевым островам в Мраморном море, планируя овладеть традиционным убежищем императорской фамилии во времена смут. На самом большом из островов, Принкипо, стояла мощная крепость, где находилось «тридцать тяжеловооруженных воинов и несколько местных жителей». Они отказались капитулировать. Когда стало ясно, что артиллерийского огня недостаточно, чтобы вынудить обороняющихся сдаться, люди Балтоглу собрали огромное количество хвороста у стены и подожгли его. Смола, сера и крепкий ветер сделали огонь настолько сильным, что он охватил башни, а вскоре пылала уже вся крепость. Те, кто не сгорел в пламени, сдались на милость победителей. Воинов убили на месте, мирных жителей продали в рабство.
11 апреля Мехмед вернулся в свой красно-золотой шатер. Теперь артиллерию полностью укомплектовали. Мехмед сгруппировал ее в четырнадцать или пятнадцать батарей и разместил их вдоль стен в ключевых пунктах, которые считал наиболее уязвимыми. Одну из самых больших пушек Урбана, «ужасное орудие», поставили на особой позиции у Влахернской стены близ Золотого Рога, «где не было прикрытия ни в виде рва, ни внешней стены». Другую расположили близ точки, где смыкаются стены под прямым углом, а третью — у Пигийских ворот дальше к югу. Остальные пушки расставили в наиболее важных местах вдоль уязвимой долины Лика. Гигантскую пушку Урбана, нареченную греками «Базиликой» — «царской пушкой», — установили напротив палатки султана, откуда он мог в полной мере убедиться в ее эффективности. Она держала под угрозой ворота Святого Романа — «самые непрочные в Городе». Каждой крупной пушке оказывала поддержку батарея малых, и турки любовно называли их всех «медведицей с детенышами». Орудия стреляли каменными ядрами весом от двухсот до тысячи пятисот фунтов (как в случае с монстром Урбана). По словам некоего наблюдателя, ядро одной из самых больших пушек достигало в «высоту до колена, а у другой — до пояса» соответственно. Другой заявил: что самый крупный след от выстрела, который ему удалось измерить, достигал «одиннадцати его ладоней в окружности». Хотя очевидцы говорили о «бесчисленных орудиях войны», в распоряжении Мехмеда имелось в общей сложности, по-видимому, примерно шестьдесят девять орудий (по меркам того времени — огромная сила). В ряде пунктов в поддержку артиллерии использовались и другие, более старые технические средства для метания камней, такие, как требюше — катапульта, приводившаяся в действие с помощью противовеса. Требюше сыграли чрезвычайно важную роль при взятии мусульманами замков крестоносцев тремя столетиями раньше. Теперь они выглядели орудиями из другой эпохи.
Установка пушек и приведение их в боевую готовность требовали немалого труда. Стволы не были закреплены и не имели надежной опоры. Их просто связывали ремнями, транспортируя на крепких повозках. По прибытии массивный блок и канаты устанавливали вертикально и опускали ствол на наклонную деревянную платформу, сооруженную на защищенном участке передовой турок. Ее прикрывал от вражеского огня деревянный палисад и навесная дверь, поднимавшаяся, когда орудие открывало огонь.
Тыловое обеспечение операции организовали поистине грандиозно. Огромное количество черных каменных ядер изготавливалось на побережье Черного моря и доставлялось на купеческих судах. 12 апреля в Диколон прибыл груз «пушечных ядер, изгородей и бревен и другого снаряжения для их [османов] лагеря». Необходимо было также собрать большое количество селитры, чтобы орудия могли вести огонь достаточно долго. Дорога, которую Мехмед приказал построить своему военачальнику Заганос-паше вокруг оконечности бухты Золотой Рог, должна была, вероятно, облегчить доставку предметов снабжения. Для транспортировки пушек требовались большие деревянные повозки, множество людей и рогатого скота. Литейщики, работавшие с Урбаном в Эдирне, составляли также и расчет его пушек. Они передвигали, устанавливали, заряжали орудия, сделанные собственными руками, и вели из них огонь, а при необходимости чинили их на месте. И хотя монстров Урбана изготовили в ста пятидесяти милях от Константинополя, турки имели достаточно ресурсов для ведения осады, чтобы ремонтировать пушки в лагере и даже делать новые, специально наладив для этого целое производство. К месту осады доставлялось необходимое количество железа, олова и меди; выкапывались угольные ямы, над которыми возводились куполообразные крыши; строились и обмуровывались плавильни. Часть военного лагеря превратилась в огромную полевую мастерскую: оттуда поднимался дым и гром кузнечных молотов разносился по весеннему воздуху.
Подготовка гигантских орудий требовала немалых трудов и времени, чтобы довести все до конца. Порох засыпался в орудийный ствол. Сзади туда вставляли деревянный пыж. Пыж плотно обивали кусками железа или бараньей кожи, чтобы его «ни при каких обстоятельствах не вытолкнуло наружу иначе как взрывом пороха». Затем каменное ядро подтаскивалось к передней части орудия и закладывалось в ствол. Все это было хорошо в теории, но ядра часто не совпадали по размеру со стволом. Прицеливание производилось с помощью «определенных методов и расчетов» — на деле же методом проб и ошибок — и угол наклона пушки соответственно корректировали, подбивая под платформы деревянные клинья. Затем орудия загонялись на позицию с помощью больших деревянных брусьев, а также камней, выполнявших роль амортизаторов, «иначе в результате выстрела и производимой им отдачи пушка сместилась бы со своего места и стреляла мимо цели». Наконец порох засыпали с казенной части, и на этом подготовка оканчивалась. 12 апреля подожгли запалы султанских пушек на четырехмильном участке, и первая в истории массированная бомбардировка началась.
Если бывают особые моменты в истории военного дела, в связи с которыми по-настоящему ощущается страх перед очевидной мощью пороха, то о них можно прочитать именно в рассказах о стрельбе главных орудий весной 1453 года. Фитиль зажег порох…
И когда порох вспыхнул — быстрее, чем можно успеть произнести это — сначала последовал ужасающий рев, земля страшно затряслась под нами и далеко вокруг, и раздался грохот, какого никогда не слышали. Затем с чудовищным шумом и вызывающими трепет вспышками и пламенем, которое осветило и обожгло все вокруг, деревянный пыж вышибло наружу горячим потоком сухого воздуха, и каменное ядро яростно вырвалось наружу. Выброшенное с невероятною силой и мощью, оно ударилось о стену, тотчас затрясшуюся и обрушившуюся. Она рассыпалась на множество кусков, и осколки разлетелись, неся смерть стоявшим рядом.
Когда гигантские каменные ядра ударились о стену в уязвимых местах, эффект оказался сокрушительным: «Иногда обваливался целый участок стены, иногда — половина, иногда — большая или меньшая часть башни, турели или парапета, и нигде стена не оказалась настолько прочной или толстой, чтобы выдержать удар или устоять перед силой или быстротой каменных ядер». Поначалу защитникам показалось, что вся история осад прошла перед их взором. Прикрывавшая Город с суши стена Феодосия, результат двухтысячелетней эволюции фортификационного искусства, чудо инженерного дела, сотворенное человеческим гением и благословленное Богом, начала рушиться везде, где его поражали ядра из хорошо наведенных пушек.
Архиепископ Леонард видел, что случилось с одинарной стеной рядом с дворцом: «Они превратили стену в пыль, и хотя та была очень толстой и прочной, она обвалилась от залпов ужасного устройства».
Ядра из гигантских орудий, уничтожающие стены, могли пролетать целую милю в глубь Города, безжалостно обрушиваясь на дома и церкви, убивая мирных жителей или, точнее, погребая их в садах и полях уменьшившегося Города. Некий очевидец был поражен, когда на его глазах ядро ударило в стену церкви и рассыпало ее, словно пыль. По словам других, земля сотрясалась на две мили вокруг, и даже галеры, стоявшие в безопасности на приколе в гавани Золотой Рог, ощущали на себе силу разрывов, отдававшуюся в их крепких деревянных корпусах. Гром пушек слышался даже в Азии, за пять миль за Босфором. Тем временем требюше, которые стреляли по более крутой траектории, забрасывали камнями крыши домов, стоящих за стеной, а также били по императорскому дворцу.
Психологически артиллерийский обстрел воздействовал на обороняющихся поначалу даже сильнее, чем материальный ущерб. Шум и вибрация, производимые крупными ядрами, облака дыма, сильные удары одних камней о другие пугали видавших виды защитников Города. Мирные жители решили — наступает конец света и грядет воздаяние за грехи. «Звук был такой, — писал османский хронист, — словно загремели трубы Страшного суда». Люди выбегали из домов, били себя в грудь, крестились и восклицали: «Кирие элейсон![18] Что же теперь будет?» Женщины падали в обморок. Люди, заполнившие церкви, «и молитвы и мольбы возносили, плача, и рыдая, и возглашая: «Господи, Господи! Мы… далеко от тебя отступили. Все, что навел Ты на нас и на Град Твой святой, праведным и истинным судом Твоим сотворил Ты за грехи наши». При мерцающем свете перед наиболее почитаемыми иконами их уста шептали ту же самую бесконечную молитву: «Не предай же нас навеки врагам Твоим, и не разори достояния Твоего, и не лиши нас милости Твоей, и пощади нас в час этот».
Константин немало делал для поддержания морального духа защитников Города как в практическом, так и в религиозном отношении. Он ежечасно появлялся на стенах, укрепляя дух командиров и солдат. Церковные колокола звонили непрерывно, и император убеждал «всех людей не терять надежды, не ослаблять сопротивления врагу, но уповать на Господа Вседержителя».
Обороняющиеся по-разному старались ослабить ущерб от артиллерийского обстрела. Раствор мела и кирпича выливали на внешнюю стену как средство, повышающее ее прочность. В других местах для защиты от ядер использовались кипы шерсти, прикрепленные к деревянным брускам, крупным кускам кожи и дорогим гобеленам. Все это вывешивалось на стенах. Но такие меры мало помогали против сокрушительной силы артиллерийского огня. Обороняющиеся сделали все возможное, пытаясь вывести из строя гигантские орудия турок, стреляя по ним из собственных немногочисленных пушек. Но они испытывали недостаток в селитре, да и пушки турок прикрывались палисадом. Хуже всего было то, что стены и башни оказались совершенно непригодными в качестве платформ для пушек. Они не имели достаточной ширины и не могли дать место орудиям, когда те откатывались после стрельбы мощными зарядами. Им также не хватало прочности, чтобы выдерживать вибрацию, «от которой дрожали стены, в результате чего [укрепления] терпели больший ущерб, чем враг». Самая мощная пушка греков быстро взорвалась. Защитники, придя в ярость, хотели предать смерти пушечного мастера, по их мнению, продавшегося султану. «Но поскольку не нашлось бесспорных доказательств того, что мастер заслуживает такой участи, его отпустили на свободу». Вскоре стало ясно — конструкция стен Феодосия не соответствует требованиям новой эпохи в истории войн.
Греческие хронисты старались передать то, что они видели, или даже найти соответствующие термины для описания пушек. «Не существует старинного названия для этого устройства, — заявляет классически образованный Критовул. — Разве что некоторые говорят об этом как о наносящем сильнейшие удары таране или движителе. Но вообще теперь все называют его аппаратом [apparatus]». Встречаются и другие названия: бомбарды, скевы, гелеполы — «покорители городов», торменты и телеболы. Под воздействием окружающих условий язык изменялся в соответствии с новой устрашающей реальностью — ужасным опытом артиллерийской бомбардировки.
Стратегия Мехмеда, направленная на изматывание противника, в то же время обнаруживала нетерпение султана. Он решил день и ночь разрушать стены артиллерийским огнем и устраивать неожиданные нападения, рассчитывая истощить силы защитников и расширить брешь накануне решающего приступа. «Обстрел продолжался день и ночь, не было покоя от ударов и взрывов, и камни и ядра беспрерывно били в стены, — рассказывает Мелиссин, — поскольку султан надеялся таким путем облегчить себе овладение Городом (ведь нас было мало против столь многих), доведя нас до истощения и смерти, и он не давал нам возможности отдыхать от атак». Бомбардировка и борьба за ров продолжались с неослабевающим напряжением с 12 по 18 апреля.
Конечно, первоначально обстрел произвел психологический эффект, но управление гигантской пушкой было нелегким делом. Чтобы зарядить и навести ее, требовалось столько труда, что «Базилика» могла стрелять лишь семь раз в день, причем предварительный залп производился перед рассветом — он предупреждал о начале дневной бомбардировки. Иногда орудия вели себя непредсказуемо и капризно, а то и представляли опасность для обслуги. Под весенним дождем их трудно было установить на позиции, ибо они откатывались, грохоча, словно атакующий носорог, а посему часто соскальзывали из своих люлек в грязь. Опасность быть задавленными для артиллеристов еще усиливалась риском быть разорванными на куски осколками пушечного ствола, в случае если тот расколется на части. Очень скоро «Базилика» потребовала от Урбана новых забот. Сильное нагревание от разрывов начало расширять трещинки в некачественном металле — очевидно, отливка орудия такого размера оказалось делом чрезвычайно трудным. Греческий хронист Дука, живо интересовавшийся техническими вопросами, вспоминал: для решения проблемы в ствол пушки заливали горячее масло сразу после того, как вылетело ядро, чтобы попытаться предотвратить проникновение туда холодного воздуха и расширение трещин.
Однако опасность того, что ствол расколется, как стекло, продолжала беспокоить Урбана, и возмездие, согласно легенде, вскоре настигло наемника-христианина. Пристальный осмотр показал: трещины были действительно серьезными. Урбан захотел убрать пушку в тыл и переплавить ее. Мехмед же, постоянно бывший рядом, чтобы видеть, как действуют его мощные орудия и с нетерпением ожидавший успеха, приказал продолжить огонь. Взвесив, что опаснее — неисправность пушки или гнев султана, — Урбан перезарядил ее и попросил Мехмеда отойти подальше. При вспышке порохового заряда «Базилика» «треснула сразу же после выстрела и раскололась на множество кусков, убив и ранив стоявших рядом» — в том числе и самого Урбана. Есть, однако, надежные свидетельства в пользу того, что Урбан, чья смерть являлась столь желанной для христианских хронистов, расстался с жизнью иначе. Очевидно одно: его гигантское орудие рано прекратило участвовать в осаде. Его быстро укрепили железными обручами и опять пустили в дело, но оно вновь раскололось, еще больше разъярив Мехмеда. Огромную пушку изготовили с нарушением допустимых в тогдашней металлургии отклонений. Она обеспечивала скорее психологический эффект. Ее придали группе менее крупных, но все равно достаточно внушительных орудий для нанесения ущерба неприятелю.
Необходимость скорейшего взятия Города стала для Мехмеда еще более очевидной после прибытия посольства от Яноша Хуньяди из Венгрии. Целью политики Мехмеда было разделить противников. Он подписал трехлетний мир с Хуньяди, в то время регентом Венгрии, рассчитывая избежать во время попыток овладеть Константинополем удара с Запада. Посольство Хуньяди прибыло к османскому двору, дабы объявить: поскольку их повелитель слагает с себя регентство и передает власть находившемуся прежде под его опекой королю Владиславу, он более не связан договором, поэтому желает возвратить грамоту с соглашением о перемирии и получить обратно свой экземпляр. Коварный венгр задумал такой ход, дабы пригрозить туркам помешать им осуществить их планы. Вероятно, вдохновителями подобных замыслов являлись агенты Ватикана. Возник призрак венгерской армии, переправляющейся через Дунай для снятия осады с Константинополя. Поэтому весь лагерь объяло чувство неуверенности. Вместе с тем новости укрепили волю оборонявшихся.
К несчастью, визит посольства Венгрии дал повод для необоснованных слухов о том, будто члены делегации оказали серьезную помощь делу турок. Один из послов с интересом наблюдал в лагере за тем, как ведет огонь гигантская пушка. Когда он увидел, что после выстрела в определенное место артиллеристы стали готовить орудие к новому залпу в ту же точку, профессиональный интерес взял в нем верх, и венгр стал открыто смеяться над наивностью турок. Он посоветовал им навести теперь пушку «на тридцать — тридцать шесть футов в сторону от первого выстрела, но на той же самой высоте», а когда будут стрелять третий раз, пусть целятся так, «чтобы попадания образовали треугольник. Тогда вы увидите, как данная часть стены развалится». В результате применения такой методики стены начали разрушаться гораздо быстрее. Через короткое время «медведь и детеныши» стали действовать как слаженная команда. Меньшие орудия должны были обеспечивать два нижних попадания, а затем одна из больших пушек Урбана наносила удар по вершине треугольника ослабленного теперь участка стены: «Заряд действовал с такой дьявольской силой и непреодолимой мощью, что причиняемый им ущерб оказывался невосполним». Хронисты дают причудливое объяснение столь полезному для османов совету: сербский предсказатель объявил — несчастья христиан не прекратятся, пока Константинополь не попадет под власть турок. В истории венгерского посольства слились воедино предрассудки христиан: уверенность в том, что османы могут добиваться успеха лишь благодаря более сведущим в технике европейцам, что причина падения Константинополя — закат христианства, и, наконец, вера в религиозное пророчество.
Несмотря на трудности, связанные с наведением орудий и их низкой скорострельностью, бомбардировка непрерывно продолжалась начиная с 12 апреля шесть дней подряд. Теперь наиболее мощный огонь сосредоточился на долине Лика и воротах Романа. По Городу производилось примерно сто двадцать выстрелов в день. Стена начала неуклонно разрушаться. В течение недели превратились в обломки участок внешней стены, а также две башни и турель внутренней стены за ней. Однако после того страха, который поначалу нагнала бомбардировка, защитники вновь собрались с духом: «Познав мощь султанских орудий, наши воины привыкли к ним и не выказывали более ни страха, ни трусости». Джустиниани непрерывно занимался восстановительными работами и вскоре придумал эффективный в данном случае способ поправить дело после разрушения внешней стены. Временной заменой явилась конструкция из кольев. На эту опору защитники стали класть любой материал, какой только попадался под руку. Камни, дерево, хворост, кусты, комья земли — все бросалось в пролом. Куски кожи и шкуры натягивались поверх внешнего деревянного частокола в качестве защиты от зажженных стрел. Когда новая оборонительная насыпь достигла достаточной высоты, сверху положили бочки с землей на одинаковом расстоянии друг от друга. Они обеспечили позиции «зубцов», прикрывавших защитников от стрел и ядер, которыми турки осыпали укрепления. Все эти усилия потребовали огромных трудов. После наступления темноты мужчины и женщины со всего Города работали ночь напролет, таская дерево, камни и землю, чтобы восстановить укрепления там, где они пострадали днем. Непрерывный ночной труд забирал немало сил у измученного населения, но земляные работы приносили свои плоды, обеспечив неожиданно эффективное решение проблемы ликвидации последствий разрушительного действия ядер. Подобно камням, брошенным в грязь, ядра теряли ударную силу и тем нейтрализовывались: они «зарывались в мягкую и податливую землю и не могли сделать пролом в твердом и неподатливом материале».
Тем временем продолжалась упорная борьба за ров. Днем османские войска пытались наполнить его разным подручным материалом: они тащили землю, дерево, булыжники, и даже, как утверждают источники, свои собственные палатки на нейтральную полосу под прикрытием огня и бросали в траншею. Ночью защитники устраивали вылазки из калиток, стремясь вновь очистить ров и восстановить его прежнюю глубину. Стычки по всей линии стен становились ожесточенными, доходило до рукопашной. Иногда атакующие использовали сети, пытаясь вытащить столь необходимые ядра, скатившиеся в ров. Остальные солдаты продвигались вперед, «прощупывая» уязвимые участки стены и не давая отдыха измученным защитникам Города. Имея при себе палки с крюками на конце, они пытались зацепить лежавшие наверху наполненные землей бочки.
В ближнем бою перевес обычно имели обороняющиеся, ибо они были лучше вооружены и защищены, но даже на очевидцев из числа греков и итальянцев произвела впечатление храбрость неприятеля под огнем. «Турки отважно сражались в рукопашной схватке, — вспоминал Леонард, — поэтому все они погибли». Их осыпали со стен градом пуль и стрел из больших луков, арбалетов и аркебуз. Бойня была ужасной. Сочтя свои пушки бесполезными для стрельбы тяжелыми ядрами, защитники Города стали использовать их как большие дробовики. Пушка могла вместить пять или десять свинцовых ядер размером с грецкий орех. Выстрел такими зарядами в упор давал устрашающий эффект: они обладали «огромной пробивной и проникающей силой, так что если они попадали в воина, облаченного в доспехи, его щит и тело оказывались пронзенными насквозь, затем та же участь постигала того, кто стоял в следующем ряду, и того, кто шел за ним — до тех пор, пока сила пороха не иссякала. Одним выстрелом могли быть убиты на месте два или три человека».
Османы понесли ужасающие потери от убийственного огня, а когда они захотели забрать своих убитых, обороняющиеся вновь подвергли их обстрелу. Венецианского хирурга Николо Барбаро поразило увиденное:
И когда один или двое из них были убиты, тотчас же явились другие и унесли павших, взвалив их себе на плечи, словно свиней, не беспокоясь о том, насколько близко от городской стены они находятся. Но наши люди, находившиеся на валу, стали стрелять в них из ружей и арбалетов, целясь в турка, несшего убитого товарища, и оба они пали на землю мертвыми, и затем пришли другие турки и понесли их прочь, нимало не боясь смерти, но предпочитая скорее потерять десять человек убитыми, чем претерпеть поношение за то, что оставили тело хотя бы одного турка перед городской стеной.
Несмотря на все усилия обороняющихся, безжалостная бомбардировка обеспечила достаточное прикрытие для участке рва в долине Лика для его заполнения. 18 апреля Мехмед решил: ущерб, причиненный стене, настолько велик, а обороняющиеся измотаны так сильно, что теперь можно нанести по Городу мощный удар. То был прекрасный весенний день; когда наступил вечер, в османском лагере, как обычно, словно не существовало никакой войны, зазвучал призыв к молитве, а православные внутри стен отправились в церкви, чтобы отстоять ночную службу, зажечь свечи и помолиться Богородице. Через два часа после заката при мягком свете весенней луны Мехмед приказал наступать крупному отряду своих ударных сил. Под глухой ритмичный стук барабанов, обтянутых верблюжьей кожей, пронзительные звуки дудок и громыхание кимвалов (все средства психологической войны из арсенала османов), чей эффект усиливался благодаря вспышкам, крикам и возгласам, Мехмед начал выдвигать вперед «тяжелую пехоту, лучников, дротометателей и всю пешую гвардию». Он бросил их на штурм уязвимого участка укреплений в долине Лика, где развалилась часть стены. Защитников Города охватила паника, когда они услышали уже знакомый им страшный шум — османы двинулись на приступ. «Я не могу описать те вопли, с которыми они полезли на стены», — с дрожью вспоминал позднее Барбаро.
Константин сильно встревожился. Император опасался общего штурма по всей линии стен и знал — его войска к этому не подготовлены. Он приказал звонить в колокола церквей. Испуганные люди побежали по улицам, солдаты пробирались на свои места. Невзирая на мощный обстрел из ружей, пушек и луков, турки стали преодолевать ров. Смертоносные залпы не давали возможности стоять на импровизированных земляных укреплениях, так что янычары могли добраться до стен с лестницами и таранами. Они старались сорвать прикрывавшие защитников зубцы и затем обрушить на обороняющихся лавину огня. Одновременно делались попытки поджечь деревянный частокол, но они оказались неудачными, а недостаточная ширина проломов в стене и болотистый характер местности препятствовали продвижению атакующих. В темноте разверзлась преисподняя, звуки, по словам Нестора Искандера, слились в сплошной гул:
От грохота пушек и пищалей, и звона колокольного, и воплей и криков с обеих сторон, и треска доспехов — словно молния, блистало оружие сражавшихся, — а также от плача и рыдания горожан, и женщин, и детей казалось, будто небо смешалось с землею, и оба они содрогаются, и не слышно было, что один человек говорит другому: слились вопли, и крики, и плач, и рыдания людей, и грохот пищалей, и звон колокольный в единый гул, словно гром великий. И тогда от множества огней и пальбы пушечной и пищальной с обеих сторон клубы дыма густого покрыли Город и все войско так, что не видели сражающиеся, кто с кем бьется.
Поскольку воины рубили и кололи друг друга на узком пространстве при свете луны, преимущество оставалось на стороне оборонявшихся, имели лучшее вооружение и сражавшиеся под командованием храброго Джустиниани. Постепенно натиск атакующих ослабел: «они истощили свои силы в бою на стенах, и их изрубили в куски»[19]. Через четыре часа на укреплениях неожиданно наступила тишина, прерываемая лишь стонами умиравших во рву. Турки возвратились в лагерь, «забыв даже об убитых своих», а защитники после шести дней непрерывных боев «попадали от усталости, словно мертвые».
При холодном свете утра Константин и его свита отправились посмотреть на результаты побоища. Все рвы были «завалены трупами, а иные [лежали] в воде и по берегам». Осадные машины стояли брошенные у стен, и в утреннем воздухе догорали пожары. Константин не смог добудиться ни воинов, ни измученных горожан, дабы предать погребению павших христиан, и эту работу пришлось поручить монахам. Как всегда, число жертв в источниках сильно разнится; Нестор Искандер приводит цифру восемнадцать тысяч убитых турок, Барбаро пишет о двухстах, что более правдоподобно[20]. Константин приказал не мешать неприятелям собирать тела своих убитых, но осадные машины велел поджечь. Затем он проследовал в храм Святой Софии с представителями клира и знати «воздать благодарение всесильному Богу и Пречистой Богоматери, ибо надеялись все, что отступит безбожный [Мехмед], увидев, сколько воинов его перебито». То был момент передышки для Города. Ответом Мехмеда стало усиление бомбардировки Константинополя.
Глава 9 Ветер, посланный богом 1-20 апреля 1453 года
Битвы на море более опасны и жестоки, нежели на суше, ибо на море нельзя ни отступить, ни бежать. Нет иного пути, кроме как сражаться, положившись на судьбу, и каждый показывает, чего он стоит.
Жан Фруассар, французский хронист XIV в.Корабль, плывущий ввиду стен, окружающих Город со стороны моря.
13 начале апреля, в то время как большие пушки разрушали стены, защищавшие Город со стороны суши, Мехмед впервые начал использовать флот — другое свое новое оружие. Он быстро осознал факт, очевидный всем, кто собирался осаждать Константинополь, начиная от арабов и далее — без надежного контроля над морем попытка взять Город будет скорее всего обречена на неудачу. Его отец Мурад приступил к осаде в 1422 году, не имея возможности перекрыть морские пути Византии: османский флот захватили врасплох и уничтожили венецианцы при Галлиполи шестью годами ранее. Пока Босфор и Дарданеллы не перекрыли, Константинополь легко мог получать снабжение от греческих городов на Черном море или от своих сторонников-христиан Средиземноморья. Именно с учетом этого обстоятельства в 1452 году выстроили замок «Перерезанное горло», оснащенный мощными пушками. Отныне ни один корабль не мог бесконтрольно проплыть вверх или вниз в Черное море но Босфору.
В то же время султан начал восстановление и усиление флота. Зимой 1452 года была осуществлена масштабная программа по строительству кораблей на базе османского флота в Галлиполи, а также, вероятно, в Синопе на Черном море и на других верфях на Эгейском побережье. Согласно Критовулу, Мехмед «полагал, что флоту придется сражаться в первую очередь и он окажет большее влияние на ход осады, нежели армия», поэтому он лично уделял существенное внимание этим работам. У имперских властей появилась возможность использовать большое количество опытных плотников, матросов и кормчих как греческого, так и итальянского происхождения (империя расширила свои владения за счет черноморского и средиземноморского побережий), и квалифицированную рабочую силу можно было задействовать в реконструкции флота. Мехмед также получил доступ к важнейшим природным ресурсам, необходимым для осуществления его попытки: дереву и пеньке, ткани для парусов, чугуну для изготовления якорей и гвоздей, смоле и салу (для отделки и обмазывания корпуса кораблей). Все материалы получали в большом количестве как с территории империи, так и из-за границы. В умении сконцентрировать ресурсы для ведения войны проявился талант Мехмеда-логистика.
Как и в случае с пушками, османы быстро научились строить такие же суда, как у их врагов-христиан. Основным типом боевого корабля в Средиземноморье в Средние века являлась галера, происходившая от римских и греческих галер античной эпохи. Данный вид судов, изменявшийся с течением времени, господствовал на Средиземном море с начала бронзового века до XVII столетия, и кораблям этой модели, чей вид сохранился на минойских печатях, египетских папирусах и вазах классической Греции, суждено было сыграть на протяжении длительного исторического времени такую же важную роль в событиях, связанных с морем, как виноградной лозе и оливковому дереву. К концу Средневековья типичная военная галера была длинной, быстроходной и очень узкой — как правило, около ста футов в длину при двенадцати футах в ширину — с поднятым носом или выступом в передней части, игравшим роль боевой палубы или трапа для перехода на вражеские корабли. Тактика морского боя чрезвычайно отличалась от тактики сражения на суше. Галеры укомплектовывались воинскими командами, которым после первоначального залпа или удара предстояло попытаться атаковать судно противника в жестокой рукопашной схватке.
Сама галера сидела в воде удивительно низко. Для максимального использования преимуществ весельной конструкции борта нагруженной военной галеры должны были возвышаться над водой на два фута. Она могла быть оснащена парусами, однако именно весла обеспечивали ей подвижность и эффективность в битве. Гребцы сидели в один ряд, причем находились выше уровня палубы, что создавало для них в битве ужасную опасность. На каждой скамье обычно помещалось по два-три человека. Каждый работал собственным веслом, чья длина зависела от места гребца на скамье, в довольно стеснительных условиях: при гребле на галере веслом приходилось действовать на пространстве не большем, чем место пассажира современного воздушного лайнера. Поэтому основное движение, когда боковое пространство играет важную роль, осуществлялось так: гребец толкал весло прямо вперед. При этом он, прижав локти, вскакивал со скамьи, а затем вновь падал на нее. Тогда понятно, почему для гребли на галерах требовались опытные команды, умевшие соблюдать ритм. Также следовало обладать большой силой, чтобы действовать веслом, достигавшим тридцати футов в длину и весившим около ста фунтов. Военная галера ценилась за быстроту и маневренность в бою. Судно с хорошо смазанным килем могло при рывке сохранять скорость в семь с половиной узлов в течение двадцати минут, используя только людскую силу. Требовать от команды быстро грести больше часа означало утомить ее.
Наряду со всеми преимуществами, которыми обладала галера в спокойном море, она также отличалась исключительными недостатками. Низкий надводный борт служил причиной того, что она совершенно не годилась для плавания даже во время небольшой зыби, свойственной Средиземному морю. Поэтому плавание на галерах, как правило, ограничивалось летними месяцами и диктовало требование держаться берега, а не совершать длинные рейсы по открытому морю. Флоты, состоявшие из галер, нередко тонули в результате несезонных штормов. Паруса можно было ставить, лишь когда ветер дул точно в корму, и сами весла были бесполезны при сколь-либо сильном встречном ветре. Вдобавок требование скорости приводило к тому, что корпус корабля был хрупок и сидел в воде очень глубоко — серьезный недостаток при нападении на судно с высокими бортами, такое как купеческий парусник или одна из больших венецианских галер, которые были гораздо выше. Сильным и слабым сторонам галер пришлось выдержать жестокую проверку в ходе борьбы за Город.
Мехмед собрал большой флот. Он починил и вновь осмолил старые суда и построил некоторое количество новых трирем — галер с веслами, расположенными по три, а также исполненных в уменьшенном масштабе галер для совершения рейдов, «длинных кораблей, быстрых и с полностью крытой палубой, вмещавших от тридцати до пятидесяти гребцов» — европейцы называли их фустами. По-видимому, он контролировал большую часть работ самостоятельно, выбирая «искусных моряков на всех побережьях Азии и Европы — особенно умелых гребцов, палубных матросов, кормчих, капитанов трирем, командующих и адмиралов, и всех прочих, кто нужен был в корабельных командах». Некоторая часть султанского флота находилась в Босфоре уже в марте, переправляя войска через пролив, однако основные силы не могли собраться в Галлиполи ранее начала апреля. Командующим назначили адмирала Балтоглу, «великого человека, опытного адмирала, искусного в деле войны на море». В первый раз за семь осад османы привели к Городу флот, тем самым сыграв чрезвычайно важную роль в ходе военных действий.
Галлиполи, «отечество защитников веры», являлся городом-талисманом для турок и удачным местом для начала похода. (Именно здесь османы захватили свой первый в Европе плацдарм после неожиданного землетрясения.) Моряки были охвачены желанием начать священную войну и осуществить завоевание. Флот вышел из Дарданелл и двинулся вверх по Мраморному морю. Очевидно, команды отправились в путь «с радостными возгласами; гребцы распевали песни; все подбадривали друг друга криками», но на деле энтузиазм мог быть и не столь бурным: многие гребцы, по всей вероятности, христиане, трудились лишь по принуждению. Согласно позднейшему хронисту, «ветер, посланный Богом, гнал суда вперед», но в действительности все могло быть иначе. К этому времени преобладающим стал северный ветер, так что плыть по Мраморному морю приходилось против ветра и течения. Сто двадцать миль до Константинополя представляли собой нелегкий труд для гребцов.
Новость о продвижении галер распространялась по побережью, обгоняя их. Изумление смешалось с паникой. Как и в случае с армией, Мехмед осознал, какой психологической ценностью обладают крупные соединения. Именно вид моря, покрытого веслами и мачтами, повергал в ужас жителей греческих деревень на побережье. Наиболее заслуживающие доверия подсчеты численности османского флота сделали опытные моряки-христиане, такие, как Джакомо Тетальди и Николо Барбаро (их цифры куда достовернее, нежели те, что называли весьма впечатлительные неспециалисты в морском деле). По их оценкам, численность колебалась от двенадцати до восемнадцати полностью укомплектованных военных галер — сюда входили и биремы, и триремы, затем от семидесяти до восьмидесяти фуст меньшего размера, около двадцати пяти парандарий — тяжелых транспортных барж, и некоторое количество легких бригантин и других посыльных палубных судов, что в целом составляло сто сорок единиц. Появившись на западной линии горизонта, они представляли собой поистине устрашающее зрелище.
Весть о том, что Мехмед усиленно занялся реконструкцией флота, достигла Города задолго до появления его кораблей, и у защитников было время тщательно продумать собственные планы относительно войны на море. 2 апреля они перекрыли Золотой Рог гигантской цепью, надеясь создать безопасную гавань для своих судов и уберечь от нападения ненадежные стены, ограждавшие Город с моря. Такая мера неоднократно применялась в истории Города. Еще в 717 году цепь была натянута через пролив, пытаясь помешать движению кораблей осаждающих мусульман. 2 апреля, согласно Барбаро, «мы приготовили к бою три галеры из Таны и две узкие галеры», а затем их команды проследовали вдоль стены, ограждавшей Город с суши, дабы продемонстрировать свою военную мощь. 9 апреля все плавательные средства, доступные защитникам в гавани, объединили и привели в готовность, получив пеструю смесь судов, очутившихся здесь вместе по разным причинам. Тут были корабли из итальянских городов-государств и их колоний — Венеции, Генуи, Анконы и Крита, а также из Каталонии, один — из Прованса и десять византийских судов. В бухте находились галеры разных размеров, в том числе три «больших» (эти сухогрузы использовались итальянцами в морской торговле) — они обладали меньшей скоростью, нежели типичные военные галеры, но были массивнее их и с более высокими бортами, а также две «узкие галеры» с непрочным корпусом и низкой осадкой. В большинстве своем суда, стоявшие на якоре в бухте Золотой Рог в начале апреля 1453 года, являлись купеческими парусными кораблями (так называемые «круглые корабли» с высокими бортами, двигавшиеся за счет силы ветра — каракки с высоким полуютом и кормой, построенные из прочного дерева и оборудованные мачтами). Теоретически ни один из них не был боевым, однако в опасных водах Средиземноморья, где существовала угроза нападения пиратов, их отличия [от военных судов] могли сослужить хорошую службу. Их высота, а также выигрышное положение палуб и «вороньих гнезд» (марсовых площадок) давали им естественное преимущество над низкими военными галерами (если, конечно, их обеспечить оружием и укомплектовать опытными воинами). В тот конкретный момент истории военно-морского дела парусный корабль часто мог самостоятельно выдержать самую сильную атаку. Идея оснастки галер пушками находилась в зачаточном состоянии: подобные орудия, слишком малые и помещавшиеся чересчур низко, не могли создавать угрозу для каракки. Потребовалось еще пятьдесят лет для того, чтобы венецианцы изобрели эффективно действовавшую против кораблей пушку, которую можно было установить на галере. Более того, моряки из Венеции, а особенно из Генуи, чье выживание и благополучие целиком зависело от доблести, проявленной на море, чувствовали себя вполне компетентными, когда речь заходила о морском деле. Вместе они составили план.
Итак, 9 апреля они вывели десять самых больших своих торговых кораблей перед заграждением, поставив их «в тесном строю носами вперед». Барбаро дает достоверные сведения о размере каждого из судов и об их капитанах, упоминая всех по порядку, начиная с генуэзского судна [водоизмещением] в «две тысячи пятьсот бочек» под командованием Жоржи Дориа и кончая судном в «шестьсот бочек». Он сообщает названия трех из них: «Филомати» и «Гуро» из Кандии и «Каталокса» из Генуи. Борт о борт с ними стояли самые прочные из галер. Корабли, «хорошо вооруженные и в превосходном порядке, как если бы им предстояло вступить в бой, один лучше другого», встали по всей длине заграждения от Города до Галаты, находившейся на противоположном берегу. С внутренней стороны гавани оставались в резерве еще семнадцать парусных торговых судов, а также другие галеры, в том числе пять императорских, с которых, вероятно, сняли вооружение, планируя создать максимальную его концентрацию у заграждения. Несколько оставшихся кораблей затопили, чтобы уменьшить риск их поражения из пушек и распространения огня — кошмара наяву для моряков в условиях сосредоточения кораблей в одном месте. Уверенные как в надежности оборонительных укреплений, так и в собственных навыках в морском деле, поместив пушку на берегу для подстраховки, капитаны стали ждать прибытия османского флота. У них имелось примерно тридцать семь судов в целом против армады из ста сорока кораблей, что на бумаге составляет громадную разницу, но итальянские моряки хорошо разбирались в тонкостях морского боя. Управление кораблем являлось искусством, требовавшим навыка, и успех во многом определялся подготовленностью команды, поэтому исход боя на море зависел не столько от численности, сколько от опыта, решительности и везения, связанного с течениями и ветрами. «Видя свой столь внушительный флот, мы чувствовали себя надежно защищенными против флота неверных», — самодовольно писал Барбаро, демонстрируя устойчивую тенденцию недооценивать мастерство турок в ведении морских боев, свойственную венецианцам.
Наконец 12 апреля, около часу дня, показался османский флот, боровшийся со встречным северным ветром. Несомненно, горожане высыпали на стены близ моря, глядя на горизонт, медленно наполняющийся мачтами. Суда шли на веслах, «решительно» приближаясь. Однако, увидев корабли христиан, выведенные перед линией заграждений и построенные в боевом порядке, турки двинулись к другой стороне пролива, располагая суда вдоль противоположного берега, произведя сильное впечатление на зрителей. Их уныние усилилось, когда они услышали «энергичные крики, звуки кастаньет и тамбуринов, напугавшие матросов нашего флота и горожан». Позднее в тот же день весь флот продвинулся на две мили вверх по Босфору к маленькой гавани на европейском побережье, именуемой греками Диколон[21] (теперь там находится дворец Долмабахче). Размеры и мощь военного флота, несомненно, поколебали даже уверенность итальянцев, поскольку корабли стояли у заграждения в боевой готовности весь день и всю ночь, [и команды] «час за часом ожидали, что они [турки] явятся атаковать наш флот», но ничего не произошло. Так началась изнурительная игра в кошки-мышки. Рассчитывая уменьшить риск быть захваченными врасплох, итальянцы сделали так, что два человека постоянно находились на городских стенах соблюдавшей нейтралитет Галаты (отсюда можно было следить за флотом в Диколоне, стоявшим выше по Босфору). При любых признаках движения даже одного корабля по проливу человек спешил вниз по улицам Галаты к Рогу, дабы предупредить Алевиза Дьедо, командующего в гавани. Раздавался сигнал боевой трубы, и те, кто находился на кораблях, немедленно вставали «под ружье». День и ночь они пребывали в обстановке нервного напряжения и мрачных предчувствий, в то время как суда мягко покачивались на якоре в спокойных водах Золотого Рога.
Мехмед поставил перед своим новым флотом три четко сформулированные цели: блокировать Город, попытаться силой проложить путь в Золотой Рог и оказать сопротивление любому флоту, попытавшемуся подняться к Мраморному морю, дабы освободить Константинополь. Поначалу Балтоглу ограничивался высылкой патрулей, бороздивших воды вокруг Города, — специально для того, чтобы не дать кораблям входить в две маленькие гавани близ Константинополя со стороны Мраморного моря или покидать их. Примерно тогда же с Черного моря прибыла дополнительная эскадра: корабли, нагруженные пушечными ядрами и другим военным снаряжением для армии. По-видимому, прибытие подкреплений ускорило начало нового периода деятельности в османском лагере.
Мехмед, с нетерпением желавший схватить Город мертвой хваткой, отдал Балтоглу приказ напасть на заграждения. Если бы османы смогли проложить путь в Золотой Рог, Константину пришлось бы отвести со стены, окружавшей Город с суши, столь необходимых здесь защитников для обороны берега. Обе стороны тщательно готовились к данному моменту. Несомненно побуждаемые Мехмедом, чье увлечение таким новшеством, как артиллерия, не имело границ, османы погрузили на свои галеры маленькие пушки. На «боевых клювах» (носах) галер они разместили тяжелую пехоту и погрузили на суда боеприпасы: каменные пушечные ядра, стрелы, дротики и горючие материалы. Наблюдатели на стенах Галаты видели их приготовления с близкого расстояния, и Лука Нотарас, командующий византийскими войсками, имел достаточно времени, дабы укомплектовать большие купеческие каракки и галеры людьми и вооружением.
Вероятно, 18 апреля, как раз в то время, когда начался первый мощный штурм стен у ворот Святого Романа, Балтоглу начал первую морскую атаку. Выйдя в море из Диколона, флот обогнул мыс и начал быстро приближаться к заграждениям. Османы стремительно плыли навстречу плотному строю высоких кораблей, стоявших на якоре у цепи. Матросы подбадривали друг друга криками и боевым кличем. Корабли подошли на расстояние полета стрелы, потом замедлили ход и начали стрелять из луков и пушек. Над водой засвистели ядра, нули, зажженные стрелы, сметая врагов с палуб. После первых залпов османы продолжили продвижение в сторону стоявших на якоре судов. Когда они столкнулись, турки попытались стать борт к борту и пойти на абордаж. Бросая крючья-кошки и штурмовые лестницы, атакующие стремились подняться на борт более высоких кораблей. Предпринимались попытки перерубить якорные канаты торговых судов. Град дротиков, копий, стрел обрушился на обороняющихся. Натиск был яростным, но успех сопутствовал экипажам более высоких и крепких каракк. Ядра из пушек, установленных на османских галерах, оказались слишком малы, чтобы нанести ущерб прочным деревянным корпусам, и абордажные команды атаковали снизу, подобно воинам, пытающимся штурмовать стену на суше со дна рва. Матросы и морские пехотинцы на судах христиан могли засыпать турок метательными снарядами из луков со специальных площадок на корме и с более высоких позиций на «марсовых площадках». Копья, оперенные для увеличения точности попадания, стрелы и камни сыпались дождем на ничем не защищенных атакующих, толпившихся у бортов своих кораблей, «раня многих и убивая немалое число» людей. Торговые суда применялись для ближнего боя на море и имели соответствующее оснащение. Вода для тушения зажигательных средств находилась под рукой, а спускавшиеся с мачт веревочные подъемники позволяли бросать тяжелые камни прямо на вражеские суда, обрушивать их на хлипкие корпуса сгрудившихся длинных кораблей «и причинять таким образом заметный вред». Борьба за овладение цепью и ее удержание оказалась жаркой, но успех начал явно склоняться в пользу христиан. Они сумели обойти фланг галерного флота. Опасаясь поражения, Балтоглу отвел корабли и отступил в Диколон.
Первый раунд войны на море закончился успешно для обороняющихся. Они прекрасно знали преимущества своих судов и понимали главное: хорошо оснащенные торговые корабли могли успешно противостоять скученным галерам с их низкими бортами, если экипажи дисциплинированны и должным образом экипированы. Надежды Мехмеда на мощь артиллерии на море не оправдались. Те пушки, которые годились для установки на невысоких галерах, были слишком малы, чтобы эффективно действовать против парусников с их прочными корпусами, а условия боя — трудности с предохранением пороха от морской сырости и правильным наведением орудий при качке — еще больше уменьшали шансы на успех. Затягивание осады с каждым днем увеличивало нетерпение Мехмеда — и возможность прибытия помощи с Запада.
Для Константина успех обороны Города зависел от получения поддержки христианской Европы. Бесконечные дипломатические миссии, предшествовавшие осаде, занимались тем, что просили или одалживали людей и ресурсы для дела христианства. Ежедневно жители Константинополя вглядывались в море на западе, надеясь увидеть флот — эскадру из венецианских и генуэзских галер с загнутыми носами, где бьют в барабаны, трубят в боевые трубы, развеваются на соленом ветру флаги Республики Святого Марка с изображенными на них львами или знамена Генуи. Но море оставалось зловеще пустым.
В сущности, судьба Константинополя зависела от сложных отношений между итальянскими городами-государствами. Еще в конце 1451 года Константин отправил посланцев в Венецию с сообщением — Город падет, если не получит помощи. Вопрос долго обсуждался в венецианском сенате. В Генуе отвечали уклончиво, в Риме папа проявлял озабоченность, но требовал доказательств проведения в жизнь идеи союза церквей. В любом случае он не располагал ресурсами для оказания помощи, если венецианцы ему таковых не предоставят. Генуя и Венеция смотрели друг на друга, руководствуясь холодным расчетом коммерческого соперничества, и ничего не делали.
Призыв Константина к Западу основывался на средневековых религиозных представлениях, но адресовался государствам, где на первом месте стояли экономические интересы, поразительно напоминая современность. Венецианцев совершенно не интересовало, униаты византийцы или нет. Им не хотелось становиться защитниками веры. Сугубо практически мыслящие торговцы, они больше внимания уделяли коммерческим сделкам, безопасности морских путей и оценке прибылей. Их сильнее беспокоило пиратство, чем богословие, и больше интересовали доходы, нежели вера. Умы венецианских купцов занимали цены, по которым они могли купить или продать пшеницу, меха, рабов, вино и золото, обеспечение людскими ресурсами галерного флота и направление средиземноморских ветров. Они жили торговлей и морем, скидками, размерами прибыли, состоянием наличности. Дож находился в прекрасных отношениях с султаном, а торговля в Эдирне приносила барыши. Кроме того, Константин серьезно ущемил интересы Венеции на Пелопоннесе за предшествующие двадцать лет.
Вследствие таковых причин в августе 1452 года меньшинство венецианских сенаторов требовало предоставить Константинополь его собственной участи. Подобное отношение смягчилось следующей весной, когда поступили сообщения о том, что торговые пути в Черное море перекрыты, а венецианские корабли потоплены. 19 февраля сенат решил подготовить флот из двух вооруженных транспортов и пятнадцати галер для выхода в море 8 апреля. Организацию экспедиции поручили Алевизу Лонго. Ему дали осторожные инструкции. Среди прочего они содержали полезный совет — избегать конфронтации с турками в проливах. В конце концов он отбыл 19 апреля, на следующий день после первого крупномасштабного штурма стен. Другие государства предпринимали столь же несогласованные усилия. 13 апреля правительство Генуэзской республики призвало своих граждан, купцов и должностных лиц отправиться «на Восток, в Черное море и в Сирию» помогать всеми силами императору Константинополя и Димитрию, деспоту Мореи. За пять дней до того были санкционированы займы с целью снарядить корабли против Венеции. Тогда папа написал венецианскому сенату, сообщив о своем решении организовать отправку пяти галер, взяв их взаймы у венецианцев, для оказания помощи Городу. Венецианцы, всегда охотно дававшие взаймы, в принципе не возражали, но напомнили папе: курия до сих пор не оплатила им стоимость галер, участвовавших в крестовом походе, окончившемся разгромом под Варной в 1444 году.
Папа Николай, однако, уже организовал одно мероприятие на свои средства. Опасаясь за судьбу Константинополя, он нанял в марте три генуэзских торговых судна, снабдив их оружием, продовольствием и людьми, и отправил их на помощь Городу. В начале апреля они достигли принадлежавшего Генуе острова Хиос близ анатолийского побережья, но дальше продвинуться не смогли. Северный ветер, мешавший и османскому флоту, две недели удерживал генуэзцев у Хиоса. 15 апреля он переменился на южный, и корабли продолжили путь. 19 апреля они подошли к Дарданеллам, где встретили тяжелый императорский транспорт с грузом зерна, закупленного по приказу императора на Сицилии и отправленного итальянцем Франческо Леканеллой. Они прошли Дарданеллы и беспрепятственно миновали турецкую морскую базу в Галлиполи — весь османский флот отправился в Диколон. Корабли, по всей видимости, примерно такие же, какие видели турки за несколько дней до того у цепи: парусники с высокими бортами, вероятно, каракки (турецкий хронист Турсун-бей называл их «коги»). При южном ветре они так быстро пересекли Мраморное море, что к утру 20 апреля их команды разглядели на горизонте с восточной стороны огромный купол собора Святой Софии.
Жители Города каждый день вглядывались в даль, надеясь увидеть флот. Они заметили корабли примерно в десять часов утра и узнали генуэзские флаги — алый крест на белом поле. Новость в мгновение ока переполошила население. Почти тотчас же увидели суда и турецкие морские патрули, отправившие сообщение об этом Мехмеду в его лагерь в Малтепе. Султан помчался в Диколон отдать ясные и категорические приказы Балтоглу. Его явно уязвили поражение флота в бою у заграждений и провал штурма стен, и его распоряжения в адрес флота и командующего звучали недвусмысленно: «Захватить парусники и привести их к нему или не возвращаться назад живыми». Галерный флот поспешно привели в готовность. Все гребцы заняли свои места. Суда были битком набиты солдатами — тяжелой пехотой, лучниками и янычарами из личной гвардии султана. На кораблях установили легкие пушки, туда же доставили зажигательные материалы и «много другого оружия: круглые и прямоугольные щиты, шлемы, нагрудные панцири, метательные снаряды, копья и длинные дротики и другие предметы, полезные для такого рода сражения». Флот поплыл по Босфору, намереваясь вступить в схватку с пришельцами. Успех был необходим для поддержания боевого духа войск. Но вторая морская битва должна была происходить в водах пролива (дальше от берега, чем в первый раз), где властвуют своенравные босфорские ветры и местные течения — весьма труднопредсказуемые. Подобные условия диктовали более высокие требования к судам.
Генуэзские торговые корабли шли по проливу при ветре, дувшем им в корму. Османский флот, не имея возможности использовать в этих условиях паруса, свернул их и двинулся на веслах по изменчивому морю.
Вскоре после полудня четыре судна подошли к Городу с юго-востока, держа курс прямо на башню Димитрия Великого, заметный ориентир на мысе Акрополис, хорошо видный и с берега. Они находились в готовности сманеврировать таким образом, чтобы повернуть в устье Золотого Рога. Значительное численное превосходство вселило в людей Балтоглу «уверенность и надежду на успех». Они продолжали плыть по направлению к четырем генуэзским судам, «оглашая воздух стуком кастаньет и криками, как люди, рассчитывающие на победу». Шум от боя барабанов и пронзительного звука зурн распространялся над морем по мере того, как приближались галеры. Лес мачт и весел сотен кораблей надвигался на четыре торговых судна, и исход казался очевидным. Население Города заполонило стены, жители лезли на крыши домов Сфендона, откуда открывался отличный вид на Мраморное море и вход в Босфор. На другой стороне Золотого Рога, за Галатой, Мехмед и его свита наблюдали за событиями с удобной точки на противоположном холме. Обе стороны следили за происходящим, тревожась и надеясь, в то время как трирема Балтоглу подошла к головному генуэзскому кораблю. Стоя на корме, он категорически потребовал спустить паруса. Генуэзцы продолжали путь, и Балтоглу приказал своему флоту лечь в дрейф и начать обстреливать каракки. В воздухе засвистели ядра. Со всех сторон на итальянские корабли посыпались камни, дротики и стрелы, в том числе и зажженные, но генуэзцы не дрогнули. Вновь преимущество оказалось на стороне более высоких судов: «Они вели бой с высоты, прямо с нок-рей и деревянных турелей метая стрелы, дротики и камни», — писал Критовул. Качка затрудняла галерам правильное прицеливание и точное маневрирование вокруг каракк, ринувшихся вперед, подставив паруса южному ветру. Бой превратился в непрерывную перестрелку с турками, пытавшимися на волнах переменчивого моря приблизиться настолько, чтобы пойти на абордаж или поджечь паруса. Генуэзцы обрушивали на них град метательных снарядов с кормы, похожей на замок.
Маленький караван высокобортных кораблей невредимым достиг мыса Акрополис и уже готовился повернуть, собираясь укрыться в гавани Золотой Рог, когда разразилась катастрофа. Неожиданно спал ветер. Паруса бессильно повисли на мачтах почти у самых стен Города, продвижение вперед прекратилось. Беспомощные корабли стало сносить течением в сторону, противоположную устью Золотого Рога, навстречу берегу Галаты, откуда следили за происходящим Мехмед и его армия. Преимущество оказалось теперь на стороне галер с их веслами, а не парусников. Балтоглу собрал свои наиболее крупные суда вокруг торговых кораблей, совсем близко от них. Турки вновь подвергли их обстрелу метательными снарядами, но добились не большего, чем прежде. Их слишком малые пушки не могли причинить ущерб корпусам или вывести из строя мачты. Команды христианских кораблей тушили огонь водой из бочек. Видя, какой урон наносит продольный огонь, адмирал «прокричал повелительным голосом» и приказал флоту сблизиться с врагом и идти на абордаж.
Турецкие галеры атакуют парусники христиан.
Рой галер и длинных лодок приблизился к громоздким и беспомощным караккам. Море превратилась в бурлящую массу сцепившихся мачт и корабельных корпусов, выглядевших, по словам хрониста Дуки, «как сухая земля». Балтоглу таранил носом своей триремы корму императорской галеры, самой крупной и хуже всего вооруженной по сравнению с прочими христианскими судами. Османские пехотинцы полезли наверх по дощатым мостикам, стремясь забраться на генуэзские корабли, используя абордажные крючья и лестницы, разбить их корпуса топорами и поджечь с помощью зажженных факелов. Одни поднимались по якорным цепям и канатам, другие метали в деревянную обшивку копья и дротики. Когда враги сблизились, борьба превратилась в серию отчаянных рукопашных схваток. Оборонявшиеся находились сверху, их защищали надежные доспехи, и они разбивали головы неприятелей дубинами, когда те карабкались по бортам кораблей, обрубали цепляющиеся руки саблями, метали дротики, копья и камни в кипевшую внизу массу. С более высокой позиции на нок-реях и марсовых площадках «они бросали метательные снаряды из своих ужасных катапульт и обрушивали град камней на сгрудившийся турецкий флот». Арбалетчики точно посылали стрелы в выбранные ими цели, а матросы раскручивали лебедки, чтобы поднимать и бросать тяжелые камни и бочки с водой на легкие корпуса длинных лодок. Таким образом они повредили и потопили многие из них. В воздухе смешались самые разные звуки: крики и возгласы, рев пушек, плеск от падения сорвавшихся обратно в воду вооруженных людей, треск весел, стук камней о дерево, звон стали о сталь, свист стрел, летевших так быстро, «что весло не успевало опуститься в воду», звук пронзаемой клинками плоти, потрескивание огня и стоны раненых. «Повсюду царило смятение; [воины] подбадривали друг друга, и оттого стоял великий крик, — вспоминал Критовул, — люди наносили удары и получали их, убивали и гибли, толкали и сами были теснимы, ругались, богохульствовали, угрожали, стонали — [словом], раздавался ужасный шум».
Два часа турки вели со столь стойкими противниками жаркий бой. Их солдаты и матросы сражались храбро и с необычайной яростью, «подобно демонам», как не без зависти вспоминал архиепископ Леонард. Постепенно, несмотря на тяжелые потери, стало сказываться численное превосходство. Один из христианских кораблей окружили пять трирем, другой — тридцать длинных лодок, третий — сорок баржей, полных солдат, словно множество муравьев пыталось одолеть огромного жука. Когда одна лодка отступала или тонула, оставив отягощенных оружием людей погибать в волнах или хвататься за обломки, на смену ей подходили новые лодки, не давая добыче уйти. Трирема Балтоглу цепко держалась за самый тяжелый и хуже всего вооруженный из императорских транспортов, «блестяще защищавшийся; сам капитан Франческо Леканелла бросился на помощь». В это время командирам генуэзских кораблей стало, однако, очевидно, что транспорт будет захвачен, если они не вмешаются немедленно. Каким-то образом им удалось совершить соответствующий маневр, подведя свои четыре корабля борт к борту и пришвартовав их один к другому. Зрителям казалось, будто они возвышаются подобно четырем башням посреди роя кишевших вокруг османских судов, стеснившихся так, что образовалась сплошная деревянная поверхность, и из-под нее «почти не было видно воды».
Наблюдатели, столпившиеся на городских стенах и на кораблях у цепи, бессильно смотрели, как спутавшийся рой медленно относит течением к мысу Акрополис и навстречу берегу Галаты. Когда бой приблизился, Мехмед подъехал на лошади к самой воде, возбужденно выкрикивая приказы, угрозы и слова ободрения своим доблестно сражавшимся людям и понукая коня идти по мелководью — он явно желал руководить операцией лично. Балтоглу находился уже достаточно близко, чтобы слышать султана, но при этом игнорировал его громогласно отдаваемые приказы. Солнце садилось. Битва продолжалась уже три часа. Казалось очевидным — турки добьются успеха, «поскольку всерьез взялись за дело, сменяя один другого и ставя на место убитых и раненых новых людей». Рано или поздно запас метательных орудий у христиан должен был иссякнуть, а их энергия — ослабеть. И тут произошло нечто, столь неожиданно изменившее ситуацию, что христиане увидели в этом не что иное, как божественную десницу. Подул южный ветер. Постепенно большие квадратные паруса четырех подобных башням каракк зашевелились, раздулись, и корабли вместе вновь двинулись вперед, подгоняемые непреодолимой силой ветра. Быстро сгруппировавшись, они прорвались через кольцо хрупких галер и поднялись к устью Золотого Рога. Мехмед выкрикивал проклятия своим командирам, судам и «в ярости рвал на себе одежду», но уже наступила ночь, и продолжать преследование генуэзских кораблей было слишком поздно. Вне себя от ярости из-за унижения, испытанного им из-за увиденного, Мехмед приказал флоту отойти в Диколон.
В безлунную ночь две венецианских галеры вышли за цепь. На каждой из них матросы трубили в две или три трубы и громко кричали, создавая у врагов впечатление, будто в море вышло «по меньшей мере двадцать галер», и тем обескураживая неприятеля во избежание преследования. Галеры тащили на буксире парусники в гавань, где в церкви звонили в колокола, а горожане выкрикивали приветствия. «Ошеломленный Мехмед в молчании стегнул своего коня и поскакал прочь».
Глава 10 Потоки крови 20-28 апреля 1453 года
Война — это хитрость.
Изречение, приписываемое ПророкуСредневековая катапульта.
Серьезные последствия морского сражения на Босфоре не замедлили сказаться. Несколько кратких часов неожиданно и существенно изменили психологический баланс процесса осады в пользу защитников Города. Весеннее море стало огромной сценой для публичного посрамления османского флота, зрителями которого явилось как греческое население, толпившееся на стенах, так и правое крыло армии во главе с Мехмедом на противоположном берегу.
Для обеих сторон стало очевидно — новый мощный флот, чье первое появление в проливах так ошеломило христиан, не мог противостоять опыту западных мореплавателей. Его победили за счет превосходства в умении и снаряжении, ограниченных возможностей галер — и в немалой степени благодаря везению. Отсутствие надежного контроля над морем означало: борьба за покорение Города будет сопровождаться тяжелыми битвами, какие бы успехи благодаря пушкам султана ни достигли у стен, окружающих Город с суши.
Настроение горожан неожиданно поднялось: «Честолюбивые замыслы султана расстроились, а его прославленная мощь умалилась, ибо множество его трирем никакими средствами не смогли захватить одно-единственное судно». Корабли не только привезли зерно, оружие и людей, в чем ощущалась острая нужда, — они дали обороняющимся драгоценную надежду. Ведь подошедшая маленькая эскадра могла оказаться лишь авангардом большого флота, идущего на выручку Городу. И если четыре корабля смогли нанести поражение османскому флоту, что сможет сделать дюжина хорошо вооруженных галер из итальянских республик, как не решить исход всей битвы? «Неожиданный результат возродил их надежды, ободрил их и внушил им весьма радужные мысли не только о том, что произошло, но и о том, чего можно ожидать». В лихорадочной религиозной атмосфере вооруженной борьбы подобные события никогда не оцениваются лишь с точки зрения состязания людей и материалов или игры ветров — они воспринимаются как очевидное свидетельство помощи Божией. «Они напрасно молились своему пророку Мухаммеду, — писал хирург Николо Барбаро, — а наш Господь Вечный услышал нас, христиан, поэтому мы одержали победу в битве».
Видимо, примерно тогда Константин, вдохновленный этой победой или же неудачей предыдущей атаки османов на суше, посчитал настоящий момент подходящим для заключения мира. Вероятно, он предложил ради спасения репутации Мехмеда выплатить ему контрибуцию, что позволило бы султану отступить с честью. О своей инициативе он мог сообщить через Халил-пашу. Во время осады между защитниками и атакующими возник сложный симбиоз, и Константин прекрасно знал — в лагере мусульман за стенами происходит брожение. Впервые с начала осады стали высказываться серьезные сомнения. Константинополь оставался неподатливым — «костью в горле Аллаха», — подобно замкам крестоносцев. Город представлял собой как психологическую, так и военную проблему для тех, кто сражался за веру. Уверенность в себе, связанная как с технологическим, так и с культурным аспектами, требовавшая нанести поражение неверным и разрушить уходящий глубоко в историю стереотип, внезапно вновь дала трещину. Смерть Аюба, знаменосца Пророка, у стен Города восемь столетий назад наверняка сильно отозвалась в памяти осаждающих. «Это событие, — писал османский хронист Турсун-бей, — вызвало отчаяние и беспорядок в рядах мусульман… армия разделилась на группы».
Наступил решающий момент с точки зрения веры самих осаждающих в свое дело. Практически возможность затянувшейся осады со всеми ее проблемами, касающимися как обеспечения, так и боевого духа, вероятность поражения — беды средневековых армий, ведущих осаду, и риск того, что люди могут разбежаться, скорее всего приняли угрожающие размеры вечером 20 апреля. Все вышеперечисленное влекло за собой очевидную опасность лично для Мехмеда: его власть оказывалась под угрозой. Вот-вот мог разразиться открытый мятеж янычар. Мехмед никогда не пользовался любовью регулярной армии в отличие от своего отца Мурада. Она уже дважды бунтовала против нетерпеливого юного султана, о чем отнюдь не забыли. Особенно хорошо помнил тогдашние события Халил-паша, великий визирь.
Подобные настроения сильнее всего обострились в тот вечер, когда Мехмед получил письмо от шейха Акшемсеттина, своего духовного наставника, влиятельнейшего религиозного деятеля в османском лагере. В письме сообщалось о настроениях в армии. Шейх предупреждал:
Случившееся… причинило нам великую боль, и мы пали духом. То, что нам не удалось воспользоваться этой возможностью [захватить корабли христиан. — Примеч. пер.], привело к неблагоприятным событиям: первое заключается в том… что неверные возрадовались и бурно проявляют свои чувства; второе — в том, что возникло мнение, будто у Вашего благородного величества недостаточно здравого смысла и Вы неспособны сделать так, чтобы Ваши приказы выполнялись… потребуются жестокие наказания… если кара не воспоследует прямо сейчас… то войска не окажут [Вам] полную поддержку, когда пора будет засыпать траншеи и прозвучит приказ к решающей атаке.
Шейх также подчеркивал: поражение угрожает расшатать веру у людей. «Меня обвинили в том, что мои молитвы не были услышаны, — продолжал он, — а пророчества мои оказались пустыми словами… необходимо, чтобы Вы об этом позаботились, дабы в конце концов нам не пришлось отступить с позором, обманувшись в своих ожиданиях».
Его письмо побудило Мехмеда к решительным действиям. 21 апреля рано утром он отправился в путь «примерно с десятью тысячами лошадей [всадников]» из своего лагеря в Малтепе в гавань в Диколоне, где стоял на якоре его флот. Балтоглу вызвали на берег держать ответ за разгром в морской битве. Несчастный адмирал был тяжело ранен в глаз камнем, пущенным одним из его же людей в разгар битвы. Несомненно, когда он простерся перед султаном, это выглядело ужасно. Согласно красочному описанию христианского хрониста, Мехмед «скрежетал в глубинах сердца своего и во гневе испускал дым из уст своих». В ярости он требовал у Балтоглу ответа, почему тот не захватил корабли, когда море оставалось спокойным: «Если ты не мог взять их, как надеялся ты взять флот, стоящий в гавани близ Константинополя?» Адмирал отвечал, будто сделал все от него зависящее, пытаясь захватить корабли христиан: «Ты знаешь, — оправдывался он, — все видели, как я неустанно таранил носом своей галеры корму императорского корабля; всем известно, как мои люди погибли, и то же случилось со многими на других галерах». Но Мехмед, чрезвычайно возбужденный и разгневанный, приказал посадить адмирала на кол. Потрясенные придворные и члены совета бросились ниц перед Мехмедом, умоляя пощадить его жизнь, доказывая, что тот храбро сражался до конца и что потеря глаза явственно подтверждает его усердие. Мехмед смягчился — и отменил смертный приговор. В присутствии всего личного состава флота, окруженный наблюдавшими за происходящим всадниками, Балтоглу получил сто плетей. Адмирала лишили ранга и имущества, раздав его янычарам. Мехмед понимал всю негативную и позитивную пропагандистскую ценность подобных действий. Балтоглу канул во тьму истории, и командование флотом — настоящий кубок с ядом — возвратили Хамзе-бею, служившему адмиралом при отце Мехмеда. Уроки, извлеченные из истории с Балтоглу, не пропали даром ни для кого из солдат и матросов, ставших свидетелями случившегося. То же касалось узкого кружка визирей и советников. Все получили возможность увидеть собственными глазами, сколь опасно вызвать неудовольствие султана.
Существует иная версия данного события, рассказанная греческим хронистом Дукой, чей отчет об осаде написан живо, однако часто неправдоподобен. По его сообщению, Мехмед потребовал, чтобы Балтоглу распростерся на земле, и сам нанес [лежащему] сто ударов «золотым жезлом, весившим пять фунтов, который тиран отдал приказ изготовить для избиения людей». Затем один из янычар, желая снискать благоволение султана, ударил адмирала по голове камнем и выбил ему глаз. История красочная и почти наверняка выдуманная. Однако она отражает популярные на Западе представления о Мехмеде как восточном тиране, окруженном варварской роскошью, любителе садистских удовольствий, которому беспрекословно подчиняется рабски покорная армия.
Примерно наказав адмирала, Мехмед немедленно созвал ближайших советников, дабы обсудить предложение Константина о мире, полученное накануне. В условиях, когда события развивались с необычайной скоростью, инициативы начали перекрывать друг друга без какой бы то ни было последовательности. При существенных неудачах и первых признаках раскола вопрос упростился: надо было решить, продолжать ли осаду или искать благоприятных условий [мира].
В высшем командовании османов существовало две группировки, давно боровшихся друг с другом за выживание и власть в переменчивых условиях султанского правления. На одной стороне находился великий визирь Халил-паша, турок по происхождению, представитель старой османской правящей элиты. Он служил визирем при Мураде, отце Мехмеда, и давал советы юному султану в первые бурные годы его правления. Халил-пашу, свидетеля кризисов 1440-х годов и восстания янычар против Мехмеда в Эдирне, беспокоил вопрос о том, каковы будут шансы Мехмеда выжить, если ему доведется перенести унижение под греческими стенами. Все время осады противники Халила вели подкоп под его стратегию, насмехаясь над ним. Они прозвали его «другом неверных» и любителем золота греков.
В оппозиции находились люди, недавно пришедшие во власть в Османском государстве, — группа амбициозных военных лидеров, по большей части чужаков, принявших ислам отступников из постоянно расширяющейся при султане империи. Они всегда отвергали любую мирную политику и вдохновляли Мехмеда на мечты о завоеваниях в мировых масштабах. Их надежды были связаны с захватом Города. Наиболее выдающимся среди них являлся второй визирь Заганос-паша, грек, принявший ислам, «тот, кого боялись больше всего, обладавший наибольшим весом и авторитетом» — крупнейший из военачальников. Эта группировка обладала сильной поддержкой религиозных лидеров, поборников священной войны, таких как ученый знаток ислама улем Ахмет Гурани, знаменитый наставник Мехмеда, и шейх Акшемсеттин, носитель уходящего корнями в прошлое желания последователей ислама взять Город, [оплот] христиан.
Халил доказывал — необходимо воспользоваться возможностью с почетом отступить на выгодных условиях, сняв осаду: дескать, проигранное морское сражение показало, насколько сложно будет взять Город. Кроме того, оставалась возможность, в случае затягивания кампании, подхода на помощь защитникам венгерской армии, дабы снять осаду, или усиленного итальянского флота. Он высказал уверенность, что «яблоко» в один прекрасный день упадет султану в подол, «как спелый плод падает с дерева», но пока сей золотой плод еще не созрел. Желанный день этот можно приблизить, наложив на Город тяжелую контрибуцию. Визирь предложил потребовать семьдесят тысяч полновесных дукатов в качестве ежегодной дани с императора за снятие осады.
«Военная партия» энергично возражала. Заганос ответил: кампанию следует продолжать еще более интенсивно, а прибытие генуэзских кораблей лишь усиливает необходимость нанести решительный удар. То был ключевой момент. Османские командующие осознали — удача готова отвернуться от них, однако, судя по интенсивности дебатов, главные визири понимали: предметом спора является влияние на султана, а в конечном итоге на карту поставлены их жизни. Мехмед сидел на возвышении, пребывая над спорящими, в то время как соперники не стеснялись в средствах для достижения цели, однако по своему темпераменту и склонностям он всегда оставался на стороне «военной партии». Большинство участников совета высказалось за продолжение войны, и решение было принято. Константину отправили ответ: мир может быть заключен лишь при условии немедленной сдачи Города. Султан оставит Константину Пелопоннес. Что до братьев императора, владеющих полуостровом в настоящий момент, то они получат компенсацию. Предложение, явно рассчитанное на отказ, и он действительно последовал. Константин но-своему представлял долг перед историей: он ощущал себя наследником отца. Когда османы стояли у городских ворот в 1397 году, Мануил II прошептал: «О Господь Иисус Христос, не допусти, чтобы великое множество христианских народов услыхало, что говорят, будто именно во дни правления императора Мануила Город со всеми своими священными и почитаемыми памятниками веры был сдан язычникам». Охваченный подобными настроениями, Константин будет сражаться до конца. Осада продолжилась, в то время как «военная партия», ощущая усиливающийся напор событий, решила усилить натиск на противника.
На расстоянии трех миль от места проведения совета штурм Города беспрерывно продолжался в соответствии с общим планом атаки, сохранявшимся в тайне ото всех (о нем знали только Мехмед и его генералы). Мощный обстрел стен, окружавших Город с суши, начавшийся накануне, продолжался всю ночь и весь тот день, когда состоялся военный совет. Турки сосредоточили огонь на участке стены близ ворот Святого Романа в долине реки Лик — обе стороны знали: данный сектор укреплений наиболее уязвим.
Под непрекращающимся огнем пушек обрушились большая башня Бактатиниан и вместе с ней — несколько ярдов внешней стены. Появилась брешь значительных размеров, и обороняющиеся неожиданно лишились защиты. «Так возник страх перед ними [нападающими] в Городе и на кораблях, — писал Николо Барбаро. — Мы не сомневались, что они хотят немедленно предпринять решительное наступление; все думали, что вскоре увидят в Городе турецкие тюрбаны». Прежде всего защитников деморализовала быстрота, с которой османские пушки смогли уничтожить грозные укрепления, когда турки сосредоточили достаточную огневую мощь на определенном участке. «Ибо столь значительный кусок стены разрушился при обстреле, что каждый чувствовал страх, думая, как в несколько дней им удалось уничтожить так много». Для защитников, выглядывающих из зияющей дыры, казалось ясным: общая атака в этой точке «всего-навсего силами десяти тысяч человек» приведет к несомненной потере Города. Они ждали неизбежного штурма. Однако Мехмед и все военное командование находились в Диколоне, обсуждая будущее кампании, и приказ не был отдан. Оборона христиан, где участвовали раздробленные силы добровольцев, по сути своей, строилась на личной инициативе, а османские войска скорее всего, напротив, лишь подчинялись директивам центра. Они ничего не сделали для того, чтобы извлечь максимум из того преимущества, которое нападающим обеспечили пушки, и у защитников появилось время для перегруппировки.
Под покровом тьмы Джустиниани и его люди начали в спешном порядке чинить поврежденные стены. «Ремонт осуществлялся с помощью бочек, наполненных землей и камнями, а за ними выкопали очень широкую канаву; в конце нее [т. е. позади] находилась дамба, покрытая побегами виноградной лозы и другими слоями веток, так что она была столь же прочной, как стена». Заграждение из дерева, земли и камней продолжало быть эффективным, поскольку смягчало силу удара гигантских каменных ядер. Каким-то образом ремонт «на скорую руку» производился под непрекращающимся огнем «гигантской пушки и других пушек, и огромного количества орудий, бесчисленных луков и множества пищалей». Отчет о прошедшем дне, сделанный Барбаро, завершается запавшим ему в память образом врага. Чужаки, многочисленные, подобно роящимся пчелам, вызвали у судового врача приступ ужаса: «невозможно было разглядеть» землю перед воротами, «так как она была покрыта турками, но большей части янычарами — храбрейшими из солдат Великого Турка, а также множеством рабов султана, коих можно было опознать по белым тюрбанам, тогда как обыкновенно турки носят красные». И все же атака не началась. Видимо, удача — «и наш милосердный Господь Иисус Христос, исполненный сострадания» — охранили Город в тот день.
События 21 апреля выглядят так, словно они торопятся и перекрывают друг друга, как будто обе стороны осознали — настал момент проявить исключительную энергию. Защитники, вынужденные постоянно оказывать противодействие осаждающим и не имея возможности делать вылазки, могли лишь наблюдать с расположенных треугольником древних стен, верить в прочность своих укреплений и ждать, кидаясь к месту каждого «местного» кризиса, заделывая бреши и ссорясь. Поминутно переходя от отчаяния к надежде, пребывая в атмосфере слухов об атаках и идущих на выручку армиях, они неустанно трудились, удерживая линию обороны, и глядели на запад, надеясь увидеть очертания приближающихся парусов.
Мехмеда же события тех дней, по-видимому, заставили проявить лихорадочную активность. Неудача его флота, страх снятия осады, пессимизм, охвативший войска, — таков круг проблем, занимавших его 21 апреля. Он неустанно разъезжал вокруг Города, от своей красной с золотом палатки до Диколона, объезжая войска близ Галаты, анализируя проблему «в трех измерениях», разглядывая «золотой плод» с разных сторон, мысленно поворачивая его перед собой. Его желание овладеть Константинополем возникло еще в детстве. Все время, начиная с того момента, когда он, будучи мальчиком, впервые издали увидел Город, и до его ночных странствий по Адрианополю зимой 1452 года, взятие Константинополя являлось его навязчивой идеей, заставившей его интенсивно изучать западные трактаты по ведению осады, заранее исследовать особенности местности, делать детальные зарисовки стен. Мехмед, неутомимый в преследовании желанной цели, задавал вопросы, накапливал ресурсы и технические навыки, расспрашивал шпионов, сохранял информацию. Одержимость сочеталась в нем со скрытностью, которой юноша научился в опасном мире османского двора и которая заставляла его хранить свои планы при себе, пока они не созревали. Рассказывают, что когда Мехмеда однажды спросили о том, как будет продолжаться кампания, он отказался ответить прямо и произнес: «Будьте уверены, если бы я знал, что один волос из моей бороды проведал о моем секрете, я вырвал бы его и сжег»[22]. Следующий шаг, предпринятый им, должен был сохраняться в столь же строгой тайне.
Проблему, размышлял он, представляла собой цепь, перекрывавшая вход в Золотой Рог. Она не позволяла его флоту оказывать нажим на Город более чем с одной стороны и давала защитникам возможность сконцентрировать собственные скудные силы на обороне стен, окружавших Город с суши, тем самым преуменьшая огромное численное превосходство турок. Османские пушки уничтожили оборонительную стену Константина через Истмийский перешеек близ Коринфа за неделю, но здесь (хотя, конечно, гигантская пушка и пробила дыры в древней постройке Феодосия) дело шло медленнее, чем надеялся султан. Снаружи оборонительная система выглядела чересчур сложной и имела слишком много уровней, а ров чересчур глубоким, чтобы позволить достичь быстрых результатов. Кроме того, Джустиниани оказался гениальным стратегом. Он в высшей степени эффективно организовал ограниченные людские резервы и использовал немногие имевшиеся материалы: земля не поддалась там, где подвел камень, и линия держалась — пока.
Оставаясь закрытым, Золотой Рог являлся безопасном гаванью для любого флота, явившегося для снятия осады, и представлял собой базу для контратаки с помощью судов. Из-за него также удлинялась линия сообщения между разными частями армии и флота Мехмеда, поскольку войскам приходилось долго следовать окольным путем вокруг вершины Золотого Рога, чтобы пройти от стен, ограждавших Город с суши, до Диколона. Проблему цепи требовалось незамедлительно решить.
Никто точно не знает, где именно к Мехмеду пришла в голову мысль, воплощенная им в жизнь, и сколько времени он ее обдумывал, но 21 апреля он принял необычное решение относительно цепи. Если ее нельзя захватить силой, рассудил он, то ее нужно обойти, а это можно сделать, перетащив весь флот целиком по суше и спустив его на воды бухты за линией обороны. Христианские хронисты-современники высказывают свои собственные соображения относительно происхождения данной стратегии. Архиепископ Леонард выражается ясно: по его мнению, то вновь была идея вероломных европейцев, и именно они подали такой совет. Мехмеда навели на мысль «воспоминания предателя-христианина. Я думаю, человек, открывший этот трюк туркам, заимствовал его у венецианцев, применивших подобную стратегию на озере Гарда». Действительно, венецианцы перенесли галеры из реки Адидже в озеро Гарда совсем недавно — в 1439 году, однако средневековые кампании изобилуют другими прецедентами, а Мехмед тщательно изучал военную историю. Саладин перетащил галеры из Нила в Красное море в XII веке. В 1424 году мамелюки переправили галеры из Каира в Суэц. Откуда бы ни пришла эта схема, несомненно, она широко использовалась до 21 апреля 1453 года. События лишь подсказали настоятельную необходимость применить ее.
У Мехмеда была еще одна причина попытаться использовать этот маневр. Он чувствовал: важно оказать давление на генуэзскую колонию в Галате по другую сторону бухты Золотой Рог. Сомнительный нейтралитет генуэзцев в развернувшемся конфликте доставлял неудовольствие обеим сторонам. Галата вела выгодную торговлю и с Городом, и с осаждающими. В ходе войны она играла роль мембраны, через которую в обе стороны проникали материалы — и информация. Ходили слухи, будто жители Галаты днем открыто появлялись там и сям в османском лагере, предлагая масло для охлаждения гигантских пушек и все, что можно продать, а затем ночью, проскользнув через Золотой Рог, занимали места на стенах. Заградительная цепь крепилась к стенам Галаты, и непосредственно подступиться к ней было нельзя, так как Мехмед страшился открытого конфликта с генуэзцами. Непосредственные военные действия могли спровоцировать отправку мощного флота из метрополии, чего Мехмед и боялся. В то же время он понимал: симпатии граждан Галаты находились, естественно, на стороне их братьев-христиан; ведь и сам Джустиниани был генуэзцем. Появление пришедших на выручку генуэзских кораблей, возможно, также склонило чашу весов на сторону Города и привлекло к нему симпатии генуэзцев, как признавал Леонард Хиосский: «Жители Галаты действовали очень осторожно… но теперь они были готовы предоставить и оружие, и людей, однако лишь тайно, чтобы враг, лишь недавно притворявшийся, будто хочет заключить с ними мир, ничего не узнал». Двойная жизнь генуэзской общины, однако, означала: информация могла просачиваться в обоих направлениях, вскоре приведя к трагическим последствиям.
Все земли за Галатой, покрытые виноградниками и дикой чахлой растительностью, сосредоточились в руках османских войск под командованием Заганос-паши. Вероятно, в начале осады решено было построить дорогу от Босфора до Диколона, вверх по круто поднимающейся долине до горного гребня за Галатой. Затем дорога шла вниз, по другой долине, к Золотому Рогу. Проходя за генуэзским поселением, она спускалась к Долине Источников, где за пределами городских стен находилось генуэзское кладбище. Для своего рискованного предприятия Мехмед решил выбрать именно эту дорогу. В наиболее высокой точке она поднималась на двести футов над уровнем моря, и всякого, кто попытался бы протащить здесь корабли, ждало нелегкое испытание. Однако в чем Мехмед никогда не испытывал недостатка, так это в рабочей силе. Обдумав все заранее и соблюдая обычную для него секретность, он собирал материалы для предстоящей попытки: дерево, чтобы соорудить основу для пути, катки и салазки для перевозки кораблей, бочки лярда, а также быков и людей. Землю очистили от кустарника и сделали насколько возможно ровной. 21 апреля работа над проектом ускорилась. Отряды работников прокладывали деревянную колею вверх по долине начиная от Босфора. Приготовленные катки смазали животным жиром. Построили салазки для подъема кораблей из воды. Стараясь отвлечь внимание от этих приготовлений, Мехмед поставил батарею пушек на холме к северу от Галаты и приказал Заганос-паше обстреливать корабли, защищавшие Золотой Рог.
До сих пор невозможно понять, как могли христиане не узнать о столь масштабном строительстве. Почему информация не просочилась через Галату? Почему о ней не сообщили солдаты-христиане из лагеря османов? В первые дни генуэзцы, вероятно, расценили подготовительные земляные работы просто-напросто как строительство дороги. Позднее их либо напугало зрелище артиллерийского обстрела, ведущегося слишком близко от них позади Галаты, либо они виновны в тайной поддержке плана (как полагали венецианцы). Кроме того, возможно, Мехмед подстраховался, сделав так, что никто из воинов- христиан не участвовал в работах. Как бы то ни было на самом деле, но в Городе так и не узнали о том, что вот-вот должно было произойти.
Рано утром 22 апреля, в воскресенье, пока пушки продолжали греметь и христиане (все, кто мог) шли в церковь, первые салазки опустили в воды Босфора. В них вплыла маленькая фуста. Затем ее осторожно установили на смазанные жиром деревянные катки и поставили в колею с помощью блоков. Вездесущий султан находился тут же, дабы наблюдать за попыткой и воодушевлять участников. «И когда их как следует обвязали веревками, он присоединил длинные канаты к углам и дал знак солдатам тянуть; некоторым — руками, прочим — с помощью лебедок и воротов». Быки и люди потащили корабль вверх по склону. С другой стороны его дополнительно поддерживали отряды рабочих и солдат. По мере того как судно тащили по колее вверх, на его пути подкладывали новые катки. С помощью огромного количества людей и животных, организованных для выполнения данной попытки, корабль медленно подвигался дюйм за дюймом вверх по крутому склону к гребню в двести футов высотой.
Попутный утренний ветер дул с моря, и в минуту озарения Мехмед приказал команде судна занять места у весел. «Некоторые подняли паруса с громкими криками, как будто отправляясь в плавание, и ветер наполнил паруса и раздул их. Другие уселись на скамьи для гребцов, взялись за весла и начали двигать ими взад-вперед, как при настоящей гребле. А командиры, сновавшие близ мачтовых гнезд, свистя, крича и ударяя кнутами по спинам сидевших на скамье, приказывали им грести». Корабли украсили цветными флажками. Били барабаны. Небольшие группы музыкантов, находившиеся на судах, дули в трубы. Наступил сюрреалистический момент импровизированного карнавала: развевались флаги, играл оркестр, двигались весла, паруса вздымались, наполненные утренним бризом, быки тянули канаты с мычанием. Блестящий психологический жест в разгар войны, вошедший важной составной частью в миф турецкого народа о Завоевателе. «То было в высшей степени необычное зрелище, — писал Критовул, — невероятное даже для тех, кто видел его собственными глазами: корабли ехали но суше, как будто плыли по морю, с командами, парусами и всем своим снаряжением». С находившегося поблизости плато Заганос-паша продолжал обстреливать расположенную ниже гавань, а на расстоянии двух миль гигантские пушки крошили стены близ ворот Святого Романа.
Проба продолжалась: перевалив через хребет, судно начало с трудом спускаться в Долину Источников. Мехмед, дотошно вникавший в каждую деталь, переместил вторую батарею вниз, к берегу, дабы предотвратить нападения на суда, пока их будут спускать на воду. Задолго до наступления дня первый корабль очутился на месте, с плеском сойдя на спокойную воду Золотого Рога. Команда находилась в полной боевой готовности отразить любую неожиданную атаку. За ним быстро последовали другие. В течение дня на воду близ Долины Источников один за другим спустили около семидесяти кораблей. То были фусты — небольшие быстрые биремы и триремы, на которых помещалось «от пятнадцати до двадцати и даже до двадцати двух скамей для гребцов»; в длину они, вероятно, достигали семидесяти футов. Более крупные османские галеры остались в гавани снаружи, близ Диколона.
Галата (Пера) и Золотой Рог: Диколон находится справа вверху, Долина источников — под ветряной мельницей слева.
Все тонкости операции — хронометраж, маршрут, задействованные технологии — во многом остаются тайной. С практической точки зрения в высшей степени невероятно, что ее можно было закончить в двадцать четыре часа. Эргономика процесса — требовалось перетащить семьдесят кораблей на расстояние, насчитывавшее самое меньшее одну целую и двадцать пять сотых мили, причем подъем велся под углом в восемь градусов, а затем проконтролировать спуск (даже с помощью множества людей и животных и с использованием лебедок) — подразумевает куда более длительный промежуток времени. Возможно, более крупные корабли разобрали и собрали вновь возле побережья Золотого Рога задолго до 22 апреля, да и транспортировка остальных уже осуществлялась некоторое время. Тщательное планирование Мехмеда и характерная для него келейность привели к тому, что, как и во многих случаях, правда так и останется невыясненной. Однако все хронисты в один голос утверждают: 22 апреля корабли один за другим сошли на воду в бухте Галаты. Вся операция представляла собой ловкий стратегический и психологический ход, блистательно задуманный и выполненный. «Удивительное достижение и отличная уловка с точки зрения тактики морского боя», — пишет Мелиссин. Как оказалось, они повлекли за собой ужасные последствия для осажденных.
Стены, выстроенные вдоль Золотого Рога, прикрывала цепь, протянутая через бухту; это, а также мощное давление, постоянно оказываемое на стены, окружавшие Город с суши, привело к тому, что они вообще почти не охранялись. Лишь несколько солдат находилось поблизости, и они-то и разглядели, как первый корабль преодолел гребень стоявшего напротив холма и начался спуск судна на воду. Когда воины увидели это, быстро распространилась паника. Люди бежали по круто спускавшимся вниз улицам и в ужасе глядели с бастионов, как суда османского флота соскальзывали одно за другим в Золотой рог, — необычайно удачный в стратегическом и психологическом отношении ответный удар после триумфа оборонявшихся в битве на Босфоре.
Константин немедленно осознал, какие последствия будет иметь случившееся для его войск, и без того испытывавших немалые трудности: «Теперь, когда стена вдоль Рога оказалась доступна для атаки, им [обороняющимся] пришлось защищать ее, и им пришлось опустошить другие секторы обороны и послать людей туда. В том, чтобы забрать солдат с передовой, с других стен, заключалась очевидная опасность, поскольку оставшихся было слишком мало, чтобы те могли обороняться должным образом». Венецианцы, командовавшие операциями на море, также серьезно встревожились. Османский флот находился на расстоянии менее одной мили в узком проливе, имевшем всего несколько сот футов в ширину. Золотой Рог, служивший убежищем от нападения, теперь превратился в пугающую своей теснотой площадку для петушиных боев, где и вздохнуть негде.
Когда те, кто находился на наших кораблях, увидели фусты, то, несомненно, очень испугались, поскольку были уверены — ночью они атакуют наш флот, объединившись с вражеским флотом, находившимся у Диколона. Наш флот располагался на пространстве, огражденном цепью, турецкий — по обе стороны цепи, и, уже исходя из этого, можно судить, сколь велика была опасность. И кроме того, нас также весьма беспокоил огонь: они могли подойти и зажечь корабли, стоящие близ цепи, и в силу обстоятельств мы были вынуждены держать свои силы на море в боевой готовности день и ночь, охваченные великим страхом перед турками.
Защитникам стало ясно — попытка уничтожить находящийся внутри цепи флот является насущной необходимостью и должна быть предпринята немедленно. На следующий день в венецианской церкви Святой Марии собрался военный совет, созванный венецианским бальи и императором. Была поставлена четкая цель — «сжечь вражеский флот». На встрече присутствовало всего двенадцать человек. Они собрались тайно. Помимо Константина, большинство составляли венецианские командиры сухопутных войск и флота. Из посторонних был лишь один, с кем считались венецианцы, — генуэзец Джованни Джустиниани, «человек, сведущий во всем», чье мнение пользовалось всеобщим уважением. Последовал долгий и ожесточенный спор, в ходе которого участники с жаром выдвигали соперничавшие друг с другом идеи. Некоторые хотели предпринять полномасштабную атаку при свете дня с участием всего флота, что подразумевало и помощь генуэзских судов. Предложение отклонили: договориться с Галатой будет сложно, а действовать следовало быстро. Другие хотели использовать сухопутные войска, чтобы уничтожить пушки, защищавшие вражеский флот, а затем сжечь корабли. Такой вариант сочли слишком рискованным, учитывая малое количество имевшихся в распоряжении солдат. В конце концов Джакомо Коко, капитан галеры, прибывшей из Трапезунда, «человек дела, а не слов», веско высказался в пользу третьего мнения: предпринять небольшую морскую экспедицию ночью, дабы попытаться захватить турецкий флот врасплох и сжечь его. Готовить ее надлежало в строгой тайне, не советуясь с генуэзцами. Замысел предполагалось исполнить немедленно — время играло главную роль. Коко вызвался лично руководить попыткой. Предложение поставили на голосование, и оно одержало победу.
24 апреля Коко приступил к осуществлению своего плана. Он выбрал два торговых корабля, прочных, с высокими бортами, и укрепил по бортам мешки с шерстью и хлопком для защиты от каменных ядер османских пушек. Две большие галеры поставили сопровождать торговые суда и отражать любые контратаки. Наиболее же серьезный ущерб врагу должны были нанести две легкие, быстроходные фусты, на каждой из которых находилось по семьдесят два гребца. Их наполнили «греческим огнем» и другими горючими материалами, с помощью которых предполагалось поджечь вражеский флот. План выглядел простым: «вооруженные» парусники будут защищать более быстрые суда от пушек, пока те не приблизятся к врагу. Затем они внезапно появятся из-за «защитного экрана» и попытаются поджечь тесно скопившиеся османские корабли. Судам предстояло собраться через час после захода солнца — атаку назначили на полночь. Все было готово. Командующие собрались на галере Алевиза Дьедо, командующего в гавани, для последнего краткого совещания, когда исполнение плана неожиданно застопорилось. Генуэзцы, находившиеся в Городе, каким-то образом проведали об этом и захотели участвовать в нападении.
Они упорно настаивали на отсрочке, дабы подготовить свои корабли. Венецианцы с неохотой согласились. Атаку отложили.
Генуэзцам потребовалось четыре дня на подготовку кораблей. Обстрел стен, окружающих Город с суши, продолжался. Венецианцы ждали. «Мы медлили с 24 по 28 число этого месяца», — писал Барбаро. «28 апреля, во имя Господа нашего Иисуса Христа, решили совершить попытку сжечь флот коварных турок». Состав атакующей эскадры слегка изменили, дабы удовлетворить чувствительных, обидчивых генуэзцев: венецианцы и генуэзцы предоставили по одному обитому [хлопком] торговому судну; имелись также две венецианские галеры под командованием Габриэля Тревизано и Захарии Гриони, три быстроходных фусты с горючими материалами (их вел Коко) и несколько меньших судов с дополнительными запасами смолы, хвороста и пороха.
За два часа до наступления рассвета 28 апреля атакующие бесшумно выплыли из-за прикрывавших их стен Галаты на северо-восточной стороне Золотого Рога и двинулись, огибая кривую скрывавшегося в темноте берега, по направлению к Долине источников — расстояние было менее мили. Торговые суда — на генуэзском корабле находился Джустиниани — плыли первыми. Корабли, предназначенные для непосредственного участия в атаке, шли под прикрытием других судов. Ничто не двигалось в спокойных водах. Единственным признаком жизни оставался свет, часто вспыхивавший на вершине башни в генуэзской Галате. Пока суда плыли к османскому флоту, не слышалось ни звука.
Большие парусники могли идти на веслах куда медленнее, нежели быстрые многовесельные фусты, которые им предназначено было защищать. Неизвестно, чем был вызван поступок Джакомо Коко: то ли тревогой, возникшей в его сердце во время долгого пути в тишине, то ли сдерживаемым разочарованием, охватившим его из-за отсрочки нападения, то ли желанием «снискать мирскую славу». Однако он внезапно отказался от им же тщательно разработанного плана. По собственной инициативе он приказал своему судну возглавить эскадру, а затем велел грести изо всех сил к стоящему на якорях флоту, дабы начать атаку. Мгновение стояла тишина. Затем из темноты прогремел залп: пушки ударили по незащищенному судну. Первый выстрел едва не попал в цель. Второй поразил фусту в самую середину: ее пробило насквозь. «И прежде чем вы десять раз успели бы прочитать «Отче наш», эта фуста пошла ко дну», — писал Барбаро. В мгновение ока вооруженные солдаты и гребцы попадали в ночное море и исчезли.
В темноте люди на судах, шедших следом, не видели, что произошло: корабли продолжали двигаться вперед. При приближении обнаружилось, что у турок имеется немало орудий. «От пищалей и пушек было столько дыма, что ничего не было видно; с обеих сторон неслись неистовые крики». По мере продвижения судов большая галера Тревизано вышла на линию огня. В нее немедленно попали два пушечных ядра, пробивших корпус насквозь. Вода начала проникать в судно, однако двое раненых, лежавших под палубой, действуя с большим хладнокровием, сумели уберечь галеру от затопления. Заткнув дыры запасными плащами, они сумели сдержать напор воды. Поломанная галера, хотя и наполовину затопленная, как-то удерживалась на воде. Матросы с величайшим трудом гребли назад, к безопасному месту. Другие корабли старались довершить атаку, но мощный обстрел камнями, пушечными ядрами и прочими снарядами, а также вид поврежденной галеры принудили их отступить.
Начинался рассвет, однако в суматохе два больших торговых корабля удерживались на якорях, заняв оборонительную позицию, не зная об отходе прочих сил. Увидев неожиданно оказавшиеся изолированными корабли, османский флот снялся с якоря, рассчитывая окружить и захватить их. «Разыгралась ужасная и жестокая битва… казалось, мы видим ад воочию; не было числа снарядам и пулям; то и дело раздавался гром пушек и прочих орудий». Моряки-мусульмане выкрикивали имя Аллаха, в то время как их семьдесят небольших судов роем двинулись в схватку с врагом. Однако два транспорта, обитые [хлопком], высокобортные, с опытными командами, могли не подпустить их к себе. Рукопашный бой кипел в течение полутора часов, и нельзя было сказать, на чьей стороне перевес, пока те [османы] не вышли из сражения и не возвратились к месту стоянки. Османы потеряли одну фусту, однако было очевидно, кто одержал победу. «В турецком лагере царило великое торжество, ибо они отправили фусту капитана Джакомо Коко на дно, — вспоминал Барбаро, — а мы в страхе рыдали из-за того, что турецкий флот вырвал у нас победу». Итальянцы подсчитали свои потери: одна фуста затонула, имея на борту команду и еще немало людей — всего около девяноста искусных моряков и солдат, — другая получила серьезные повреждения, итальянцы утратили превосходство на море. Имена из длинного списка убитых хорошо знали их оставшиеся в живых товарищи: «Джакомо Коко, капитан; Антонио де Корфу, компаньон; Андреа Стеко, помощник капитана; Жуан Мараньон, арбалетчик; Троило де Грези, арбалетчик…» и так далее. «Все пошли ко дну вместе с фустой и захлебнулись, да смилостивится над ними Господь».
Однако с наступлением утра 29 апреля оказалось — дело обстоит еще хуже. Обнаружилось, что не все пропавшие утонули. Около сорока человек спаслось с затонувшего судна, и под покровом темноты, в неразберихе, возникшей в ходе битвы, они выбрались на турецкий берег. Их взяли в плен. Теперь Мехмед велел посадить их на кол на виду у жителей города — как наказание и предупреждение. Выжившие в ужасе следили со стен за приготовлениями. То, что они увидели, живо описал Якопо де Кампи, генуэзский купец (к тому моменту он двадцать пять лет вел торговлю в османской империи):
Великий Турок [приказывает] людям, которых он желает подвергнуть казни, лечь на землю; острый длинный кол помещают в выход прямой кишки; держа обеими руками большую колотушку, палач забивает ее со всей силы, так что кол, именуемый пало, вонзается в тело человека, и в зависимости от того, на какую длину он вошел, человек кончается в муках или умирает мгновенно; затем палач поднимает кол и втыкает его в землю; и так несчастного оставляют при последнем издыхании; он более не живет.
Итак, «колья были вкопаны, и они [казненные] были оставлены умирать на виду у тех, кто охранял стены».
Европейские писатели того времени многократно изображали этот способ казни, причем считали, что его применяют одни лишь турки. Сажание на кол, особенно в качестве средства деморализовать защитников осажденных городов, являлось очень распространенной «шоковой тактикой», которой османы научились на христианских Балканах. Впоследствии они сами стали жертвами одного из самых печально знаменитых проявлений жестокости в таком роде: сообщают, что двадцать пять тысяч турок погибли, посаженные на кол Владом Дракулой на дунайских равнинах в 1461 году. Даже Мехмед ужаснулся, услышав рассказы очевидцев. Его преследовало видение «бесчисленных кольев, вкопанных в землю, отягощенных не плодами, но трупами». В центре «композиции» на самом высоком колу (дабы отметить статус казненного) торчало тело Хамзы-бея, бывшего некогда адмиралом Мехмеда, в так и не снятых с него пурпурных одеждах, приличествовавших его должности.
Днем 28 апреля вид посаженных на кол итальянских моряков, хорошо различимых со стены, возымел желанный эффект: «скорбь о юношах, охватившая Город, не поддается описанию», — сообщал Мелиссин. Однако от горя горожане быстро перешли к ярости. Пытаясь облегчить боль утраты и разочарование из-за неудачной атаки, они ответили жестокостью на жестокость. С начала осады в Городе содержалось примерно двести шестьдесят плененных турок. На следующий день, вероятно, по распоряжению Константина, защитники Города отомстили осаждающим. «Наших людей охватил гнев, и они жестоко умертвили турок, которых содержали в тюрьме, на виду у их товарищей». Одного за другим их выводили на бастионы и вешали «по нескольку человек» перед лицом наблюдавшей за происходящим османской армии. «Таким образом, — с сожалением писал архиепископ Леонард, — из-за смеси нечестия и бесчеловечности война стала еще более ожесточенной».
Трупы повешенных узников и посаженных на кол моряков скалились друг на друга через линию фронта, однако по завершении цикла насилий стало очевидно — инициатива вновь перешла к осаждающим. Османский флот по-прежнему стоял в бухте, и защитники понимали: в основном контроль над Золотым Рогом ими потерян. Провалившаяся ночная атака сильно уменьшила шансы оборонявшихся. По размышлении причины неудачи стали ясны. На головы виновных посыпались проклятия, причем особенно негодовали сами же итальянцы. Конечно же, отсрочка предложенной Коко атаки оказалась роковой. Каким-то образом врагу удалось узнать планы осажденных, и он устроил засаду: Мехмед передвинул дополнительные пушки к внутренней части гавани, подготовившись к вылазке противника, а свет с башни в Галате стал сигналом, поданным кем-то из генуэзской колонии. Между группировками итальянцев готова была вспыхнуть ссора.
Глава 11 Ужасные машины 28 апреля — 25 мая 1453 года
Для ведения осады нужны машины: различные виды «черепах»… деревянные башни, которые можно перенести с места на место… лестницы разных видов… различные инструменты для того, чтобы прорыть стены разных видов… машины, дабы забираться на стены без помощи лестниц.
Руководство по ведению осады (X в.)Осадная башня атакует замок.
Увы, о всеблагой Отец, какая страшная катастрофа! О, почему ярость Нептуна в один миг отправила их на дно!» Взаимные обвинения после неудачной ночной атаки, причем весьма резкие, зазвучали немедленно. В этой катастрофе венецианцы потеряли от восьмидесяти до девяноста своих близких товарищей, и виновники, как они считали, были им известны: «Предательство совершили генуэзцы из Перы, восставшие на веру христианскую, — заявлял Николо Барбаро, — дабы выказать свое дружественное отношение к турецкому султану». Венецианцы утверждали — кто-то из Галаты отправился в лагерь султана и сообщил о плане. Они называли имена: или самого подеста, отправившего своих людей к султану, или человека по имени Фаузо. Генуэзцы обвиняли в поражении венецианцев: Коко был «столь жаден до почестей и славы», что проигнорировал инструкции, и в результате экспедиция потерпела неудачу. Более того, они упрекали венецианских моряков, будто те тайно нагружают свои корабли и готовятся к бегству из Города.
Разразился грандиозный скандал: «каждая из сторон обвиняла другую в намерении бежать». На поверхность всплыла вражда между итальянцами, уходившая корнями в глубокое прошлое. Венецианцы вновь разгрузили корабли по приказу императора и предложили генуэзцам тоже «отнести рули и паруса в Константинополь в безопасное место». Генуэзцы отвечали, что у них нет намерения покидать Город: дескать, в отличие от пришельцев из Венеции у них в Галате есть жены, семьи и имущество, «и они намерены защищать их до последней капли крови» — и отказались передать «свой славный город, украшение Генуи, во власть» венецианцев. Весьма двусмысленный характер позиции генуэзцев, живущих в Галате, давал и осажденным, и осаждающим повод для обвинения в обмане и предательстве. Они торговали с теми и с другими, однако их симпатии, естественно, были на стороне братьев-христиан, и они скомпрометировали свой внешний нейтралитет, позволив прикрепить цепь к своим стенам.
Вероятно, Константину пришлось самому вмешаться в ссору между подозрительными итальянцами, однако Золотой Рог оставался зоной, вызывавшей неослабное напряжение. Моряки-христиане, боявшиеся ночных нападений, а также быть взятыми в клещи двумя частями османского флота (одна находилась внутри бухты, близ Долины источников, другая — за ее пределами, у Диколона), не могли вздохнуть спокойно. День и ночь они пребывали в состоянии боевой готовности, напрягая слух и ожидая приближения брандера. У Долины источников заряженные османские пушки оставались направлены на предполагаемый сектор атаки, однако турецкие корабли не двигались. Потеряв Коко, венецианцы провели реорганизацию. На его галеру назначили другого капитана — Дольфина Дольфина. Высказывались также новые соображения о том, как уничтожить османские корабли в бухте. Очевидно, после неудачи 28 апреля атаковать с судов сочли слишком рискованным делом, и было принято решение использовать долгосрочные средства, дабы доставить противнику неудобства.
3 мая обороняющиеся поместили две довольно большие пушки близ водяных ворот, выходивших к Золотому Рогу прямо напротив османского флота, на расстоянии примерно семисот ярдов от него, и стали стрелять по кораблям. Многообещающее начало: несколько фуст затонуло, и «многие из их людей были убиты в результате нашего обстрела», как писал Барбаро. Однако османы быстро приняли ответные меры. Они отвели корабли за пределы досягаемости, а затем дали ответный залп из трех больших пушек, «причинив [врагу] значительный ущерб». Десять суток подряд две батареи день и ночь стреляли через пролив, однако ни те ни другие не могли подбить вражеское орудие, «поскольку наши пушки находились за стенами, а их были защищены прочной насыпью, притом что обстрел велся на расстоянии полумили». Таким образом, в ходе противостояния возникла патовая ситуация. Напряженность в бухте продолжала сохраняться, и 5 мая Мехмед нанес артиллерийский удар по собственной инициативе.
Некоторое время он непрерывно раздумывал над тем, как бомбардировать корабли у заграждения, учитывая, что стены Галаты будут находиться в секторе обстрела. Мехмед решил — необходимо создать пушку с более изогнутой траекторией полета ядра, способную стрелять из-за генуэзского поселения. Он приказал своим пушкарям создать примитивную мортиру, «которая могла бы посылать снаряды очень высоко, так что когда камень упадет, он поразит судно прямо посредине и потопит его». В должный срок мастера отлили новую пушку. Ее поместили на холме за Галатой, и обстрел начался. Траектория усложнялась за счет того, что стены городка находились в секторе обстрела, но это, несомненно, было выгодно Мехмеду: таким образом он получал возможность оказывать психологическое давление на генуэзцев, вызывавших у него подозрения. Когда первые выстрелы из мортиры прогремели над крышами, жители города, несомненно, ощутили, как османская петля все туже стягивает их анклав. Но вот «с вершины холма прогрохотал» третий выстрел за день. Ядро поразило не вражеское судно, а палубу нейтрального генуэзского купеческого корабля водоизмещением «в триста бочек, нагруженного шелком, воском и другими товарами стоимостью двенадцать тысяч дукатов. Он немедленно пошел ко дну, так что ни верхушку мачты, ни корпуса было уже не видать, и немало людей, находившихся на нем, утонуло». Тут же все суда, охранявшие заграждение, двинулись под защиту стен Галаты. Обстрел продолжался. Дальность его понемногу уменьшалась, и ядра начали поражать стены и дома самого городка. Люди на галерах и кораблях гибли от ударов каменных снарядов. «Некоторые выстрелы убивали по четыре человека», однако стены служили надежной защитой для кораблей, и ни одно судно больше не затонуло. Генуэзцы впервые очутились непосредственно под огнем, и хотя погибла только одна жительница города — «женщина безупречной репутации, стоявшая посреди группы из тридцати человек», декларация о намерениях османов прозвучала недвусмысленно.
Выразить недовольство этим нападением из городка в лагерь султана отправилась депутация. Визирь и бровью не повел. Он заявил, что турки полагали, будто корабль принадлежит врагу, и вежливо заверил: «все, что следует, будет выплачено», когда Город наконец падет. «Сие враждебное действие — вот истинная плата турок за дружбу, явленную им генуэзцами», — саркастически высказался Дука, намекая на информацию, благодаря которой атака Коко была сведена на нет. Тем временем каменные ядра по-прежнему проносились по изогнутой траектории над Золотым Рогом. К 14 мая, согласно сведениям Барбаро, османы произвели выстрелы «двумя сотнями и двенадцатью каменными ядрами; каждое из них весило самое меньшее двести фунтов». Флот христиан невозможно было использовать — его в буквальном смысле приперли к стене. Задолго до наступления этого дня стало ясно — христиане потеряли возможность эффективно контролировать Золотой Рог, а насущная нужда в людях и материалах на стенах, ограждавших Город с суши, еще более усиливала разногласия между моряками. Теперь, когда напряжение уменьшилось, Мехмед приказал построить понтонный мост через бухту выше Города, неподалеку от стен, намереваясь сократить линии сообщения и получить возможность перемещать людей и орудия, как ему будет угодно.
* * *
Мехмед также усилил нажим и со стороны стен, ограждавших Город с суши. Он начал использовать тактику изматывания и все увеличивавшегося психологического давления. Теперь, когда защитникам пришлось еще больше растянуть свои силы, он решил изнурить их, ведя непрерывный обстрел из пушек. В конце апреля он передвинул некоторые из больших орудий к центральному участку стены близ ворот Святого Романа, «ибо в том месте стена городская была и ниже и обветшала», хотя по-прежнему яростно атаковалась одиночная стена в районе дворца. Пушки стреляли день и ночь. То и дело через нерегулярные промежутки времени организовывались небольшие стычки, дабы проверить, насколько ослабела защита. Иногда обстрел прекращался на несколько дней, чтобы усыпить внимание обороняющихся и вызвать у них обманчивое ощущение безопасности.
Ближе к концу апреля мощный обстрел уничтожил верхнюю часть стены высотой около тридцати футов. Однажды после наступления темноты люди Джустиниани в очередной раз принялись за работу, заделывая брешь земляной насыпью. На следующее утро пушки возобновили атаку. Однако к полудню пороховая камера одной из них треснула (вероятно, причиной послужила трещина в стволе, хотя русский хронист Нестор Искандер заявляет — орудие разрушил выстрел из пушки защитников Города). Мехмед пришел в ярость и тут же отдал приказ идти на приступ. Начавшееся нападение застало защитников врасплох. Завязалась отчаянная схватка. В Городе зазвонили колокола, и люди кинулись на бастионы. «От стука оружия и сверкания его казалось, будто весь Город содрогается до основания». Атакующие османские войска были сброшены вниз; их затоптали те, кто следовал за ними, в неистовстве спеша достичь стен. Отвратительное зрелище, по словам Нестора Искандера: «И наполнились рвы доверху трупами человеческими, так что через них карабкались турки, как по ступеням, и сражались, мертвецы же были для них как бы мост и лестница к стенам городским». В конце концов атаку с громадным трудом удалось отразить, хотя продолжалась она до наступления ночи. Трупы грудами лежали в канавах, «наполнившихся кровью». Обессиленные солдаты и горожане отправились спать, оставив раненых стонать за стенами. На следующий день монахи вновь взялись за свой скорбный труд: они хоронили погибших христиан и подсчитывали число павших врагов. Константина, переутомленного изнурительной борьбой, конечно же, удручали серьезные потери.
Действительно, усталость, голод и отчаяние начали оказывать пагубное действие на защитников Города. К началу мая поставки стали стремительно сокращаться. Теперь торговать с генуэзцами в Галате сделалось труднее, а отправляться в Золотой Рог на рыбную ловлю — опаснее. Во время затишья солдаты на стенах начали покидать свои посты в поисках пропитания для своих семей. Османы узнали об этом и стали предпринимать неожиданные набеги. Крючьями на палках они стаскивали с бастионов бочки, наполненные землей; случалось, что турки открыто приближались к стенам и доставали сетями пушечные ядра. Вновь зазвучали взаимные обвинения. Генуэзский архиепископ Леонард упрекнул греков, покидавших свои посты, в трусости. Те отвечали: «Что нам до обороны, если наши семьи пребывают в нужде?» Другие, полагал он, «были объяты ненавистью к латинянам». Раздавались обвинения в сокрытии продовольствия, трусости, спекуляции и обструкциях. Национальность, язык и вера дали поводы для разногласий. Джустиниани и Нотарас ссорились из-за людских резервов и материалов, необходимых для ведения войны. Леонард порицал поведение «иных людей, которые — о кровопийцы! — прятали запасы пищи или поднимали цену на нее». В тяжелых условиях осады хрупкий союз между христианами начал распадаться. Леонард проклинал Константина за неспособность контролировать ситуацию: «Императору не хватает строгости, и те, кто не подчинится ему, не будут наказаны ни словом, ни мечом». Вести о размолвках, вероятно, просачивались за крепостные стены и доходили до Мехмеда. «Начался раздор между силами, оборонявшими город», — писал о тех днях османский хронист Турсун-бей.
Стремясь сделать так, чтобы люди не пренебрегали охраной стен, отправляясь на поиски пищи, Константин приказал ежевечерне выдавать продовольствие семьям солдат. Положение было столь серьезным, что, посоветовавшись с министрами, император начал реквизировать церковную утварь, дабы переплавить ее в монеты и платить солдатам, а те смогли купить любую имевшуюся в наличии пищу. Ход, пожалуй, сомнительный, вряд ли снискавший ему симпатии благочестивых сторонников православия, воспринимавших страдания, которые выпали на долю горожан, как следствие грехов и заблуждений.
Дискуссии между командующими продолжались. Присутствие неприятельского флота в бухте Золотой Рог весьма затрудняло ведение обороны. Защитникам пришлось провести соответствующую перегруппировку войск. Наблюдатели не сводили с моря глаз буквально двадцать четыре часа в сутки, однако ничто не двигалось на западном горизонте. Вероятно, 3 мая был созван большой совет, включавший командующих, высших чиновников и иерархов, для обсуждения ситуации. Орудия все так же били по стенам, боевой дух слабел. Все понимали — приближается решающая атака. В атмосфере [дурных] предчувствий участники собрания попытались убедить Константина покинуть Город и отправиться на Пелопоннес, где он смог бы провести перегруппировку, собрать свежие силы и нанести новый удар. Джустиниани предложил свои галеры для бегства императора.
Хронисты приводят эмоциональное описание того, как ответил Константин. Он «долго молчал, обливаясь слезами, и так им ответил: «Хвалю и ценю совет ваш и знаю, что дан он мне на мое же благо, ибо может все так и случиться. Но как я могу совершить подобное и покинуть священство, и церкви Божии, и империю и всех людей? И что обо мне скажет весь мир, молю нас — ответьте мне? Нет, господа мои, нет, но да умру здесь с вами». И, пав, поклонился, горько плача. Патриарх же и все находившиеся тут люди умолкли и заплакали».
Придя в себя, Константин внес практическое предложение: венецианцы должны сейчас же отправить корабль в восточную Эгеиду на поиски идущего на выручку флота. Двенадцать человек вызвалось исполнить труднейшую задачу — прорвать османскую блокаду. Для осуществления плана подготовили бригантину. Ближе к полуночи в ночь на 3 мая матросы, одетые турками, взошли на борт маленького судна, привязанного к заграждению. Подняв османский флаг, они распустили парус. Судно незаметно проскользнуло между вражескими патрулями и устремилось на восток по Мраморному морю под покровом темноты.
Мехмед продолжал вести обстрел стен, невзирая на технические неполадки с большими пушками. 6 мая он решил, что момент для решающего удара наступил: «он отдал приказ всей своей армии еще раз двинуться маршем на Город и сражаться целый день». Новости, пришедшие из Города, вероятно, убедили его, что дух обороняющихся сломлен; возможно, он также получил предупреждение, что итальянцы понемногу собирают силы для освобождения Города. Мехмед почувствовал — ненадежность центрального участка стены в настоящий момент может сыграть в происходящем решающую роль и решил предпринять еще одну мощную атаку.
Большие орудия начали стрельбу 6 мая. Их поддержали пушки меньшего размера (подобный способ используется и в наши дни). Все это сопровождалось «криками и стуком кастаньет, дабы напугать население Города». Вскоре обрушился еще один кусок стены. Защитники дождались ночи, чтобы провести ремонт, но на этот раз одна из пушек не прекратила стрелять и в темноте. Починить брешь оказалось невозможно. На следующее утро орудие, находившееся недалеко от подножия стены, продолжило усиленную стрельбу и вновь уничтожило значительный ее участок. Османы не прекращали огня весь день. Примерно в семь часов вечера начался мощный штурм: нападающие ринулись в брешь, как всегда, производя ужасный шум. Вдали, в гавани, христиане услышали дикие крики и схватились за оружие, опасаясь атаки османского флота. Тысячи воинов пересекли ров и бросились к пролому. Однако численное превосходство не сыграло на руку атакующим в условиях ограниченного пространства. Нападающие опрокидывали друг друга, изо всех сил стараясь проложить путь в Город. Джустиниани устремился навстречу незваным гостям, и в проломе завязался отчаянный рукопашный бой.
Во время первой волны атаки штурм возглавил янычар по имени Мурад. Он устремился к Джустиниани, желая зарубить его. Генуэзца спасло от смерти только то, что со стены спрыгнул грек и отрубил нападающему ноги топором. Вторую волну возглавил некий Омар Бей, знаменосец Европейской армии. Его встретил значительный отряд греков под командованием офицера по имени Рангави. В суматохе боя, где люди рубили и кромсали друг друга, предводители приготовились сразиться один на один на глазах у своих солдат. Омар «обнажил меч и напал на него [на Рангави], и оба ожесточенно рубились. Ракхавей[23] [Рангави] же, встав на камень и взяв меч обеими руками, ударил противника по плечу и рассек его надвое, ибо имел в руках великую силу». Придя в ярость при виде гибели своего командира, османские войска окружили Рангави и поразили его насмерть. Обе стороны продолжали сражаться за его тело, что напоминало сцену из «Илиады». Греки отчаянно дрались, стремясь заполучить павшего; они выбежали из ворот толпой, «но не смогли [отбить тело], и многие из них пали». Османы изрубили на куски изувеченный труп и оттеснили греческих солдат назад, в Город. Битва свирепствовала три часа, однако защитники успешно держались. Когда бой утих, османы вновь начали стрелять из пушки, не давая защитникам заделать брешь, и предприняли второй диверсионный рейд — они хотели поджечь ворота близ дворца. Их попытка также провалилась. В темноте Джустиниани и измотанные защитники трудились, восстанавливая временные укрепления. Так как по стене велась стрельба, им пришлось построить защитный барьер из земли и древесины немного ближе, чем прежде. Стена держалась — но едва-едва. А в Городе «зарыдали греки и пришли в отчаяние от гибели Ракхавея, ибо был он доблестный и мужественный воин и любим цесарем».
Для защитников Города повторяющиеся циклы — бомбардировка, атака, ремонт — начали сливаться в одно целое. Подобно дневникам участников позиционной войны, отчеты хронистов становятся монотонными: авторы начинают повторяться. «Одиннадцатого мая, — записывает Барбаро. — В тот день ничего не произошло ни на суше, ни на море, за исключением мощного обстрела стен со стороны берега, а более ничего такого, что заслуживает упоминания… тринадцатого мая под стены пришли турки, и завязалась перестрелка, однако ни днем, ни ночью не произошло ничего значительного, за исключением продолжительного обстрела и без того находящихся в плачевном состоянии стен». Нестор Искандер начинает терять нить времени. Нарушается последовательность событий, они сливаются и повторяются. И солдаты, и горожане все сильнее уставали от сражений, от необходимости проводить ремонт, закапывать трупы и подсчитывать убитых врагов. Османы, с их скрупулезным отношением к гигиене в лагере, выносили мертвецов прочь и ежедневно сжигали их, но рвы по-прежнему оставались забитыми гниющими трупами. Тела погибших создавали угрозу заражения запасов воды: «Кровь же, оставшаяся во рвах и потоках, разлагаясь, издавала великий смрад». В Городе все больше людей устремлялись в церкви, надеясь на чудотворную силу икон. Они были поглощены мыслями о грехе и теологическими истолкованиями событий. «И было видно повсюду в Городе, как все мужчины и женщины устремились к Божьим церквам, со слезами славя и благодаря Бога и пречистую Богоматерь». В лагере османов смену дневных часов отмечали призывы к молитве. Среди войск бродили дервиши, приказывавшие верным держаться стойко и помнить о пророчествах Хадиса: «В джихаде против Константинополя треть мусульман потерпит поражение, и Аллах не простит им этого; треть будет убита в бою — они станут святыми мучениками; треть же одержит победу».
Поскольку потери продолжали расти, Константин и его командиры в тревоге искали возможности «закрыть бреши». Однако их лихорадочные попытки объединить усилия всех защитников Города терпели неудачу. Мегадука Лука Нотарас ссорился с Джустиниани, а венецианцы во многом действовали самостоятельно. Единственные резервы живой силы и оружия, не использованные до сих пор, оставались на галерах, и с соответствующей просьбой обратились к венецианской общине. 8 мая собрался венецианский Совет Двенадцати. Он проголосовал за то, чтобы выгрузить оружие, хранившееся на трех венецианских галерах, и передать его людям на стенах, а затем затопить галеры в арсенале. Отчаянная мера, призванная обеспечить самое горячее участие моряков в судьбе Города, однако она вновь спровоцировала чрезвычайно сильную негативную реакцию. Разгрузка вот-вот должна была начаться, но тут команды бросились к трапам, с обнаженными мечами в руках преграждая путь, и заявили: «Посмотрим, кто возьмет груз с этих галер! Мы знаем: как только мы разгрузим галеры и затопим их в арсенале, греки тут же захватят нас силой и станут держать в Городе в качестве рабов, тогда как сейчас мы вольны уплыть или остаться». Опасаясь, что единственное средство к спасению будет уничтожено, капитаны и экипажи опечатали свои корабли и не поддавались ни на какие уговоры. Весь день турки обстреливали стены с неукротимой яростью. В соответствии с неотложными требованиями ситуации совет был вынужден на следующий день встретиться снова и внести коррективы в свои планы. На сей раз капитан двух больших галер Габриэль Тревизано дал согласие разоружить свои суда и присоединиться вместе со своими силами в четыреста человек к защитникам ворот Святого Романа. На то, чтобы склонить людей к сотрудничеству и уговорить их перенести вооружение, ушло четыре дня. Они прибыли 13 мая; задержка едва не оказалась роковой.
Хотя Мехмед сосредоточил огневую мощь на участке близ ворот Святого Романа, несколько пушек продолжали вести обстрел того места у дворца, где стена Феодосия столь неудачно соединялась с одиночной стеной. К 12 мая орудия уничтожили часть внешних укреплений, и Мехмед решил предпринять на этом участке массированную ночную атаку. Ближе к полуночи огромные силы двинулись в пролом. Защитников застигнули врасплох и оттеснили назад со стены силами под командованием Мустафы, знаменосца Анатолийской армии. С других участков стены устремились подкрепления, однако османы продолжали отбрасывать их; они начали карабкаться на стену по штурмовым лестницам. Ужас распространился по узким улицам вокруг дворца. Горожане в панике бросились бежать со стены, и многие «думали в ту ночь, что Город потерян».
В тот момент, согласно Нестору Искандеру, в трех милях от места событий, под портиком Святой Софии, шел военный совет. Участники были настроены мрачно: ситуация сложилась весьма тяжелая. Ряды защитников непрерывно редели день ото дня: «если так и дальше будет — всех нас перебьют и Город возьмут». В подобных обстоятельствах Константин прямо предложил своим командирам: они могут либо сделать вылазку под покровом ночи и попытаться внезапно атаковать османов и нанести им поражение, либо оставаться в бездействии и ожидать неизбежного, надеясь на спасение со стороны венгров или итальянцев. Лука Нотарас требовал держаться до конца, тогда как остальные вновь умоляли Константина покинуть Город. В этот миг пришла весть о том, что «турки уже взошли на стену и одолевают горожан».
Константин поскакал ко дворцу. В темноте навстречу ему от пролома бежали горожане и солдаты. Он напрасно пытался повернуть их вспять. Ситуация ухудшалась с каждой минутой. В Город начала проникать османская кавалерия. Теперь бой шел внутри городских стен. Появление Константина и его охраны сплотило греческих солдат: «цесарь, подоспев, кликнул, ободряя своих». С помощью Джустиниани он отбросил вторгшихся в Город османов назад и расколол их силы надвое. Очутившись в лабиринте узких улиц, турки оказались в ловушке. Загнанные в угол, они предприняли яростную контратаку, желая добраться до императора, однако тот остался невредим. Опьяненный погоней, он гнал часть турок до самого пролома в стене — и поскакал бы за ними и дальше, однако «вельможи из императорской свиты и его германские телохранители остановили его и настояли на том, чтобы он ехал назад». Тех из османских воинов, кому не удалось спастись бегством, перебили на темных улицах. На следующее утро горожане оттащили тела на стены и побросали в канаву, дабы товарищи могли подобрать их. Город устоял, но каждая атака уменьшала шансы защитников на выживание.
Так произошло последнее нападение Мехмеда на участок стены близ дворца. Несмотря на неудачу, он ощутил, что вот-вот добьется успеха. По-видимому, теперь он решил сконцентрировать всю имевшуюся в его распоряжении огневую мощь на наименее защищенном участке городских укреплений — воротах Святого Романа. 14 мая, узнав, что христиане разоружили некоторые из своих галер и отвели большую часть кораблей 13 маленькую гавань позади заграждения, он заключил — его собственные суда в бухте находятся в относительной безопасности. Тогда он убрал орудия с Галатского холма и расставил их вдоль стен, ограждавших Город с суши. Первоначально он расположил их так, чтобы они обстреливали стену близ дворца. Когда это оказалось неэффективным, он вновь переместил их к воротам Святого Романа. Теперь султан в основном сконцентрировал пушки на одном участке, а не рассредоточил их по широкому фронту. Обстрелы стали еще более яростными: «День и ночь эти пушки не прекращали стрельбу по нашим несчастным стенам, так что во многих местах сровняли их с землей, и мы — те, кто находился в Городе — трудились день и ночь, чтобы как следует починить стены там, где они были разрушены, используя для этого бочки, и хворост, и землю, и все прочее, что могло пригодиться». Именно здесь разместились свежие силы, пришедшие с галер под командованием Тревизано: у них имелись «хорошие пушки, хорошие орудия, хорошая артиллерия, а также немало арбалетов и другого вооружения».
В то же время по приказу Мехмеда корабли, защищавшие заграждение, находились под постоянным прессингом. 16 мая, незадолго до полуночи, обороняющиеся увидели, как несколько бригантин отделилось от основных сил османского флота в проливе и на полной скорости устремилось к заграждению. Наблюдавшие за ними моряки предположили, что на них находились рекруты-христиане, бежавшие с османского флота, «и мы, христиане, ожидали их у цепи с великой радостью». Однако, подплыв ближе, суда открыли огонь по оборонявшимся. Тут же, чтобы отогнать их, вперед двинулась одна из итальянских бригантин. Непрошеные гости пустились наутек. Корабли христиан едва не настигли их, но те «поспешно начали грести и ускользнули назад к своему флоту». На следующий день османы вновь предприняли «проверку» заграждения с помощью пяти быстроходных фуст. Дав по ним «более семидесяти выстрелов», защитники прогнали их.
Третью и последнюю атаку заграждения провели перед рассветом 21 мая, на сей раз силами всего флота. Суда быстро подошли на веслах к цепи «под громкие звуки своих [османских] тамбуринов и кастаньет — так они хотели напугать нас». Затем они остановились, оценивая силу противника. Корабли у заграждения находились в боевой готовности. Казалось, вот-вот разразится большое морское сражение, но тут из Города послышался сигнал тревоги, возвестивший начало генерального штурма. При этих звуках все корабли в Золотом Роге устремились на свои места. По-видимому, и командиры османского флота пересмотрели свои намерения. Их суда развернулись и поплыли обратно к Диколону, а «через два часа после восхода солнца с обеих сторон царил полный покой, как будто никакой морской атаки не было и в помине». То была последняя попытка захватить заграждение. По всей вероятности, слишком низкий боевой дух османского флота, в большей мере укомплектованного гребцами-христианами, не позволил им бросить серьезный вызов христианскому флоту. Однако из-за маневров обороняющиеся не могли передохнуть ни минуты.
Мехмед вел зловещие приготовления повсюду. 19 мая турецкие инженеры закончили строительство понтонного моста. Он должен был закачаться на поверхности Золотого Рога, достигая берега непосредственно под городскими стенами, — еще одна гениальная импровизация. В состав конструкции понтона входила тысяча больших бочек (несомненно, полученных от употреблявших вино христиан, жителей Галаты). Их связывали попарно, а сверху устроили настил из досок. Получившаяся дорога была достаточно широка, чтобы по ней могло пройти в ряд пять солдат, и достаточно прочна, чтобы выдержать повозку. Такой мост позволял сократить пути сообщения между двумя флангами армии Мехмеда (прежде они огибали верхушку Рога). Барбаро предполагает, что постройка Мехмедом понтонного моста осуществлялась в ходе подготовки генерального штурма, во время которого ему могла понадобиться быстрая переброска людей, однако мост должен был оказаться на водах Золотого Рога лишь в конце осады: ведь «если бы мост протянулся через Рог до начала решающей атаки, его можно было бы разрушить одним выстрелом из пушки». Все эти приготовления хорошо видели с городских стен. Они порождали у защитников тягостное ощущение: сколь велико число людей и количество материалов, доставленных сюда Мехмедом для ведения осады! Однако куда сильнее христиане испугались, когда их взору предстали конструкции, созданные инженерами: такого они до сих пор не видели.
К середине мая Мехмед сократил силы защитников Города до предела — однако они по-прежнему были не сломлены. Он полностью задействовал возможности армии и флота, предпринимал атаки, обстрел и блокаду, использовав таким образом три ключевых метода ведения осады в Средние века. Оставалась последняя классическая стратегия — до настоящего времени он уделял ей не слишком много внимания — подкоп.
В Сербии — одной из стран в вассальной зависимости от Османской империи — находится Ново-Брдо, наиболее значимый город во внутренних районах Балкан, знаменитый на всю Европу серебряными рудниками. Славянские войска, мобилизованные в ходе кампании, включали в себя группу опытных горняков из этого города — вероятно, саксонцев-иммигрантов. То были «мастера в искусстве прокапывать и срывать до основания горы; для их инструментов мрамор был все равно что воск, а черные горы — то же, что кучи грязи». Еще в начале осады они предприняли попытку сделать подкоп под стену на центральном участке, однако план не реализовался, поскольку почва оказалась неподходящей. В середине мая, когда другие способы себя не оправдали и пошел второй месяц осады, начали новую операцию. На сей раз копали возле одинарной стены близ дворца. Подкоп, хотя и требовавший значительных трудозатрат, являлся одним из наиболее эффективных способов разрушения стен, и мусульманские армии успешно использовали его несколько столетий. К концу XII века преемники Саладина научились захватывать мощные крепости крестоносцев за шесть недель, сочетая обстрел и подкоп.
Примерно в середине мая саксонцы с серебряных рудников начали вести подкоп из-за османских траншей под защитой палисадов и бункеров. Им предстояло одолеть двести пятьдесят ярдов. Изнурительная работа, требовавшая большого умения и исключительно сложная. При свете чадивших факелов минеры прокапывали подземные туннели, по мере продвижения укрепляя их деревянными опорами. Во время прежних осад, предпринятых османами, попытки подкопа стен оказались неудачными. Горожане полагали — это мнение считалось общепризнанным и было воспринято от дедов, — что сделать подкоп ни в коем случае не удастся: земля вблизи стен по большей части представляла собой твердый камень. На исходе ночи 16 мая защитники Города с ужасом обнаружили, что ошибались. Солдаты на бастионах случайно услышали звонкие удары киркомотыг и приглушенные голоса, шедшие из-под земли внутри стены. Очевидно, подкоп проходил под укреплениями и мог позволить нападающим тайно войти в Город. О происходящем немедленно сообщили Нотарасу и Константину. Тут же был созван совет. В Городе начались поиски людей, искусных в горном деле, дабы оказать противодействие новой угрозе. Человек, выбранный для организации обороны против нападения из-под земли, был любопытной персоной: «Иоанн Грант, немец, опытный солдат, искушенный в военном деле», прибыл на помощь осажденным вместе с Джустиниани. На самом деле то был шотландец, которому, вероятно, довелось работать в Германии. Остается лишь гадать, какие пути привели его в Константинополь. Очевидно, он хорошо разбирался в военном деле, ведении осад и строительстве, и на короткое время ему выпала центральная роль в одном из наиболее странных эпизодов в истории осады.
По-видимому, Грант знал свое дело. Месторасположение вражеского подкопа установили по звуку работ. Быстро и незаметно осажденные вырыли собственный подкоп. Они имели преимущество перед противником, поскольку их действия явились для него неожиданностью. Ворвавшись во тьме во вражеский туннель, они подожгли подпоры и обрушили свод на минеров, оставив тех задыхаться во мраке. Опасность, исходящая из подкопа, отняла последний покой у горожан. Были приняты всевозможные предохранительные меры, дабы уследить за подобной деятельностью противника. Несомненно, Грант применял способы, обычные для своего времени. На земле под стенами следовало разместить чаши или ведра с водой на равном расстоянии друг от друга. За ними наблюдали: не покажутся ли на поверхности воды волны, свидетельствующие о подземных вибрациях? Больших навыков требовала задача определить направление подкопа, а затем быстро и втайне пресечь деятельность рабочих. В последующие дни мрачная подземная борьба развивалась своим порядком с использованием присущих ей методов, будучи как бы эхом борьбы за стену и заграждение, шедшей при свете дня. В течение нескольких дней после 16 мая христианские саперы не замечали никаких признаков подземных работ. 21 мая был обнаружен новый подкоп. Он опять-таки проходил под укреплениями и предназначался для проникновения войск в Город. Люди Гранта прервали строительство туннеля, однако им не удалось захватить османов врасплох: враги отступили, сумев перед тем поджечь опоры, так что подкоп обвалился.
Затем началась в игра в кошки-мышки: события развивались во тьме в ужасных условиях. На следующий день, «в час повечерия»[24], защитники обнаружили туннель в Городе близ Калигарийских ворот и помешали работам. Они заживо сожгли рабочих, применив «греческий огонь». Несколько часов спустя вибрации послужили знаком того, что поблизости есть еще один подкоп, но на сей раз прервать деятельность противника оказалось труднее. Однако рудничные стойки обрушились сами собой, и все рабочие погибли.
Саксонские горняки действовали неутомимо. Без подземной борьбы не проходило ни дня. И всякий раз, вспоминал Джакомо Тетальди, «христиане выкапывали свои ходы, и прислушивались, и определяли их [вражеских саперов] местоположение… они душили турок в их туннелях дымом, а порой — отвратительным зловонием. В иных местах они топили их в потоках воды и часто сражались с ними врукопашную».
Пока продолжалось строительство туннелей, инженеры Мехмеда предприняли новое начинание, примечательное и на тот момент не имевшее аналогов во всем мире. На рассвете 19 мая стражи на стене близ ворот Харисия, окликавшие друг друга в преддверии нового дня, оглядели видневшееся вдали море вражеских палаток — и то, что они узрели, ошеломило их. В десяти шагах на краю рва стояла гигантская башня, «возвышавшаяся над стенами барбаканов»: каким-то образом она явилась ночью неизвестно откуда. Обороняющиеся пришли в изумление. Они терялись в догадках, как османам удалось так быстро воздвигнуть это сооружение: его прикатили из расположения вражеских войск, и теперь оно возвышалось над городскими укреплениями. Башню выстроили на каркасе из прочных брусьев, покрытых верблюжьими шкурами и двойным слоем переплетенных прутьев, дабы защитить людей внутри. Нижнюю половину сооружения наполнили землей и засыпали землей снаружи, «так что выстрелы из пушек и пищалей не могли повредить его». Каждый ярус внутри был снабжен лестницами. Их предполагалось использовать для преодоления промежутка между башней и стеной. Кроме того, за ночь множество людей выстроило крытую дорогу, ведущую от башни назад в расположение османских войск, «длиной в полмили… над ней помещалось два слоя брусьев, а поверх — верблюжьи шкуры; по ней они [османы] могли пройти от башни до лагеря, находясь под прикрытием, так что их не могло ранить ни пулями, ни стрелами из арбалетов, ни камнями из маленьких пушек». Вооруженные поди бросились на стены поглядеть на невиданное зрелище. Создание осадной башни было шагом назад, возвращением к военному искусству классической эпохи, хотя архиепископ Леонард счел ее «сооружением, которое не под силу было бы выстроить римлянам». Башню создали специально для того, чтобы заполнить ров перед стеной, затруднявший действия нападающих. Отряды, находившиеся внутри башни, выкапывали землю и бросали ее в находившийся перед ней ров через маленькие отверстия в защитном экране. Они работали целый день. Тем временем с верхних ярусов лучники вели заградительный огонь — «казалось, прямо из заоблачных высей».
Данный проект Мехмед разработал самолично — он осуществлялся в обстановке строжайшей секретности и исключительно быстро выполнялся, подобно транспортировке кораблей. Его психологический эффект оказался очень велик. Изобретательность и возможности, которыми обладала осаждающая армия, должны были поражать защитников, как повторяющийся ночной кошмар. Константин и его командиры поспешили на укрепления, дабы противостоять новой напасти, «и, увидев ее [башню], они были напуганы до полусмерти и долгое время полагали, что из-за этой башни они потеряют Город, потому что она возвышалась над барбаканами». Угроза, создаваемая башней, являлась очевидной. На глазах у них она уничтожала ров, а заградительный огонь, который вели находившиеся на ней лучники, делал затруднительными любые ответные действия. К ночи османы достигли заметных результатов. Они заполнили ров бревнами, сухим хворостом и землей. Осадная башня, подталкиваемая изнутри, продвигалась вперед все ближе к стене. Охваченные паникой защитники решили действовать безотлагательно — следующий день в тени нависающей [над ними] башни мог оказаться роковым. Под покровом тьмы они приготовили за стенами бочки с порохом и скатили их с бастионов напротив башни, запалив фитили. Последовала серия мощных взрывов: «и внезапно загремела земля, словно гром великий, и поднялась вверх с турами и с людьми, как от бури сильной, до самых облаков». Башня затрещала и взорвалась: «и падали с высоты люди и бревна». Оборонявшиеся бросали бочки с горящей смолой на стонавших внизу раненых. Выдвинувшись из-за стен, они перебили всех, кто оставался в живых, и сожгли тела вместе со всем оборудованием для ведения осады, установленным поблизости: «длинными таранами, и лестницами на колесах, и повозками с защитными турелями на них». Мехмед издали наблюдал за очередной неудачей. Охваченный яростью, он приказал своим солдатам отступить. Подобные башни, выдвинутые в других пунктах вдоль стены, также были отведены назад или сожжены защитниками Города. Осадные башни, очевидно, оказались слишком уязвимы для огня, и эксперимент не стали повторять.
Военные действия в туннелях под землей активизировались. 23 мая обороняющиеся обнаружили еще один подкоп и проникли в него. Продвигаясь вниз по узкой шахте при колеблющемся свете факелов, они неожиданно очутились лицом к лицу с врагом. Бросая «греческий огонь», они сломали крышу туннеля и сожгли саперов, однако при этом сумели взять в плен и поднять на поверхность живыми двух офицеров. Греки пытали захваченных людей до тех пор, пока те не выдали всех мест, где еще велись работы, «и когда они признались, им отрубили головы, а тела сбросили со стен с той стороны Города, где находился турецкий лагерь; и когда турки увидели, что их люди сброшены со стен, их охватила ярость и они преисполнились враждебных чувств к грекам и нам, итальянцам».
На следующий день мастера из серебряных рудников изменили тактику. Вместо того чтобы прокладывать путь прямо под стенами, дабы создать проходы, ведущие в Город, они повернули свой туннель в сторону. Достигая стены, он тянулся прямо под ней; этот участок имел в длину десять шагов. Опоры туннеля были деревянными; предполагалось, что в нем будет устроен пожар с целью обрушить часть стены. Работы были обнаружены как раз вовремя; вторжение удалось предотвратить, а пространство под стеной вновь заложили кирпичами. Это вызвало великую тревогу в Городе. 25 мая турки предприняли последнюю попытку повторить операцию. Саперы вновь сумели разместить подпорки под большим участком стены прежде, чем их остановили и отогнали назад. С точки зрения оборонявшихся, то был наиболее опасный изо всех туннелей, когда-либо обнаруженных ими. То, что они отыскали его, знаменовало окончание туннельной войны. Саксонские рудокопы неустанно трудились десять дней: они прокопали четырнадцать туннелей, но Грант уничтожил их все до одного. Мехмед признал: ни подкопы, ни башни не принесли успеха — и продолжал вести артиллерийский обстрел.
К западу от Константинополя, вдали от грохота стрельбы и ночных атак, разыгралась другая драма — маленькая, но имевшая немаловажное значение. В гавани у одного из островов Восточно-Эгейского моря покачивалось стоявшее на якоре парусное судно, — венецианская бригантина, ускользнувшая из [бухты близ] Города. В середине мая она прочесала архипелаг, разыскивая флот, идущий на подмогу. Команда не обнаружила ничего. От проходивших мимо судов не удалось получить никаких добрых вестей. Теперь моряки точно знали, что кораблей нет. (На самом деле венецианские суда находились близ побережья Греции: венецианцы тщательно собирали сведения о намерениях османского флота, тогда как галеры, заказанные папой у республики, до сих пор строились.) Команда в полной мере поняла, в какое положение попала, и на палубе разгорелся жаркий спор о том, что делать дальше. Один из моряков приводил веские аргументы за то, чтобы уплыть прочь от Города и вернуться «в христианские земли», ибо, по его словам, он «точно знал — к этому времени турки возьмут Константинополь». Его товарищ возражал ему и отвечал, что император доверил им выполнить это задание, поэтому завершить его необходимо: «итак, мы желаем вернуться в Константинополь, будь он в руках турок или же христиан. Что бы ни было нам суждено — жизнь или смерть — давайте идти своим путем». В результате голосования моряки решили вернуться, какими бы ни оказались последствия этого шага.
Бригантина примчалась назад в Дарданеллы, подгоняемая южным ветром, вновь замаскировавшись под турецкое судно, и приблизилась к Городу незадолго до рассвета 23 мая. Но сейчас османский флот обмануть не удалось. Моряки патрулировали воды, тщательно осматривая их, поскольку опасались прибытия венецианских галер, и решили, что маленькое парусное судно сопровождает их. Корабли устремились на веслах наперерез, но бригантина опередила их. В заграждении открылся проход, и ее пропустили назад, внутрь. В тот же день команда отправилась сообщить императору, что флот не найден. Константин поблагодарил моряков за их возвращение в Город и «горько заплакал, охваченный скорбью». Окончательное осознание того, что христианский мир так и не отправит корабли, погасило любые надежды на спасение; «и увидев это, Император решил предать себя в руки милосерднейшего Господа нашего Иисуса Христа, и Матери его Мадонны Святой Марии, и святого Константина, покровителя нашего Города, дабы они охранили его [Город]». Шел сорок восьмой день осады.
Глава 12 Знамения и предвестия 24-26 мая 1453 года
Нам слышатся предвестия в ответах и приветствиях людей. Мы подмечаем, как кричит домашняя птица, следим за полетом ворон; сие служит для нас предзнаменованием. Мы обращаем внимание на сны и верим, что они предсказывают будущее… именно эти грехи и им подобные навлекают на нас кары, ниспосланные Господом.
Иосиф Вриенний, византийский писатель XIV в.Монограммы на стенах.
Пророчество, откровение, грех… Чем меньше времени оставалось до конца мая, тем сильнее городских жителей охватывал священный ужас. Вера в знамения всегда являлась особенностью жизни Византии. Сам Константинополь основали после того, как Константину Великому перед решающей битвой у Мульвийского моста (это случилось за тысячу двести сорок лет до описываемых событий[25]) явилось таинственное знамение — видение креста. Византийцы с жаром искали и толковали знамения. По мере того как империя неуклонно приближалась к закату, их поиски порождали все больший пессимизм. Бытовало широко распространенное убеждение — византийской империи суждено стать последней империей на Земле, причем считалось, что последнее столетие существования мира началось около 1394 года. Люди вспоминали старинные книги пророчеств времен прежних арабских осад. Их афористичные стихи-предсказания широко цитировались: «Горе тебе, Город на семи холмах, когда двадцатое послание будет зачитано на твоих бастионах. Тогда падение твое приблизится, и гибель ждет твоих владык». Турки, в свою очередь, воспринимались как народ из Апокалипсиса, чье появление знаменовало наступление последнего суда — кары, посланной Богом в наказание за грехи христиан.
В напряженнейшей обстановке люди неустанно изучали знамения, предвещавшие, по их мнению, гибель империи — или всего мира: эпидемии, природные катаклизмы, явление ангелов. С самим Городом (настолько древним, что длительность его существования не укладывалась в умах его обитателей) связывалось немало легенд, древних пророчеств и событий, наделявшихся сверхъестественным смыслом. Его памятники, созданные тысячу лет назад (с какой целью — жители уже позабыли), воспринимались как магические криптограммы, в которых читалось будущее: барельеф, украшавший подножие статуи на Форуме Быка, содержал зашифрованное пророчество о гибели Города, а жест Юстиниана, чья громадная конная статуя указывала на восток, более не выражал уверенности в господстве над персами. Он простирал руку, предвещая, откуда явятся те, кто погубит Город окончательно.
В таких условиях предчувствия последнего суда все усиливались по мере того, как шла осада. Погода «не по сезону» и ужас перед непрерывным артиллерийским обстрелом убедили православных верующих — со взрывами и черным дымом приближается конец. Антихрист в обличье Мехмеда стоял у ворот. Широко распространились рассказы о предвестиях и пророческих снах: как ребенок увидел ангела, охранявшего городские стены и оставившего свой пост; как из собранных устриц закапала кровь; как появилась гигантская змея, опустошающая земли; как землетрясения и грозы с градом, обрушившиеся на Город, свидетельствовали о «приближении всеобщей гибели». Все указывало на скорое исполнение сроков. В одном из документов монастыря Святого Георгия также увидели своего рода пророчество: он был разделен на квадраты в соответствии с порядком наследования трона императорами, по императору на каждый квадрат. «К тому времени все квадратики оказались заполнены, и они [толкователи] говорили, что пустым остался лишь последний», — квадрат, предназначенный Константину XI. Представления византийцев о времени событий, разворачивающихся в цикличном характере, симметричности, подтверждались вторым пророчеством относительно императоров: как своим основанием, так и гибелью Город будет обязан императору по имени Константин, сыну Елены. Это имя носили и мать Константина I, и мать Константина XI.
Очевидно, в подобной лихорадочной обстановке боевой дух гражданского населения падал. Продолжительные службы, во время которых возносились молитвы об избавлении, велись по всему Городу. День и ночь непрерывные молебствия не прекращались в храмах, за исключением собора Святой Софии — он стоял пустой, и в него никто не заходил. Нестор Искандер свидетельствовал: «Все люди стекались к святым церквам Божиим, плача, и рыдая, и руки к небу простирая, моля у Бога милости». С точки зрения православных верующих, молитва представляла собой труд, столь же необходимый для спасения Города, сколь и тяжелые ночные работы по переноске камней и хвороста для починки ограждения: таким образом поддерживалось «силовое поле» божественной защиты, окружавшей Город. Настроенные наиболее оптимистично вспоминали ряд пророчеств с противоположным смыслом: Город охраняет сама Мария, Матерь Божия, и его невозможно захватить, поскольку в нем хранится такая реликвия, как Честной Крест Господень. Если даже врагам удастся войти в Город, они смогут продвинуться не дальше колонны Константина Великого, а затем с небес сойдет ангел с мечом и обратит их в бегство.
Но беспокойство в ожидании апокалиптических событий усилилось из-за неутешительных новостей, принесенных матросами венецианского брига 23 мая, а в ночь полнолуния начало увеличиваться по нарастающей. Полнолуние, по-видимому, приходилось на следующие сутки, 24 мая, хотя дата может быть неточна. Луна играла важнейшую роль в том, что можно назвать психикой Города. Это светило, поднимающееся над медным куполом храма Святой Софии, отражающееся в спокойных водах Золотого Рога, сияющее над Босфором, являлось символом Византии с древних времен. Луна напоминала золотую монету, выкапываемую из холмов Азии каждую ночь. Вещая, непостоянная и вечная, она своим ростом и ущербом соотносились в сознании жителей с древностью Города и бесконечным числом повторяющихся временных циклов, прошедших за его жизнь. Считалось, что в последнее тысячелетие существования Земли миром правит Луна. В этот период «жизнь коротка, а судьба переменчива». В конце мая особенный страх вызывало твердое убеждение в том, что Город нельзя взять, пока луна растет. После 24 мая ей предстояло вновь пойти на убыль, и было непонятно, какое будущее ожидает горожан. Перспектива наступления этой даты наполнял население ужасом. Казалось, пророчества, звучавшие все то время, что существовал Город, сошлись в одной точке.
Понятно, что 24 мая люди ожидали сумерек с мрачными предчувствиями. После очередного дня мощного обстрела неожиданно все стихло. Наступила чудесная весенняя ночь — время, когда очарование Константинополя наиболее сильно: на западе еще видны последние отсветы дня, и слышится отдаленный шум волн, плещущихся у приморских стен. «Облаков не было, — вспоминал Барбаро, — и воздух был чист и прозрачен, как кристалл». Однако когда взошла луна (прошел час после захода солнца), глазам стражи предстало необычное зрелище. Там, где все ожидали увидеть полный золотой круг, они разглядели «всего лишь едва видную трехдневную» луну. В течение четырех часов она оставалась слаба и мала. Затем, словно в муках, «мало-помалу она стала увеличиваться до полного круга и в шестом часу ночи образовала полный диск». В частичном затмении обороняющиеся усмотрели пророчество. Они испытали огромное потрясение. Ведь растущая луна — символ турок! Разве не мелькали очертания полумесяца на знаменах, развевавшихся над лагерем Мехмеда? Согласно записям Барбаро, «императора чрезвычайно испугал этот знак, как и всех его приближенных… но турки устроили у себя в лагере великое торжество по поводу знака, ибо теперь казалось — победа достанется им». То был тяжелый удар для Константина, боровшегося за поддержку боевого духа населения Города.
Клеймо с изображением Одигитрии.
На следующий день, возможно, по инициативе Константина, было решено, дабы ободрить людей, еще раз воззвать к самой Святой Деве. Вера в сверхъестественные возможности Богоматери оставалась огромной. Наиболее почитаемая ее икона, Одигитрия — «та, что указывает путь», — была талисманом, обладающим, как полагали, чудесной силой. Ее приписывали кисти святого Луки Евангелиста. С давних времен икона играла почетную роль в успешной защите Города. Во время осады Константинополя аварами в 626 году ее носили по бастионам. В 718 году, по мнению верующих, Одигитрия вновь спасла его от арабов. Поэтому громадная толпа собралась утром 25 мая близ места, где находилась икона — церкви Святого Спасителя в Хоре неподалеку от городских стен: горожане искали спасения у Девы. Одигитрию, установленную на деревянной платформе, водрузили на плечи людям, набранным из числа членов братства иконы, и покаянная процессия двинулась вниз по улице. Священники в черных рясах махали кадильницами. За ними — вероятно, босиком — шли миряне: мужчины, женщины и дети. Певчие сопровождали народ, исполняя священные гимны. Назойливо звучащие в ушах четвертьтоны песнопений, стенания людей и традиционные молитвы, обращенные к Деве-охранительнице, раздавались в утреннем воздухе; курился фимиам. Снова и снова горожане громко восклицали, моля о духовной защите: «Спаси Город Твой, да будет на то воля Твоя. Ты знаешь его. Движем Тебя пред нами, как оружие наше, оборону нашу, щит наш, военачальника нашего: да сразишься Ты за народ Свой». Считалось, будто путь подобным процессиям указывает сила, исходящая от самой иконы, подобная той, что ведет рудознатцев с «лозой» в руках.
И тут произошло нечто, оказавшее в накаленной атмосфере страха и религиозного усердия ужасающий эффект. Икона внезапным и необъяснимым образом выскользнула из рук тех, кто нес ее — это произошло «без какой-либо причины или видимой силы» — «и упала на землю». Пораженные ужасом люди с дикими криками бросились вперед, дабы вернуть изображение Девы на прежнее место, но икона прилипла к земле, словно придавленная свинцом. Поднять ее было невозможно. Долгое время священники и носильщики с криками и молитвами трудились изо всех сил, пытаясь вытащить чудотворный образ из грязи. В конце концов его вновь подняли. Однако напуганные люди сочли случившееся дурным предзнаменованием. Вскоре последовало нечто еще более ужасное. Процессия, вновь вытянувшаяся змеей, не успела пройти и нескольких шагов, как на нее обрушился жестокий шторм. В полуденном небе трещали молнии, грохотал гром. Проливной дождь и больно бьющий град поражали участников шествия в испачканных одеждах столь жестоко, что люди «не могли ни стоять, ни идти». Те, кто нес икону, в неуверенности остановились. Потоки воды низвергались по узкой улице с такой силой, что угрожали смыть детей, очутившихся у них на пути. «Многие из тех, кто участвовал в процессии, оказались в опасности: их могло унести; они могли утонуть в водах, разбушевавшихся с невероятной силой и мощью, если бы люди не схватили их и с трудом не вытащили из мчащегося потока». Движение процессии пришлось прекратить. Толпа разошлась, не сомневаясь в причинах неудачи. Святая Дева отвергла молитвы. Шторм «точно предсказал близкое разрушение всего: подобно стремительно мчащимся безжалостным потокам вод, он унесет и уничтожит все».
Хранимый Богом Город
На следующее утро горожане пробудились и обнаружили — Город укрыл плотный туман. Очевидно, в безветренную погоду туман в неподвижном воздухе держался над Городом целый день. Все сделалось приглушенным, молчаливым, невидимым. Казалось, сама природа подтачивает волю обороняющихся. Объяснение туману, появившемуся «не в сезон», можно было дать лишь одно: «Господь удаляется, оставляет Город, отвергает его и полностью отворачивается от него. Ибо Господь скрывается в облаке; так он появляется и так вновь исчезает». К вечеру атмосфера, казалось, стала еще плотнее. «Над Городом начала сгущаться великая тьма». И тут жители узрели нечто еще более странное. Вначале стражи, стоявшие на стенах, увидели Константинополь озаренным огнями, как будто враг поджег его. В тревоге люди побежали посмотреть, что случилось. Когда же они взглянули на храм Святой Софии, то громко закричали. Над куполом мерцал странный свет. Нестор Искандер (легко поддававшийся волнению) так описывал увиденное: «В куполе великой церкви Премудрости Божией из окон взметнулось огромное пламя, и долгое время был объят огнем купол церковный. И собралось все пламя воедино, и воссиял свет неописуемый, и поднялся к небу. Люди же, видя это, начали горько плакать, взывая: «Господи помилуй!» Когда же огонь достиг небес, отверзлись двери небесные и, приняв в себя огонь, снова затворились». Верующим казалось ясно — Господь покинул Константинополь. В османском лагере неестественно плотный воздух и неземное свечение подействовали на войска сходным образом: они вызвали неуверенность и панику. Мехмед не мог уснуть в своей палатке. Когда он увидел сияние над Городом, то поначалу испугался и послал за муллами, чтобы те истолковали знамения. Те явились и надлежащим образом объяснили их в пользу дела мусульман: «Это великий знак: Город обречен».
На следующий день депутация священников и министров отправилась к Константину высказать ему свои предчувствия. Они истолковали, как надлежало, появление таинственного света и попытались убедить императора отправиться в безопасное место, откуда он смог бы организовать эффективное сопротивление Мехмеду. «Знаешь, о цесарь, обо всем предсказанном Городу этому. И вот ныне опять страшное знамение было: свет неизреченный, который в великой церкви Божией Премудрости сопричастен был прежним святителям и архиереям вселенским, а также ангел Божий, которого ниспослал, укрепляя нас, Бог при Юстиниане-цесаре для сохранения святой великой церкви и Города этого, в эту ночь отошли на небо. И это знаменует, что милость Божия и щедроты его покинули нас, и хочет Бог предать Город наш врагам нашим». Из-за овладевших им чувств и от полного истощения Константин упал на землю в глубоком обмороке и долгое время лежал без сознания. Придя в себя, он дал прежний ответ: если он покинет Город, то его имя сделается посмешищем во веки веков. Он останется и, если понадобится, умрет вместе со своими подданными. Кроме того, он приказал им не вести среди горожан речей, которые привели бы их в уныние, дабы «не впали люди в отчаяние и не ослабели в деяниях своих».
Прочие отреагировали по-разному. Ночью 26 мая корабль под командованием некоего венецианца Николаса Джустиниани (он не имел отношения к Джованни Джустиниани, герою осады) проскользнул за цепь и уплыл, воспользовавшись ночным ветром. Несколько судов меньшего размера вышли из маленьких гаваней, расположенных вдоль приморских стен со стороны Мраморного моря, хитростью преодолели морскую блокаду и двинулись к портам Эгеиды, где жители говорили по-гречески. Некоторые из горожан побогаче искали убежища на итальянских судах в бухте Золотой Рог, считая, что на них будет легче всего спастись в случае окончательной катастрофы. Другие начали подыскивать безопасные убежища в черте Города. Мало кто питал иллюзии в отношении того, что может принести с собой поражение.
В рамках системы средневековых воззрений небесные знамения и не соответствовавшие сезону явления погоды, столь снизившие боевой дух горожан, являлись недвусмысленными знаками воли Божией. На самом деле наиболее вероятное объяснение вызвавших ужас феноменов связано с территориями, лежащими далеко от Константинополя — в Тихом океане, и соперничает даже с наиболее зловещими образами Страшного суда. Приблизительно в начале 1453 года буквально взорвался вулканический остров Кувейа, находившийся на тысячу двести миль восточнее Австралии. Восемь кубических миль раздробленного камня было выброшено в стратосферу с силой, в два миллиона раз превышающей силу взрыва бомбы в Хиросиме. То был Кракатау[26] Средневековья — событие, из-за которого испортилась погода во всем мире. Вулканическая пыль, подхваченная господствующими в атмосфере воздушными потоками, разнеслась надо всей планетой и вызвала снижение температуры гибель урожаев на территории от Китая до Швеции. В южном течении реки Янцзы, где климат мягок, как во Флориде, в течение сорока дней продолжался снегопад. Исследование годичных колец в Англии показало: в данный период произошла остановка роста деревьев. Частички пыли из Кувейа, богатые серой, вполне могли стать причиной нетипичного похолодания и неустойчивой смеси дождя, града, тумана и снега, поразивших Город той весной. Будучи взвешены в атмосфере, они также могли вызвать зловещие закаты и странные оптические эффекты. Именно вулканические частицы, сами по себе или вкупе с эффектом огней святого Эльма — свечением в результате разрядов атмосферного электричества, — окружили 26 мая медный купол собора зловещими полосами света и были причиной странного видения, убедившего горожан, что Господь отступился от них. (Пугающее свечение после взрыва вулкана Кракатау в 1883 году сходным образом встревожило жителей Нью-Йорка. Однако в ту эпоху наука была значительно более развита: люди предположили, что разгорелся гигантский пожар, и вызвали пожарную команду.)
Лихорадочная атмосфера дурных предчувствий царила не только в Городе. В последнюю неделю мая в османском лагере также наступил жестокий кризис в умонастроениях солдат. Глухой ропот недовольных раздавался под турецкими знаменами. Стоял пятый месяц арабского лунного года: в течение семи недель турки штурмовали Город с земли и с моря. Им приходилось терпеть ужасную весеннюю погоду и нести огромные потери под стенами. Траншеи были забиты растоптанными трупами, которые убирали оттуда в неведомых количествах. День за днем над равниной поднимался дым погребальных костров. И все же, глядя из моря расположенных в правильном порядке палаток, турки видели — стена стоит по-прежнему. Там же, где они разрушили ее выстрелами гигантских пушек, появились длинные земляные валы с уложенными сверху бочками, словно насмешка над упрямым врагом. Двуглавый орел по-прежнему реял над бастионами, в то время как лев Святого Марка над императорским дворцом напоминал о помощи Запада и заставлял в тревоге думать о том, что, быть может, к Городу движутся подкрепления. Никакие полчища не могли так эффективно вести продолжительную осаду, как османы. Они понимали, в чем заключаются правила лагерной жизни, лучше, чем любая западная армия. Умение быстро сжигать трупы, оберегать источники воды, удалять экскременты, проводя соответствующую санитарную обработку, — все это занимало важное место в военном искусстве османов. Однако постепенно «арифметика осады» оборачивалась против них. Подсчитано, что в Средние века для армии численностью в двадцать пять тысяч человек, ведущей осаду (что было в три раза меньше армии, расположившейся у Константинополя), требовалось девять тысяч галлонов[27] воды и тридцать тонн фуража в день, чтобы она могла прокормиться. За время осады, продолжавшейся шестьдесят дней, такая армия должна была избавиться от одного миллиона галлонов мочи людей и животных и четырех тысяч тонн чистого веса биологических отходов. Вскоре летняя жара должна была усугубить материальные затруднения мусульман и усилить угрозу поражения. Времени на раздумья не оставалось: требовалось безотлагательно принять решение.
Действительно, после семи недель военных действий обе стороны ощущали неимоверную усталость. Все признавали, что нельзя дольше медлить с развязкой. Нервы были натянуты до предела. В этой обстановке битва за Город превратилась в поединок Мехмеда и Константина, причем борьба велась за состояние боевого духа войск. В то время как Константин наблюдал упадок веры в успех в Городе, идентичная ситуация таинственным образом возникла и среди солдат османской армии. Точная последовательность событий и датировка их остаются неясными. Прибытие венецианской бригантины, которая 23 мая принесла сообщение о том, что флот не явится освобождать Константинополь, османы, вероятно, сочли за появление передового судна этого самого флота. На следующий день по палаткам быстро распространилось известие о том, что к Дарданеллам приближается мощный флот, а армия венгерских крестоносцев под командованием Яноша Хуньяди, «грозного белого рыцаря», уже пересекла Дунай и марширует на Эдирне. Наиболее правдоподобное объяснение таким слухам заключается в следующем: Константин предпринял последнюю попытку подорвать боевой дух турок и дал распространиться ложному сообщению. Последствия не замедлили сказаться. Всех находившихся на равнине охватили неуверенность и тревога. Они расходились, точно волны. Говоря словами хрониста, люди вспомнили, как «многие короли и султаны поднимались… и собирали и вооружали большие армии, но ни один не достиг подножия крепости. Несчастные, израненные и разочарованные, они отступили». Отчаяние овладело обитателями лагеря, и, если верить Леонарду Хиосскому, «раздались возгласы турок, порицавших султана». Во второй раз сомнение и ощущение опасности овладело высшим командованием османов, и давние разногласия относительно ведения осады обострились вновь.
Для Мехмеда настал кризисный момент. Если бы он не взял Город, то это могло бы оказаться фатальным для его репутации, а время и терпение его армии истекали. Ему необходимо было снискать доверие своих людей — и действовать решительно. Ночь затмения обеспечила благоприятный момент для поддержки слабеющего боевого духа войск. Религиозное рвение мулл и дервишей, прибывших к месту осады, дало хороший результат: благоприятная интерпретация лунного затмения распространилась по лагерю. Однако оставалась неуверенность в отношении того, надо ли продолжать осаду. С характерной для него смесью проницательности и коварства Мехмед решил предпринять еще одну попытку убедить Константина сдаться и покончить дело миром.
Приблизительно 25 мая он направил в столицу своего эмиссара Измаила — знатного грека-ренегата, дабы тог сообщил византийцам, какая участь может ожидать их. Он указывал им на безнадежность их положения: «О греки, воистину вы стоите на краю пропасти. Так почему же вы не отправите посла, чтобы договориться с султаном о мире? Если вы доверите это мне, я предложу ему на рассмотрение ваши условия. В противном случае ваш Город будет порабощен, ваши жены и дети станут невольниками, а сами вы погибнете все до единого». Византийцы со вниманием отнеслись к этому предложению и решили разузнать о нем побольше, однако сочли нужным подстраховаться: они сочли за лучшее послать человека «невысокого ранга», нежели рисковать жизнью одного из первых людей Города. Сего несчастного привели в красную с золотом палатку, и он простерся перед султаном. Мехмед кратко предложил две возможности: пусть Город ежегодно выплачивает гигантскую дань в сто тысяч безантов или же все жители покинут его, «забрав с собой все, чем владеют, и каждый отправляется туда, куда захочет». Предложение Мехмеда было передано императору и его совету. Уплатить дань Город, доведенный до нищеты, не мог, а мысль уплыть и покинуть Константинополь оставалась неприемлемой для Константина. Поэтому он сообщил, что отдаст все, что имеет, за исключением Города. Мехмед резко ответил: остающиеся возможности — сдача Города, смерть от меча или переход в ислам. Возможно, именно поэтому у горожан возникло ощущение неискренности предложения Мехмеда: он послал Измаила, «дабы изучить настроения греков… узнать, что думают греки о происходящем и насколько тверда их позиция». Однако их добровольная сдача для Мехмеда по-прежнему оставалась наилучшим вариантом. Сохранились бы в целости сооружения Города, где Мехмед планировал устроить столицу. Согласно законам ислама, ему пришлось бы разрешить своим войскам трехдневный грабеж, если бы они взяли Город силой.
Никто не знает, насколько близко подошли защитники к решению о добровольной сдаче. Предполагают, будто генуэзцы, чьей колонии в Галате также косвенным образом угрожала опасность, оказывали давление на императора, дабы тот отверг предложение о капитуляции. Однако непохоже, чтобы Константин, будучи весьма последовательным в своем отношении к происходящему, сколь-либо серьезно задумывался о сдаче Константинополя. Для обеих сторон уже поздно было вести переговоры о капитуляции: и те, и другие слишком ожесточились. Пятьдесят дней противники издевались друг над другом, убивали друг друга на стенах и казнили пленников на виду у их соотечественников. Ситуацию могло разрешить либо снятие осады, либо захват Города. Дука, вероятно, точно уловил смысл ответа Константина: «Наложив сколь возможно более тяжкую дань, вы хотите заключить мирный договор и отступить, ибо не знаете, одержите ли победу или будете обмануты. Ни в моей власти, ни во власти кого-либо из горожан сдать вам Город. Вот наше общее решение: мы предпочтем умереть, чем сохранить свою жизнь».
Если Константин распускал по османскому лагерю слухи о приближении западных армий, то следовало иметь в виду — это было обоюдоострое оружие. Находившиеся вне стен люди не знали, что предпринять, однако угроза освобождения Города подталкивала к активным действиям. Решительный ответ Константина в корне изменил ход споров в османском лагере. Вероятно, на следующий день, 26 мая, Мехмед созвал военный совет, дабы решить дело так или иначе — снять осаду или приступить ко всеобщему штурму. В ходе последовавшей дискуссии повторилось произошедшее на встрече во время кризиса после поражения на море 21 апреля. Старый визирь, турок Халил-паша, заговорил вновь. Осторожный, он боялся последствий безрассудства молодого султана и возможного противодействия со стороны всего христианского мира. Халил был свидетелем превратностей фортуны в годы правления отца Мехмеда и понимал, какие опасности влекут за собой волнения в армии. Он страстно призывал к миру: «Власть Вашу, которая и так уже очень велика, Вы можете еще более усилить скорее мирным, нежели военным путем. Ибо исход войны неясен — куда чаще ей сопутствуют бедствия, нежели процветание». Он упомянул о призраке венгерской армии и итальянского флота и убеждал Мехмеда отменить тяжелые денежные санкции в адрес греков и снять осаду. Вновь Заганос-паша, перешедший в ислам грек, указал на колоссальное неравенство сил, на то, что мощь противника ежедневно тает и он близок к полному истощению. Он высмеял утверждение, будто с Запада может прийти помощь, продемонстрировав хорошее знание реального положения дел в политике итальянцев: «Генуэзцы расколоты на группировки, на венецианцев напал граф[28] Миланский — никто из них не подаст никакой помощи». Заганоса вновь поддержали генералы, такие как Турахан-бей, командующий европейской армией, и сильная группировка религиозных деятелей, возглавляемая шейхом Акшемсеттином и муллой Гурани.
Разгорелся спор. Наступил решающий момент в борьбе за власть между двумя фракциями при османском дворе, бушевавшей уже десять лет. Ее исход должен был оказать чрезвычайное влияние на будущее османского государства. Однако не менее важным для участников обеих группировок являлось то, что от победы в споре (они понимали это) зависела их жизнь: если их политическая стратегия потерпит неудачу, то их отдадут в руки палача и повесят — или тайком задушат. В итоге Мехмед пренебрег угрозой поражения или бунта в армии ради воинской славы. Вероятно, перед тем, как принять окончательное решение, он велел Заганосу обойти лагерь и сообщить о настроении войск. Если все обстояло именно так, ответ, естественно, оказался недвусмысленным — Заганос, как и следовало ожидать, «обнаружил» армию исполненной энтузиазма и ожидающей решающей атаки. Мехмед счел, что время сомнений прошло: «Назначай день битвы, Заганос. Готовь армию, окружи Галату, дабы она не могла оказать врагу помощь. И действуй быстро».
Новость о том, что на подготовку к атаке отведены ближайшие шесть дней, облетела лагерь. Мехмед знал — нужно воспользоваться моментом и укрепить нетвердый боевой дух своих войск, настроив их на последний штурм, а также ошеломить врага. С наступлением вечера 26 мая глашатаи двинулись вдоль палаток, выкрикивая приказы султана. Перед всеми палатками следовало зажечь факелы и костры. «И возле каждой палатки в лагере загорелось по два огня, и костры были столь велики, что от их великого света казалось, будто наступил день». В недоумении и замешательстве защитники смотрели с зубцов, как кольцо огня постепенно расширялось. Светящийся круг все увеличивался и наконец охватил пространство до самого горизонта — от лагеря, находившегося перед ними, до холмов вокруг Галаты и через воды — до берега Азии. «Это странное зрелище было поистине невероятным, — писал Дука. — Поверхность воды вспыхивала подобно молниям». «Казалось, что море и земля охвачены огнем», — вспоминал Тетальди. В дополнение к замечательному освещению ночного неба зазвучали, постепенно усиливаясь, барабанный бой и восклицания верующих, все быстрее повторявших: «Иллала, Иллала, Магомет Руссолала» — «Бог есть и всегда пребудет, и Мухаммед слуга его» — столь громко, что казалось, будто «должны разверзнуться небеса». В лагере османов царили исключительный энтузиазм и радость: воины всем сердцем восприняли весть о решающем нападении. Поначалу некоторые из тех, кто был на стенах, обрадовались, ошибочно приняв иллюминацию за пожар, охвативший вражеские палатки. Они вскарабкались наверх, стремясь получше все рассмотреть, — и поняли истинное значение мерцания на горизонте и диких криков. Огненное кольцо произвело на горожан желаемое воздействие: храбрость защитников истощилась настолько, что «они казались полумертвыми и не могли не вдохнуть, ни выдохнуть». Изумление, охватившее жителей при виде религиозного рвения противника, уступило место панике. Они начали горячо взывать к Деве и повторяли молитвы о спасении: «Спаси нас, Господи». Если им требовалось какое-либо подтверждение того, что означали крики и огни, то вскоре они получили его. Под покровом ночи христиане, мобилизованные в османскую армию, тайно пустили стрелы над укреплениями. К стрелам были привязаны письма, где коротко сообщалось о близящемся штурме.
При свете костров велись грандиозные приготовления. Все пространство наполнили фигуры людей, тащивших хворост и другие материалы для заполнения рва. В течение всего дня пушки вели опустошительный обстрел по укреплению Джустиниани в долине Лика. Вероятно, в тот день пал сильный туман, а нервы оборонявшихся были уже измотаны страшными знамениями. «Я не могу описать всего, что сделали со стеной пушки, — сообщал Барбаро. — Мы понесли великие потери и испытали великий страх». Настала ночь, и измученные защитники под руководством Джустиниани приготовились вновь заполнять бреши, однако яркий свет костров озарял стены, и обстрел продолжался долгое время даже во тьме. А затем с изумившей [защитников] внезапностью ближе к полуночи огни угасли, крики возбужденных солдат затихли, обстрел прекратился и гнетущее молчание воцарилось под покровом майской ночи — молчание, потрясшее стражей столь же сильно, сколь и дикие торжества. Весь остаток ночи Джустиниани и жители города трудились над восстановлением вала.
К тому времени постепенное разрушение стены вынудило оборонявшихся внести небольшое изменение в систему мер по защите Города. Время от времени они предпринимали неожиданные вылазки из ворот во внешних укреплениях, дабы мешать действиям врага. Когда же стена разрушилась и ее заменила баррикада, совершать рейды со своих позиций, не привлекая внимания противника, стало гораздо труднее. Кое-кто из стариков знал о замурованной калитке, расположенной ниже царского дворца (и совершенно незаметной). Она находилась в вершине острого угла, образованного пересечением стены Феодосия с менее ровной стеной Комнина. Древний проход был известен под разными названиями: Цирковые ворота, или Деревянные ворота, и именовался так потому, что некогда через него шел путь к деревянному цирку за пределами Города. Маленькая калитка, защищенная мощными стенами, давала возможность людям выскользнуть наружу и разбить противника, находящегося на насыпи. Константин приказал открыть проход, намереваясь продолжить вылазки, наносившие урон противнику. Казалось, никто не помнил о древнем пророчестве. Во время первой предпринятой арабами осады в 669 году появилась странная книга пророчеств — так называемое «Откровение Псевдо-Мефодия». Среди множества предсказаний, содержавшихся в ней, имелись следующие строки: «Горе тебе, Византий, ибо Измаил [Аравия] захватит тебя. И все всадники Измайловы переберутся [сюда], и первый среди них поставит свой шатер пред тобою, Византий, и начнет битву, и сломает Деревянные Ворота, и продвинется до самого Быка»[29].
Глава 13 «Запомните этот день» 27-28 мая 1453 года
Эти несчастья угодны Богу. Меч ислама в наших руках. Если мы откажемся перенести эти бедствия, то недостойны будем называться гази. Нам стыдно будет предстать пред Богом в Судный день.
Мехмед IIНадпись на стене, ограждающей Город с суши: «Фортуна Константина, нашего Богом возлюбленного правителя, торжествует»
Существует легенда о методах завоевания, которыми пользовался Мехмед (ее пересказывает сербский хронист Михаил Янычар). В ней говорится, как султан созвал своих приближенных и велел принести большой ковер и расстелить его перед ними, а в центре положил яблоко, предложив им следующую загадку: «Сможет ли кто-нибудь из вас взять яблоко, не ступая на ковер?» И они гадали меж собой, размышляя, как это может быть, и никто не мог понять, в чем хитрость, пока Мехмед сам не подошел к ковру, взялся за ковер обеими руками начал скатывать его, двигаясь за ним. И вот он достал яблоко и раскатал ковер в прежнее положение.
Теперь для Мехмеда настал тот самый момент, когда он мог «достать яблоко». Для обеих сторон было очевидно — решающая битва близка. Султан надеялся, что, подобно тому как участок стены разрушается под огнем пушек, последний массированный штурм одним ударом уничтожит всякое сопротивление. Константин знал от шпионов (возможно, от самого Халила): если византийцы переживут атаку, осаду непременно снимут и можно будет на радостях звонить в церковные колокола. Оба командующих готовились к последнему усилию.
Мехмед развил бешеную активность. Он постоянно находился в движении: скакал верхом, окруженный свитой, давал аудиенции в своем красном с золотом шатре, укреплял боевой дух воинов, обещал награды, угрожал наказаниями, лично наблюдал за последними приготовлениями — словом, его видели повсюду. Считалось, что личное присутствие падишаха чрезвычайно вдохновляет воинов, идущих в битву и на смерть, и поддерживает их боевой дух. Мехмед знал — настал решающий момент в его судьбе. Его мечты о славе вот-вот должны были осуществиться. В противном случае его ждала немыслимая по масштабам неудача. И он стремился лично убедиться, что ничто не оставлено без внимания.
Утром 27 мая, в субботу, Мехмед отдал приказ вновь открыть огонь из пушек. Вероятно, то был наиболее мощный обстрел за все время осады. Целый день гигантские пушки грохотали близ центрального участка стены. Цель была недвусмысленной — пробить значительные бреши для полномасштабного штурма и предотвратить эффективный ремонт оборонительных укреплений. Казалось, для разрушения значительного участка стены достаточно трех ударов массивных гранитных шаров. При свете дня под губительным огнем невозможно было провести ремонт на скорую руку, однако враги не пытались атаковать. Весь день, согласно Барбаро, «кроме обстрела несчастных стен, из-за которого во многих местах они разрушились до основания (да и оставшаяся их часть была сильно повреждена), они [турки] не предпринимали ничего». Бреши делались все больше, и Мехмед убедился — заделать их становилось все труднее. Он хотел удостовериться, что у защитников не будет ни минуты отдыха до начала решающей атаки.
В тот же день Мехмед созвал собрание офицерского корпуса возле своей палатки. Все командиры сошлись, дабы выслушать слова султана: «Тех, кто управлял провинциями, генералов, кавалерийских офицеров, командующих корпусами, тех, кто начальствовал над рядовыми — так же как и командовавших тысячами, сотнями и полусотнями, и кавалерию собрал он вокруг себя, равно и капитанов кораблей и трирем [вплоть до] адмирала всего флота». Мехмед нарисовал своим слушателям картину сказочного богатства, за которым достаточно было только протянуть руку, чтобы взять его. Воинов ожидали груды золота во дворцах и домах; реликвии и ценные вещи, пожертвованные в храмы, «сделанные из золота и серебра, прекрасных камней и бесценного жемчуга»; знатные люди, красивые женщины и мальчики, годные для получения выкупа, женитьбы и продажи в рабство; чудесные дома и сады, где его люди смогут жить и наслаждаться жизнью. Он вновь подчеркнул не только то, что воители, захватившие самый знаменитый в мире город, заслужат вечную славу, но и необходимость победы. До тех пор, пока Константинополем владеют христиане, он будет создавать ощутимую угрозу безопасности Османской империи. Если же его захватить, то он станет отправной точкой для дальнейших завоеваний. Теперь, утверждал Мехмед, выполнить стоявшую перед ними задачу легко. Стена, ограждавшая Город с суши, во многих местах сильно разрушена, ров засыпан, а защитники немногочисленны и деморализованы. Особенно султан старался преуменьшить значение итальянских сил, чье участие в защите Города создавало для турок нечто вроде психологической проблемы. Почти наверняка (хотя Критовул, грек, не упоминает этого) Мехмед усиленно призывал к священной войне — он говорил о давнем желании мусульман овладеть Константинополем, о словах Пророка и о том, что сулит мученичество.
Затем Мехмед изложил тактику боя. Он полагал (и имел на то веские основания), что оборонявшиеся измотаны постоянными бомбардировками и перестрелками. Настало время в полной мере использовать в игре численное превосходство. Войска будут атаковать по очереди: когда одна дивизия будет истощена, ее сменит вторая. Свежие силы будут попросту волна за волной накатываться на стену до тех пор, пока не сломят сопротивление усталых защитников. Натиск продолжится без остановки вплоть до победного конца: «После того как мы начнем сражаться, бой не прекратится: мы не будем знать ни сна, ни отдыха, не станем ни есть, ни пить, не остановимся ни на миг и не ослабим натиск, пока не одолеем их в борьбе». Они [османы] нападут на Город со всех сторон, атаковав одновременно, не давая защитникам переместить войска и освободить те пункты, где будет осуществляться наиболее мощный натиск. (Если отвлечься от риторики, то бесконечно атаковать было невозможно: практически общий штурм не мог продолжаться дольше нескольких часов. Решительное противодействие привело бы к жестокой резне среди атакующих войск; если бы им не удалось быстро подавить сопротивление защитников, то неизбежно пришлось бы отступить.)
Каждый командир получил точные приказы. Флот, находившийся у Диколона, должен был окружить Город и «привязать» обороняющихся к приморским стенам. Судам в бухте Золотой Рог надлежало охранять понтонный мост. Затем Заганос-паше предстояло направить свои войска через Долину Источников и атаковать конец стены, ограждавшей Город с суши. После этого войска Караджа-паши должны были двинуться на штурм стены близ царского дворца, а в центре Мехмед намеревался расположиться сам, с Халилом и янычарами, поскольку данный участок рассматривался как имевший значение для военных действий — там находились разрушенная стена и заграждение в долине реки Лик. По правую руку от Мехмеда Исхак-паша и Махмуд-паша должны были предпринять попытку штурма стен, расположенных ближе к Мраморному морю. Мехмед все время особенно подчеркивал необходимость поддерживать дисциплину в войсках. Они должны исполнять команды с буквальной точностью: «Хранить молчание, когда надо будет продвигаться бесшумно; когда же надо будет кричать — издавать самые ужасные крики». Он вновь повторил, как важен успех нападения для будущего турок, и обещал лично наблюдать за ходом боевых действий. С этими словами он отпустил офицеров назад к их войскам.
Позже он лично объехал лагерь, сопровождаемый телохранителями-янычарами в приметных головных уборах белого цвета и глашатаями, во всеуслышание возвестившими о приближающейся атаке. Это сообщение, громко объявленное среди моря палаток, было рассчитано на то, чтобы вызвать в людях энтузиазм. По традиции за штурм полагались награды: «Вы знаете, сколько земель находится под моей властью в Азии и Европе. Из них лучшие я отдам в управление первому, кто преодолеет заграждение. И я окажу ему почести, которые он заслужит, и дарую ему богатство, и сделаю его счастливейшим среди ныне живущих». Все значительные битвы, которые вели турки, предварялись обещанием ряда официально утвержденных наград, призванных вдохновить людей на бой. Имелся и соответствующий перечень наказаний: «Но если я увижу, как кто-то прячется в палатках и не сражается на стенах, ему не удастся избежать медленной смерти». Одна из психологических уловок, характерных для османской завоевательной войны: люди оказывались связаны эффективной системой поощрений, где сочетались почести и выгода, отмечавшие исключительные усилия каждого. Ее действие обеспечивалось присутствием на поле боя вестовых султана, чавушей, — люди из этого отряда докладывали непосредственно правителю. Один лишь их рассказ о доблестном поступке мог привести к немедленному повышению. Воины знали — великие деяния могут быть вознаграждены.
Мехмед продолжал — в соответствии с предписаниями законов ислама было объявлено: так как Город не сдался, он будет отдан солдатам на разграбление на три дня. Он поклялся Богом, «четырьмя тысячами пророков, Мухаммедом, душами своего отца и детей и мечом, которым он препоясан, что позволит им присваивать все: мужчин и женщин, сокровища и имущество, — и не нарушит своего обещания».
Описание Красного яблока, полного легкой добычи и всяческих чудес, напрямую апеллировало к самым сокровенным помыслам всадника-номада, затрагивало архетипическую для него тоску по богатствам городов. После того как люди провели семь недель под весенним дождем, она должна была вспыхнуть в них, точно острое чувство голода. Город, который они представляли себе, во многом более не существовал. Константинополь, обрисованный в речи Мехмеда, разграбили христиане-крестоносцы еще два с половиной века назад. Его баснословные богатства, золотые украшения, реликвии, инкрустированные драгоценными камнями, по большей части сгинули во время катастрофы 1204 года: их переплавили рыцари-норманны или вместе с бронзовыми конями увезли в Венецию. К маю 1453 года то, что осталось от Города, было обедневшей, уменьшившейся в размерах тенью его самого, и главным его богатством теперь являлись его жители. «Некогда — Город мудрости, теперь — Город развалин», — так отозвался Геннадий об умирающем Константинополе. Некоторые богачи прятали у себя дома запасы золота. В церквах также оставались прекрасные вещи. Однако Город более не владел кладами Аладдина, по которым тосковали османские войска, вперив взор в стены.
Город развалин: разрушающийся Ипподром и опустевшие пространства в Городе.
Несмотря на это, объявление, сделанное Мехмедом, подхлестнуло энтузиазм слушавшей его армии и ввергло ее в лихорадочное волнение. Громкие крики воинов доносились до измученных защитников Города, наблюдавших за происходящим со стен. «О, если бы услышали сии голоса, долетавшие до самого неба, — писал Леонард, — вы, несомненно, не силах были бы пошевельнуться». Вероятно, обещание отдать Город на разграбление Мехмед произнес без охоты, но оно было необходимо, дабы полностью преодолеть недовольство войск. Сдача Города, о которой велись переговоры, позволила бы в какой-то степени предотвратить его разрушение, на что султан очень надеялся. Мехмед воспринимал Красное яблоко не просто как сундук, набитый военной добычей, подлежащей разграблению: Городу предстояло стать центром его империи, и он хотел сохранить его неповрежденным. Имея это в виду, он прибавил к своему обещанию суровое предупреждение: постройки и стены Города переходят в безраздельную собственность султана. После того как войска войдут в Город, их ни при каких обстоятельствах не следует ни повреждать, ни разрушать. Взятие Константинополя не должно было повторить захват и разграбление Багдада — самого знаменитого города Средневековья, — преданного огню монголами в 1258 году.
Нападение назначили на послезавтрашний день — 29 мая, вторник. Дабы пробудить в солдатах религиозное рвение и подавить какие бы то ни было дурные мысли, объявили: следующий день, понедельник, 28 мая, будет целиком посвящен примирению и искуплению грехов. Весь день людям предстояло поститься, совершать ритуальные омовения, пять раз вознести молитвы и испросить помощи Бога в деле взятия Города. Традиционное освещение с помощью светильников должно было продолжаться в течение следующих двух ночей. Ощущение таинственности и благоговейный страх, который освещение в сочетании с молитвами и музыкой вызывало и у турок, и у их врагов, явилось мощным психологическим инструментом, в полной мере использовавшимся близ стен Константинополя.
Тем временем работа в лагере османов продолжалась с нарастающим энтузиазмом. Были собраны в огромном количестве хворост и земля, чтобы заполнить ров; подготовлены осадные лестницы; припасены стрелы; привезены защитные экраны на колесах. С наступлением ночи Город вновь опоясало сверкающее кольцо огня. Имена Бога, ритмично выкрикиваемые турками, разносились над лагерем, смешиваясь с немолчным гулом барабанов, звоном цимбал и пронзительными звуками зурны. По словам Барбаро, крики можно было услышать на другом берегу Босфора — на Анатолийском побережье, «и всех нас, христиан, охватил величайший ужас». В Городе шел день поста, День Всех Святых, однако в церквах верующие не находили успокоения: слышались лишь покаянные мольбы и просьбы о заступничестве.
В конце дня Джустиниани и его люди вновь приступили к починке повреждений, нанесенных внешней стене, однако при ярком свете, разогнавшем ночную тьму, пушки продолжали вести интенсивный огонь. Оборонявшиеся были видны как на ладони, и именно в этот момент, если верить Нестору Искандеру, удача впервые изменила Джустиниани. В то время как он отдавал приказания, осколок каменного ядра, возможно, отскочив рикошетом, поразил генуэзского командира, пробил его стальной панцирь и ранил в грудь. Он упал на землю, его отнесли домой и уложили в постель.
Значение роли, которую Джустиниани играл в деле византийцев, трудно переоценить. С того момента, когда он торжественно сошел на пристань в январе 1453 года, приведя с собой семьсот тысяч искусных бойцов в сверкающих доспехах, он стал знаковой фигурой в истории обороны Города. Джустиниани явился добровольно, на свой страх и риск, «ради веры Христовой и славы мирской». Сведущий в технике, обладавший большой личной храбростью, неутомимо защищавший стены, ограждавшие Город с суши, он был единственным, кто смог снискать доверие обеих сторон — и греков, и венецианцев — в такой степени, что тем из них, кто питал ненависть к генуэзцам, пришлось сделать для него исключение. Постройка заграждения была блистательной импровизацией, ее эффективность в значительной степени снизила боевой дух османских войск. Его соотечественник Леонард Хиосский (свидетель, правда, ненадежный) намекает: Мехмед испытывал по отношению к своему главному противнику раздражение, смешанное с восхищением, и пытался подкупить его большой суммой денег. Но Джустиниани был не из тех, кого можно купить. Защитников охватило отчаяние, когда они увидели воодушевлявшего их вождя поверженным. В замешательстве они прекратили починку стен. Когда Константину сообщили о случившемся, «покинула сила его и смешались мысли».
В полночь крики вновь неожиданно замерли и огни погасли. Внезапно тьма пала на палатки и знамена, на пушки, лошадей и корабли, на спокойные воды Золотого Рога и на разрушенные стены. Доктора, присматривавшие за раненым Джустиниани, «всю ночь протрудились, помогая ему». Жители Города наслаждались кратким отдыхом.
Понедельник 28 мая Мехмед провел, осуществляя последние приготовления к атаке. Поднявшись с рассветом, он отдал приказ своим пушкарям приготовиться и навести орудия на разрушенные участки стены так, чтобы они смогли целиться в незащищенных людей, оборонявших Город, когда позже, днем, будет отдан соответствующий приказ. Мехмед призвал командиров кавалерийских и пехотных частей гвардии и отдал им распоряжения. Из них сформировали несколько отрядов. Под звуки труб в лагере прозвучало известие: все офицеры должны находиться на своих постах под угрозой смерти, в полной готовности к завтрашней атаке.
Когда же пушки начали стрелять, «то было словно не в нашем мире» (так свидетельствует Барбаро), «и причина заключалась в том, что настал последний день бомбардировки». Несмотря на интенсивность огня, нападения не предпринимались. Единственные действия осаждающих, которые можно было разглядеть, заключались в том, что они непрерывно собирали тысячи длинных лестниц и огромное количество деревянных «плетней» (предназначенных для защиты продвигавшихся вперед людей, когда они будут пытаться влезть на заграждение) и подтаскивали их к стенам. С пастбища привели кавалерийских лошадей. Стоял конец весны, и сияло солнце. В лагере османов люди были заняты приготовлениями: постились и молились, точили клинки, проверяли крепления на щитах и доспехах, отдыхали. Воины задумались, углубились в себя, притихли, укрепляя свой дух перед последним штурмом. Благочестивая тишина и порядок, царившие в армии, тревожили наблюдателей на стенах. Некоторые надеялись, что снижение активности означало подготовку к отступлению. Другие смотрели на вещи более трезво.
Мехмед немало потрудился над укреплением боевого духа своих людей, «настраивая» в течение нескольких дней их реакцию посредством чередования волнений и размышлений: он стремился усилить их готовность идти в бой и отвлечь от сомнений. В поддержании нужных, «правильных» умонастроений ключевую роль играли муллы и дервиши. Тысячи бродячих «святых людей», полных страстных религиозных чаяний, явились в лагерь из отдаленных районов Анатолии. Они повторяли относящиеся к ситуации стихи из Корана и Хадиса, рассказывали истории о мученичестве и о пророчествах. Людям напоминали, что они идут по стопам спутников Пророка, погибших во время первой осады Константинополя арабами. Их имена передавались из уст в уста: Хазрет Хафиз, Эбу Сейбет ул-Энсари, Хамд ул-Енсари и — важнее всего! — Аюб, называемый турками Эйюбом. «Святой человек» напоминал слушателям, понизив голос, какая им выпала честь — исполнить завет самого Пророка:
Пророк сказал своим ученикам: «Слыхали ли вы о городе, с одной стороны которого находится суша, а с двух других — вода?» Они отвечали: «Да, о Вестник Бога». Он сказал: «Последний час [Суда] не настанет до тех пор, пока его не захватят 70 000 сынов Исаака. Когда они достигнут его, они вступят в битву не с оружием или катапультами, но со словами: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Аллах велик». Затем первая приморская стена рухнет; во второй раз падет вторая приморская стена. В третий раз обвалится стена со стороны суши, И, возрадовавшись, они войдут внутрь».
Слова, приписанные Пророку, могли быть апокрифом, однако передавали подлинные настроения. Для армии открывалась перспектива завершить мессианский цикл в истории, выполнить давнюю мечту народов ислама, существовавшую с самого момента его появления, и завоевать вечную славу. Те же, кто погибал в битве, оказывались благословенными мучениками и должны были попасть в рай, где их ожидали «сады, орошаемые бегущими ручьями, где они будут пребывать вовеки, целомудреннейшие супруги и милость Божия».
То была горючая смесь. Однако в лагере находились и те (в том числе шейх Акшемсеттин), кто в высшей степени здраво судил об истинных настроениях некоторых солдат. «Ты хорошо знаешь, — писал он Мехмеду в начале осады, — что большинство воинов во всяком случае было обращено [в истинную веру] насильно. Число тех, кто готов пожертвовать жизнью из любви к Богу, чрезвычайно мало. С другой стороны, если у них промелькнет мысль о возможной добыче, они бросятся вперед, даже если им несомненно будет грозить смерть». В Коране для них также имелись вдохновляющие строки: «Господь обещал вам богатую добычу и вскорости даровал ее вам. Он остановил врагов ваших, и так Он сделал вашу победу знаком для приверженцев истинной веры и ведет вас прямыми путями».
Совершая последний объезд и инспектируя войска, Мехмед взошел на корабль. С большим кавалерийским отрядом он отправился в Диколон дать Хамзе инструкции по проведению морской атаки. Ему надлежало расположить флот вокруг Города, подведя суда на расстояние выстрела, и тем самым вовлечь обороняющихся в продолжительный бой. При возможности часть судов должна была причалить. Морякам следовало попытаться захватить приморские стены, хотя нападающие, учитывая быстроту течений в Мраморном море, считали: здесь шансы на успех невелики. Флот в бухте Золотой Рог получил сходные приказы. На обратном пути Мехмед также остановился близ главных ворот Галаты и приказал главным магистратам поселения явиться к нему. Он строго предупредил их на следующий день не оказывать никакой помощи Городу.
После полудня он вновь сел на лошадь и отправился делать смотр всей армии, [вновь и вновь] проезжая расстояние в четыре мили от моря до моря, вдохновляя людей, обращаясь к офицерам по именам, воодушевляя их на битву. Снова и снова он упоминал о «моркови и палке», обещая скорое получение великих наград — и страшные кары тем, кто откажется повиноваться. Солдатам было велено под страхом смерти исполнять приказания военачальников в точности. Вероятно, с наиболее строгими словами Мехмед обратился к завербованным силой и неохотно повинующимся войскам христиан под командованием Заганос-паши. Довольный этими предварительными мерами, он воротился на отдых к себе в шатер.
В Городе вовсю шло осуществление системы ответных мер. Каким-то образом, вопреки худшим опасениям Константина и докторов, Джустиниани пережил прошлую ночь. Охваченный беспокойством за состояние внешней стены, он потребовал перенести его к укреплениям, дабы он мог продолжать наблюдение за работами. Защитники вновь начали заделывать бреши и немало преуспели в этом, прежде чем их заметили османские пушкари. Когда же это случилось, шквал огня тут же вынудил их прекратить работы. Позже Джустиниани счел, что достаточно хорошо себя чувствует и может продолжить активно распоряжаться на укреплениях центрального участка стены, оборона которого имела решающее значение.
Повсюду приготовления к последнему этапу обороны осложнялись трениями между различными национальными и религиозными группировками. Соперничество, имевшее глубокие корни: борьба за приоритеты среди группировок, чьи интересы не совпадали; трудность продовольственного обеспечения в достаточном количестве; изнурение, вызванное продолжительными работами, и шок от обстрелов — все это привело к тому, что после пятидесяти трех дней осады нервы напряглись до предела и разногласия вызвали открытую вспышку конфликта. При подготовке к надвигающемуся штурму Джустиниани и Лука Нотарас едва не подрались из-за того, где развертывать пушки — драгоценные в силу их малочисленности. Джустиниани требовал от Нотараса передать пушки под его контроль для защиты стены, прикрывавшей Город с суши. Тот отказался, полагая, что они могут понадобиться для защиты приморских стен. Поднялся яростный спор. Джустиниани угрожал пронзить Нотараса мечом.
Следующая ссора вспыхнула по поводу снабжения соответствующими приспособлениями стен, ограждавших Город с суши. Разрушенные укрепления нужно было снабдить сверху надежными оборонительными конструкциями для защиты от вражеских снарядов. Венецианцы начали строить мантелеты — деревянные барьеры — в плотницких мастерских своего квартала Платея, расположенного ближе к Золотому Рогу. Венецианский бальи приказал грекам оттащить их на стены (расстояние составляло две мили). Те отказались, заявив, что вначале желают получить плату за свой труд. Венецианцы обвинили их в жадности. Греков, чьи семьи голодали, оскорбило высокомерие итальянцев. Им требовались время или деньги, чтобы раздобыть пищу до конца дня. Спор не утихал так долго, что мантелеты так и не доставили на место до наступления ночи, а к тому времени использовать их было уже поздно.
Вспыхнувшие противоречия имели долгую историю. Религиозная схизма, разграбление Константинополя во время Четвертого крестового похода, торговое соперничество генуэзцев и венецианцев — все это сказалось, когда в течение напряженных последних дней стороны осыпали друг друга обвинениями в жадности, предательстве, праздности и высокомерии. Однако раздор и отчаяние являлись чем-то наносным, и 28 мая все трудились из последних сил ради общего дела — обороны Города. Сам Константин провел день, организовывая, упрашивая, собирая под своим водительством горожан и разношерстные отряды защитников — греков, венецианцев, генуэзцев, турок и испанцев — для работы во имя единой цели. Женщины и дети усиленно трудились целый день, втаскивая на стены камни, чтобы бросать их во врагов. Венецианский бальи сделал прочувствованное заявление: «Все, кто называет себя венецианцами, должны идти на стены, прикрывающие Город с суши, — прежде всего из любви ко Господу, затем — во имя блага Города и во славу всего христианского мира, и там все они должны стоять на своих постах и, если потребуется, мужественно принять смерть». В гавани проверили состояние заграждения. Все суда привели в боевую готовность. С той стороны бухты обитатели Галаты наблюдали за приготовлениями к последней битве со все более растущим беспокойством. Кажется вероятным, что подеста также обратился к жителям городка с последним, тайным призывом — скрытно перебраться через Золотой Рог и присоединиться к обороне. Он понимал: судьба генуэзского анклава теперь зависит от того, выстоит ли Константинополь.
Из османского лагеря не доносилось ни звука. В Константинополе, напротив, стоял шум и царило оживление. Весь день звонили колокола церквей. Барабаны и деревянные гонги призывали людей заняться последними приготовлениями. Бесконечные циклы молитв, служб и воззваний о заступничестве стали осуществляться с еще большим рвением после зловещих знамений предыдущих дней. Утром 28 мая они достигли апогея. Религиозное возбуждение в Городе было сравнимо с тем, что царило снаружи, на равнине. Рано утром грандиозная процессия, состоявшая из священников, мужчин, женщин и детей, собралась возле храма Святой Софии. Все наиболее почитаемые иконы Города вынесли из храмов и часовен. Помимо Одигитрии (с которой во время предыдущего шествия оказались связаны столь зловещие знамения) люди несли святые мощи, позолоченные и украшенные драгоценными камнями кресты, содержавшие в себе частицы самого Честного Креста Господня, и множество других икон. Епископы и священники в парчовых одеяниях возглавляли процессию. Каявшиеся миряне шли позади босиком, плача и ударяя себя в грудь, моля об отпущении грехов и вторя певчим. Процессия проследовала через Город и вдоль всех стен, ограждавших его с суши. В каждой важной точке священники читали древние молитвы, прося Господа оберечь стены и даровать победу верующим в него людям. Епископы поднимали посохи и благословляли защитников, окуная в святую воду пучки сушеного базилика и кропя верующих, — последний способ поднять боевой дух защитников Города.
Император, вероятно, сам присоединился к шествию, и когда оно закончилось, созвал вельмож и командиров — представителей всех групп, находившихся в Городе, — в последний раз призвав их объединиться и проявить смелость. Речь его стала зеркальным отражением того, что говорил Мехмед. Свидетелем того, как император произносил ее, был архиепископ Леонард, записавший ее на свой лад. Константин адресовался по очереди ко всем группам, апеллируя к интересам и чаяниям каждой. Прежде всего он обратился к соотечественникам — грекам, жителям Города. Он воздал им хвалу за то, что пятьдесят три дня они стойко обороняли свое обиталище, и умолял их не пугаться диких криков невежественной толпы «злых турок»: сила горожан в том, что «Господь защищает» их, но она также зависит и от их превосходного оружия. Он напомнил им, как Мехмед начал войну, нарушив договор, построив крепость на Босфоре «с притворно мирными намерениями». Взывая к верности родному дому, религиозным чувствам и идее будущего Греции, он также напомнил: Мехмед стремится захватить «Город Константина Великого, вашу отчизну, оплот христианских беженцев и защиту всех греков, и осквернить святые церкви Божии, превратив их в стойла для лошадей».
Обратившись к генуэзцам, а затем к венецианцам, он похвалил их за смелость и приверженность делу защиты Города: «Вы дали сему Городу великих и знатных людей, тем самым украсив его, как если бы это было ваше собственное поселение. Итак, о благородные, воспряньте духом пред сей битвой». Наконец он обратился ко всем воинам в целом, прося их в точности повиноваться приказам, и в заключение упомянул о славе, ждущей их на земле и на небесах, почти в тех же словах, что и Мехмед: «Знайте, настал день вашей славы, и если вы прольете в этот день всего лишь одну каплю своей крови, вам будет уготован мученический венец и бессмертная слава». Подобные идеи оказали на слушателей желаемое воздействие. Речь Константина воодушевила всех присутствующих. Они поклялись стоять насмерть во время нападения, которое вот-вот должно было начаться, и говорили: «Мы можем надеяться одержать победу с помощью Божией». Казалось, все решили забыть личные обиды и проблемы и объединиться во имя общего дела. Затем люди отправились на свои посты.
В действительности Константин и Джустиниани знали, сколь ненадежной была линия обороны. Вероятно, после семи недель изнурительной борьбы первоначальное количество оборонявшихся — восемь тысяч человек — сократилось до четырех тысяч. При этом периметр, который предстояло защищать, составлял двадцать миль. Мехмед, возможно, был прав, говоря своим людям, что в некоторых местах «каждую башню защищают всего два-три человека, и столько же обороняет бастионы между башнями». Бухта Золотой Рог (примерно в три мили длиной), где могло произойти нападение османских кораблей, находившихся близ Долины Источников, а также войск, продвигавшихся по понтонному мосту, охранялась отрядом из пятисот искусных арбалетчиков и лучников. За цепью перегораживавшей залив на протяжении следующих пяти миль (непосредственно близ стены, ограждавшей Город со стороны моря) в каждой башне находилось лишь по одному опытному лучнику, арбалетчику или артиллеристу, которым были приданы отряды необученных горожан и монахов. В некоторых местах приморская стена охранялась различными группами воинов: часть башен удерживали моряки с Крита, другую часть — каталонцы. Орхан, претендент на османский трон — дядя султана, — оборонял отрезок стены, господствовавший над Мраморным морем. Его отряд был настроен на то, что если дело дойдет до последней схватки, воины будут стоять насмерть: сдаться бы им не удалось. В целом, однако, считалось, что приморская стена хорошо защищена течениями Мраморного моря, и всех, кого удастся выделить в резерв, необходимо отправить на центральный участок стены, прикрывающей Город с суши. Было очевидно, что наиболее массированный удар должен прийтись на сектор в долине Лика между воротами Святого Романа и Харисия, где в результате артиллерийского обстрела разрушилась часть внешних стен. В последний день заграждение по возможности тщательно отремонтировали. Для его защиты отправили войска. Джустиниани отвечал за оборону данного участка. В его распоряжении находились четыреста итальянцев и большая часть византийских войск — всего около двух тысяч человек. Константин также разместил поблизости свой штаб, намереваясь в полной мере поддержать воинов, если это потребуется.
После полудня защитникам стали видны войска, собиравшиеся под стенами. День выдался прекрасный. Солнце склонялось к западу. Снаружи, на равнине, османская армия начала развертываться в боевые порядки, поднимать боевые знамена. Она заполнила горизонт от побережья до побережья. Впереди люди продолжали трудиться, засыпая канавы, продвигая пушки как можно дальше, и все это неуклонное наращивание приспособлений для ведения осады не встречало противодействия со стороны защитников Города. В бухте Золотой Рог восемьдесят кораблей османского флота, которые в свое время перетащили сюда, приготовились транспортировать понтонный мост по возможности ближе к стенам, прикрывавшим Город с суши. В то же время еще больший флот под командованием Хамза-паши, находившийся по ту сторону цепи, окружил Город: часть кораблей заплыла за мыс Акрополис, другие расположились вдоль берега Мраморного моря. На каждом судне находились солдаты, камнеметы и длинные лестницы, равные стенам по высоте. Люди на бастионах уселись ждать, так как время еще было.
В конце дня население Города, ища утешения в вере, в первый раз за пять месяцев собралось в храме Святой Софии. Темная церковь, столь явно «бойкотируемая» православными верующими, наполнилась народом. Люди, охваченные тревогой, ревностно каялись. Кажется, в первый раз начиная с лета 1054 года в минуту крайней нужды все горожане, католики и православные, молились вместе. Четырехсотлетняя схизма и все зло, содеянное крестоносцами, отошли на второй план. Совершалось последнее моление о заступничестве Божием. Огромное пространство тысячелетнего храма Юстиниана мерцало таинственным сиянием свечей. Эхом отдавалось, возносясь и затихая, звучание литургии. В службе принял участие и Константин. Он занял императорское кресло справа от алтаря, причастился с великим благоговением и «пал на землю, прося Бога о милости и прощении грехов». Затем он простился со священнослужителями и с народом, поклонился на все четыре стороны — и покинул храм. «И тут, — взволнованно описывает Нестор Искандер, — снова раздались вопли всего клира и находившегося тут народа, жен и детей, которых было не счесть, — все рыдали и стонали… и голоса их, думается мне, достигли небес». Все командиры вернулись на посты. Часть гражданского населения осталась в церкви для участия в службе, которая должна была продолжаться всю ночь. Другие ушли искать укрытия. Люди спускались в гулкую темноту больших подземных цистерн, чтобы в маленьких лодочках плавать посреди колонн. А над землей по-прежнему возвышалась статуя Юстиниана на бронзовом коне, дерзко указуя на восток.
С наступлением вечера османы закончили поститься, съели свои пайки и продолжали готовиться к грядущим событиям ночи. Трапеза перед боем давала еще одну возможность укрепить групповую солидарность и жертвенное чувство в душах солдат, собравшихся вокруг общих котлов. Костры и факелы горели едва ли не ярче, чем в предыдущие две ночи. Вновь понеслись крики, сопровождаемые звуками труб и рогов, усиливая просьбы, неотделимые одна от другой — о процветании в жизни и о легкой смерти: «Дети Мухаммеда, возвеселитесь, ибо утром в наших руках окажется так много христиан, что мы будем продавать их по двое за дукат, и овладеем столькими богатствами, что все у нас будет из золота. Из волос греков мы сделаем поводки для своих собак, и их домочадцы станут нашими рабами. Итак, возрадуйтесь и будьте готовы с радостью принять смерть ради любви к нашему Мухаммеду». Взволнованные солдаты молились все усерднее, и вот лихорадочная веселость охватила лагерь: поднялся шум, напоминавший грохот прибоя. От огней и ритмических выкриков стыла кровь христиан, пребывавших в ожидании. Во тьме начался мощный обстрел — столь мощный, «что нам это показалось настоящим адом». В полночь тишина и тьма воцарились в османском лагере. Люди, соблюдая полный порядок, отправились на посты «со всем своим оружием и целой горой стрел». «Накачанные» адреналином из-за близости битвы, взволнованные мечтами о мученичестве и золоте, они в полном молчании ожидали последнего сигнала к атаке.
Делать более было нечего. Обе стороны понимали — наступающий день принесет с собой развязку. И те, и другие приготовились к нему, совершив надлежащие религиозные обряды. По словам Барбаро, приписавшего, как и следовало ожидать, решение исхода битвы христианскому Богу, «когда обе стороны вознесли молитвы своим богам, прося даровать им победу, мы — своему, они — своему, Отец наш на небесах вместе с Матерью своей решил, кому будет сопутствовать успех в сей битве, которая должна была быть столь жестокой и которой суждено было завершиться на следующий день». Согласно Саад-ад-дину, османские войска «от сумерек и до рассвета, жаждая битвы… объединенные величайшим из заслуживающих похвал трудом… провели ночь в молитвах».
Эпилогом к этому дню может послужить следующая история. В одной из записей Георгия Сфрандзи говорится о том, как Константин промчался по темным улицам Города на арабском скакуне и вернулся поздно ночью во Влахернский дворец. Он призвал к себе слуг и домочадцев и просил у них прощения. Освобожденный от грехов, по словам Сфрандзи, «император вскочил на лошадь, и мы покинули дворец и начали объезжать стены, побуждая стражников бдительно нести караул и не погружаться в сон». Проверив, все ли в порядке, и убедившись, что ворота надежно заперты, с первыми петухами они поднялись на башню близ Калигарийских ворот (откуда открывался широкий вид на равнину и на Золотой Рог), чтобы следить во тьме за приготовлениями врага. Им слышно было, как осадные башни на колесах скрипят, невидимо приближаясь к укреплениям, как тащат осадные лестницы по изрытой земле, как трудится множество солдат, заполняющих рвы близ разрушенных стен. Южнее, на мерцающей глади Босфора и Мраморного моря, вдали можно было различить очертания больших галер — призрачные контуры судов, движущихся на позиции за мощным куполом Святой Софии, — тогда как внутри Золотого Рога суда меньшего размера, фусты, перегоняли понтонный мост через пролив, чтобы в результате маневра он приблизился к стенам. Всмотримся в эту картину, врезающуюся в память, вглядимся в бессмертный образ Константина, которому пришлось столько вынести: благородный император и его верный друг стоят на башне на краю Города, прислушиваясь к зловещим приготовлениям к последней атаке. Во всем мире темно и тихо перед роковым мгновением. Пятьдесят три дня крохотные силы ставили в тупик османскую армию со всей ее мощью; они выдержали обстрел, тяжелейший в истории Средневековья, из самой большой пушки, которую когда бы то ни было отливали (совершено было пять тысяч выстрелов, затрачено пятьдесят пять тысяч фунтов пороха). Они противостояли врагам во время полномасштабных штурмов и дюжин стычек, перебили неизвестно сколько тысяч османских солдат, уничтожали подземные ходы и осадные башни, выигрывали морские сражения, устраивали вылазки, проводили мирные переговоры и неустанно трудились, подрывая боевой дух противника, — и были ближе к успеху, чем, возможно, знали сами.
Эта сцена точно передает детали, как географические, так и фактические, — стражи на самых высоких бастионах Города слышали, как маневрируют османские войска во тьме перед стенами, и перед ними открывался широкий вид на сушу и на море. Однако мы не знаем, были ли там Константин и Сфрандзи на самом деле. Описание, возможно, выдумано, состряпано сто лет спустя священником с репутацией фантазера. Точные сведения, которыми мы обладаем, заключаются в следующем: в какой-то момент 28 мая Константин и его помощник расстались, и у Сфрандзи было дурное предчувствие в отношении наступившего дня и значения грядущих событий. Люди эти оставались друзьями всю жизнь. Сфрандзи служил своему господину с верностью, очевидно, отсутствовавшей у тех, кто окружал императора в изобиловавшие раздорами последние годы существования Византийской империи. Двадцать три года назад он спас жизнь Константину во время осады Патраса. Был ранен, захвачен из-за этого в плен и с кандалами на ногах томился месяц в ужасном подземелье, прежде чем его освободили. В течение тридцати лет он участвовал в бесконечных дипломатических миссиях в пользу своего господина, включая безрезультатную трехлетнюю поездку по странам, омываемым Черным морем, — посольство в поисках жены для императора. В награду Константин сделал Сфрандзи правителем Патраса, был шафером у него на свадьбе и крестным отцом его детей. Во время осады Сфрандзи рисковал большим, чем многие другие защитники Города: его семья находилась здесь, с ним. Где бы те двое ни расстались 28 мая, для Сфрандзи разлука сопровождалась дурным предзнаменованием. За два года до того, находясь вдали от Константинополя, он получил своего рода предупреждение: «В такую же ночь, 28 мая [1451 года], мне привиделся сон: мне казалось, что я вернулся в Город; когда я сделал движение, чтобы броситься ниц и припасть к ногам императора, он остановил меня, поднял и поцеловал в глаза. Затем я пробудился и сказал тем, кто спал рядом со мной: «Мне только что приснился сон. Запомните этот день».
Глава 14 Запертые ворота 29 мая 1453 года. 1 час 30 минут после полуночи
В победе на войне нельзя быть уверенным, даже если существует преимущество в снаряжении и количестве воинов, которое приводит к успеху. Победа и превосходство на войне зависят от удачи и от случая.
Ибн Хальдун, арабский историк XIV в.Османский военный оркестр был создан вселять ужас и поднимать боевой дух.
К тому моменту, как наступил вечер 28 мая (то был понедельник), гигантские пушки стреляли по стенам, прикрывавшим Город с суши, 47 дней. Со временем Мехмед пришел к выводу — артиллерию нужно сосредоточить в трех местах: на севере — между Влахернским дворцом и воротами Харисия, в центральном секторе — возле реки Лик, и на юге, ближе к Мраморному морю, в районе Третьих военных ворот. Во всех этих пунктах стены имели значительные повреждения, так что когда султан обратился перед битвой к своим командирам, то мог заявить с подобающим случаю преувеличением, что «ров весь заполнен, а стена, ограждающая Город с суши, в трех местах разрушена настолько, что не только легкая и тяжелая пехота, такая, как вы, но и лошади, и даже тяжеловооруженная кавалерия без труда сможет проникнуть внутрь». В действительности обеим сторонам с некоторого момента было ясно, что спланированная атака может быть сосредоточена только в одном месте — на среднем участке, Месотихионе, узкой долине между воротами Святого Романа и Харисия. Он являлся ахиллесовой пятой оборонительной системы Города, и именно здесь Мехмед максимально сосредоточил свою огневую мощь.
Накануне общего штурма во внешней стене имелось девять больших дыр примерно в тридцать ярдов длиной. В основном они находились в долине, которую по частям перекрывала баррикада Джустиниани. То была непрочная, разваливающаяся конструкция, использовавшаяся для латания укреплений везде, где в стене образовывались бреши. Крепко связанные бревна вкупе с фрагментами разрушенной стены составляли ее основу. Вдобавок использовались любые материалы, имевшиеся под рукой: хворост, ветки, пучки камыша и камни. Конструкция заполнялась землей, благодаря чему амортизация при ударах пушечных ядер становилась более эффективной, нежели в случае любых построек из камня. В свое время, очевидно, она почти достигала первоначальной высоты стены и была достаточно широка, что позволяло вести стрельбу прямо с нее. Обороняющиеся прятались от огня противника за бочками и ивовыми коробами, наполненными землей, заменявшими зубцы на стене. Начальная цель атак османов всегда заключалась в том, чтобы удалить их. С 21 апреля поддержание баррикады в целости составляло главную заботу горожан. И солдаты, и гражданское население трудились не покладая рук над ее починкой и расширением. Мужчины, женщины и дети, монахи и монашки — все вносили свой вклад, таская камни, дерево, целыми возами привозя землю, ветки и побеги виноградных лоз на передний край, участвуя в изнурительном и, очевидно, непрерывном цикле разрушения и починки. Они трудились под огнем пушек и во время нападений, день и ночь, в дождь и солнце, латая бреши там, где они появлялись. Баррикада превратилась в символ общей энергии населения, и затраченные на нее под руководством Джустиниани усилия оправдывались: благодаря ей защитники отражали все нападения на Город. Кроме того, вид ее деморализовал противника.
Именно за баррикадой находилось место, где большая часть имевшихся в Городе боеспособных войск заняла позиции вечером солнечного дня 28 мая. Согласно сведениям Дуки, «здесь присутствовало три тысячи латинян и римлян» — остатки первоклассных итальянских войск, явившихся с Джустиниани, моряки с венецианских галер, а также ядро византийской армии. Эти воины были закованы в броню, на головах — шлемы. Облаченные в кольчуги и доспехи, они имели при себе разнообразное оружие: арбалеты, пищали, маленькие пушки, большие луки, мечи и булавы — все необходимое, чтобы отбрасывать нападающих вниз в дальнем бою и сражаться с ними врукопашную на баррикадах. Вдобавок горожане принесли на передовую множество камней, а также горючих материалов — бочек с «греческим огнем» и кувшинов со смолой. Войска вошли в отгороженное пространство через ворота во внутренней стене и разместились вдоль баррикады, составлявшей около тысячи ярдов в длину, заняв таким образом Месотихион. Промежуток имел всего двенадцать ярдов в глубину. Сзади находилась более высокая внутренняя стена, у подножия которой был выкопан ров — землю из него использовали для укрепления баррикады. Места только-только хватало на то, чтобы всадники могли скакать взад-вперед вдоль линии обороны за спиной у людей, прижавшихся к баррикаде. На всем протяжении данного участка имелось только четыре прохода через внутреннюю стену: две калитки близ ворот Святого Романа и Харисия — справа и слева на склонах холмов, зловещие Пятые военные ворота — единственные, открывавшие вход в пространство между стенами на полпути к северному склону, и еще одна калитка, местонахождение которой неизвестно — ее сделал Джустиниани, дабы удобнее было попадать в Город. Всем было очевидно: именно на баррикаде решится исход битвы, будь то победа или поражение. С этого места отступление было невозможно. Поэтому было решено запереть за защитниками калитки, ведущие в Город, после того как те войдут в пространство между стенами. Ключи доверили их командирам. Им выпадала судьба выстоять или погибнуть, стоя спиной ко внутренней стене, и их начальники должны были разделить с ними эту участь. С наступлением ночи они уселись ждать. Во тьме полил сильный дождь, однако снаружи османские войска продолжали двигать вперед снаряжение для ведения осады. Спустя некоторое время между стенами появился Джустиниани, затем — Константин и знать, составлявшая его ближайшее окружение: испанец дон Франсиско де Толедо, кузен императора Феофил Палеолог и верный товарищ по битвам Иоанн Далмата. Поднявшись кто на баррикаду, кто на стену, они ожидали первых признаков атаки. Хотя, вероятно, немногие разделяли оптимизм подеста Галаты, заявившего, что «победа обеспечена», воины не лишены были веры в то, что им удастся выдержать финальный штурм.
Османские войска подготовились к битве в первые часы после полуночи. В темноте своей палатки Мехмед совершил ритуальное омовение, помолился и просил Бога о том, чтобы Город пал. По всей вероятности, его собственные приготовления, в частности, состояли в том, что он надел рубашку, которая должна была охранить его, обильно расшитую стихами из Корана и именами Бога в качестве магической защиты от неудач. Облаченный в тюрбан и кафтан, препоясанный мечом, в сопровождении главных своих военачальников он сел на лошадь, чтобы руководить атакой.
Подготовку к одновременному натиску с суши и с моря провели весьма тщательно. Все строго следовали плану. Корабли в бухте Золотой Рог и Мраморном море заняли свои позиции. Войска сосредоточились, дабы осуществлять натиск в ключевых пунктах со стороны стены, огораживавшей Город с суши (их усилия прежде всего сфокусировались на долине реки Лик). Мехмед решил ввести в дело у баррикады большие силы и при этом расположить свои соединения в таком порядке, чтобы каждая следующая волна атакующих состояла из более искусных и эффективно действующих воинов. Он повелел нерегулярным войскам — азабам и вспомогательным силам, состоявшим из иностранцев (то были неопытные воины, служившие за право грабежа или набранные для участия в кампании по законам вассальной зависимости) — участвовать в первой атаке. Многие из них были «христианами, которых удерживали в лагере насильно» (как пишет Барбаро), «то были греки, латиняне, немцы, венгры — люди изо всех христианских королевств» (как пишет Леонард). Иными словами, они являли собой пеструю смесь рас и верований. Вооружение их было весьма разнообразно: некоторые имели луки, пращи или мушкеты, но большая часть — лишь кривые турецкие ятаганы и щиты. Они ни в каком смысле не представляли собой дисциплинированную боевую силу, однако Мехмед хотел использовать неверных — «истратить» их, — чтобы измотать врага до того, как в зону боя будут введены лучшие войска. Людей этих привели от северного конца стены, снабдив осадными лестницами, и велели им готовиться к нападению по всей длине Месотихиона, и особенно в районе баррикады. Тысячи их ожидали во тьме того момента, когда нужно будет выступать.
В 1 час 30 минут утра рога, барабаны и цимбалы подали сигнал к атаке. Пушки открыли огонь со всех сторон — и с земли, и с моря. Силы османов двинулись вперед. Нерегулярные войска получили приказ идти с постоянной скоростью, соблюдая тишину. Подойдя на расстояние выстрела, они дали залп, выпустив «стрелы из луков, снаряды из пращей и железные и свинцовые ядра из артиллерийских орудий и аркебуз». По второй команде они с криками побежали через заполненный ров и бросились к стенам «с дротиками, пиками и копьями». Защитники были вполне готовы к этому. Когда солдаты нерегулярных войск попытались взобраться на стены, христиане начали отталкивать их лестницы и бросать «греческий огонь» и лить горячее масло на тех, кто карабкался к подножию баррикады. Темнота и царивший в ней беспорядок озаряли только осветительные огни в руках людей. Слышались «кровожадные вопли, богохульства и проклятия». Джустиниани построил своих людей боевым порядком. Присутствие императора вдохновляло оборонявшихся. Преимущество оставалось за ними. Они «бросали большие камни на них [нападающих] с укреплений», пускали стрелы и снаряды в их тесные ряды, «так что немногие ушли живыми». Приблизившиеся солдаты заколебались и начали поворачивать назад. Однако Мехмед решил «выжать» из иррегулярных войск все до последнего. В тылу он поместил линию чавушей — свою военную полицию — в качестве охраны. Вооруженные дубинками и кнутами, они заставляли бегущих возвращаться назад. Позади них стояли в ряд янычары с ятаганами, готовые зарубить всякого, кто прорвется сквозь первый кордон и добежит до них. Раздались ужасающие крики несчастных, застигнутых врасплох: впереди их ожидал град снарядов, в то время как сзади на них постоянно напирали, «так что выбор для них заключался в том, где погибнуть». Они вновь повернули, чтобы атаковать баррикаду, отчаянно и изо всех сил стараясь поднять свои лестницы под непрерывным обстрелом сверху, — и были перебиты. Несмотря на тяжелые потери, иррегулярные войска — те, которые следовало «истратить», — сослужили свою службу. В течение двух часов они истощали энергию врага, защищавшего баррикаду, пока Мехмед не разрешил оставшимся в живых отступить, дабы их не перебили, и кое-как убраться в тыл.
Наступила пауза. Было 3 часа 30 минут утра. Равнину, где по-прежнему царила темнота, освещали факелы. Люди на баррикаде пережили натиск. Им хватило времени реорганизоваться и провести неотложный ремонт. На других участках атака нерегулярных войск оказалась менее энергичной: прочность неразрушенных стен затрудняла их продвижение. В большей степени то была тактика диверсии: османы стремились утомить людей на всем участке, не дать им выступить в качестве подкрепления и поддержать тех, кто находился под ударом, защищая Месотихион. Глубина слоя обороны являлась столь незначительной, что численность войск резерва, находившихся там, где близ храма Святых Апостолов сходились две стены (в миле от баррикады), сократилась до трехсот человек. Глядя на равнину, люди на стене тщетно надеялись, что ночью враг отступит, однако их чаяниям не суждено было сбыться.
Тем временем приближалась новая схватка. Мехмед поскакал к анатолийским войсками, стоявшим на правом фланге — прямо напротив ворот Святого Романа. То была тяжелая пехота, хорошо защищенная (одетая в кольчуги), опытная, дисциплинированная — и охваченная религиозным пылом, служившим стимулом к действию. Мехмед обратился к ним, словно беседуя, отеческим тоном — султан, пусть и двадцати одного года от роду, с полным правом мог усвоить эту манеру, разговаривая со своим племенем: «Вперед, друзья и дети мои! Настала минута показать, чего вы стоите!» Те двинулись вниз к краю долины, заходя к баррикаде с фланга, и устремились в атаку плотной массой, призывая имя Аллаха «с криками и ужасными воплями». Они бросились «на стены, — писал Николо Барбаро, — подобно львам, спущенным с цепи». Их стремительное продвижение повергло оборонявшихся в тревогу. По всему Городу зазвонили церковные колокола, призывая каждого вернуться на свой пост. Многие жители бросились на стены, стремясь прийти на помощь. Другие продолжали молиться в храмах с удвоенным рвением. В трех милях от места событий священнослужители попытались помочь на свой лад: «Когда же [патриарх] услышал звон, то, взяв божественные иконы, вышел перед церковью и стал на молитву, осеняя крестом весь Город и с рыданиями возглашая: «Воскреси нас, Господи Боже мой, и помоги нам, совсем уже погибающим».
Анатолийцы все вместе пересекли ров. Они двигались вперед, плотно сгрудившись и представляя собой сплошную массу стали. Обстрел из арбалетов и пушек задержал их: «было убито невероятное число турок». Но они все приближались, прикрываясь щитами от града камней и снарядов, пытаясь подняться на баррикаду. «Мы метали в них снаряды, несущие смерть, — писал архиепископ Леонард, — и стреляли из арбалетов по их тесным рядам». Только за счет численного превосходства анатолийцам удалось приставить лестницы к баррикаде. Их вновь опрокинули вниз. Атакующих сокрушили камнями и сожгли с помощью пылающей смолы. На короткое время османы отошли назад, однако быстро предприняли новый натиск. Обороняющихся за баррикадой изумила и потрясла твердость духа врагов: казалось, ими движет нечеловеческая сила. Очевидно, здесь не было нужды в какой-либо дополнительной мотивации; этот отряд «сплошь состоял из храбрецов», — пишет Барбаро. «Они продолжали кричать так, что вопли их достигали небес, и размахивать знаменами с еще большим рвением. О, звери сии изумили бы вас! Армия их уменьшалась, однако они с безграничной храбростью продолжали попытки достичь рва». Анатолийцев сковывало то, что их было слишком много, а по мере приближения следующих волн атакующих им также стали мешать собственные убитые. Люди топтали друг друга, лезли друг другу на плечи, образуя живую пирамиду, пытаясь достичь вершины баррикады. Некоторым удалось взобраться туда, и они начали яростно рубить и кромсать противника. На земляной площадке завязался рукопашный бой. Люди теснились друг против друга. На столь ограниченном пространстве исход боя решали и вооруженная схватка, и физическое давление. Оттеснят ли анатолийцы врага назад или же будут сброшены на кучу людей, живых — карабкающихся, кричащих, испускающих проклятия, — мертвых и умирающих, брошенного оружия, шлемов, тюрбанов и щитов?
Ситуация менялась каждую минуту. «Порой тяжелая пехота, карабкаясь через стены и баррикады, не дрогнув, с силой прокладывала себе путь. В иные мгновения она встречала жестокий отпор и ее отбрасывали назад». Сам Мехмед поскакал вперед, побуждая воинов криками и воплями и время от времени посылая свежие волны атакующих в узкую брешь по мере того, как солдаты, находившиеся на передней линии, ослабляли натиск или падали мертвыми. Он приказал поднести запал к большой пушке. Залпы каменных ядер обрушились на стены, осыпав осколками оборонявшихся и поразив анатолийцев сзади. В предрассветной тьме летнего утра царила неразбериха, невыносимый шум битвы оглушал настолько, что, «казалось, самый воздух был расколот на части»: глухо стучали литавры; пронзительно трубили трубы; слышались звуки цимбал, звон церковных колоколов, свист стрел, пронзавших ночную темноту, и мощный, словно подземный, рев османской пушки, от которого тряслась почва. Раздавался звонкий треск пищалей. Мечи резко ударяли о щиты, клинки — с более мягким звуком — перерубали шеи, стрелы трепетали, вонзившись в грудь, свинцовые пули сокрушали ребра, камни дробили черепа — и надо всем этим стоял еще более страшный гул человеческих голосов: слышались молитва и боевой клич, крики ободрения, проклятия, вой, рыдания и тихие стоны умирающих… Дым и пыль разносились над передовой. Мусульманские знамена реяли в вышине, внушая солдатам Мехмеда надежду. Свет дымящихся факелов озарял бородатые лица, шлемы и доспехи. На краткие мгновения становились видны живые картины — застывшие фигуры артиллеристов, подсвеченные сзади мощной вспышкой при пушечном выстреле; язычки пламени, вырывавшиеся из пищалей, ярко вспыхивали в темноте; ведра «греческого огня», выливаемые со стен, искрились, подобно золотому дождю.
За час до рассвета снаряд одного из больших орудий прямым попаданием в баррикаду пробил в ней брешь. Тучи пыли и дыма от пушечного выстрела заклубились на передовой, и воцарилась темнота, однако анатолийцы, отреагировавшие быстрее всех, устремились в проход. Прежде чем оборонявшиеся успели что-либо предпринять, триста человек ворвалось внутрь, В первый раз османы проникли за баррикаду. Здесь воцарился хаос. В отчаянии защитники Города перегруппировались и встретили анатолийцев в узком промежутке между стенами. Брешь, очевидно, была недостаточно широка, чтобы внутрь мог хлынуть мощный поток людей, и атакующие вскоре оказались окружены и зажаты в угол. Греки и итальянцы начали методично рубить их в куски. Не выжил никто. Обрадованные победой, обороняющиеся выбили анатолийцев с баррикады. Обескураженные османские войска впервые заколебались, и их оттеснили назад. Была половина пятого утра. Оборонявшиеся сражались без отдыха в течение четырех часов.
На этом этапе сражения успехи османских войск повсюду оказались незначительны. В бухте Золотой Рог Заганос-паша ночью успешно разместил понтонный мост на нужной позиции и переместил значительное количество войск на берег близ оконечности стены, ограждавшей Город с суши. Одновременно он подвел легкие галеры близко к берегу, чтобы лучники и пищальники смогли обстреливать стены. Он выдвинул лестницы и деревянные башни к этим стенам и попытался направить свою пехоту на штурм укреплений. Однако попытка потерпела неудачу. Высадка войск Халила со стороны Мраморного моря равным образом не имела успеха. Течения не давали судам удерживаться на месте, а господствующее положение приморских стен, стоявших прямо над водой, не позволяло найти участок берега, где бы можно было устроить плацдарм. Хотя на бастионах оставалось очень мало людей и местами их защита была вверена одним лишь монахам, интервентов легко отбросили назад или взяли в плен и обезглавили. К югу от Месохетиона Исхак-паша несколько раз атаковал защитников, однако его лучшие войска из Анатолии в то время нападали на баррикаду. Наиболее серьезную попытку предприняли люди Караджа-паши в районе близ Влахернского дворца — в одном из пунктов, которые наметил Мехмед, утверждая, будто здесь будет легко проникнуть в Город. В этом месте «городские укрепления были ненадежны» из-за расположения стен, однако оборону вели три генуэзца — братья Боккьярди, умелые профессиональные военные. По словам архиепископа Леонарда, «их не пугало ничто — ни разрушение стен под вражеским огнем, ни выстрелы пушек… день и ночь они являли величайшую бдительность, и их арбалеты и страшные орудия всегда были наготове». Время от времени они совершали вылазки из калитки — Цирковых ворот, — подрывая активность врага. Люди Караджи не могли продвинуться вперед. Лев Святого Марка по-прежнему реял над темным дворцом.
По-видимому, неудача нерегулярных войск и анатолийских дивизий после четырех часов яростных схваток разъярила Мехмеда. Более того, она его встревожила. У него оставался лишь один незадействованный отряд — дворцовые полки, пять тысяч первоклассных профессиональных бойцов, его собственная гвардия: «люди великолепно вооруженные, смелые и полные энтузиазма, куда опытнее и храбрее остальных. То были лучшие части армии: тяжелая пехота, лучники, копейщики, и с ними — отряд, именовавшийся янычарами». Мехмед решил бросить их в битву тут же, не оставив оборонявшимся времени на перегруппировку. От эффективности данного маневра зависело все: если бы османам не удалось прорвать линию обороны в течение ближайших нескольких часов, момент был бы упущен, обессиленные войска неминуемо отступили бы, и осаду пришлось бы полностью снять.
Те, кто находился между стенами, не получили времени на передышку. Во время второй волны атаки они понесли весьма тяжелые потери. Соответственно люди и устали больше. Но дух сопротивления по-прежнему был в них силен. По словам Критовула, ничто не страшило их: «Ни голод, мучивший их, ни непрерывные продолжительные бои, ни раны, ни резня, ни смерть близких у них на глазах, ни иные страшные зрелища не могли заставить их сдаться или ослабить их рвение и волю к победе». На самом деле им оставалось одно — стоять насмерть. Никто не мог заменить их, так как других войск не было. Однако итальянцы бились под командованием Джустиниани, а греки — в присутствии императора, являвшихся для них такими же знаковыми фигурами, как султан для османской армии.
Мехмед знал: он должен нанести новый удар, прежде чем атака захлебнется. Теперь, как никогда прежде, его наемники нуждались в плате за свои усилия. Сидя верхом на коне, он призвал свои войска сражаться геройски. Были отданы четкие приказы, и Мехмед сам повел людей, равномерно двигавшихся к краю рва. Солнце еще не взошло, но звезды начали меркнуть, и «темная ночь уступала место рассвету». Солдаты остановились возле рва. Затем Мехмед повелел «лучникам, пращникам и прочим стрелкам остановиться поодаль и дать залп по тем, кто защищал баррикаду и вел огонь с внешней стены». По укреплениям пронесся огненный смерч: «выстрелов из кулеврин было столько и стрелы были столь многочисленны, что небеса скрылись за ними». Оборонявшимся пришлось нырнуть под баррикаду, чтобы скрыться от «дождя стрел и других снарядов, падавших, точно снежные хлопья». По новому сигналу пехота двинулась «с громким и ужасающим боевым кличем», «словно то были не турки, но львы». Они навалились на баррикаду, и звук их криков — последнее психологическое оружие османов в битве — расходился, точно мощная волна. Он оказался столь громким, что его слышали на азиатском побережье, в пяти милях от турецкого лагеря. Звуки барабанов и труб, призывы офицеров, громогласный рев пушек и пронзительные вопли воинов, рассчитанные как на то, чтобы дать выход адреналину, так и на то, чтобы расшатать нервы врагам, — все это произвело желаемый эффект. «Их ужасные крики лишили нас смелости, и страх охватил Город», — писал Барбаро. Османы начали атаку одновременно вдоль всей стены, ограждавшей Город с суши (она имела в длину четыре мили), напоминая удар волны, разбивающейся о берег. Вновь забили тревогу церковные колокола, и те, кто не участвовал в бою, поспешили вознести молитвы.
«Свежие силы» — тяжелая пехота и янычары — жаждали битвы. Они сражались в присутствии султана, стремясь заслужить как почести, так и награду, обещанную тому, кто первый взойдет на бастионы. Они надвигались на баррикаду без колебаний, без промедления — люди, «намеренные войти в Город» и знавшие свое дело. Они раскалывали бочки и деревянные турели палками с крючьями, разрушали каркас баррикады, прислоняли лестницы к валу и, подняв щиты над головами, пытались проложить себе путь наверх под опустошительным градом снарядов и камней. Их офицеры стояли сзади, выкрикивая приказы, и сам султан скакал верхом взад-вперед, крича и подбадривая их.
С противоположной стороны утомленные греки и итальянцы вступили в бой. Джустиниани и его люди, а также Константин, «сопровождаемый всеми своими вельможами, главными военачальниками и храбрейшими солдатами», устремились на баррикаду с «дротиками, пиками, длинными копьями и другим боевым оружием». Первая волна дворцовых войск «пала, пораженная камнями, так что многие умерли», однако на их место заступили другие. Никто не колебался. Вскоре начался рукопашный бой, схватка за контроль над баррикадой, где каждая сторона сражалась с верой и полным воодушевлением: одни — во имя почестей, Аллаха и великой награды, другие — во имя Господа и ради того, чтобы выжить. Воины сошлись в тесном ближнем бою. Раздавались ужасные крики, звуком которых полнился воздух: «Издавая боевой клич, эти кололи копьями, те накалывались на них; одни убивали, другие падали мертвыми; иные творили множество ужасных дел, охваченные гневом и яростью». Позади раздавались мощные залпы пушки, и дым плыл над полем сражения, то скрывая противников, то являя их друг другу. «Казалось, все происходит в ином мире», — писал Барбаро.
Битва продолжалась час. Дворцовые полки понемногу продвигались вперед. Защитники не отступили. «Мы дали им решительный отпор, — сообщает Леонард, — но многие наши люди были ранены; их унесли с поля боя. Однако наш командир Джустиниани по-прежнему держался стойко, и остальные командующие оставались на своих позициях». Настал миг — вначале не замеченный почти никем, — когда те, кто находился за баррикадой, ощутили, что натиск османов чуть-чуть ослабел. То была кульминация битвы, ее переломный момент. Константин заметил это и воодушевил войска на бой. Согласно Леонарду, он воззвал к своим людям: «Храбрые солдаты, вражеская армия слабеет, победа за нами. Господь на нашей стороне — сражайтесь!» Османы заколебались. Утомленные защитники обрели новые силы.
И вдруг два судьбоносных момента привели к тому, что удача отвернулась от них. В полумиле выше по линии фронта близ Влахернского дворца братья Боккьярди успешно отражали натиск войск Караджа-паши, время от времени совершая вылазки из Цирковых ворот — калитки, прятавшейся в углу, образованном стенами. Этим воротам ныне суждено было сыграть свою роль в исполнении древнего пророчества. Возвращаясь из набега, один из итальянских солдат не закрыл за собой калитку. Когда начало рассветать, люди Караджа-паши увидели открытую дверь и ворвались в нее. Пятьдесят человек сумели подняться по ступеням на стену и застать врасплох солдат, находившихся сверху. Некоторых зарубили. Другие предпочли умереть, бросившись вниз. О том, что произошло в точности, никто не знает. Очевидно, интервентов успешно изолировали и окружили, прежде чем они смогли нанести серьезный ущерб, однако им удалось спустить флаг Святого Марка и штандарт императора с некоторых башен и водрузить на их место османские знамена.
Ниже по линии фронта, у баррикады, Константин и Джустиниани не знали об этих событиях. Они энергично удерживали позиции, когда последовал куда более тяжелый удар судьбы. Джустиниани получил рану. Некоторые сочли, что на то была воля Бога христиан или же мусульман, отозвавшегося на молитвы — или отвергнувшего их. Грекам-книжникам ситуация прямо напоминала гомеровскую: неожиданный поворот событий во время битвы, чьей виновницей, по словам Критовула, оказалась «злая и безжалостная Фортуна» — момент, когда спокойная и чуждая жалости богиня, созерцающая ход боя с далекого Олимпа, решила склонить чашу весов, определив исход битвы, — и одним ударом обратила героя во прах, а сердце его — в пыль.
Согласия относительно того, что случилось, до сих пор нет, однако все тотчас поняли значение произошедшего: оно мгновенно вызвало ужас среди генуэзских войск Джустиниани. В свете последующих событий отчеты выглядят фрагментарными и спорными: Джустиниани «в своих доспехах Ахиллеса» падает наземь на дюжину ладов. Хроники сообщают: его ранили в правую ногу стрелой; он был поражен в грудь выстрелом из арбалета; свинцовая пуля пробила ему руку и повредила нагрудник; он ранен в плечо из кулеврины; ему нанес удар кто-то из своих, случайно — или намеренно. Наиболее правдоподобные версии подразумевают, что верхние его доспехи были пробиты свинцовой пулей: за небольшим отверстием однако скрывались тяжелые внутренние повреждения.
Джустиниани постоянно участвовал в сражениях с самого начала осады и, несомненно, был измотан сверх предела. Накануне он уже получил ранение, и вторая рана, по-видимому, сломила его дух. Не в силах держаться на ногах и раненный серьезнее, чем могли видеть те, кто находился рядом, он приказал своим людям нести его назад, на свой корабль, дабы ему оказали врачебную помощь. Солдаты отправились к императору просить ключ от ворот. Константин, встревоженный опасностью, которую мог повлечь за собой уход главного из его командиров, умолял Джустиниани и его офицеров остаться, пока опасность не минует, но те отказались. Джустиниани вверил командование двум офицерам и пообещал вернуться, когда о его ране позаботятся врачи. Константин с неохотой отдал ключ. Ворота открылись, и телохранители Джустиниани понесли его вниз, к бухте на его галеру. Решение обернулось катастрофой. Искушение, созданное открытыми воротами, оказалось слишком велико, и генуэзцы не смогли устоять против него: увидев, как их командующий удаляется прочь, они бросились в ворота вслед за ним.
В отчаянии Константин и его свита пытались препятствовать происходящему. Они запретили всем грекам следовать за итальянцами и выходить из пространства между стенами и приказали им сомкнуть ряды и выступить вперед, чтобы заполнить пустые места на передовых позициях. По-видимому, Мехмед заметил, что оборона ослабела, и воодушевил свои войска на новую атаку. «Друзья, Город наш! — крикнул он. — Еще одно небольшое усилие — и мы захватим его!»
Группа янычар под командованием одного из любимцев Мехмеда, офицера Кафер-бея, бросилась в атаку с криком: «Аллах акбар!» — «Велик Аллах!». Крик султана: «Вперед, мои соколы, вперед, мои львы!» — звучал у них в ушах. Кроме того, они помнили о награде, ожидавшей того, кто поднимет флаг на стенах. Они хлынули на эстакаду. Впереди человек огромного роста, Хасан из Улубата, нес османское знамя. Его сопровождало тридцать товарищей. Прикрыв голову щитом, он сумел ворваться на баррикаду, отбросить назад дрогнувших защитников и устоять наверху. В течение короткого времени ему удавалось удерживаться на этой позиции с флагом в руке, вдохновляя янычар на атаку. Зримому и устрашающему символу храбрости османов — гиганту-янычару, наконец утвердившему знамя ислама на стенах христианского города — суждено было войти в круг мифов, формирующих самосознание нации.
Вскоре защитники провели перегруппировку и ответили на нападение с помощью заградительного огня: в атакующих полетели камни, стрелы и копья. Они отбросили некоторых из тех тридцати человек, затем загнали в угол Хасана, в конце концов поразили его в колени и изрубили на куски. Однако повсюду все больше и больше янычар поднималось на укрепления и пробиралось сквозь дыры в баррикаде. Подобно потоку, разрушающему прибрежную дамбу, тысячи человек начали проникать в пространство между стенами. Обладая подавляющим численным превосходством, они неуклонно теснили назад оборонявшихся. В короткое время защитники Города оказались окружены и прижаты ко внутренней стене, перед которой был выкопан ров — земля из него потребовалась для строительства баррикады. Те, кого столкнули в канаву, оказались в ловушке: они не смогли выбраться и были перебиты.
Османские войска вливались в пространство между стенами по все более ширившемуся фронту. Многих перебили оборонявшиеся, обстреливая их с баррикады, но теперь поток было не остановить. По подсчетам Барбаро, за пятнадцать минут внутрь проникло тридцать тысяч человек. Они испускали «такие вопли, что казалось, то был сам ад». И тут люди заметили флаги на башнях близ Цирковых ворот, которые установили немногочисленные воины, ворвавшиеся в Город в том районе. Раздался крик: «Город взят!» Оборонявшихся охватила паника. Они повернулись и бросились бежать, ища пути в Город из запертого пространства между стенами. Тем временем люди Мехмеда начали карабкаться также и на внутреннюю стену и обстреливать их сверху.
Существовал лишь один возможный выход — через маленькую калитку, откуда вынесли раненого Джустиниани. Все остальные ворота оставались закрытыми. Толпа устремилась в проем. Бегущие сбивали друг друга с ног, пытаясь выбраться наружу, «так что близ ворот образовался огромный холм из живых людей, который не давал пройти никому». Некоторые упали и были затоптаны насмерть. Других перерезала османская тяжелая пехота, спускавшаяся теперь с баррикады правильным строем. Груда тел росла, делая невозможным бегство. Все оставшиеся в живых защитники баррикады погибли во время резни. Возле остальных ворот — Харисия, Пятых военных — лежала такая же куча трупов. То были люди, бежавшие сюда в поисках выхода, которым не удалось вырваться из пространства между стенами: калитки были заперты. И где-то в этой схватке с ее удушливой атмосферой, паникой и борьбой мы в последний раз видим Константина, окруженного самыми верными своими спутниками — с ним находились Феофил Палеолог, Иоанн Далмата, дон Франсиско де Толедо. О последних мгновениях жизни Константина сообщают свидетели, чьи рассказы недостоверны — ведь их почти наверняка не было на месте событий: император борется, стойко сопротивляется, падает, его тело топчут ногами — так он уходит из истории, чтобы продолжить жить в легенде.
Группа янычар вскарабкалась по мертвым телам и вломилась в Пятые военные ворота. Продвигаясь вверх уже внутри городских стен, некоторые из них свернули налево, к воротам Харисия, и открыли их изнутри. Другие пошли направо и отперли ворота Святого Романа. Захватывая башни одну за другой, турки поднимали на них османские флаги. «Затем вся оставшаяся армия в ярости ворвалась в Город… и султан стоял близ мощных стен, там, где развевались большое знамя и бунчуки из конских хвостов, и наблюдал за событиями». Рассвело. Вставало солнце. Османские солдаты шагали меж павшими, обезглавливая мертвецов и умирающих. Большие хищные птицы кружили над ними. Оборона Города рухнула менее чем за пять часов.
Глава 15 Пригоршня праха 29 мая 1453 года. 6 часов после полуночи
Скажи мне, пожалуйста, как и когда наступит конец этого мира? И как узнают люди, что он близок, что он на пороге? Какие признаки возвестят о конце? И куда денется этот Город, Новый Иерусалим? Что будет с его святыми храмами, стоящими здесь, с почитаемыми иконами, с мощами святых и с книгами? Поведай мне у пожалуйста, об этом.
Епифаний, православный монах — Святому Андрею Юродивому«Воистину, они завоюют Константинополь. И впрямь их предводитель будет превосходным предводителем. И впрямь их армия будет превосходной армией!» — слова, приписываемые Пророку.
Османские войска валили в Город, и видно было, как турецкие флаги развевались над башнями. Среди гражданского населения распространилась паника. По улицам пронесся крик: «Город взят!» Люди бросились бежать. Братья Боккьярди на стенах близ Цирковых ворот увидели, что солдаты покидают свои позиции. Они сели на лошадей и устремились на врага, заставив его отступить на некоторое время. Однако они очень быстро поняли: ситуация безнадежна! Турецкие воины бросали на них сверху метательные снаряды. Паоло получил ранение в голову. Боккьярди осознали, сколь серьезная опасность нависла над ними: их вот-вот могли окружить. Паоло взяли в плен и убили, но его братья сумели пробиться со своими людьми к Золотому Рогу. В гавани раненый Джустиниани услышал, что оборона прорвана, и «приказал трубачам подать его людям сигнал к отходу». Остальным отступать было поздно. Венецианского бальи Минотто и многих видных венецианцев и моряков, сошедших с галер для участия в бою, окружили и взяли в плен у Влахернского дворца. Тем временем на стенах, прикрывавших Город с суши у Мраморного моря, где оборона по-прежнему оставалась прочной, солдаты увидели, что их атакуют с тыла. Многие погибли. Другие, в том числе командиры — Филиппо Контарини и Димитрий Кантакузин, — были окружены и взяты в плен.
Смятение с ужасающей быстротой охватило Город. Прорыв линии фронта оказался столь внезапным и впечатляющим, что многих застиг врасплох. В то время как одни покинули стены, прикрывавшие Константинополь с суши, и бросились к Золотому Рогу в надежде попасть на борт корабля, другие бежали к месту боя. Встревоженные шумом битвы, некоторые из горожан спешили к стенам оказать помощь воинам. И тут они столкнулись с первыми бандами мародеров из числа турецких солдат, ломившихся в Город. Турки «атаковали их с большим гневом и яростью» и отрезали от остальных. Именно смесь страха и ненависти привела к начавшейся в Городе резне. Османские солдаты, неожиданно для себя обнаружившие, что находятся в лабиринте тесных улочек, растерялись и испугались. Они рассчитывали встретить большую и стойкую армию. Казалось совершенно невозможным, что две тысячи человек, толпившихся у укреплений, и есть все защитники византийской столицы. В то же время недели страданий и насмешки, которыми осыпали осаждающих греки со стен, ожесточили турок и сделали их безжалостными. Теперь Городу предстояло расплатиться за отказ от капитуляции, предложенной ему. Поначалу турки убивали, «чтобы вызвать великий страх». Некоторое время «каждого, кто им попадался, они сразу же зарубали ятаганами — женщин и детей, старых и молодых, всякого звания». Эта жестокость, вероятно, возрастала из-за того, что кое-где население энергично сопротивлялось. Горожане «бросали в них [турок] кирпичи и швыряли камни сверху… и кидали огонь». Улицы стали скользкими от крови.
Флаги султана развевались на башнях линии тех стен, которые прикрывали столицу с суши, и таким образом среди турок быстро распространилась весть о взятии Города. Османский флот усилил атаки со стороны Золотого Рога, а поскольку обороняющиеся ускользнули, моряки стали открывать одни за другими ворота, ведшие в Константинополь с моря. Вскоре Платейские ворота, примыкавшие к венецианскому кварталу, распахнулись, и группы осаждающих стали проникать в самое сердце Города. Затем известие о захвате Константинополя по побережью достигло и Хамзы-бея, находившегося с флотом на Мраморном море. Желая принять участие в грабеже, моряки повернули свои корабли к берегу и начали приставлять к стенам штурмовые лестницы.
На какое-то время всеобщая резня продолжалась: «Весь Город наполнился людьми, убивавшими или убиваемыми, спасавшимися или преследовавшими», — писал Халкокондил. Охваченные паникой, все думали теперь о том, что считали самым важным. В то время как итальянцы спешили к Золотому Рогу, ища спасения на своих кораблях, греки укрывались в домах, пытаясь защитить своих жен и детей. Одних хватали по пути. Других застали дома, и они могли «видеть, как их жен и детей уводят в плен, а имущество расхищают». Однако некоторые, придя домой, «попадали в плен сами, и их вязали вместе с самыми близкими друзьями и женами». Многие из тех, кто добрался до своих жилищ раньше незваных гостей, понимали, чем грозит им плен, и погибали, защищая свои семьи. Люди прятались в погребах, цистернах или в смятении скитались по Городу, со страхом ожидая, что их возьмут в плен и убьют. Драматическая сцена разыгралась в церкви Святой Феодосии близ Золотого Рога. 29 мая было днем святой, чей праздник справлялся с усердием и благоговением в течение столетий существования ее культа и с тщательным соблюдением соответствующего ритуала. Фасад храма украшался розами, распускавшимися в это время года. У гробницы святой совершалась традиционная всенощная, и всю короткую летнюю ночь мерцали зажженные свечи. Ранним утром процессия с участием мужчин и женщин двинулась к церкви, слепо веря в чудодейственную силу молитвы. Они несли принятые в таких случаях дары, «чудно украшенные свечи и ладан», когда путь им преградили вражеские воины. Всех участников процессии взяли в плен, а церковь со множеством хранившихся в ней приношений верующих разграбили. Мощи Феодосии бросили собакам. Повсюду женщины, просыпаясь в своих постелях, видели незваных гостей, ломившихся в двери.
Утро медленно тянулось, и турки наконец начали понимать — организованное сопротивление сломлено. Убийства стали совершаться уже «с разбором». Согласно Саад-ад-дину, турецкие воины поступали в соответствии с предписанием «резать их [византийцев] стариков и брать в плен молодых». Акцент теперь делался на захват пленных в качестве добычи. Началась охота за ценными рабами — молодыми женщинами, красивыми детьми. Ее вели солдаты иррегулярных войск — люди «разных народов, обычаев и языков», в том числе и христиане, которые находились в первых рядах и «грабили, разрушали, расхищали, убивали, оскорбляли, хватали и обращали в рабство мужчин, женщин и детей, старых и молодых, священников и монахов, людей всякого возраста и звания», как писал Критовул. Христиане приводили множество рассказов о зверствах, османские хронисты упоминали о них куда меньше, но нет сомнений — в то утро произошло немало страшных сцен. Сохранилось большое число «моментальных снимков» зрелищ, которые, согласно Критовулу, в целом протурецки настроенному греческому писателю, являлись «страшнее любой трагедии, вызывая ужас и сожаление». Женщин «насильно выволакивали из их спален». Детей отрывали от родителей. Стариков, которые не могли бежать из своих домов, «безжалостно убивали», равно как и «слабоумных, старых, прокаженных и дряхлых», «новорожденных младенцев выбрасывали на площадь». Женщин и мальчиков захватывали силой. Группы кое-как «рассортированных» невольников затем связывались вместе теми, кто их взял в плен. Они «безжалостно тянули их, вели, оттаскивали друг от друга, тащили, немилосердно и постыдно гнали на перекрестки, оскорбляя их и совершая ужасные вещи». Те, кто выжил, «в особенности молодые и скромные женщины из знатных и богатых семей, которые по большей части сидели дома», получили столь сильную душевную травму, что едва не умерли. Некоторые девушки и замужние женщины предпочли броситься в колодцы, чем терпеть то, что их ожидало. Между мародерами вспыхивали драки за самых красивых девушек, иногда приводившие к смертельному исходу.
Церкви и монастыри обыскивались особенно тщательно. Те, которые находились близко к стенам, прикрывавшим Город с суши: военная церковь Святого Георгия у ворот Харисия, церковь Святого Иоанна Предтечи в Петре и монастырь Хора — немедленно подверглись разграблению. Чудотворную икону Одигитрии солдаты разбили на четыре части и разделили между собой ради ее драгоценного оклада. Кресты с куполов сбили. Могилы святых разрыли в поисках сокровищ; а находившееся в них искромсали и выбросили на улицу. Церковную утварь — «потиры, кубки, святые реликвии, дорогие и роскошные покровы, богато расшитые золотом и блистающие драгоценными камнями и жемчугами», — выбросили наружу и отправили на переплавку[30]. Победители опрокинули алтари и «обшаривали стены церквей и святая святых… в поисках золота». «Святые образы Божьих праведников» стали свидетелями сцен грабежа, пишет Леонард Хиосский. Врываясь в монастыри, турки уводили монахинь на корабли и там насиловали. Монахов убивали в кельях или выволакивали из храмов, где они искали убежища, и прогоняли с оскорблениями и бесчестьем. Могилы императоров вскрыли железными ломами — в них искали спрятанное золото. Совершались не только эти, но и другие ужасные дела — «мириады ужасных дел», как замечает со скорбью Критовул. Тысяча лет истории христианского Константинополя почти полностью исчезла за несколько часов.
Врата Святой Софии.
Те, кто мог, в панике бежали от обрушившейся на них волны. Многие достигли Святой Софии — их гнали инстинкт и суеверие. Они помнили старинное пророчество, что враг, проникший в Город, сможет дойти только до колонны Константина, стоявшей близ великого храма, где ангел-мститель с мечом в руке сойдет с небес и вдохновит защитников на изгнание неприятеля из столицы, и «с запада, и из самой Анатолии, к тому месту, где [растет] древо с Красным Яблоком на границе Персии». В самом храме множество клириков и мирян, мужчин, женщин и детей, собрались на заутреню и вверили свою судьбу Господу. Массивные двустворчатые бронзовые двери собора закрыли и заперли на засов. Было восемь часов утра.
Некоторые отдаленные районы Города имели возможность вести переговоры о сепаратной капитуляции. В середине пятнадцатого столетия население Константинополя, обитавшее в пределах внешних стен, настолько сократилось, что часть столицы представляла собой самостоятельные деревни, защищенные собственными стенами и палисадом. Некоторые из них — такие как Студион на берегу Мраморного моря и рыбачий поселок Петрион у Золотого Рога — по собственному решению открыли ворота на условиях избавления домов от грабежа. Старосту каждой из таких деревень привели к султану, и он официально объявил о капитуляции своего селения, а Мехмед, вероятно, выделял отряд военной полиции для защиты домов сдавшихся. Такое оформление капитуляции, очевидно, помогало обеспечить безопасность в соответствии с исламским военным правом. В результате известное число церквей и монастырей осталось нетронутым. В других местах сохранялись очаги отчаянного героического сопротивления. Недалеко от устья Золотого Рога группа критских моряков забаррикадировалась в трех башнях и отказалась сдаться. Все утро они отражали попытки турок выбить их с позиции. Многие защитники приморских стен, наиболее удаленных от стен, прикрывавших Город с суши, также продолжали сражаться, зачастую не зная об истинном положении дел, пока неожиданно не замечали противника у себя в тылу. Одни бросались с укреплений, другие договаривались с врагом о сдаче. Принц Орхан, претендент на османский престол, и его маленький отряд не имели такой возможности. Они продолжали сражаться, как и каталонцы, находившиеся дальше, у приморской стены близ Вуколеонского дворца.
В разгар разорения Города турецкие моряки приняли решение, изменившее ситуацию. Когда они увидели, что армия уже находится внутри стен, то испугались упустить свою долю в грабеже, а потому подвели корабли к берегу и покинули их, собираясь «искать золото, драгоценные камни и другие богатства». Моряки так торопились пристать к берегу, что не обратили внимания на итальянцев, бежавших со стен другой дорогой. Для тех это оказалось величайшей удачей.
Поиски добычи стали навязчивой идеей. Еврейский квартал, находившийся недалеко от устья Золотого Рога, подвергся разграблению одним из первых, поскольку его обитатели традиционно торговали драгоценными камнями. Атакующие также тщательно разыскивали итальянских купцов. В течение дня захват добычи приобрел более организованный характер. Те, кто первым входил в дом, поднимали над ним флаг, тем самым давая понять, что дом уже занят. Другие отряды, видя это, шли дальше, продолжая поиски. «И так они водрузили свои флаги повсюду, даже на монастырях и церквах», — отмечает Барбаро. Люди работали группами, уводя пленников и унося награбленное в лагерь или на корабли, а затем вновь возвращаясь за добычей. Они обшарили все углы: «церкви, старые подвалы и могилы, монастыри, подземелья, и потайные места, и щели, и пещеры, и ямы. И они искали по всем скрытым от глаз углам, и если кто-то или что-то было там, они извлекали найденное на свет». Кое-кто на этом не успокоился, воруя неохраняемую добычу, доставленную в лагерь.
Тем временем продолжалась борьба за выживание. В ходе утреннего боя судьба нескольких сот человек решилась благодаря случаю. Утром кардинал Исидор, архиепископ Киевский, с помощью своих слуг смог сменить епископское облачение на одежду убитого солдата, лежавшего на улице. Турецкие солдаты вскоре наткнулись на тело в платье епископа, отрубили ему голову и с ликованием выставили ее на всеобщее обозрение[31]. Сам Исидор вскоре попал в плен, но остался неузнанным. Турки сочли невыгодным продавать его, пожилого человека, в рабство. За небольшую сумму Исидор прямо на месте откупился от того, кто захватил его в плен, и сумел взойти на один из итальянских кораблей, стоявших в гавани. Принцу Орхану повезло куда меньше. Одетый в солдатское платье, он вместе с группой греков искал спасения, пытаясь бежать с приморской стены, однако турки опознали его и начали преследование. Осознав безнадежность ситуации, он бросился с укреплений. Его отрубленную голову принесли Мехмеду, который очень хотел узнать о судьбе Орхана[32]. Других вельмож захватили живыми — Луку Нотараса и его семью взяли в плен, видимо, у них во дворце, то же произошло и с Георгием Сфрандзи и его близкими. Монаха Геннадия, возглавлявшего противников унии, пленили в его келье. Каталонцы продолжали сражаться до тех пор, пока их всех не убили или не взяли в плен, но вытеснить с позиций критян, оборонявших башни близ Золотого Рога, оказалось невозможно. В конце концов кто-то сообщил об их сопротивлении Мехмеду. В характерной для него донкихотской манере он предложил им прекратить борьбу и уплыть на своих кораблях. После некоторых колебаний критяне приняли его предложение и беспрепятственно отбыли.
Многим казалось, что Золотой Рог давал наибольшие шансы спастись. Ранним утром сотни солдат и гражданских лиц потоком устремились по узким улицам в надежде попасть на борт какого-либо из итальянских кораблей, стоявших в гавани. У морских ворот царили смятение и паника. В безоглядном бегстве многие забирались на теснившиеся у берега гребные судам, в итоге переворачивавшиеся и тонувшие. На дно уходили все, кто находился на борту. Трагедия приобрела еще большие масштабы из-за решения, принятого некоторыми из стражников, охранявших ворота. Увидев, как их соплеменники-греки бегут к берегу, и вспомнив пророчество о том, что враг может повернуть вспять у статуи Константина, они решили, что есть шанс убедить защитников возвратиться и отбросить врага, если перекрыть выход. Поэтому они выбросили ключи со стены и воспрепятствовали дальнейшему бегству. Когда все способы достичь стоявших у берега итальянских галер были исчерпаны, у моря стали разыгрываться душераздирающие сцены — «мужчины, женщины, монахи и монахини жалобно кричали, ударяя себя в грудь и умоляя моряков на кораблях подойти ближе и спасти их», но на самих галерах также царила паника, и капитаны почли за лучшее продолжать плыть дальше. К тому времени как флорентийскому купцу Джакомо Тетальди удалось достичь берега — это случилось через два часа после прорыва линии фронта, — уже ничего не оставалось делать, кроме как пуститься вплавь или ждать «ярости турок». Предпочтя в такой ситуации смертельный риск (существовала опасность утонуть), он сорвал с себя одежду, устремился за кораблями и был поднят на борт одного из них. Тетальди успел вовремя. Оглянувшись, он увидел, как османы схватили более сорока воинов в тот момент, когда те пытались сбросить с себя доспехи и последовать за ним. «Да поможет им Бог», — пишет флорентиец. К некоторым из обезумевших людей, очутившихся на берегу, спасение пришло с другого берега бухты. Подеста Галаты убедил их, что в генуэзской колонии они окажутся в относительной безопасности: «С великим риском я провел их в поселение близ палисада; вы никогда не видели ничего более ужасного».
Экипажи итальянских кораблей пребывали в нерешительности. Они слышали отчаянный звон церковных колоколов, замолкший ранним утром, и визг, разнесшийся над водой, когда османские моряки причалили к берегу и начали штурмовать стены у Золотого Рога. Глазам венецианцев предстало душераздирающее зрелище — жители Города молили капитанов подвести свои суда к берегу или тонули, пытаясь доплыть до кораблей, но подходить к берегу было слишком рискованно. Не говоря уже об очевидной опасности попасть в плен к врагам, наплыв отчаявшихся людей у кромки воды мог угрожать безопасности судов. К тому же немало матросов с итальянских галер отправились защищать стены, и на кораблях не хватало людей. Однако поведение османских моряков, покинувших свои корабли для участия в грабеже, оказалось большой удачей и хотя бы на короткое время дало возможность ускользнуть. Галерному флоту необходимо было действовать решительно, пока на судах турок не восстановилась дисциплина.
Ощущение неопределенности возникло и в Галате. Когда стало очевидно, что Город взят, население охватила паника. «Я всегда знал, что если Константинополь падет, то и это место будет потеряно», — писал впоследствии подеста Анджел о Ломеллино. Вопрос был в том, как реагировать на происшедшее. Отношение Мехмеда к генуэзцам, которых он считал виновными в сотрудничестве с защитниками Города, было неопределенным. Большинство боеспособных мужчин действительно сражались на той стороне бухты, включая племянника самого подеста. В самой Галате осталось только шестьсот человек. Многих охватило искушение немедленно покинуть ее. Немало людей взошло на борт генуэзского корабля, намереваясь уплыть отсюда, бросив свои дома и имущество. Другое судно, везшее в основном женщин, захватили турки, но Ломеллино решил подать пример и продемонстрировал твердость. Подеста понял: если он покинет Галату, город неизбежно будет разграблен.
Пока остальные пребывали в сомнениях, капитан венецианского флота Алевиз Дьедо в сопровождении своего оружейника и врача Николо Барбаро сошел на берег, чтобы посоветоваться с подеста по поводу дальнейших действий: нужно ли венецианским и генуэзским кораблям совместно выступить против турок, открыто начав тем самым войну между итальянскими республиками и султаном, или им следует уйти? Ломеллино умолял их подождать, пока он отправит посла к Мехмеду, но венецианские капитаны опасались дальнейших задержек. Они подбирали уцелевших, которые сумели доплыть до кораблей из захваченного Города, пока позволяло время, и не могли больше ждать из-за трудностей, связанных с подготовкой кораблей к выходу в море. Дьедо и его товарищи в Галате могли видеть галеры, готовившиеся отчалить, и побежали по улицам, рассчитывая взойти на свои суда, когда их экипажи, к своему ужасу, увидели — Ломеллино запер ворота, стремясь воспрепятствовать их отплытию. «Мы попали в ужасное положение, — писал Николо Барбаро. — Нас заперли в их городе, галеры неожиданно начали поднимать паруса, расправлять их и втягивать весла, готовые отплыть без своих капитанов». Они видели, что их корабли собираются отчалить, и стало понятно — Мехмед будет не слишком любезен с капитанами вражеского флота. В отчаянии они умоляли подеста позволить им уйти. В конце концов он разрешил открыть ворота. Капитаны как раз вовремя успели выйти к воде и вернуться на свои суда.
Галеры медленно двигались к цепи, до сих пор перегораживавшей выход из гавани. Два человека спрыгнули в воду с топорами и рубили деревянные поплавки, пока цепь не поддалась. Один за другим корабли вырывались в Босфор, в то время как османские командиры наблюдали за происходящим в бессильной ярости. Флотилия обогнула мыс Галата и расположилась в оставленной теперь турецкой гавани в Диколоне. Там моряки задержались, надеясь взять на борт товарищей по команде и прочих выживших, но к полудню выяснилось — остальные убиты или попали в плен и дольше ждать невозможно. Второй раз фортуна улыбнулась христианской эскадре. Южный ветер, так услужливо несший генуэзские корабли к проливам в конце апреля, теперь дул с севера с силой в двенадцать узлов. Если бы не эта удача, признавал Барбаро, «все мы попали бы в плен».
Итак, «с помощью Господа Бога мессер Алевиз Дьедо, капитан флота Таны, вышел в море на своей галере», и с ним маленькая флотилия из парусных и гребных судов из Венеции и Крита. Команда одной из больших трапезундских галер, лишившаяся ста шестидесяти четырех человек, с трудом управлялась с парусами, но, поскольку им никто не мешал, они достигли Мраморного моря, проплыли мимо трупов христиан и мусульман, качавшихся в воде, «словно дыни в канале», и взяли курс на Дарданеллы. Ими владели смешанные чувства — понимание того, как сильно им повезло, и сожаление о погибших товарищах, «из которых одни утонули, другие погибли при обстрелах или были убиты в бою каким-либо иным образом», включая и самого Тревизано. На кораблях плыло четыреста человек, спасшихся в последние часы хаоса, а также и неожиданно большое число византийских вельмож, поднявшихся на борт еще до того, как Константинополь пал. Таким образом, в море вышли семь генуэзских кораблей, в том числе и галера, везущая раненого Джустиниани. Как раз в тот момент, когда они сделали это, Хамза-бей сумел перегруппировать османский флот, ворвавшийся в бухту Золотой Рог и захвативший пятнадцать судов, принадлежавших императору, а также Анконе и Генуе — они все еще оставались здесь, некоторые из них были переполнены людьми, намеревавшимися спастись морем. Другая толпа несчастных стояла у самой воды, стеная и обращая мольбы к уплывавшим галерам. Турецкие матросы просто окружили их и загнали на свои корабли.
От стен, прикрывающих Константинополь с суши, до его центра — три мили. На рассвете отряды решительно настроенных янычар прокладывали себе путь по центральной улице, направляясь от ворот Святого Романа к храму Святой Софии. В соответствии с легендой о Красном Яблоке в османском лагере было широко распространено убеждение, что в тайниках Софийского собора, чьи контуры турки так хорошо видели в течение долгих недель бесплодной осады, хранятся огромные богатства — золото, серебро, драгоценные камни. Янычары с грохотом шли по опустевшим площадям и пустынным улицам — мимо Форума Быка и Форума Феодосия, вниз по Месе — центральной улице, ведущей в сердце Константинополя. Другие направились через ворота Харисия дальше на север, мимо собора Святых Апостолов, оставшегося неразграбленным: по-видимому, Мехмед расположил здесь гвардию, стремясь не допустить бесконтрольного разорения памятников Города. Эта мера не встретила особого сопротивления. Когда турки достигли Форума Константина, где основатель византийской столицы взирал на нее со своей колонны, ангел с огненным мечом не остановил их. Тем временем моряки со стороны Золотого Рога и Мраморного моря хлынули в Константинополь через рынки и церкви, находившиеся на оконечности полуострова. В семь часов утра обе группы достигли центра Города и рассыпались по Августеону. Здесь находилось огромное число памятников, напоминавших о блеске Византийской империи, — конная статуя Юстиниана, обращенная на восток, милиарий — столб, от которого велся отсчет расстояний во все концы империи. Далее с одной стороны располагался Ипподром и кое-что из того, что награбил в свое время сам Константин Великий — предметы, связывавшие Город с давними временами: странная трехглавая витая колонна из храма Аполлона в Дельфах, памятник в честь победы греков над персами при Платеях в 479 г. до н. э., и еще более древняя египетская колонна фараона Тутмоса III. На ее полированной гранитной поверхности прекрасно сохранились иероглифы. Им сравнялось три тысячи лет, когда турецкие солдаты впервые увидели их. На другой стороне стоял сам собор Святой Софии, великий храм, возносившийся «до самого неба».
Внутри началась заутреня, и девять массивных, обитых медью деревянных дверей, увенчанные крестами-оберегами, оказались заперты на засов. Огромное множество людей молили о чуде, которое спасло бы их от врага, стоявшего у самых ворот. Женщины занимали свои обычные места на галерее, мужчины находились внизу. Священники стояли у алтарей, совершая службу. Кое-кто прятался в дальних углах огромного здания, забираясь в служебные коридоры и на крышу. Когда янычары ворвались во внутренний двор и нашли двери закрытыми, они начали бить по той из них, что находилась в центре (императорским воротам), через которую входил в храм император со своей свитой. Под частыми ударами топоров дверь в четыре дюйма толщиной задрожала и с грохотом упала, после чего турецкие воины рассыпались по всему храму. Сверху на них бесстрастно взирало сине-золотое мозаичное изображение Христа. Правая его рука была поднята в благословляющем жесте, а левая держала книгу с начертанными в ней словами: «Да пребудет с вами мир, я — свет миру».
Если можно назвать точный момент гибели Византийской империи, то можно сказать, она погибла в этот миг, с последним ударом топора. Храм Святой Софии являлся свидетелем многих великих драм, разворачивавшихся в столице империи. Церковь возвышалась здесь уже тысячу сто лет, великий собор Юстиниана — девятьсот. Величественное здание представляло собой отражение полной тревог духовной и мирской жизни Города. Оно сделалось частью этой жизни. Все императоры, кроме последнего — зловещее исключение, — короновались здесь. Многие драмы, определявшие судьбу империи, разыгрывались под золотым куполом, «поддерживаемым с небес золотой цепью». Прежде уже бывало, что кровь лилась на мраморные полы храма. Здесь вспыхивали беспорядки. Патриархи и императоры искали в нем убежища от толп и заговорщиков. Иной раз их вытаскивали отсюда силой. Трижды собор разрушался во время землетрясений. Внушительные двери его видели шествие папских легатов, несших буллу об отлучении. Викинги вырезали свои надписи на его стенах. Франкские варвары-крестоносцы безжалостно разграбили его. Именно здесь в результате впечатления, произведенного неземной красотой православной литургии, решилась судьба населения Руси: оно обратилось в христианство. Здесь также разыгрывались величайшие споры о религии. Простолюдины сгладили полы, приходя сюда и стоя на молитве. История Храма Премудрости Божией была отражением истории Византии — религиозной и светской, мистической и доступной чувственному восприятию, прекрасной и жестокой, абсурдной, божественной и человеческой — и после тысячи ста двадцати трех лет и двадцати семи дней она почти завершилась.
Вопль ужаса раздался среди укрывшегося в храме населения, когда солдаты ворвались внутрь. Крики были обращены к Богу, но это не помогло: людей «поймали, точно в сеть». Крови пролилось немного. Тех, кто оказал сопротивление, и, возможно, некоторых стариков и немощных перебили, но большинство солдаты окружили, «словно овец». Османские войска явились с целью грабежа и наживы. Не обращая внимания на вопли мужчин, женщин и детей, каждый солдат стремился захватить свою долю добычи. Молодых женщин едва не разорвали на части в борьбе за то, чтобы заполучить самых ценных рабынь. Монашек и знатных женщин, молодежь и стариков, господ и слуг — всех связали вместе и поволокли из храма. Женщин опутывали их собственными покрывалами, тогда как мужчин скручивали веревками. Солдаты действовали в командах. Каждый должен был отвести своих пленников «на определенное место; поместив их туда, где они были бы в сохранности, он возвращался за добычей во второй, а то и в третий раз». За час турки связали всех прихожан. «Бесконечные вереницы пленников, — писал Дука, — которых, точно стада коров и овец, выводили из храма, из сего прибежища, являли зрелище невероятное!» Ужасный гул рыданий наполнил утренний воздух.
Затем солдаты переключились на внутреннее убранство церкви. Они рубили на части иконы, обдирая ризы из драгоценных металлов, и «в мгновение ока завладели прекрасными и святыми реликвиями, сохранявшимися в святая святых, сосудами из золота и серебра и других дорогих материалов». За сим последовало все прочее имущество — предметы, которые мусульмане воспринимали и как объекты идолопоклонства, оскорбляющие Бога, и как по праву принадлежащую солдатам добычу: цепи, канделябры, лампады, иконостас, алтарь и его покровы, церковная мебель, кресло императора — за короткое время все либо захватили и вынесли прочь, либо уничтожили на месте. По словам Дуки, великий собор остался «разграбленным и опустошенным». Он стал подобен пустой раковине. Миг, когда греки потеряли самое главное, породил легенду, абсолютно типичную для их стойкой веры в чудеса и тоски по Священному Городу. Когда солдаты подошли к алтарю, священники взяли священные сосуды, приблизились к святая святых, и — продолжает легенда — стена открылась, чтобы впустить их, и вновь сомкнулась за ними. И там они будут пребывать невредимыми до тех пор, пока православный император не превратит Святую Софию в церковь. Возможно, основой для красивой легенды послужило то, что некоторые из священнослужителей смогли выйти из храма через один из древних проходов, соединявших его с резиденцией патриарха позади собора, и таким образом бежали. И было еще одно малое утешение, хотя и способное вызвать мрачную усмешку. Османы разнесли надгробие и разрыли могилу ненавистного византийцам венецианского дожа, Энрико Дандоло, как и они, учинившего такое же опустошение в Городе двести пятьдесят лет назад. Солдаты не нашли сокровищ, но выбросили его кости на улицу, где их изглодали собаки.
Все утро Мехмед оставался в лагере, ожидая известий о капитуляции Города и о его разграблении. Новости шли к нему непрерывным потоком. Его также посещали депутации напуганных горожан. Явились посланцы от подеста Галаты с дарами, ища подтверждения тому, что договор о нейтралитете должен остаться в силе, однако султан не дал им определенного ответа. Солдаты принесли ему голову Орхана, но более всего Мехмед жаждал видеть лицо Константина. Участь императора и самый факт его смерти остались сомнительными. Сведения о них имели скорее характер апокрифа. Долгое время не поступало заслуживающих доверия сообщений о его смерти, и Мехмед, по-видимому, приказал разыскать на поле битвы его тело. Позднее в тот же день янычары — вероятно, сербы — принесли султану голову. По словам Дуки, Лука Нотарас, присутствовавший при этой сцене, подтвердил — это действительно его господин. Голову Константина — или кого-то другого — водрузили затем на колонну Юстиниана напротив храма Святой Софии, чтобы доказать грекам — их император мертв. Позднее кожу сняли, голову набили соломой и провезли, сопровождая тщательно разработанной церемонией, по столицам мусульманского мира, демонстрируя ее при дворах владык в качестве символа власти и завоеваний.
Как умер Константин, остается неизвестным. Некоторые даже не верили в его смерть. При этом не присутствовал никто из заслуживающих доверия свидетелей. Истина словно рассыпалась на крупицы и скрывается за пеленой пристрастных и просто вымышленных историй. Османские хронисты единодушно представляют пренебрежительное, но весьма своеобразное описание, множество версий которого было написано гораздо позднее самого события. Представляется, что их авторы заимствуют сведения друг у друга: «потерявший от ужаса голову император» попытался бежать, когда стало ясно, что сражение проиграно. Он спешил по круто идущим под уклон улицам к бухте Золотой Рог или Мраморному морю в сопровождении свиты, надеясь отыскать корабль, когда наткнулся на отряд азабов и янычар, согнувшихся под тяжестью добычи. «Вспыхнул отчаянный бой. Лошадь императора оступилась, когда он нападал на раненого азаба, а тот собрался с силами и отрубил императору голову. Когда все увидели это, остатки вражеского войска потеряли надежду, и азабам удалось убить или взять в плен большинство из них. Они также захватили много денег и прекрасных камней, которыми владела свита императора».
В сообщениях греков в основном говорится о том, как он бросился в бой вместе со своим верным отрядом, состоявшим из его приближенных, когда линия фронта была прорвана. По версии Халкокондила, «император обернулся к Кантакузину и тем немногим, кто находился с ним, и сказал: «Давайте же выступим, о мужи, против этих варваров». Кантакузин, храбрый человек, погиб; самого императора Константина оттеснили и неустанно преследовали; он получил рану в плечо, а затем был убит». Существует немало вариантов этой истории, заканчивающихся упоминанием груды тел близ ворот Святого Романа или близ одной из запертых калиток. Все они свидетельствуют, что легенды об императоре были чрезвычайно живучи в греческом народе. «Император Константинополя был убит, — писал Джакомо Тетальди просто и без колебаний. — Некоторые говорят, будто ему отрубили голову, другие — что он умер, прижатый к воротам. Обе истории вполне могут быть правдивыми». «Он был убит, и его голову поднесли на копье Владыке Турок», — утверждал Бенвенуто, бывший консулом Анконы в Городе. Тот факт, что тело не было с точностью идентифицировано, наводит на следующую мысль: Константин вполне мог сорвать с себя императорские регалии и погибнуть как простой солдат. Многие трупы были обезглавлены, и впоследствии опознать павших оказалось непросто. Апокрифические истории многочисленны. Некоторые утверждают, будто император бежал на корабле (однако эта версия не вызывает доверия), другие — что Мехмед отдал его тело грекам, дабы те похоронили его в том или ином уголке Города (но точно установить место погребения нельзя). Неопределенности, существующей в связи с его кончиной, суждено было стать тем центром, откуда началось развитие греческой легенды, все более распространявшейся. С ним связано ощущение тоски по утраченной славе, отразившееся в песнях и плачах:
Плачьте, христиане Востока и Запада, плачьте и рыдайте над сим великим разрушением. Во вторник, 29 мая 1453 года, сыны Агари взяли град Константинополь… И когда Константин Драгаш… услыхал эту новость… он схватил свое копье, препоясался мечом, сел на свою кобылу — белоногую кобылу — и набросился на турок, нечестивых псов. Он убил десять пашей и шестьдесят янычар, но меч его сломался, и сломалось копье, и он остался один, один, без помощи… и Турок поразил его в голову, и несчастный Константин упал со своей кобылы; и он лежал, распростершись на земле, в пыли и крови. Они отрубили ему голову, и водрузили ее на конце копья, и погребли его тело под лавровым деревом.
«Несчастный император» погиб, будучи сорока девяти лет от роду. При каких бы обстоятельствах это ни случилось, очевидно, он до самого конца пытался сохранить горящим пламя византийского духа. «Правитель Стамбула отличался храбростью и не просил пощады», — утверждал хронист Орух. В его словах звучит нотка завистливого уважения, редкая для османов. Константин был достойным противником.
В тот же день по прошествии некоторого времени, когда хаос улегся и установилась некоторая видимость порядка, состоялся триумфальный въезд в Константинополь самого Мехмеда. Он проследовал через ворота Харисия — турки стали именовать их воротами Эдирне — верхом, в сопровождении шедших пешком визирей, бейлербеев, улемов и командиров, а также отборных войск, телохранителей и пехотинцев. Торжественная церемония, впечатление от пышности которой еще усилилось благодаря легенде. Зеленые знамена ислама и красные — султана развевались над кавалькадой, со звоном проехавшей в арку. После портретов Кемаля Ататюрка это, вероятно, единственный столь знаменитый образ в истории Турции, бесконечное число раз увековеченный в стихах и на картинах. На гравюрах XIX века бородатый Мехмед сидит, прямо держась в седле на гордо ступающей лошади. Лицо его повернуто к зрителю. Он окружен крепкими усатыми янычарами, несущими ружья, копья и боевые топоры, имамами, чьи седые бороды символизируют мудрость ислама. Позади развеваются знамена и теснится лес копий вплоть до самого горизонта. Слева — черный воин, мускулистый, как чемпион по бодибилдингу, стоит, гордо выпрямившись (он представляет все нации, исповедующие истинную веру) и приветствует воителей-гази, вступающих во владение тем, что было обещано Пророком. Его ятаган указует на кучу поверженных христиан под ногами султана, причем щиты их украшены знаками креста, напоминая о крестоносцах и символизируя триумф ислама над христианством.
Согласно легенде, Мехмед остановился и возблагодарил Аллаха. Затем он поздравил «семьдесят или восемьдесят героев-мусульман, восклицая: «Завоевателям нет преград! Да славится Бог! Вы — покорители Константинополя!» То был знаковый момент, когда Мехмед получил имя, которым его всегда называют на турецком языке — Фатих, Завоеватель, мгновение, когда он стал полновластным хозяином Османской империи. Ему исполнился двадцать один год.
Затем Мехмед проследовал в сердце Города, дабы осмотреть здания, которые он столь отчетливо представлял себе, находясь вдали от них. Мимо церкви Святых Апостолов и мощного сооружения — акведука Валента — он двинулся к храму Святой Софии. Возможно, увиденное его скорее отрезвило, нежели поразило. Зрелище напоминало Помпеи куда более, нежели Град Златой. Никем не контролируемая армия забыла о приказе оставить сами здания нетронутыми. Она напала на Константинополь, согласно Критовулу, несколько, впрочем, преувеличившему, «подобно пожару или урагану… весь Город был опустошен, выметен, и очищен, и разрушен, и выжжен, словно огнем… те дома, что уцелели, были лишены всего и стояли разрушенные настолько, что поражали ужасом сердца всех, кто видел их, своим великим запустением». Хотя Мехмед пообещал своей армии три дня грабежа, Город обобрали дочиста за один день. Дабы предотвратить еще более серьезные разрушения, он нарушил обещание и приказал положить конец грабежу с наступлением ночи после первого дня — и чавуши сумели заставить солдат повиноваться, а это кое-что говорит о дисциплине, лежащей в основе устройства его армии.
Мехмед ехал далее, останавливаясь по пути для осмотра достопримечательностей. По легенде, проезжая мимо Дельфийской колонны со змеями, он ударил ее своим жезлом и сломал нижнюю челюсть одной из голов. Миновав статую Юстиниана, он подъехал к главному входу в храм Святой Софии и спешился. Поклонившись до земли, он осыпал свой тюрбан горстью пыли в знак смирения перед Богом. Затем Мехмед вошел внутрь собора — точнее, его остова. Казалось, он был одновременно изумлен и потрясен. Пересекая огромное пространство храма и рассматривая купол, он бросил взгляд на солдата, разбивающего мраморный пол. Султан спросил, зачем тот разрушает пол. «Во имя веры», — отвечал солдат. Мехмеда охватила ярость очевидным пренебрежением к отданному им приказу не повреждать здания, и он ударил солдата мечом. Помощники Мехмеда выволокли его, полумертвого, на улицу. Несколько греков, до сих пор прятавшихся в самых отдаленных уголках здания, вышли оттуда и бросились к его ногам. Появилось и несколько священников — возможно, тех, кого чудесным образом «поглотили» стены. В непредсказуемом порыве милосердия — одном из тех, что были свойственны султану — Мехмед разрешил этим людям отправиться домой и дал им охрану. Затем он позвал за имамом, чтобы тот взошел на кафедру и воззвал к молитве. Сам же Мехмед взобрался на алтарь, поклонился и помолился Богу, даровавшему туркам победу.
Позднее, если верить словам османского историка Турсун-бея, Мехмед, «поднявшись, словно [Иисус] дух Божий, восходящий к четвертой небесной сфере», вскарабкался по галереям собора на купол. Отсюда он мог видеть храм и древнее сердце христианского города. При взгляде вниз упадок некогда гордой империи был слишком хорошо заметен. Многие из построек вокруг собора разрушились, включая и большую часть скамей на Ипподроме, и старый Царский дворец. Это здание, где некогда находился центр могущества империи, уже давно лежало в руинах, а в 1204 году крестоносцы полностью опустошили его. Обозревая разграбленное место, Мехмед «подумал о непостоянстве и переменчивости этого мира и полном разрушении, постигшем его», и вспомнил двустишие, воскресившее в его памяти уничтожение Персидской империи арабами в VII веке:
Паук ткет занавеси во дворце Хосрова, Сова несет стражу в замке Афросиаба.Меланхолический образ… Мехмед достиг всего, о чем мечтал; но в конце великого дня, когда он утвердил Османскую империю в статусе сверхдержавы своей эпохи, он уже заглядывал за ту грань, где начинался его собственный упадок. Мехмед поскакал назад через опустошенный Город. Солдаты гнали длинные вереницы пленников в устроенные на скорую руку палатки по ту сторону рва. Почти все население численностью в пятьдесят тысяч человек увели на корабли и в лагерь. Примерно четыре тысячи убили в тот день в бою. Было слышно, как разлученные с семьями дети звали матерей, мужья — жен. Все «были ошеломлены столь ужасной катастрофой». В османском лагере горели огни, царило веселье. Люди пели и плясали под звуки труб и барабанов. На лошадей вместо попон были наброшены одеяния священников. Через лагерь пронесли распятие, в насмешку увенчав его турецкой шапкой. Солдаты торговали добычей, продавая и покупая прекрасные камни. Говорили, люди за ночь разбогатели, «приобретая драгоценности за несколько мелких монет»: «золото и серебро продавались по цене олова».
В тот день совершилось немало прискорбного, не говоря об ужасной резне, однако в подобном поведении нельзя усматривать ничего присущего лишь мусульманам. Подобной реакции можно было ожидать от любой средневековой армии при взятии города штурмом. В истории Византии существовало немало сходных инцидентов, лишь иногда возникавших на религиозной почве. Случившееся являлось не более ужасным, чем разграбление византийцами сарацинского города Кандия на Крите в 961 году, когда Никифор Фока — человек по прозвищу «белая смерть сарацин» — потерял контроль над своей армией, учинившей страшную трехдневную резню. И не более ужасным, чем разграбление крестоносцами самого Константинополя в 1204 году. Во время произошедшего люди вели себя более дисциплинированно, чем при не поддающемся рациональному объяснению взрыве ксенофобии, имевшем место в 1183 году (тогда византийцы вырезали едва ли не всех латинян в Городе — «женщин и детей, стариков и немощных, и даже тех, кто был нездоров и лежал в больнице»). Но когда на Босфор и на Город 29 мая 1453 года пала ночь, когда она проникла через окна в куполе собора Святой Софии и скрыла мозаичные портреты императоров и изображения ангелов, порфировые колонны, полы из мрамора и оникса, разбитую мебель и высохшие лужи крови, она унесла с собой и Византию — раз и навсегда.
Руины Города.
Глава 16 Сущий ужас для мира 1453-1683 годы
Куда бы я ни посмотрел, повсюду смятение.
Анджело Ломеллино, подеста Галаты, — своему брату 23 июня 1453 годаМедаль с изображением стареющего Мехмеда. Изготовлена в 1481 году — в год его смерти.
Расчеты начались сразу после взятия Города. На следующий день состоялось распределение добычи. Согласно обычаю, Мехмеду как главнокомандующему полагалась одна пятая от всего захваченного. Свою долю пленных греков он поместил в Городе близ Золотого Рога, в районе Фанар, и до сего дня традиционно остающемся греческим кварталом. Подавляющее большинство пленников — примерно тридцать тысяч человек — отправили на невольничьи рынки Эдирне, Бурсы и Анкары. Нам известно о судьбе некоторых из них, поскольку среди них находились важные персоны, получившие свободу за выкуп. В их число входил Матфей Камариотис, чьи отец и брат погибли, а семья оказалась рассеянной. Он с усердием принялся за поиски близких. «Я выкупил свою сестру в одном месте, мать — в другом; затем — сына своего брата: благодарение Господу, я смог их освободить». Во всех случаях, однако, это сопровождалось мрачными впечатлениями. После гибели и исчезновения многих близких тяжелее всего для Камариотиса было узнать о том, что «из четырех сыновей моего брата в этих несчастьях трое — увы! — из-за слабости, обусловленной их молодостью, изменили христианской вере… возможно, этого не произошло бы, останься живы мои отец и брат… так живу я, если это можно назвать жизнью, в горестях и печали». Переход в другую веру не был редкостью, настолько потрясла людей неспособность молитв и святых реликвий воспрепятствовать захвату богохранимого Города мусульманами. Большинство пленников просто исчезли в общем котле Османской империи — «рассыпались по всему миру, словно пыль», как сказал армянский поэт Авраам из Анкары.
Участь лиц видного положения, уцелевших при взятии Города, была решена куда быстрее. Мехмед удержал при себе всех важных персон, которых смог найти, — в том числе Луку Нотараса и его семью. Венецианцы, а их Мехмед считал наиболее серьезными своими противниками в средиземноморском бассейне, подверглись наиболее суровому обращению. Минотто, бальи венецианской колонии, игравшего важную роль в обороне Города, казнили вместе с сыном и другими видными соотечественниками. Двадцать девять других в обмен на выкуп вернулись в Италию. Консула каталонцев и нескольких других видных лиц из числа его соплеменников также казнили. Охота же за святителями униатской церкви, архиепископом Леонардом Хиосским и Исидором Киевским, не дала результатов — им удалось бежать неузнанными. Поиски в Галате обоих уцелевших братьев Боккьярди оказались столь же безуспешными — они сумели скрыться и остались живы.
Подеста Галаты, Анджело Ломеллино, немедленно предпринял попытку спасти генуэзскую колонию. Участие последней в обороне Константинополя делало особенно уязвимым ее положение перед лицом возможной кары. Ломеллино писал своему брату: султан заявил, что «мы сделали все возможное для защиты Константинополя… и он, безусловно, сказал правду. Мы находились в величайшей опасности, нам пришлось исполнить то, что он хотел, дабы избежать его гнева». Мехмед приказал немедленно разрушить стены и засыпать ров Галаты (за исключением стены со стороны моря), а также выдать пушки и прочее вооружение. Племянника подеста взяли в качестве заложника в дворцовую прислугу, как и сыновей других византийских вельмож. Такая политика позволяла гарантировать их лояльное поведение и обеспечить соответствующим образом воспитанные молодые кадры для султанской администрации.
Именно при подобных обстоятельствах решилась судьба мегадуки Луки Нотараса. Высокопоставленный византийский вельможа Нотарас играл противоречивую роль во время осады, учитывая дурное влияние итальянцев. Он открыто выступал против унии. Его частое цитируемое высказывание: «Лучше султанский тюрбан, чем кардинальская шапка» приводилось итальянскими писателями как доказательство непримиримости православных греков. Кажется, Мехмед поначалу собирался назначить Нотараса префектом Города — свидетельство достаточно продуманных планов султана в отношении Константинополя. Но министры, по-видимому, убедили его изменить решение. По рассказу Дуки, мастера ярких описаний, Мехмед, «напившись вина и пребывая в пьяном оцепенении, потребовал, чтобы Нотарас отдал ему своего сына для удовлетворения султанской похоти. Когда Нотарас отказался, Мехмед послал за палачом. После казни всех мужчин этой семьи «палач подобрал головы и вернулся на пир, показав их кровожадному зверю». Более вероятно, однако, что Нотарас не захотел отдавать своих детей в качестве заложников, и Мехмед счел слишком рискованным оставлять в живых столь видных византийцев.
Работы по превращению храма Святой Софии в мечеть начались почти сразу после взятия Константинополя. Был быстро возведен деревянный минарет, чтобы призывать с него мусульман на молитву, а мозаики побелены — за исключением четырех ангелов-хранителей под сводами собора. Мехмед, учитывая характер места, сохранил их. (Другие могучие «языческие» талисманы древнего Города также не стали пока трогать — конную статую Юстиниана, витую колонну из Дельф и египетскую колонну; суеверность являлась второй натурой Мехмеда.) 2 июня призыв к пятничной молитве впервые прозвучал из здания, теперь ставшего мечетью Айя София, «и мусульманские молитвы читались во имя султана Мехмеда-хана-гази». По словам мусульманских хронистов, «пятикратно повторенная мелодичная песнь исламской веры прозвучала в Городе, и в порыве благочестия Мехмед дал Городу новое имя — Исламбул, игра слов по отношению к его турецкому названию, означавший «исполненный ислама» — это должно было отозваться эхом в сознании турок. Чудесным образом шейх Акшемсеттин быстро «открыл» заново могилу Аюба, знаменосца Пророка, погибшего во время первой осады столицы Византии арабами в 669 году, чья смерть стала одним из важнейших мотивов священной войны против Константинополя.
Несмотря на различные проявления мусульманского благочестия, восстановление Города выглядело в высшей степени сомнительно с точки зрения традиционного ислама. Мехмеда глубоко взволновало опустошение, постигшее Константинополь: «Какой город мы предали грабежу и разрушению!» — воскликнул он, как передают, когда впервые вступил в него, а когда возвращался в Эдирне, то, несомненно, оставил позади себя печальные руины, покинутые населением. Восстановление столицы империи стало главным мероприятием его правления, но не в соответствии с мусульманской моделью.
Христианские суда, ускользнувшие 29 мая, принесли на Запад весть о падении Города. В начале июня на Крит приплыли три корабля с моряками, столь доблестно оборонявшими башни, что Мехмед отпустил их. Новость потрясла жителей острова. «Ничего хуже этого не случалось и не случится», — писал монах. Тем временем венецианские галеры достигли острова Негропонт неподалеку от побережья Греции. Население охватила паника. Лишь с трудом местный бальи сумел предотвратить повальное бегство жителей. Он написал срочное послание венецианскому сенату. Когда пересекшие Эгейское море суда привезли эту новость, известие о случившемся распространилось по островам и портовым городам восточных морей — Кипру, Родосу, Корфу, Хиосу, Монемвасии, Модону, Лепанто. Подобно гигантскому валуну обрушилась на Средиземноморье волна паники, прокатившаяся до Гибралтарского пролива, а затем и далее. Страшная весть достигла Венеции утром 29 июня 1453 года, где как раз шло заседание сената. Когда быстроходное судно из Лепанто пришвартовалось к деревянной пристани в Бачино, люди свесились из окон и с балконов, с жадностью ожидая новостей о судьбе Города и своих близких, а также обо всем, что касалось их коммерческих интересов. Когда они услышали о падении Константинополя, «поднялся невероятный и великий крик, плач и стоны, каждый ударял себя кулаками по груди, царапал себе голову и лицо, [печалясь] о смерти отца, сына или брата или потере имущества». Сенат выслушал мрачную весть в гробовом молчании. Голосование прекратилось. По Италии понесся с курьерами поток писем, сообщавших новость об «ужасном и горестном падении городов Константинополя и Перы [Галаты]». Болоньи новость достигла 4 июля, Генуи — 6-го, Рима — 8-го, Неаполя — еще чуть позже. Многие поначалу отказывались верить сообщениям о несчастье, случившемся с неприступным Городом. Когда же они это осознали, то стали не таясь рыдать прямо на улицах. Ужас породил самые невероятные слухи. Говорили, будто все население старше шести лет вырезано, что сорок тысяч человек ослеплено турками, что все церкви разрушены, а султан теперь собирает огромные силы, намереваясь немедленно двинуться в Италию. Молва особо упирала на жестокость турок, на то, сколь силен их натиск на христианство… Возникшим страхам суждено было мучить Европу еще не одно столетие.
Если существует какой-либо эпизод в средневековой истории, где возможно усмотреть современное восприятие событий, то это рассказ о реакции на известие о падении Константинополя. Как и в случае с убийством Кеннеди или событиями 11 сентября, люди по всей Европе точно помнили, где они находились в тот момент, когда услышали страшную новость. «В тот день, когда турки взяли Константинополь, померкло солнце», — утверждал грузинский хронист. «Что ужаснее тех новостей, чем те, которые пришли к нам по поводу Константинополя? — писал Эней Сильвио Пикколомини папе. — Мои руки дрожат, даже когда я пишу; моя душа потрясена». Фридрих III заплакал, когда весть о крахе Города достигла Германии. Новости неслись по всей Европе так быстро, как могли плыть парусники, скакать кони и быть спеты песни. Они распространялись из Италии во Францию, Испанию, Португалию, Фландрию, Сербию, Венгрию, Польшу и другие земли. В Лондоне хронист заметил: «В этот год потерян христианами город Константина Великого, захваченный турецким правителем Мухаммедом». Кристиан I, король Дании и Норвегии, описывал Мехмеда как зверя из Апокалипсиса, восставшего из моря. Дворы Европы активно обменивались по дипломатическим каналам новостями, предостережениями и идеями крестового похода. Весь христианский мир затопила лавина писем, хроник, историй, пророчеств, песен, плачей и речей, переводившихся на языки всех христианских народов — от сербского до французского, от армянского до английского. О судьбе Константинополя рассказывали не только во дворцах и замках, но и на перекрестках, рынках, площадях и в домах. Горестные рассказы достигли самых отдаленных уголков Европы, их слушали люди самого простого звания. Даже в лютеранском молитвеннике в Исландии будет содержаться просьба к Богу о спасении «от коварства папы и ужасных турок». Начался новый мощный подъем антиисламских настроений.
В мусульманском же мире весть о падении Константинополя восприняли с восторгом. 27 октября посол Мехмеда прибыл в Каир, доставив новость о взятии Города и привезя двух высокородных греческих пленников как зримое доказательство случившегося. По словам мусульманского хрониста, «султан и все люди радовались великой победе; добрые вести передавались из уст в уста каждое утро, и Каир украшали в течение двух дней… народ справлял праздник, украшая лавки и дома самым причудливым образом… Я выражал Богу благодарность и признательность за великую победу». Это был успех огромного значения для мусульманского мира. Сбылось старое псевдопророчество, приписывавшееся Мухаммеду, и, казалось, вновь возникла перспектива распространения по всему миру истинной веры. Взятие Константинополя снискало султану огромный авторитет. Мехмед отправил обычные в таких случаях победные послания ведущим крупнейшим мусульманским правителям, где выражал желание стать истинным лидером священной войны, подкрепив его титулом «отца завоевания», напрямую связанного с «дуновением ветра халифата» с более ранними, славными временами ислама. Согласно Дуке, голову Константина, «набитую соломой, отправили поочередно правителям персов, арабов и других тюрок». Мехмед послал по четыреста детей-греков правителям Египта, Туниса и Гранады. Это был не просто дар. Мехмед притязал на роль защитника истинной веры и ее главного достояния — протектората над святыми местами в Мекке, Медине и Иерусалиме. «Это ваша обязанность, — выговаривал он султану мамлюков в Каире, — держать открытыми пути паломничества для мусульман; мы же должны вести священную войну». Одновременно он объявил себя «владыкой двух морей и двух стран», наследником империи цезарей с последующими претензиями на мировое господство — и политического, и религиозного характера: «На земле должна воцариться только одна держава, одна вера и одна власть».
На Западе падение Константинополя изменило все — и не изменило ничего. Люди, близкие к событиям, прекрасно понимали — защитить Город не представлялось возможным. Будучи анклавом, он сам сделал собственное падение совершенно неизбежным. Если бы Константину удалось предотвратить турецкую осаду, это только отсрочило бы решающий штурм. Для тех, кто хотел разобраться в случившемся, падение Константинополя или взятие Стамбула — в зависимости от вероисповедания — являлось символическим признанием очевидного факта: Турция стала мировой державой, прочно закрепившейся в Европе. Но немногие понимали истинное положение вещей. Даже венецианцы со всей их шпионской сетью и обилием дипломатической информации, поступавшей в сенат, мало что знали о военных возможностях Мехмеда. «Наши сенаторы не поверили бы, что турки могут повести флот против Константинополя», — заметил Марко Барбаро по поводу запоздалых усилий венецианцев по спасению Города. Они не осознавали мощи артиллерии, а также решительности Мехмеда и обилия ресурсов, которыми он располагал. Если взятие Города что-то и изменило, так только баланс сил в Средиземноморье. Оно также сделало очевидной угрозу интересам христиан и христианских народов, которую прежде позволял не замечать Константинополь, выполнявший роль буфера.
Религиозные, военные, экономические и психологические последствия случившегося давали знать о себе во всем христианском мире. Устрашающий образ Мехмеда с его амбициями сразу оказался в центре внимания греков, венецианцев, генуэзцев, папы в Риме, венгров, валахов и всех балканских народов. Грозная фигура великого турка и его неуемное стремление стать Александром своего века накладывались на систему представлений европейцев. В одном из источников Мехмед изображается вступающим в Город со словами: «Я благодарю Мухаммеда, даровавшего нам эту блистательную победу; но я молю его позволить мне прожить достаточно долго, чтобы захватить и подчинить Старый Рим, как я сделал то с Новым». Уверенность турка не была лишена оснований. В воображении Мехмеда местонахождение Красного Яблока переместилось теперь на запад — из Константинополя в Рим. Задолго до того, как османские армии вторглись в Италию, они ходили в бой с кличем: «Рим! Рим!» Шаг за шагом призрак Антихриста, казалось, надвигается на христианский мир. В годы, последовавшие за 1453-м, турки одну за другой уничтожили венецианские и греческие колонии на Черном море: пали Синоп, Трапезунд, Кафа. В 1462 году они вторглись в Валахию, в следующем году — в Боснию. Над Мореей османское владычество установилось в 1464 году. В 1474 году турки установили контроль над Албанией, в 1476 году — над Молдавией. Нарастающая волна турецкого натиска казалась неудержимой. В 1480 году их войска потерпели поражение во время знаменитой осады Родоса, но это оказалось лишь временной неудачей. Венецианцев страх охватывал чем дальше, тем больше: война с Мехмедом началась в 1463 году и продолжалась пятнадцать лет, став лишь прелюдией титанического противоборства. Тогда они лишились вожделенного приза — фактории в Негропонте. Случилось и худшее: в 1477 году османские всадники разорили окрестности Венеции. Они подошли столь близко, что дым от их огней виднелся с колокольни собора Святого Марка. Венеция могла по-настоящему ощутить горячее дыхание ислама у себя за спиной. «Враг у наших ворот! — писал Чельсо Маффеи дожу. — Секира при корне дерев лежит[33]. Если не придет помощь от Бога, судьба христианства будет решена». В июле 1481 году турки наконец высадили войска на итальянском «каблуке», дабы идти на Рим. Когда они взяли Отранто, архиепископ был убит в алтаре кафедрального собора, а двенадцать тысяч горожан преданы смерти. В Риме папа подумывал о бегстве, народ охватила паника, но в тот момент весть о смерти Мехмеда достигла османской армии, и итальянская кампания была прекращена.
Под впечатлением падения Константинополя папы и кардиналы вновь попытались вдохнуть жизнь в идею крестовых походов, продолжавшую волновать умы и в шестнадцатом столетии. Папа Пий II, считавший, что под угрозой находится вся христианская культура, задавал тон на созванном им в Мантуе в 1459 году конгрессе, пытаясь объединить враждующие христианские народы. В яркой двухчасовой речи он обрисовал ситуацию в самых жестких выражениях:
Мы сами позволили туркам завоевать Константинополь, столицу Востока. И пока мы в беспечности и праздности сидим дома, армии этих варваров продвигаются к Дунаю и Саве. В городе восточной империи они умертвили преемника Константина и его народ, осквернили храмы божьи, запятнали знаменитый собор Юстиниана омерзительным культом Мухаммеда; они уничтожили образы Божьей Матери и других святых, опрокинули алтари, бросили мощи мучеников свиньям, перебили священников, обесчестили женщин и юниц, даже дев, посвятивших себя Богу, перерезали знатных людей Города на пиру у султана, перенесли образ нашего распятого Спасителя к себе в лагерь с издевательствами и поношением, с криками «Вот Бог христиан!», и осквернили его грязью и плевками. Все это случилось прямо у вас на глазах, но вы валялись, объятые глубоким сном… Мехмед никогда не сложит оружия, покуда не одержит победу или не потерпит полное поражение. Каждая победа будет для него ступенью к следующей, до тех пор, пока, сокрушив всех властителей Запада и поправ Евангелие Христово, он не установит закон своего лжепророка по всему миру.
Несмотря на все усилия, его волнующие речи не смогли побудить кого-либо к практическим действиям, даже проект спасения Константинополя не имел успеха. Правители европейских держав были слишком завистливы, а сами они — слишком разобщены и в некотором смысле не слишком преданы религии для объединения во имя христианства. Ходили даже слухи, будто венецианцы причастны к высадке турок в Отранто. Тем не менее случившееся вновь вселило в европейцев глубокий страх перед исламом. Он будет давать о себе знать еще два столетия, пока продвижение турок в Европу не будет окончательно остановлено в 1683 году у ворот Вены. А до тех пор христианство и ислам будут вести между собой долгую войну, «горячую» и «холодную». Она надолго сохранится в памяти народов и на немалый срок определит характер отношений между двумя религиями. Падение Константинополя пробудило в мусульманах и европейцах старые воспоминания о крестовых походах. Турецкую опасность восприняли как продолжение памятного наступления ислама на христианский мир. Слово «турок» пришло на смену слову «сарацин» как общее наименование для всех мусульман со всеми связанными с ним представлениями о жестоком и безжалостном противнике. Обе стороны восприняли происходящее как борьбу за выживание против врага, стремящегося уничтожить весь мир. Это явилось прообразом глобального идеологического конфликта. В османах жил дух джихада, отныне связанный с имперской миссией. В сердце мусульманского мира идея превосходства ислама пережила второе рождение. Легенда о Красном Яблоке получила широкое хождение. После Рима ее успешно применили по отношению к Будапешту, а затем — к Вене. Помимо буквального значения, она являлась символом мессианского представления об окончательной победе истинной веры. В Европе образ турок стал синонимом всего жестокого и чуждого христианству. К 1536 году это слово, согласно Оксфордскому словарю английского языка, использовалось в английском языке для обозначения «всякого, кто ведет себя подобно варвару или дикарю». Подобные представления укрепило изобретение книгопечатания, ставшее олицетворением духа ренессансного просвещения.
Падение Константинополя пришлось на тот рубежный момент в развитии Запада, когда стала набирать силу волна научных открытий, заставивших потесниться религию. Некоторые их результаты применялись уже во время осады Города: мощь черного пороха, превосходство парусников, конец средневековой методики ведения осад. Следующие семьдесят лет принесли Европе, помимо прочего, золотые пломбы для зубов, карманные часы, астролябию, навигационные справочники, сифилис, переводы Нового Завета, открытия и идеи Коперника и Леонардо да Винчи, Колумба и Лютера — и тип любителей приключений.
«Вот ваш враг». Немецкий оттиск, изображающий османскую кавалерию.
Изобретение Гутенберга революционизировало процесс передачи информации населению и позволило распространить новые идеи, касавшиеся священной войны против ислама. Огромная масса проникнутой духом крестовых походов антиисламской литературы стала оказывать мощное давление на Европу в последующие сто пятьдесят лет. Одним из наиболее ранних дошедших до нашего времени образцов тогдашней печати является индульгенция, выпущенная Николаем V в 1451 году, чтобы собрать деньги для освобождения Кипра от турок. Тысячи экземпляров такого рода документов появлялись по всей Европе наряду с призывами к крестовому походу и листовками — предшественницами современных газет, распространявшими новости о войне против «страшной угрозы со стороны Великого Турка — правителя неверных». Последовал книжный бум: в одной Франции было опубликовано на турецкую тему между 1480 и 1609 годами восемьдесят книг, тогда как об Америке — только сорок. Когда Ричард Ноллз написал в 1603 году бестселлер «Общая история турок», уже существовала богатая литература на английском языке, посвященная народу, именуемому им «сущим ужасом для всего мира». Эти книги носили многозначительные названия: «Войны с турками», «Знаменитая история сарацин», «Повествование о кровавой и жестокой битве, проигранной султаном Селимом», «Правдивые известия о знаменитой победе, одержанной над турками», «Положение христиан под властью турок» — поток информации казался бесконечным. Отелло участвовал в мировой войне своего века — против «всеобщего врага Османа», «злокозненного турка в чалме», — и впервые христиане, живущие вдали от мусульманского мира, смогли увидеть гравированное изображение врага в богато иллюстрированных книгах, оказавших немалое влияние на аудиторию — таких как «Страдания и бедствия христиан от налогов и рабства под игом турок» Варфоломея Георгиевича. Они описывали жестокие битвы между облаченными в доспехи рыцарями и мусульманами в тюрбанах, равно как и все варварство неверных: турки обезглавливают пленных, ведут длинной вереницей захваченных женщин и детей, скачут, воздев на копья младенцев. Борьба с турками воспринималась в более широком контексте куда более долгого противостояния с исламом — тысячелетней борьбы за истину. Томас Брайтман писал в 1644 году, что сарацины были «первым полчищем саранчи… начиная с 630 года», за которым последовали «турки, гадючий выводок, хуже, чем их прародители, [которые] наголову разгромили своих праотцев-сарацин». Так или иначе, конфликт с исламом всегда носил особый характер: он был более глубоким, более угрожающим, более похожим на кошмар.
По-видимому, не остается сомнений, что Европа в течение двух столетий, последовавших за взятием Константинополя, продолжавшая бояться Османской империи, превосходившей ее богатством, мощью и лучшей организацией, воспринимала образ ее во многом в религиозных понятиях. При этом идея христианского мира уже умирала и имела мало приверженцев. Внутренняя и внешняя сторона османского мира представляли два разных его лика, и нигде это не наблюдалось так ясно, как в Константинополе.
Саад-ад-дин мог, конечно, говорить, что после взятия Стамбула «церкви Города были избавлены от их отвратительных кумиров и очищены от их подлых и идолопоклоннических нечистот», но в реальности дело обстояло несколько иначе. Город, восстановленный Мехмедом после его взятия, едва ли соответствовал ужасному образу ислама, поддерживаемому христианской пропагандой. Султан рассматривал себя не только как повелителя мусульман, но и наследника Римской империи, и начал создавать столицу, где уживались бы разные культуры и все граждане имели бы определенные права. Он в принудительном порядке поселил в Городе греков и турок-мусульман, гарантировал безопасность генуэзского анклава в Галате и запретил туркам жить там. Монах Геннадий, яростно сопротивлявшийся попыткам объединения церквей, спасся от обращения в рабство в Эдирне и вернулся в столицу как патриарх православной общины, руководствуясь формулой: «Будь патриархом, и да сопутствует тебе удача; будь уверен в нашей [турок] дружбе и пользуйся всеми привилегиями, какими пользовались патриархи до тебя». Христиане должны были жить в своих районах — при этом они удержали за собой несколько церквей, — хотя и с некоторыми ограничениями: им предписывалось носить особую одежду и запрещалось иметь оружие. С учетом условий того времени это являлось политикой поразительной терпимости. На другом конце Средиземноморья, в Испании, финал Реконкисты, завершенной католическими королями в 1492 году, принес с собой иные результаты: насильственное обращение в христианство или изгнание мусульман и иудеев. Испанские евреи сами решили эмигрировать в Османскую империю — «убежище мира», где, учитывая изгнаннический опыт еврейского народа, в целом их приняли хорошо. «Здесь, в земле турок, нам не на что жаловаться, — писал один из раввинов своим собратьям в Европу. — В наших руках немалые состояния, у нас много золота и серебра. Мы не обременены тяжелыми налогами, мы торгуем свободно и беспрепятственно». Мехмеду пришлось выслушать немало упреков за такую политику со стороны почтенных критиков-мусульман. Сын Мехмеда Баязид II, более благочестивый, нежели его отец, объявил, что тот «по совету интриганов и лицемеров нарушил законы Пророка».
Хотя Константинополю суждено было обрести в течение несколько столетий более мусульманский облик, Мехмед придал захваченному месту с его удивительной культурной полифонией основные черты левантинского города. Для людей Запада, исходивших из примитивных стереотипов, это оказалось совершенно неожиданным. Когда немец Арнольд фон Харф прибыл в Константинополь в 1499 году, он поразился, обнаружив в Галате два францисканских монастыря, где до сих пор продолжали служить католическую мессу. Те, кто знал «неверных» лучше, не видели здесь ничего удивительного. «Турки никого не принуждают отказываться от своей веры, не слишком стараются склонить [к этому] и не особенно высоко ставят ренегатов», — писал Георгий Венгр в пятнадцатом столетии. Политика Мехмеда являла сильный контраст по сравнению с религиозными войнами, раздирающими Европу во время Реформации. Мощный поток беглецов после падения византийской столицы шел лишь в одном направлении — из христианских стран в Османскую империю. Самого Мехмеда больше интересовало создание державы в масштабах всего мира, нежели обращение мира в ислам.
Падение Константинополя стало драмой для Запада. Оно не только поколебало уверенность христиан в своих силах, но и явилось трагическим концом классического мира, «второй гибелью Гомера и Платона». И тем не менее произошедшее освободило Город от обнищания, изоляции и краха. Город, окруженный «водным венком», который прославлял Прокопий Кесарийский в VI веке, вернул себе силу и энергию как столица богатой и мультикультурной империи. Он стоял на границе двух миров. Здесь пересекалась дюжина торговых путей. И люди, казавшиеся Западу хвостатыми чудовищами из Апокалипсиса — «наполовину люди, наполовину лошади», — превратили его в удивительный и прекрасный город, не такой, как «христианский Златой Град», но столь же яркий и многокрасочный.
Константинополь снова торговал товарами со всего мира в запутанных проходах крытого базара и египетского рынка. Он вновь начал притягивать к себе караваны верблюдов и кораблей изо всех важных пунктов Леванта, но моряки, приближавшиеся к нему со стороны Мраморного моря, видели на горизонте новые силуэты. Бок о бок с Айя София на холмах теснились здания мечетей под серыми свинцовыми крышами. Белые минареты с желобками не тоньше иголки и не толще карандаша, опоясанные изящными узорчатыми балконами, образовывали контуры Города. Блестящие архитекторы — строители мечетей — создали под вознесшимися ввысь куполами абстрактное и вневременное пространство: внутри все озарялось мягким светом, было покрыто замысловатым геометрическим орнаментом, каллиграфией и стилизованными цветами, чьи чувственные краски — ярко-красная, бирюзовая, аквамарин, темно-голубая, словно из глубин моря, — порождали впечатление огромного сада наслаждений, обещанного Кораном.
Османская каллиграфия.
Жизнь османского Стамбула давала богатую пищу для зрения и слуха — это был город деревянных домов и кипарисовых деревьев, изящных надгробий и крытых рынков, шумных и суетливых мастерских, где каждое ремесло и каждая этническая группа имели свой квартал и где работали и торговали представители всех народов Леванта, одетые и причесанные на свой лад, где можно было неожиданно увидеть море, бросив взгляд с улицы или с балкона мечети. А призыв к молитве, звучавший с дюжины минаретов и облетавший Город из конца в конец от рассвета до заката, был столь же привычен, как крики уличных торговцев. За заповедными стенами дворца Топкапи турецкие султаны создали подобие Альгамбры и Исфахана — множество хрупких павильонов, более похожих на прочные шатры, чем на строения, и изысканных садов, откуда можно было обозревать Босфор и холмы на азиатском берегу. Турецкое искусство, архитектура и церемониал породили богатый и зрелищный мир, вызывавший у приезжих с Запада такое же изумление, как прежде — христианский Константинополь. «Я увидел панораму маленького мира, великого города Константинополя, — писал Эдвард Лизгоу в 1640 году, — который столь ослепляет изумленного зрителя… поскольку теперь мир придает ему такое большое значение, что вся Земля не может сравниться с ним».
Нигде ощущение от османского Стамбула не передано ярче, нежели в бесконечных сериях миниатюр, где изображено празднование султанами их триумфов. Радостный мир простых цветов, образцово плоский и лишенный перспективы, напоминает декор на изразцах или одежде. Здесь мы видим дворцовые церемонии и пиры, сражения и осады, отсечение голов, процессии и празднества, шатры и знамена, фонтаны и дворцы, тщательно отделанные кафтаны и оружие, а также прекрасных коней. Это мир, влюбленный в ритуалы, шумный и светлый. Тут и кулачные бои, и акробаты, и продавцы кебабов, и зрелища с фейерверком, и крепко сбитые отряды янычар, которые бьют в барабаны, трубят в рога и, отливая красным, беззвучно прокладывают себе путь через страницу, и гимнасты, переходящие на другую сторону Золотого Рога по канатам, привязанным к корабельным мачтам, и эскадроны всадников в белых тюрбанах, проезжающие мимо искусно разукрашенных палаток, и карты Города, яркие, словно драгоценные камни, и все мыслимое богатство цветов: ярко-красный, оранжевый, синий, сиреневый, лимонный, каштановый, серый, розовый, изумрудный и золотой. Казалось, мир миниатюр выражает радость и гордость, вызванные успехами турок, умопомрачительным взлетом, в результате которого обычное племя за два столетия превратилось во властелина империи. Казалось в нем звучит эхо слов, начертанных некогда турками-сельджуками на воротах священного города Конья: «То, что я создал, не имеет равного себе во всем мире».
Новый горизонт: вид мусульманского города с моря.
В 1599 году английская королева Елизавета отправила султану Мехмеду III орган в знак дружбы. Сей дар сопровождал его создатель, Томас Дэллам, который должен был играть на инструменте для османского правителя. Когда мастера провели сквозь череду дворцовых покоев и он оказался перед султаном, его настолько ослепил блеск церемониала, что, по его словам, «увиденное почти заставило меня поверить, будто нахожусь в другом мире». Приезжие высказывали свое восхищение в одних и тех же выражениях с тех пор, как Константин Великий основал второй Рим и второй Иерусалим в IV веке. «Мне кажется, — писал француз Пьер Жилль в XVI веке, — если другие города смертны, то этот будет существовать до тех пор, пока есть люди на Земле».
Эпилог Места упокоения
Это счастье для христиан и всей Италии, что смерть остановила жестокого и неукротимого варвара.
Джованни Сагредо, венецианский аристократ, XVII векВесной 1481 года султанские бунчуки были вывешены на анатолийском побережье от самого моря до Города, символизируя тем самым, что местом проведения военных кампаний текущего года будет Азия. Секретность, соблюдавшаяся Мехмедом, требовала, чтобы никто, даже главные министры, не знали его истинных целей. Все указывало на близящуюся войну против враждебной Турции мусульманской династии египетских мамлюков.
За сорок лет султан немало потрудился над созданием мировой империи, лично занимаясь делами государства: назначая и карая министров, взимая налоги, отстраивая Стамбул, насильно переселяя массы людей, реорганизуя экономику, заключая договоры, насылая ужасную смерть на непокорные народы, даруя свободу вероисповедания, отправляя (или даже возглавляя) армии год за годом в походы на восток и на запад. Ему исполнилось сорок девять лет, здоровье его сдавало. Время и потворство собственным слабостям делали свое дело. Согласно нелестным отзывам современников, он был полным и грузным, с «толстой короткой шеей, болезненным цветом лица, весьма широкими плечами и громким голосом». Мехмед, собиравший прозвища, словно медали за кампании: «Гроза войны», «Могучий победоносный владыка земли и моря», «Повелитель ромеев и всей Земли», «Завоеватель мира», временами с трудом мог ходить. Страдая от подагры и нездоровой полноты, он скрылся от людских глаз во дворце Топкапи. Человек, называемый Западом «кровопийцей» и «вторым Нероном», приобрел весьма гротескный вид. Французский дипломат Филипп де Коммин утверждал, будто «слышал от тех, кто видел его, он [Мехмед] страдал распуханием ног. Случалось это с ним в начале лета; тогда ноги его увеличивались до размеров человеческого тела, от чего не было никакого средства, но затем это проходило». За стенами дворца Мехмед позволял себе занятия, не подходящие для тирана — садоводство и ремесла; художник Джентиле Беллини, недавно приглашенный из Венеции, создавал для него непристойные фрески. Знаменитый портрет Мехмеда работы Беллини, обрамленный золотой аркой и увенчанный императорскими коронами, позволяет понять некоторые черты неуемной натуры великого турка: Завоеватель мира до последнего дня оставался человеком переменчивым, суеверным и беспокойным.
Мехмед пересек пролив и переправился в Азию 25 апреля для проведения кампании текущего года, но почти сразу свалился от болей в желудке. После нескольких дней тяжких мучений он умер 3 мая 1481 года возле Гебзе, где некогда другому претенденту на роль завоевателя мира, Ганнибалу, пришлось покончить с собой с помощью яда[34]. Смерть султана окутана тайной. Очень вероятно, Мехмед также стал жертвой отравления со стороны своего врача-перса. Несмотря на многочисленные попытки венецианцев убить султана, предпринимавшиеся ими в течение ряда лет, наиболее тяжкое подозрение падает на его сына, Баязида. Закон Мехмеда о братоубийстве, возможно, побудил принца нанести упреждающий удар (оказавшийся успешным) для захвата престола. Отец и сын не были близки — благочестивый Баязид неприязненно относился к неортодоксальным религиозным взглядам Мехмеда: сплетник при одном из итальянских дворов цитировал слова Баязида о том, что «его отец вел себя деспотически и не веровал в пророка Мухаммеда». Тридцать лет спустя Баязида, в свою очередь, отравит его сын, Селим Грозный. Как гласит арабская пословица, «не может быть родственных чувств между царевичами». В Италии новость о смерти Мехмеда встретили с особой радостью. Палили пушки, звонили колокола. В Риме устраивали фейерверки и службы благодарения. Гонец, принесший весть в Венецию, объявил: «Великий орел умер». Даже султан-мамлюк вздохнул с облегчением.
Сегодня Фатих — Завоеватель — покоится в мавзолее, находящемся в комплексе мечетей в округе Стамбула, которые носят его имя. Выбор места нельзя счесть случайным. Мавзолей построен там, где прежде стоял один из самых известных во всей истории Византии храмов — собор Святых Апостолов. В нем в 337 году с великой пышностью похоронили основателя Города Константина Великого. В смерти, как и в жизни, Мехмед выступал как восприемник наследства великой империи. Первое здание мавзолея разрушилось в результате землетрясения. Затем его полностью восстановили, так что внутри теперь все раззолочено, словно во французской гостиной XIX века, наполненной дедушкиными часами, потолочным орнаментом в духе барокко и свисающими хрустальными люстрами — так сказать, место вечного упокоения мусульманского Наполеона. Богато украшенное надгробие длиной с маленькую пушку покрыто зеленым покровом и увенчано с одного конца изображением тюрбана. Народ приходит сюда помолиться, почитать Коран и пофотографировать. Со временем Фатих приобрел в глазах верующих некоторые черты мусульманского святого, и они стали почитать его. Поэтому у Мехмеда появилось две ипостаси — религиозная и светская. Подобно Черчиллю, он стал и символом благочестия, и «национальным брендом»: тут и марка грузовика, и мост через Босфор, и примелькавшийся образ скачущего всадника на памятной марке или на школьном здании. Округ Фатих — сердце традиционного и уверенного в себе на новый лад Стамбула. Это мирное место: во дворе мечети под платаном после молитвы собираются поболтать женщины в платках. Вокруг бегают пришедшие с ними дети. Уличные торговцы продают булочки с сезамом, игрушечные машинки и воздушные шары в виде резиновых зверюшек, наполненные гелием. Близ входа в гробницу Мехмеда, словно священный дар, покоится каменное ядро.
Судьбы других главных действующих лиц из числа османов времен осады Города продемонстрировали, сколь небезопасно находиться на службе у султана. Для Халил-паши, последовательно выступавшего против политики войны, конец наступил быстро. Его повесили в Эдирне в августе или сентябре 1453 года, а его место занял Заганос-паша, принявший ислам грек, активно выступавший за войну. Судьба старого визиря знаменовала решительную перемену в политике государства: последующие визири будут чаще происходить из числа лиц славянского происхождения, обращенных в мусульманство, нежели из старых аристократических семейств. Если говорить об Урбане, создателе знаменитой пушки и главном «архитекторе» победы, то он, судя по косвенным данным, пережил осаду и получил от султана награду: после взятия Стамбула в нем появился округ, названный Округом Пушкаря Вербана. Видимо, можно предположить, что венгерский наемник поселился в Городе, чьи стены так усердно разрушал. И Аюб, спутник Пророка, чья смерть во время первой, арабской, осады Константинополя впоследствии так воодушевляла участников священной войны, теперь покоится на территории посвященного ему комплекса мечетей среди платанов у очаровательной заводи Эюп близ оконечности Золотого Рога — это место пользуется популярностью у паломников. Здесь находится и мечеть, где в течение столетий происходила коронация султанов.
Очень по-разному сложились судьбы тех защитников Константинополя, которым удалось ускользнуть. Греческие беженцы испытали типичную для изгнанников судьбу: их ждали лишения на чужбине и ностальгия по утраченному Городу. Многие из них доживали свои дни в Италии (в одной Венеции их было до четырех тысяч) и на Крите, являвшемся бастионом православной церкви, но других разбросало по всему миру вплоть до Лондона. Потомки фамилии Палеологов постепенно растворились в общей массе менее знатных семейств Европы. Один или два из них, страдая от ностальгии или нищеты, возвратились в Константинополь и отдались на милость султана. По крайней мере один из них, Андрей, принял ислам и стал придворным под именем Мехмед-паши. По-видимому, наиболее отчетливым отражением печальной участи греков после падения Византии стала судьба Георгия Сфрандзи и его жены. Они закончили дни в монастырских кельях на Корфу, где Сфрандзи написал краткую скорбную хронику событий своей жизни. Она начинается словами: «Я — Георгий Сфрандзи, несчастный смотритель императорского гардероба, ныне известный под иноческим именем Григория. Я написал нижеследующий рассказ о событиях, случившихся в моей жалкой жизни. Лучше мне было вообще не родиться или умереть в детстве. Коль скоро этого не случилось, да будет известно, что я родился во вторник 30 августа 1401 года». Лаконично и сдержанно Сфрандзи повествует о двойной трагедии — личной и национальной, причиной которой стало османское завоевание. Оба его ребенка оказались в серале. Его сын был казнен в 1453 году. В сентябре 1455 года Сфрандзи писал: «Моя очаровательная дочь Тамара умерла от заразной болезни в серале султана. Увы мне, ее несчастному отцу! Ей было четырнадцать лет и пять месяцев». Он прожил до 1477 года — достаточно долго, чтобы стать свидетелем почти полного угасания свободы греков под властью турок. Его завещание заканчивается подтверждением православных взглядов на вопрос о filioque, из-за чего возникало так много сложностей во время осады: «Я исповедуюсь, будучи уверен в том, что Дух Святой не исходит от Отца и Сына, как утверждают итальянцы, но безраздельно исходит только от одной ипостаси — от Отца».
Разными оказались и судьбы спасшихся итальянцев. Раненого Джустиниани привезли на Хиос, где он, согласно другому генуэзцу, архиепископу Леонарду, вскоре умер «от раны или от сознания своего позора»; именно его почти все обвиняли в окончательном поражении. На его могиле начертана эпитафия, ныне утраченная, где говорилось: «Здесь лежит Джованни Джустиниани, великий человек и знатный муж Генуи и Хиоса, который умер 8 августа 1453 года от роковой раны, полученной во время штурма Константинополя и гибели всемилостивейшего Константина, последнего императора и храброго предводителя восточных христиан от рук турецкого правителя Мехмеда». Сам Леонард умер в Генуе в 1459 году. Кардинал Исидор Киевский, отправленный в Византию наблюдать за проведением в жизнь унии, был провозглашен папой патриархом Константинополя in absentia[35], но какой-либо реальной властью не обладал. Он впал в старческое слабоумие и скончался в Риме в 1463 году.
Что касается Константина, то нет ясности ни с тем, какова его судьба, ни с местом его захоронения. Смерть императора знаменовала собой закат византийского мира и начало «туркократии», турецкой оккупации Греции, которую застал Байрон, — она окончилась уже после его смерти. Оставшаяся неизвестной судьба Константина привлекла к себе внимание греков, испытывавших острую тоску по былой славе Византии, и со временем стала объектом множества предсказаний. Он превращается в греческой народной культуре в персонаж наподобие короля Артура, Царя Прошлого и Будущего, спящий в своей могиле близ Золотых. Ворот. Согласно преданию, некогда Константин возвратится через эти ворота, прогонит турок обратно на восток, туда, где находится Дерево с Красным Яблоком, и вернет себе власть над Городом. Образ императора стал своего рода талисманом, и турки боялись его: Мехмед внимательно следил за братьями Константина и счел за лучшее замуровать Золотые Ворота. Пресловутые легенды явились причиной трагической посмертной судьбы злосчастного Константина. В конце XIX столетия его наследие стало связываться с национальными представлениями греков, Великой Идеей — мечтой о включении греческого населения Византии в греческое государство. Это вызвало обернувшееся катастрофой вторжение в Турецкую Анатолию (его отразил в 1922 году Кемаль Ататюрк), резню греков в Смирне и последующую смену населения. Только тогда надежды на восстановление Византии окончательно исчезли.
Но если дух Константина где-нибудь и жив, то не в Стамбуле, а за тысячу миль, на Пелопоннесе. Здесь он какое-то время управлял Мореей в качестве деспота из маленького города Мистра, который через два столетия стал свидетелем удивительного расцвета византийской традиции. Мистра является своего рода хранительницей византийского духа: на каждом фонарном столбе в современном селении близ цитадели изображен двуглавый орел. На площади Платиа Палеологу находится статуя Константина, защитника веры, держащего обнаженный меч — изображение человека, чей облик неизвестен. Он стоит перед мраморным постаментом, где начертана цитата из труда хрониста Дуки. Над его головой безжизненно висит на фоне голубого греческого неба ярко-желтый византийский флаг с черными орлами. Сзади возвышается средневековая Мистра — зеленый холм, а на нем — развалины, церкви и усадьбы, рассеянные среди кипарисов. Трогательное место! Здесь на краткий миг возродился в миниатюре Константинополь — греческая Флоренция. В Мистре была блистательно отображена гуманистическая версия евангелий в великолепных фресках, заново открыты учения Аристотеля и Платона. Тут жили грезы о золотом веке, пока не пришли османы и не положили им конец. В маленьком соборе Святого Дмитрия, который не больше сельской церкви в Англии, Константин, возможно, короновался. В церкви Святой Софии погребена его жена Феодора. На вершине холма находится дворец деспотов, а за ним — голые кряжи Тайгета и Спартанское плоскогорье, холмы которого тянутся далеко внизу. Здание напоминает по стилю императорский дворец у константинопольских стен. Легко представить себе, как император смотрел из окна своего просторного зала на зеленую равнину, где спартанские гоплиты тренировались накануне битвы при Фермопилах, а византийцы выращивали масло, пшеницу, собирали мед и разводили шелковичных червей. И каждый год, 29 мая, когда турки празднуют взятие Стамбула, устраивая представление у Адрианопольских ворот, Константин, умерший еретиком, поскольку поддержал унию, поминается в маленьких, с цилиндрическими сводами, сельских церквах на Крите и в больших соборах греческих городов.
В самом Стамбуле сейчас мало что осталось от христианского города, хотя до сих пор можно пройти через медные двери Святой Софии, по которым в последний раз били снаружи 29 мая 1453 года, приблизиться к мозаичному изображению Христа, поднимающего руку в жесте благословения. Сейчас здесь все поражает точно так же, как в VI веке. Сам Город, заключенный между двумя сторонами треугольника, которые образуют Золотой Рог и Мраморное море, зримо сохраняет в себе отдельные черты, обусловившие множество важнейших событий. Паромы пыхтят, вплывая в устье Босфора с запада по следам четырех христианских кораблей. Они минуют мыс Акрополис, где разыгралась морская битва, а затем так же делают поворот против ветра в устье Золотого Рога, перегороженного теперь другим препятствием — мостом, ведущим в Галату. Во время следующей остановки, у берега Золотого Рога, суда причаливают близ Касимпаши — Долины Источников, где корабли Мехмеда один за другим с плеском сходили в спокойную воду. На Босфоре Румелихисар, «Перерезанное горло», до сих пор возвышается над крутым берегом, и красный турецкий флаг свободно реет на огромной башне у самого моря, на строительство которой дал так много денег Халил-паша.
Некоторые из стен, прикрывавших Город с моря, в особенности те из них, что стоят вдоль Золотого Рога, сохранились до нашего времени лишь частично. Однако большая стена Феодосия, ограждавшая Константинополь с суши — третья сторона треугольника, которая открывается взору современного туриста, прибывающего из аэропорта, — пролегает через эти места так же, как и в былые времена. По мере приближения, однако, становится заметно, что стена существует уже пятнадцать столетий: многие ее участки уничтожены или развалились от ветхости, повреждены в одних местах и не слишком удачно восстановлены в других. Башни, ставшие жертвой вражеских ядер или времени, странно накренились. Во рву, причинявшем столько неприятностей османским войскам, теперь мирно растут овощи. Укрепления разрушены в тех местах, где проходят разветвленные магистрали, а под ними проложены тоннели метрополитена — и они прорыты куда лучше, чем это удавалось сербским минерам. Но, несмотря на сложности, связанные с воздействием современной цивилизации, стена Феодосия сохранилась почти целиком. Вдоль нее можно пройти от моря до моря, спуститься по склону вдоль ее центрального участка в долину Лика, где стены были разрушены огнем средневековых пушек, или постоять на бастионах, представляя себе турецкие шатры и флаги, развевающиеся внизу на равнине, «подобно цветкам тюльпанов», и галеры, бесшумно скользящие по сверкающей глади Мраморного моря или Золотого Рога. Почти все ворота времен осады сохранились. Мрачные тени их массивных арок вызывают благоговение, хотя сами Золотые ворота, подступ к которым усеян каменными ядрами из больших пушек Урбана, в давние времена заложили кирпичом по приказу Мехмеда, дабы воспрепятствовать предреченному возвращению Константина. Для турок же наибольшее значение имеют Адрианопольские ворота — византийские Ворота Харисия, ибо через них Мехмед торжественно вступил в Стамбул. Об этом напоминает мемориальная стела. Но те ворота, с которыми связаны самые драматические события в истории осады, стоят совершенно забытые немного дальше по направлению к Золотому Рогу.
Здесь стена неожиданно поворачивает направо. Поблизости, скрываясь за пустырем и непосредственно примыкая к остаткам дворца Константина, находится непримечательная заложенная кирпичами арка — образец многочисленных переделок и починок, проводившихся в течение столетий. Некоторые говорят, что это роковые Цирковые ворота — небольшая калитка, оставленная открытой во время решающей атаки и позволившая тем самым турецким солдатам проникнуть наконец за стену. Но, возможно, она находится где-то в другом месте. События, происходившие во время осады, с легкостью растворяются в мифах.
Еще один важный участник того, что происходило весной 1453 года, мирно пребывающий в пределах современного города, — сами пушки. Разбросанные по всему Стамбулу, они дремлют рядом со стеной или во внутреннем дворе музея — грубо перехваченные обручами стволы, по большей части не пострадавшие за пять веков от непогоды. Иногда рядом с ними лежат превосходные гранитные или мраморные ядра, которыми они стреляли. Что касается гигантской пушки Урбана, то от нее не осталось и следа — вероятно, ее переплавили в турецком литейном цехе в Тофане. Через какое-то время за ней последовала огромная конная статуя Юстиниана. Мехмед снял скульптуру с пьедестала по совету своих астрологов, но случилось так, что она долгое время лежала на площади перед тем, как ее в конце концов отправили на переплавку. Французский ученый Пьер Жиль видел некоторые ее части в XVI столетии. «Среди кусков находились ноги Юстиниана величиной больше меня, и его нос, чья длина превышала девять дюймов. Я не решился открыто измерить ноги лошади, пока они лежали на земле, но тайком измерил одно из копыт и нашел, что оно имеет в высоту девять дюймов». Это было последнее «явление» великого императора и величия Византии, прежде чем их поглотила печь.
Заложенная арка Цирковых ворот.
Об источниках
В этой войне произошло такое множество событий, что перо не в состоянии описать их все, а язык — перечислить.
Нешри, турецкий хронист XV векаПадение Константинополя — или взятие Стамбула — стало своего рода вехой в истории Средних веков. Новости распространялись в мусульманском и христианском мире с поразительной быстротой, и жадный интерес к истории помог сохраниться великому множеству рассказов, а потому кажется, что данному событию очень повезло по уникальной степени освещенности. При ближайшем рассмотрении, однако, сумма частей оказывается несколько меньше, чем целое. Число очевидцев совсем невелико, и в основном это христиане. Имена многих из них уже хорошо знакомы читателям этой книги: архиепископ Леонард Хиосский, суровый служитель католической церкви; Никколо Барбаро, судовой врач, который писал наиболее надежно датируемый дневник; Джакомо Тетальди, флорентийский купец; православный русский, Нестор Искандер; Турсун-бей, турецкий чиновник, и еще несколько свидетелей, таких как Георгий Сфрандзи, чьи хроники заставляют поломать голову современных историков. За этими очевидцами следует небольшая группа тех, кто жил вскоре после этих событий и узнал о них из вторых рук — Дука, легкий на перо греческий хронист, чье изложение ярко, ненадежно и полно апокрифических историй, что весьма оживляет повествование, — и другой грек, Критовул, судья с острова Имброс, автор, уникальный в том отношении, что, будучи христианином, он изложил протурецкую версию. (Одна из многих задач, которые он ставил перед своим трудом, состояла в том, чтобы его читали «все западные народы», в том числе и населяющие Британские острова.) Последующие века явили нам множество различных версий с обеих сторон. Некоторые представляют собой простой пересказ, другие добавляют слухи, утраченную устную традицию, легенды, а также утверждения христианской и турецкой пропаганды, в результате чего получается крепкая смесь не поддающихся проверке сведений. Таков набор повествований, на основе которых написана эта книга.
Многие из трудностей, возникающих при работе с данными источниками, свойственны истории как таковой, в особенности истории донаучного периода. Свидетели осады весьма склонны к значительным округлениям, когда речь идет о численности армий или потерях сторон, датах и временных отрезках, пользуются приводящими в отчаяние местными системами мер и весов и сильно преувеличивают то, что услышали от других. Хронологическая последовательность событий представляет собой некую условность, а разграничение фактов, выдумок и мифов оказывается серьезной проблемой. Религиозные предрассудки так тесно переплетаются с событиями, что в рассказ о взятии Константинополя люди верят как и в произошедшее в действительности. И, конечно, представления об объективном повествовании всему этому совершенно чужды.
У каждого автора есть свои цели и мотивы в отношении излагаемой им версии, и потому необходимо проявлять осторожность, имея дело с утверждениями и особыми интересами каждого из них. Суждения обычно обусловлены религией, национальностью и мировоззрением. Венецианцы, разумеется, будут расхваливать бесстрашие своих моряков и поносить за предательство генуэзцев — и наоборот. Итальянцы будут обвинять греков в трусости, лености и глупости. Католики и православные станут бросать друг другу тяжкие упреки в ответственности за возникновение схизмы. У христиан поиск объяснения (теологического или светского характера) причин падения Города ставится во главу угла, и страницы их трудов пестрят словами осуждения. И, конечно, все христианские авторы привычно посылают проклятия в адрес кровожадного Мехмеда — за исключением Критовула, всячески старающегося угодить султану. Турки, естественно, позволяют себе аналогичные выпады в адрес христиан.
Все рассказы очевидцев ярки — их авторы прекрасно осознавали, что наблюдали и пережили в высшей степени экстраординарное событие, — но их версии полны странных умолчаний. Учитывая огромное значение 1453 года для истории турецкого народа, остается удивляться, почему сохранилось так мало рассказов современников с турецкой стороны о взятии Города. Нет рассказов очевидцев, и почти ничего не известно о чувствах и побуждениях мусульманских воинов, за исключением письма шейха Акшемсеттина Мехмеду. Турецкое общество по большей части оставалось неграмотным, повествования о событиях носили в основном устный характер. Традиция письменной фиксации индивидуальных сообщений отсутствовала. То, что мы имеем, существует в форме кратких хроник, переработанных позднее с целью формирования легенды о династии османов, поэтому о взглядах турок зачастую приходится узнавать, читая между строк христианских авторов. 1453 год необычен, являя собой историю, написанную по большей части побежденными.
Достаточно неожиданна краткость свидетельств, исходящих от православных греков. Причина, по-видимому, в том, что многие видные византийцы были убиты при разорении Города или, возможно, испытали слишком сильное потрясение, подобно Георгию Сфрандзи, и не могли останавливаться на деталях. Христианская версия событий, таким образом, исходит в основном от итальянцев и греков-униатов, в высшей степени неприязненно отзывавшихся о православных защитниках Города.
Вследствие всего вышеперечисленного история падения Константинополя продолжает таить в себе немало загадок, которые, по-видимому, никогда не удастся разрешить. Каким образом турки перемещали собственные суда, остается предметом острых дискуссий среди турецких историков. Продолжает волновать и тайна смерти Константина — каждая из конкурирующих версий имеет своих сторонников. Конечно, и сам Константин до сих пор предстает туманной фигурой по сравнению с нетерпеливым, неугомонным Мехмедом, поистине, как казалось, вездесущим во время осады.
Моя цель состоит в том, чтобы, несмотря на все эти трудности и противоречия, заново рассказывая историю падения Константинополя, создать надежную версию основных событий — настолько близкую к истине, насколько это в моих силах. Я выбрал свой путь в море источников, временами непростой, пытаясь согласовать различные свидетельства и найти наиболее приемлемые толкования. Датировки, как известно, неопределенны, несмотря на дневник Барбаро, который вел повествование об осаде день за днем. В каждом рассказе события по-своему упорядочиваются и по-своему датируются, и многие, кто исследует данный сюжет, не согласятся со мной в достаточно широко представленных спорных вопросах. При внимательном чтении моей книги обнаружатся некоторые мелкие неясности в отношении последовательности событий. Я оставил без комментариев те свидетельства, которые трудно понять и согласовать с другими. Я решил в целом следовать той хронологии, которая представляется мне наиболее вероятной, и исключить из повествования по мере сил ненавистные мне слова «возможно», «вероятно», «может быть». В противном случае я утопил бы читателя в массе версий, изложенных в источниках и мало что добавляющих к общей динамике сюжета, контуры которого вполне ясны и четки. В то же время исходя из таких объективных фактов, как география, ландшафт, погода и время, я сделал собственные выводы, считая их правильными.
Своей второй задачей при написании книги я ставил попытку донести до читателей голоса людей. Поведать прежде всего слова, предрассудки, надежды и страхи участников событий и рассказать своего рода «историю историй», версии, которые они считали такими же истинными, как и подлинные факты. Их авторы чрезвычайно субъективны. Они почти столь же поразительны и загадочны, как и то, о чем повествуют. От некоторых из них, например, от Барбаро, не осталось ничего, кроме их сочинений. Другие — такие как Леонард Хиосский и Исидор Киевский — сыграли определенную роль в церковной истории своего времени. К числу наиболее очаровательных и загадочных рассказов относится повествование православного Нестора Искандера, русского по национальности, прибывшего под Константинополь, по-видимому, в качестве воина турецкой армии. Можно полагать, что он проник в Город в начале осады. Нестор Искандер стал очевидцем и участником ряда событий — в частности, он ярко описывает обстрел Константинополя и происходившее на стенах — и выжил в ходе османских расправ, возможно, облачившись в иноческое платье и скрывшись в монастыре. В его загадочном рассказе, зачастую представляющем собой фантастическую смесь легенд, слухов и свидетельств из первых рук, так перепутаны датировка и последовательность событий, что многие авторы склонны отбрасывать его целиком, но он содержит массу вызывающих доверие подробностей: сообщает уникальные сведения о борьбе на стенах и выносе тел — работе, в которой он, видимо, сам участвовал. Почти единственный из источников, Нестор Искандер приводит данные о том, что греки действительно сражались, например об инциденте, приведшем к гибели Рангави. Венецианцы и генуэзцы представляют дело так, что почти все делали одни только итальянцы, а греческое население изображают в лучшем случае пассивным, а в худшем — из-за религиозных различий — вероломным, корыстолюбивым и трусливым.
Двумя другими хронистами, которым была суждена яркая жизнь после падения Константинополя, стали Георгий Сфрандзи и Михаил Дука. Сфрандзи известен изложением двух версий событий, известных как Краткая и Пространная хроники. Долгое время предполагалось, что Пространная хроника представляет собой расширенный вариант Краткой, где почти ничего не говорится об осаде — самом примечательном, хотя и драматическом факте в долгой жизни Сфрандзи. Пространная хроника, являющаяся ярким, подробным и весьма достоверным повествованием, долгое время активно широко использовалась как главный источник информации о событиях 1453 года. Однако, как было впоследствии доказано, она представляет собой результат талантливой литературной переработки, сделанной сто лет спустя Макарием Мелиссином, писавшим от имени Сфрандзи. Его репутация не внушает доверия: он известен как священнослужитель, сфабриковавший императорский указ о запрете дискуссий по религиозным вопросам. Поэтому все содержание Пространной хроники оказалось поставлено под сомнение. Теперь историки проявляют в отношении ее крайнюю осторожность: всякий, кто собирается писать об осаде Константинополя, должен решить, что делать с этим сочинением. На основании тщательного текстологического анализа высказаны доводы в пользу того, что оно базируется на более подробной версии Сфрандзи, ныне утерянной, а особое своеобразие некоторых приводимых у Мелиссина фактов свидетельствует о том, что если он прибегал к вымыслу, то мы имеем дело с блестящим мастером исторической новеллы. Только у Мелиссина имеется рассказ Сфрандзи, стоявшего в темноте на башне вместе с Константином накануне последнего штурма. В его же труде содержится описание символического момента турецкой истории — рассказ о Хасане Улубате, янычаре-исполине, первым водрузившем знамя турок на стене Города. Хотя данный сюжет для вымышленного изложен у него слишком подробно.
Столь же экзотична хроника Дуки — повествование о долгой истории падения Византии. Дука — очевидец многих событий, связанных с осадой Константинополя, если не самой осады; вероятно, видел, как испытывали большую пушку Урбана в Эдирне и как гнили тела моряков, посаженных на кол Мехмедом после того, как их корабль потопили у «Перерезанного горла». Его яркий, проникнутый духом непримиримости рассказ имеет странное завершение: он обрывается внезапно, на полуслове, на описании осады Лесбоса турками в 1462 году. Судьба самого автора, что обычно для его истории, как бы повисает в воздухе. Яркий рассказ о событиях на Лесбосе производит такое впечатление, что автор там был, и заставляет предполагать, что он прервал повествование на описании последнего поражения греков. Постигла ли его ужасная участь прочих защитников Лесбоса, которых распилили во исполнение обещания не отрубать им головы, или его продали в рабство? Он прерывает рассказ на полуслове.
Изложение истории падения Константинополя само имеет богатую историю. Предлагаемая книга опирается на длительную англоязычную историографическую традицию. Нить традиции тянется от труда Эдуарда Гиббона, написанного в XVIII столетии, к работам двух английских ученых, удостоенных рыцарского звания, — сэра Эдвина Пирса (1903) и крупнейшего специалиста по истории Византии сэра Стивена Рансимена (1965)[36], а также множеству исследований на других языках. Что касается трудностей, связанных с постижением истины, то Критовул Имбросский, человек, весьма осведомленный в истории, заметил проблему еще пятью столетиями ранее и напрямую отказался решать ее, написав об этом в посвящении Мехмеду, — мудрая мера, если обращаешься к завоевателю мира и не присутствуешь при этом лично. И когда речь идет о последующих версиях, полезно помнить его слова: «Итак, о могучий владыка, мне пришлось немало потрудиться, чтобы установить правду об этих событиях, ибо я сам не был их свидетелем. Работая над историческим трудом, я опрашивал тех, кто знал об этом, и тщательно выяснял, как все происходило… И если мои слова покажутся недостойными твоих деяний… то в таком случае я… готов уступить в деле исторического повествования тому, кто более искушен в нем, чем я».
Благодарности
Замысел этой книги возник так давно, что я обязан ее появлением на свет очень многим людям. Прежде всего это относится к Эндрю Лоуни, моему агенту, Джулиан Луз, сотруднице «Фейбер», и Биллу Стречану в «Гиперионе», поддержавшим идею публикации моего сочинения, а также к коллективам сотрудников обоих издательств, мастерам своего дела и энтузиастам, подготовившим книгу к печати.
Что касается первоначальной идеи, то я всецело обязан ею Кристоферу Триллоу, знатоку Стамбула, за то, что он убедил меня побывать там в 1973 году, и маленькой армии моих старых друзей, чьи советы помогали мне на всем протяжении работы: Эндрю Тейлору, Элизабет Маннерс и Стивену Скоффэму (они вносили ценные предложения и прочли книгу в рукописи); Элизабет Маннерс я также благодарю за фотографии стеновой живописи из монастыря в Молдовите, использованные в оформлении обложки; спасибо Джону Дайсону за огромную помощь с книгами в Стамбуле, а также за гостеприимство; благодарю Риту и Рона Мортон, принимавших меня в Греции; Рона Мортона и Дэвида Гордона-Маклеода — за то, что они сопровождали меня на гору Афон (это дало мне возможность бросить взгляд на живую византийскую традицию); Анна-Марию Ферро и Энди Кирби — за переводы, Оливера Пула — за фотографии, Афину Адамс-Флору — за сканирование изображений, Денниса Нэйша — за сведения об отливке пушек, Мартина Дау — за советы, связанные с арабской культурой и языком. Всем им я приношу глубокую благодарность. Наконец, особенно я признателен Джен — не только за совет написать эту книгу и за чтение ее в рукописи, но и за то, что ей пришлось вынести в Турции укусы собаки, и за то, что она терпит автора из года в год, относясь к нему с неизменной любовью.
Я также признателен нижеперечисленным издателям за разрешение воспроизвести значительные отрывки, включенные в данную книгу. Материалы из «Повести о Константинополе» Нестора Искандера (перевод и комментарии Уолтера К. Хейнака и Мариоса Филиппидеса) помещены с любезного разрешения Аристида Д. Карацаса, издателя («Мелисса Интернэшнл Лтд»). Материалы из книги: Бабингер, Франц: Мехмед Завоеватель и его время (1978, «Принстон Юниверсити Пресс») — воспроизводятся с разрешения «Принстон Юниверсити Пресс».
Иллюстрации
Карта конца XV в., изображающая треугольный в плане Город. Справа показаны храм Святой Софии и разрушенный Ипподром; слева — наиболее важные дороги, уходящие от стены, ограждающей Город с суши. Императорский дворец находится слева близ вершины треугольника. Над Золотым Рогом — генуэзское поселение Пера, или Галата. Анатолия (здесь — Тюркия) расположена возле правого края карты за проливом.
Мехмед — эстет и ученый. Наполовину стилизованная османская миниатюра, изображающая султана в последние годы жизни.
«Мы не знали, на земле мы или на небе»: огромный неф Святой Софии, чудеснейшего здания поздней античности.
Дворец императора во Влахернах (во время осады — штаб-квартира Константина), встроенный в одноуровневую стену, ограждающую Город с суши, неподалеку от бухты Золотой Рог. Фотография XIX в.
Фрагмент тройной стены, прикрывающей Город с суши. Виден прежде всего ряд внутренних башен, затем — менее высокие внешние башни, разрушенные при обстреле из пушек. В центре — ров, доставивший османам столько неприятностей в ходе осады; теперь он по большей части засыпан, но некогда был выложен кирпичами и имел 10 футов в глубину. Предполагалось, что если атакующие пересекут его, то окажутся на открытой террасе под сильным огнём, прежде чем смогут атаковать внешнюю стену.
Гигантская цепь с ее массивными восьмидюймовыми звеньями, тянувшаяся через Золотой Рог. Судя по этой фотографии XIX века, значительная часть ее пролежала в Городе 400 лет после осады.
Большое осадное орудие Урбана уже давно утрачено, но несколько пушек немного меньшего размера по-прежнему находятся в Стамбуле. Это массивное изделие из бронзы имеет 14 футов в длину, весит 15 тонн и стреляло 500-фунтовыми каменными ядрами.
Рисунок Беллини, современника событий, изображающий янычара в приметном головном уборе белого цвета, какие носили солдаты этих войск, с колчаном, луком и мечом. Известно, что Мехмед испытывал восхищение, смешанное с суеверным ужасом, перед способностью итальянского мастера создавать на плоском листе бумаге трехмерные изображения, выглядевшие как живые (что противоречило законам ислама).
Очаровательное изображение осады, созданное европейским художником в 1455 году. Множество ключевых событий сжато в нем в один образ. Осада Константинополя превращена в сцену из рыцарского романа, однако автор картины проявил осведомленность относительно многих деталях происходившего.
Французская переработка одного из центральных образов в истории турок: Фатих Завоеватель въезжает в Город через ворота Эдирне, сопровождаемый воинами ислама. На переднем плане — мертвые тела христиан.
Изображение Святой Софии, превращенной в мечеть Айя-София (знаменитый османский архитектор Синан пристроил к ней минареты). XVI в.
Мехмед на знаменитом позднем портрете кисти Беллини, обрамленном имперской аркой с надписью «Завоеватель мира». Однако султан выглядит мрачным и не вполне здоровым.
Дворец Константина в Мистре на Пелопоннесе — «малый Константинополь», возвышающийся над Спартанской равниной — памятник, вызывающий пронзительное воспоминание о духе Византии.
Примечания
1
Хосров II Парвиз — шахиншах сасанидского Ирана в 590–628 гг. — Здесь и далее за исключением особо оговоренных случаев примеч. пер.
(обратно)2
Имеется в виду битва при Пуатье (732 г.), где Карл Мартелл разбил войско арабов под предводительством Абд аль-Рахмана.
(обратно)3
Странное утверждение. Античные авторы считали, что аргонавты приплыли в Колхиду, где никакого Днепра, естественно, нет. В древнегреческом мифе об аргонавтах речь идет о реке Фазис (современная Риони).
(обратно)4
Описание принадлежит Митрополиту Киевскому и всея Руси Пимену.
(обратно)5
Имеется в виду сражение при Мириокефале 17 сентября 1176 года, когда турки-сельджуки во главе с Килич-Арсланом разгромили армию императора Мануила I Комнина.
(обратно)6
Жоффруа де Виллардуэн, автор интересной хроники о Четвертом крестовом походе, где отражается точка зрения его руководителей (см. Виллардуэн Ж. де. Завоевание Константинополя. М., 1993). О нем идет речь ниже.
(обратно)7
Крестоносцев попросили о помощи свергнутый в результате переворота император Исаак II Ангел и его сын Алексей. Крестоносцы, с которых венецианцы потребовали непомерную сумму за перевозку морем, под нажимом последних согласились отправиться в Константинополь; по дороге они по требованию венецианцев захватили в Далмации в 1202 году христианский город Задар.
(обратно)8
После свержения крестоносцами узурпатора Алексея III на престол вступил сын Исаака II Алексей IV. Он обещал крестоносцам за их «услуги» огромные суммы, выплата которых вызвала сильное недовольство жителей Константинополя, и без того ненавидевшего латинян. В результате вспыхнуло восстание. Алексей IV был свергнут, и власть захватил Алексей V Мурзуфл, отказавшийся платить крестоносцам. Те, возмущенные невыполнением своих «справедливых» требований, 13 апреля 1204 года взяли Константинополь штурмом (к слову сказать, лишь со второго раза, ибо первый приступ оказался неудачным), благо наемники Алексея V, которому мечем было им заплатить, должного сопротивления не оказали.
(обратно)9
Символ веры — краткое изложение христианских догматов, безусловное признание которых православная и католическая церкви предписывают каждому христианину. Сформулирован 1-м (325 г.) Никейским и дополнен 2-м (381 г.) Константинопольским вселенскими соборами. В дальнейшем католическая церковь сделала к Символу веры добавление «филиокве» (filioque), не признанное православием; см. о нем ниже.
(обратно)10
Кристофер Марло — английский поэт и драматург XVI в., автор драмы «Тамерлан».
(обратно)11
Его звали Милош Обилич. Его убили сразу после того, как он умертвил султана, к которому явился со своим товарищем под видом перебежчика. В отместку турки казнили взятого в плен сербского короля Лазаря — в том самом шатре, где нашёл смерть Мурад I.
(обратно)12
Правителем.
(обратно)13
Речь идет о тексте «Символ веры» — одной из главных христианских молитв. В русской православной традиции приведенный фрагмент выглядит следующим образом: «И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, иже от Отца исходящего, иже со Отцем и Сыном споклоняема и сославима».
(обратно)14
Автор ошибается: как раз в Киеве, а также в Смоленске отношение к унии было терпимым, а в заточение Исидор попал в Москве, где его посадили «за приставы» в Чудовом монастыре на четвертый день после приезда.
(обратно)15
Этот тип изображения — фигура с поднятыми в жесте моления руками — в христианской иконографии называется «Оранта».
(обратно)16
Центнер в Англии = 50,8 кг, в США = 45,3 кг.
(обратно)17
Согласно другой трактовке, штурм предприняли просто для изматывания осажденных, поскольку иррегулярные войска ценности для султана не представляли.
(обратно)18
«Кирие элейсон» — «Господи помилуй» (греч.).
(обратно)19
Явное недоразумение: у Нестора Искандера, на которого ссылается автор, сказано: «И так сечахуся, имаяся за руки на всех стенах», т. е. так они бились, сражаясь врукопашную на всех стенах (см.: Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV века. М., 1982. С. 226).
(обратно)20
При этом, однако, Нестор Искандер исчисляет потери оборонявшихся в тысячу семьсот сорок греков и семьсот итальянцев и армян, тогда как Барбаро пишет, что из них не погиб ни один.
(обратно)21
«Двойные колонны» (греч.).
(обратно)22
Подобного рода сюжеты восходят еще к античности — римский полководец Квинт Цецилий Метелл Пий (I в. до н. э.), когда его спросили о планах на следующий день, ответил: «Если бы моя туника могла заговорить, я бы ее сжег».
(обратно)23
Так Нестор Искандер именует греческого воина.
(обратно)24
Последняя служба в течение дня в христианской церкви.
(обратно)25
Точнее, 1140. Битва у Мульвийского моста произошла в 313 году.
(обратно)26
Вулкан на одном из островов Зондского архипелага, об извержении которого упоминается ниже. Оно было столь сильным, что в Джакарте, расположенной в ста пятидесяти километрах от него, рушились дома. В атмосферу было выброшено восемнадцать кубических метров вулканической пыли, оседавшей в радиусе пяти тысяч трехсот километров.
(обратно)27
Английский галлон равен 4,54 л.
(обратно)28
Видимо, ошибка — Миланом управляли в то время герцоги.
(обратно)29
Имеется в виду Форум Быка в Константинополе.
(обратно)30
Очевидно, это не касается покровов, которые переплавить нельзя.
(обратно)31
Согласно иной версии, Исидор обменялся платьем с нищим, которого и казнили по ошибке вместо него.
(обратно)32
По другой версии, Орхан попал в плен, был узнан и немедленно обезглавлен.
(обратно)33
Мф. 3. 10.
(обратно)34
Явное недоразумение: Ганнибал воевал с Римом не за мировое господство, а в лучшем случае за власть Карфагена в Западном Средиземноморье.
(обратно)35
Заочно.
(обратно)36
Существует русский перевод этой книги: Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 году. М., 1983.
(обратно)



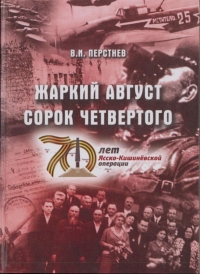
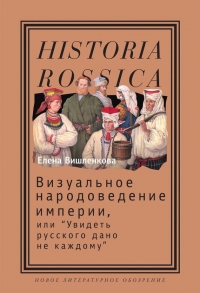

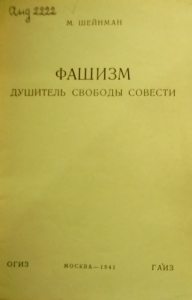
Комментарии к книге «Константинополь. Последняя осада. 1453», Роджер Кроули
Всего 0 комментариев