Е.А.Мельникова. Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе
Редакция исторической литературы
Рецензенты:
кандидат исторических наук В. Я. Петрулин
кандидат филологических наук О. А. Смирницкая
Памяти моего учителя и друга
Константина Валериановича Цуриноза
Предисловие
Лето 1939 г.— второй сезон раскопок небольшой группы курганов поблизости от местечка Саттон-Ху в графстве Суффолк — ознаменовалось поразительным открытием. Находки превзошли все ожидания. Даже самая предварительная оценка результатов раскопок показала, что свершилось событие едва ли не важнейшее в истории английской археологии.
В трехметровом кургане, самом крупном среди пятнадцати, возвышающихся на крутом берегу р. Дебен при ее впадении в море, были обнаружены остатки корабля с большим количеством оружия, предметов домашнего обихода, золотых и серебряных украшений (рис. 1). Размеры корабля — около 27 м — превышали все известные до этого времени находки, сделанные по преимуществу в Скандинавии: корабль из Гокстада (24 м), из Усеберга (21 м) и др.1 Характер комплекса не оставлял сомнения в том, что это погребение, хотя останки погребенного не были найдены ни тогда, ни при повторных раскопках в 1967 г. На одном из блюд было обнаружено лишь небольшое количество пепла и обгоревших костей, совершенно недостаточное для погребения. Предполагалось, что органические останки могли раствориться в почве без видимых следов. Поэтому в 1967 г. было взято около 3000 проб грунта, но и они не дали ответа на вопрос.
Расположение кургана и захороненные в нем предметы заставляли вспомнить строки знаменитой англосаксонской поэмы «Беовульф»:
...насыпали гауты
курган высокий над прахом владыки,
бугор могильный, заметный издали,
море скитальцам знак путеводный.
Ограду крепкую
вокруг могильника
они воздвигли, из камня стены,
мужи искусные. Захоронили
в холме сокровища, добычу битвы,
витые кольца...
Великолепие предметов и мастерство, с которым они были изготовлены, а также несомненное сходство с богатыми скандинавскими курганами вендельской эпохи (VII—VIII вв.), казалось бы, говорили о достаточно позднем происхождении погребения — времени датского господства в Англии (после VIII в.). Однако в кошельке с крышкой из слоновой (или моржовой) кости (рис. 2) было найдено около сорока монет, которые позволили относительно точно датировать погребение первой половиной VII в. Курган был насыпан в эпоху, которую часто называли «темным временем», имея в виду период между падением римской цивилизации и сложением феодальной культуры в Западной Европе в XI— XII вв. Забвение достижений античной техники и культуры, упадок городов и ремесел, хаос мелких раннефеодальных государств, подавление авторитетом церкви малейших проявлений самобытности в духовной жизни— так рисовалась долгое время мрачная картина раннесредневековой Европы.
И вот в Англии первой половины VII в., стране, отдаленной от центров европейской цивилизации, населенной варварами, еще только приобщавшимися к новой христианской культуре, были отлиты грациозные фигурки оленей (рис. 3), вычеканен шлем с изображениями воинов-копьеносцев и батальными сценами (рис. 4), сделаны пряжки, богато орнаментированные причудливыми переплетениями полос, чаши и блюда с пышным растительным узором. Корабль, оставивший ясные следы на земле, хотя само дерево и истлело, представлял собой мощное сооружение, не уступавшее известным кораблям викингов, построенным через два-три столетия. Все находки указывали на общество с богатой духовной культурой и высоким уровнем материального развития.
Необычайное по своей роскоши захоронение в Саттон-Ху (как выяснилось позже, одного из восточноанглских королей, вероятно, Рэдвальда, умершего в 624 или 625 г.3), совмещающее черты языческого и христианского погребальных обрядов, заставило по-новому взглянуть на всю англосаксонскую культуру. Благодаря ему стали очевидны сложность, многообразие и богатство духовной жизни и культуры англосаксов уже в VII в.
Находки в Саттон-Ху явились сенсацией как для широкой публики, так и для специалистов: ведь они требовали существенных переоценок начального периода английской истории. Они были неожиданностью, и тем не менее их можно было предвидеть. Для этого было достаточно оснований, стоило лишь обратиться к богатейшей эпической традиции англосаксов. Героические песни и предания, которым отказывали не только в правдивости, но и в правдоподобии, воспевали и прославляли тот самый мир, малая частица которого приоткрылась глазам археологов и историков в то предвоенное лето.
Англосаксонское общество глазами историка
«...Получив от короля приглашение, племя англов, или саксов, отправляется на трех кораблях в Британию и занимает для стоянки место в восточной части острова по приказу того же короля, как бы собираясь сражаться за родину, а на самом деле — для ее завоевания... Говорят, что их предводителями были два брата, Хенгест и Хорса; Хорса позднее был убит на войне с бриттами, и в восточной части Кента до сих пор есть памятник в его честь»—так рассказывает прославленный историк, ученый и писатель VIII в. Бэда Достопочтенный о начальной странице истории англосаксонской Англии (Бэда, р. 34—35). Ни он сам, ни другие хронисты, использовавшие ту же традицию, не сомневались в ее достоверности. Да и современные историки не склонны подвергать ее сомнению, тем более что и археологические, и другие материалы подтверждают появление германцев на Британских островах примерно в это время. И все же... Если вспомнить, что и Русская земля пошла, по свидетельству летописца, от призванных из-за моря трех братьев, Рюрика, Синеуса и Трувора, и Польское государство было создано призванным на правление Краком, а в англосаксонской эпической поэме «Беовульф», как и в скандинавской саге о датских конунгах («Сага о Скьёльдунгах»), повествуется о приплывшем из заморья основателе первой датской королевской династии Скильде Скевинге (скандинавское — Скьёльд), то это сообщение предстает в несколько ином свете. Легенда о призвании первых правителей открывает «историческое существо-ванне» многих европейских народов. В ней смыкается эпическое и историческое прошлое, но она же знаменует и начало собственно исторического времени.
Современные историки выделяют два периода в развитии англосаксонской Англии (середина V — середина XI в.), рубежом между которыми был IX век. Ранний период рассматривается как время разложения родоплеменного строя и зарождения элементов феодальных отношений в экономике и социальной структуре общества. Начавшееся на исходе VIII в. вторжение скандинавов, приведшее к захвату ими значительной части Англии, с одной стороны, на некоторое время замедлило темпы феодализации, с другой — способствовало консолидации ряда варварских королевств в единое раннефеодальное английское государство. На протяжении X — первой половины XI в. (в 1066 г. Англия была завоевана войском Вильгельма, потомка скандинавских викингов, герцога Нормандии, вассала французского короля) происходит постепенное вызревание феодальных отношений: становление классов феодалов и зависимых крестьян, феодальной собственности на землю, системы государственного управления, военной организации, церкви и т. д. И хотя процесс феодализации не был завершен к моменту нормандского завоевания, Англия X — первой половины XI в. представляла раннефеодальное государство. Но вернемся к истокам англосаксонской Англии.
Северогерманские племена англов, саксов и ютов начали переселяться на Британские острова в середине V в. До этого времени, с I в. н. э., Британия, населенная пиктами и кельтскими племенами (бриттами и скоттами), была римской провинцией. Легионеры основали здесь укрепленные поселения, остатки которых сохранились в некоторых местах и до сих пор, так же как и названия на -честер и -кастер (от латинского castrum — «укрепленный лагерь») выросших затем городов.
Они построили разветвленную сеть дорог, связывающих укрепленные пункты; наконец, создали несколько мощных оборонительных линий, протянувшихся на несколько десятков километров, которые должны были охранять «римскую Британию» от местных племен пиктов и скоттов.
В начале V в. гибнущий под ударами готов Рим вынужден был отозвать остатки своих войск из Британии. В 409 г. в ответ на призыв бриттских вождей оказать им помощь против наступления пиктов император Гонорий посоветовал им защищаться самим, насколько это удастся (Бэда, р. 28). Судя по развернувшимся далее событиям, реконструируемым из разрозненных крупиц информации в более поздних источниках, бритты не слишком преуспели в этой борьбе. Уже во второй четверти V в. они оказались перед необходимостью искать наемные силы для отражения нападений пиктов и скоттов.
О событиях этого времени рассказывают источники различного времени и жанров. Среди них важнейшими являются три: гневное обличение падения христианских нравов, написанное кельтским монахом Гильдасом, -О гибели и покорении Британии» (около 548 г.), ученая хроника Бэды Достопочтенного «Церковная история англов» (VIII в.) и светская «Англосаксонская хроника», которая начала составляться лишь в конце IX п., но в которой, видимо, были использованы более ранние записи, в частности в пасхальных таблицах. Гильдас, не называя имен и дат, патетически восклицает: «Яростные саксы, навеки ужасающей памяти, были допущены на остров, как множество волков в стадо овец, чтобы защищать их от северных народов. Ничего сокрушительнее и пагубнее никогда не совершалось в этом королевстве. О, затмение и тупость разума и понимания! О, скудоумие и глупость этих душ!» (Гильдас, р. 30). Историческая информация у Гильдаса, разумеется, скудна. Но все же Гильдас — современник последнего этапа германского завоевания Англии,— хотя и крайне смутно, подтверждает более подробные, но более поздние источники.
В целом же вырисовывается достаточно ясная картина англосаксонского завоевания Британии. Не выдерживая натиска пиктов и ведя постоянные междоусобные войны, бритты, а если следовать Бэде и другим письменным источникам, вождь одного из бриттских племен (или союза племен) по имени Вортигерн, призвали на помощь германцев. В этом Вортигерн последовал установившейся еще в римское время традиции: археологические раскопки на юго-востоке Англии показали, что отдельные — немногочисленные — поселения и могильники германцев встречаются уже в конце IV в. вдоль дорог и у стен римских городов и укреплений (Йорка, Анкастера и др.). В виде платы за службу наемники получали земли, на которых могли поселиться. Пять последовательных записей в «Англосаксонской хронике» под 455—473 гг.1 говорят о начавшемся конфликте между Хенгестом и Вортигерном: видимо, германцы вышли из повиновения и начали действовать уже в собственных интересах, а не в интересах местной знати; об основании Хенгестом королевства в Кенте и о широких военных действиях Хенгеста и его сына Эска (Хорса погиб в сражении с Вортигерном в 455 г.) против бриттов, которые «бежали от англов, как от огня» (473 г.).
Следующая группа сообщений хроники относится к 477—491 гг., когда появляются новые отряды германцев, которых, как кажется, уже никто не приглашал. Они прибывают с семьями, захватывают земли на юго-востоке и востоке страны, основывают поселения и ведут непрекращающуюся борьбу с кельтским населением2. Именно к этому времени относится деятельность легендарного короля Артура, одного из кельтских вождей, оказавшего ожесточенное сопротивление германским находникам. Вплоть до середины VI в. продолжается массовое переселение. Это уже не эпизодические набеги, не дружинная служба и не оседание небольших отрядов, а массовая колонизация южной и средней Англии. Ныне известно более 1500 могильников с 50 000 захоронений англосаксов, относящихся ко времени до 600 г.— таков был масштаб этой колонизации3.
Особую остроту их борьбе с местным населением придавало то, что германцы стремились поселиться в местах с наиболее плодородными почвами, избегая гористых и болотистых территорий. Но именно здесь и жили кельты. Поэтому германцы изгоняют местных жителей с освоенных ими земель. Археологи находят немало заброшенных, разоренных, преданных огню кельтских поселений, свидетельствующих о разгоревшейся здесь борьбе. Тесня бриттов на запад и север (Уэльс, Корнуолл), германцы основывали свои селения, иногда использовали остатки римских укреплений (большая же их часть погибла, и жизнь в них не возобновлялась). Поселения германцев к середине VI в. заняли всю южную и среднюю Англию до Хамбера на севере4. Все же и в области их основного расселения какая-то часть кельтского населения уцелела: данные аэрофотосъемок говорят о сосуществовании в Сассексе и Йоркшире полей кельтского и германского типов, а в судебниках и повествовательных памятниках упоминаются бритты, правда, как несвободные, находящиеся в зависимости от германцев.
Кто же были эти «яростные саксы» и откуда они пришли? Бэда и вслед за ним другие авторы называют три «народа», участвовавших в завоевании Англии: англы, саксы и юты. Локализация этих германских племен на континенте основывается на сообщениях римских историков, в первую очередь Тацита, и на данных археологии: юты, как считается, обитали на Ютландском полуострове (вопрос об их локализации до сих пор остается спорным), англы — на юге Ютландии, саксы — между низовьями Эльбы и Везера.
Видимо, в заселении Англии приняли участие также фризы, населявшие южное побережье Северного
моря, и, возможно, небольшое количество франков. Далее Бэда указывает, что англы заселили восточную Англию, саксы — южную, а юты заняли Кент. Однако археологические материалы не подтверждают строгого разграничения областей расселения каждого из племен. По остроумному замечанию английского историка П. Блэра, это сообщение скорее свидетельствует об упорядоченности мышления Бэды, нежели об упорядоченности расселения5. Все попытки археологов выделить специфические племенные черты в материальной культуре переселенцев оказались тщетными. Сходство обычаев, предметов быта, вооружения, типов жилищ; возникло, видимо, еще в период великого переселения народов (IV—V вв.), когда племенные различия между англами и саксами, а в значительной степени и между ютами начали стираться. В ходе же завоевания остатки этнических признаков быстро сгладились6. Поэтому даже немногие виды вещей, этническая принадлежность которых кажется установленной, как выяснилось в последние годы, имеют значительно более широкое распространение, нежели территории, указанные Бэдой. Так, «англские» броши были найдены в Кенте, а «кентские» украшения встречаются и в Восточной Англии. Установить же различия в такой важной категории массовых находок, как керамика, на которой основываются хронологические и этнические построения археологов, не представляется возможным.
Таким образом, есть основания говорить не только о культурной близости племен, заселивших Англию, но и об их относительно смешанном расселении, хотя — и здесь Бэда прав — на отдельных территориях преобладали переселенцы различной племенной принадлежности. Наибольшее своеобразие как в культуре, так и в социальной структуре общества обнаруживает лишь Кент.
Стирание племенных различий, которые уже во времена Бэды, видимо, ощущались мало, подготовило почву для сравнительно быстрого формирования единой культуры на всем пространстве, занятом германцами. Сам Бэда, при всем его стремлении к точности, употребляет этнонимы «англы» и «саксы» как взаимозаменяемые. В конце же IX в. король Альфред Великий,' представитель западносаксонской (уэссекской) династии, объединившей большую часть Англии под своей властью, называет свой язык «англским» (английским), а своих подданных — жителей и южной, и средней Англии — «англичанами».
Военно-колонизационный характер переселения англосаксов на Британские острова определил особенности экономического освоения новых земель, их политического устройства, социальной структуры общества. Под предводительством племенных вождей (в латиноязыч-ных источниках их обычно называют rex — «король»), обладавших организованной военной силой — дружинами, в борьбе с местным населением и другими группами переселенцев формировались небольшие территориальные объединения, подчиненные власти «короля».
Политическая карта Англии времени завоевания практически неизвестна. Лишь около 600 г. вырисовывается еще довольно смутно картина политического членения освоенных германцами земель. Появляются сведения о существовании примерно 14 «королевств» (как их называют Бэда и другие авторы), 10 из которых размещались в южной Англии (см. карту 1). Среди них ведущее положение занимают саксонские по преимуществу Уэссекс и Эссекс, англские Мерсия и Восточная Англия, ютский Кент. На севере выделяется Нортум-брия. Ранние английские «королевства» — это уже не племенные, а территориально-политические образования. Однако их нестабильность, неупорядоченность власти и всей системы управления, которая лишь вырабатывается в этот период, не позволяют говорить о них как о сложившихся государствах. Это были так называемые варварские королевства, типичные для периода, переходного от племенной к государственной организации общества.
На протяжении VII—VIII вв. между королевствами идет непрерывная борьба за главенство. Они то расширяются, поглощая более слабых соседей, то уничтожаются более сильным противником, в свою очередь включавшим их в свою сферу влияния. К IX в. политическое положение несколько стабилизируется: окончательно исчезают такие объединения, как Линдсей, Дейре и др. Семь раннефеодальных государств делят южную и среднюю Англию. Их соперничество продолжается, но браки между членами королевских семей, политические союзы, взаимные обязательства все теснее связывают их в одно целое, тем более что ни в материальной, ни в духовной культуре отдельных областей принципиальных различий не имелось. Единые процессы феодализации протекают и в социально-экономической жизни англосаксонских королевств.
На пороге завоевания англы, саксы и юты переживали последнюю стадию родо-племенного строя. Имущественное расслоение общества сопровождалось выделением родовой знати, сосредоточением властз в руках племенных вождей, которые обладали ею не только в военное, но и в мирное время, хотя власть вождя еще в значительной степени ограничивалась советом знати (старейшин). Основная масса населения была представлена свободными общинниками, которые составляли также и войско племени. Рабы, захваченные в военных предприятиях пленники, не составляли значительной прослойки.
Завоевание Англии сильно ускорило общественное развитие переселенцев. В первую очередь оказались подорванными родо-племенные связи в среде свободных общинников. Древнейшие судебники в Кенте («Законы Этельберта», ок. 600 г., «Законы Уитреда», 695 или 696 г.), в Уэссексе («Законы Инэ», между 688 и 695 гг.) и в других королевствах дают достаточно свидетельств того, что к началу VII в. основной хозяйственной ячейкой постепенно становится малая семья. Устанавливается индивидуальная ответственность за любое правонарушение. «Законы Уитреда» (§ 12) отмечают, что муж, впавший в язычество (как раз в это время в стране вводится христианство), «должен быть лишен всего своего имущества», и только если к муж, и жена предались идолопоклонству, должно быть конфисковано все имущество семьи. Так же и в случае воровства: «Если кто-нибудь украдет, однако его жена и дети не будут знать об этом, пусть он уплатит штраф 60 шиллингов. Если же он украл с ведома всех своих домашних, они все должны перейти в рабство» («Законы Инэ», § 7; 7,1).
О происходившем переходе от большой семьи к малой говорят и археологические материалы. Поселения, как правило, состоят из одного-двух больших домов площадью 40—60 кв. м (в Чэлтоне, например, был обнаружен дом размером 24,4x5,1 м) с несколькими массивными столбами, поддерживавшими крышу, и иногда с одной внутренней перегородкой. Остальные — небольшие постройки без столбов и перегородок. Их размеры колеблются от 6 до 20 кв. м. Предполагают, что часть из них служила жилищами для малых семей, часть была хозяйственными постройками: мастерскими, кладовыми и т. д. Большие же дома были местом собраний, коллективных пиров, т. е. общественными зданиями. Все малые дома углублены в землю, в жилых постройках находят очаги. Двери обычно распо-
ложены в длинной стене, а в больших домах — по две двери друг против друга'. Иногда комплекс построек, жилых и хозяйственных, был обнесен оградой, от которой остались следы столбов. Это позволяет предполагать, что существовали отдельные усадьбы в составе деревни; о них упоминают и судебники, которые устанавливают штрафы за насильственное вторжение «во двор» («Законы Этельберта», § 17), а в конце VII в. «Законы Инэ» (§ 40) даже обязывают человека держать свой двор огороженным зимой и летом.
Это несомненные признаки постепенной утраты родом значения основной хозяйственной единицы. Однако вековые установления изживались медленно, и элементы родовой организации продолжали существовать длительное время. В первую очередь кровные родичи сохраняли право на получение штрафа — вергельда за убийство сородича; в некоторых случаях, например при бегстве убийцы, родичи должны были заплатить за него вергельд семье убитого («Законы Этельберта», § 23). В юридической компиляции «О вергельдах» (§ 5), составленной в конце X или начале XI в., но включившей материалы VII в., выделены основные категории родственников, участвовавших в выплате и получении. вергельдов. Ближайшую группу сородичей составляли три поколения по нисходящей и боковой линиям: дети лица, о котором идет речь, его братья и дяди по отцу; более дальними, но также имеющими право на вергельд были племянники и дяди по материнской линии, двоюродные братья. Все вместе они образовывали «род». Ближайшие родичи играли определенную роль при наследовании имущества: по кентским законам, бездетная вдова лишалась «имущества», которое переходило к родне мужа, осуществлявшей также и опеку над имуществом при наличии малолетних детей («Законы Уитреда», § 36; «Законы Хлотаря и Эдрика», § 6, последняя четверть VII в.).
Одним из важнейших реликтов родового строя, нашедших наибольшее отражение в героическом эпосе, была кровная месть. Судебники законодательным путем стремятся заменить ее системой штрафов и тем самым изжить из повседневной практики. Однако даже законы VII — IX вв. вынуждены признать право кровной мести, например в тех случаях, когда убийца или его сородичи не могут выплатить вергельд («Законы Инэ», § 74,1).
Королевская власть в известной степени поддерживала сохранение юридической ответственности рода за некоторые правонарушения, повышая роль родовой
организации в поддержании общего мира и социального порядка. Поэтому реликты родового строя дожили вплоть до нормандского завоевания в середине XI в., хотя в самой существенной сфере — землепользовании— они были вытеснены значительно раньше.
Установление форм земельной собственности также было в значительной мере определено ходом завоевания страны. Хотя отдельные группы переселенцев представляли кровнородственные коллективы, восстановить семейные общины, как они существовали на континенте, не представлялось возможным. Теперь формирование общин происходило в процессе длительного чересполосного расселения разных племен и родов. Это была уже сельская община, состоявшая к началу VII в. преимущественно из малых семей. Она сохраняла право собственности на сообща занятую часть земли, которая стала называться фольклендом (народной землей) и включала как пахотные земли, так и угодья, пастбища, леса, реки, находившиеся в общем пользовании. Но уже в VII в. судебники допускают существование личных участков на общинной земле («Законы Инэ», § 42), хотя они тем не менее оставались собственностью общины. Их нельзя было завещать, тем более не допускалась продажа и передача постороннему лицу земель, входящих в фолькленд. Поэтому важнейшая предпосылка формирования феодальной собственности на землю — свободно отчуждаемые земельные наделы — в сфере фолькленда возникала медленно8.
Однако к X в. положение меняется. Преобразуются как сама община, так и формы землевладения общинников. Судя по памятникам IX — XI вв., возникает индивидуальная собственность общинника на земельный надел. Пахотные земли начинают передаваться по наследству, они могут быть и проданы. В договоре между англичанами и скандинавами 991 г. подтверждается право частной собственности на землю: «И покупка земли, и пожалование господином (земли), которую он имеет право дарить... (все) это пусть будет прочно, так чтобы никто не мог это нарушить» (§ III,3). В коллективной собственности общины, которая постепенно становится соседской, находятся лишь леса, луга и другие угодья.
Более интенсивно становление частной собственно-
сти на землю происходило в сфере королевского землевладения. После переселения племенной вождь — король становится верховным распорядителем земли, на которой расселяется пришедшее с ним население. В борьбе с другими группами переселенцев, имеющими собственного вождя, он подчиняет себе определенную территорию — «королевство», наделяет землей членов своего рода, представителей других знатных родов, дружинников. Часть земли образует королевское владение, домен, который уже в начале VII в. в королевских грамотах называется «моя земля». Власть короля распространяется и на общинные земли. На них он чинит суд, собирает подати, поэтому общинные земли в королевских грамотах VII в. обозначаются как «земли моего суда» или «земли моего управления». Установление верховной собственности короля на землю быстро привело к развитию элементов феодального землевладения. Уже в первые десятилетия VII в. распространяется практика пожалования королем земли в управление— кормление. Такая земля стала называться «бок-ленд» (от Ьбс — «грамота»). На деле это означало передачу королем другому лицу власти над свободными общинниками, живущими на этой земле. Человек, пожалованный боклендом,— глафорд получал право на сбор податей, на осуществление суда и взимание судебных штрафов, т. е. осуществление здесь королевских прерогатив. Часть поборов и штрафов он мог оставлять себе как плату за «труд».
Условия предоставления бокленда и объем прав его владельца были весьма разнообразны. В некоторых случаях бокленд давался навечно, и глафорд мог продать или передать по наследству всю землю или ее часть (грамоты № 77, 194). В других случаях бокленд жаловался пожизненно и лишь при условии несения за него военной службы; после смерти глафорда земля вновь возвращалась королю. Иногда бокленд освобождался от ряда или от всех повинностей, т. е. его владелец получал иммунитетные права (например, грамота № 51).
Как правило, такие пожалования получали представители светской знати, а также — по мере распространения христианства — церкви и монастыри. В первых же грамотах, датированных началом VII в., утверждаются земельные пожалования монастырям: принявший на рубеже VI и VII вв. христианство король Кента Этель-берт дарит земли монастырю св. Андрея (грамота № 3),. вновь основанному монастырю св. Петра (грамота № 4) и др. Верховное право короля на распоряжение землей
закреплено судебниками и становится правовой нормой. В то же время вплоть до IX в. бокленд, как правило, не мог отчуждаться из рода человека, которому он был пожалован. При отсутствии у него наследников земля возвращалась королю и либо присоединялась к королевскому домену, либо передавалась иному лицу.
Уже с середины VIII в. бокленд связывается с обязанностью нести военную службу. В грамотах все чаще оговаривается «тройная повинность», которую обязан выполнять получатель бокленда, будь то представитель светской или церковной знати: он должен являться с соответствующим вооруженным отрядом в ополчение, участвовать в восстановлении крепостей и в строительстве мостов. Вот, например, король Инэ жалует землю Винчестерскому епископству (707 г.): «Я, Инэ... возвращаю Винчестерской церкви... некоторую часть селения в 40 дворов в месте, называемом Алрес-форд... Пусть пребывает вышеназванное селение свободным от бремени всех земных служб, исключая трех: участия в ополчении и в восстановлении мостов и крепостей» (грамота № 102). Король оставляет за собой право отобрать бокленд, если его получатель уклоняется от выполнения этих обязанностей.
В конце IX—X в. владельцы бокленда получают все больше прав на свободное распоряжение землей. Если земля была дана «навечно» и с правом распоряжаться ею «по своему усмотрению», однако с обязательным несением воинской службы (а таковы формулы большинства пожалований монастырям и многим светским лицам этого времени), то ее собственник получал возможность продавать или передавать ее любому лицу. В 875 г. некий Эардульф передал Вигхельму землю, «свободную во всех отношениях», с «правом завещать ее, кому пожелает», за плату в «120 манкузов чистейшего золота» (грамота № 192).
В связи с изменением характера земельной собственности и по мере имущественного расслоения существенно изменяется и усложняется социальная структура англосаксонского общества по сравнению со временем завоевания. В середине V в. оно по преимуществу состояло из массь! свободных общинников, над которыми возвышалась еще окончательно не оторвавшаяся от их среды родовая знать. Внизу социальной лестницы стояла небольшая по численности прослойка рабов.
К началу VII в. картина усложняется. Ее довольно
подробно освещают судебники, которые определяют размеры штрафов за различные правонарушения в зависимости от социального положения потерпевшего. Древнеанглийские судебники отражают развитую стратификацию общества с тщательной градацией социальных статусов внутри трех основных категорий населения: несвободных, свободных общинников, знати. В выделении и юридическом статусе отдельных категорий населения наблюдаются некоторые различия в Кенте и Уэссексе, Мерсии и Восточной Англии. Разнятся размеры штрафов, иногда их соотношение; отличается и терминология судебников: например, обозначение одной из категорий несвободных — эснов — встречается только в Кенте. Поэтому многие конкретные вопросы и терминологии и интерпретации некоторых статей судебников дискуссионны.
Слой несвободных насчитывает несколько категорий: рабы, зависимые, полузависимые и т. д. Основным источником рабов в период завоевания Британии был захват пленных: местных жителей — кельтов, а временами и побежденных в междоусобных войнах жителей других королевств.
Но в X — XI вв. по мере становления феодальной собственности на землю и усиления эксплуатации свободных общинников, которые были обязаны платить подати и исполнять определенные виды работ на собственника земли, часть из них разорялась, утрачивала свои земельные наделы. Обезземеленные крестьяне, лишаясь прав свободного человека, попадали в зависимость. Превращался в раба к тот свободный общинник, который не мог уплатить подать или судебный штраф, если в течение года его родственники не вносили соответствующую, компенсацию. В голодные годы, особенно тяжелые для простых земледельцев, распространялась продажа в рабство детей или обедневших родственников. Поэтому число зависимых в Англии постепенно росло, и главным резервом для их пополнения были свободные рядовые общинники9. Однако процесс этот происходил медленно, и даже еще в 1086 г., когда по распоряжению новых, нормандских правителей составлялась перепись населения — «Книга Страшного суда», до 15% крестьян в Англии сохраняли землю и личную свободу. Это означало, что и ко времени нормандского завоевания феодализация английского общества еще не была завершена. Тем не менее многие элементы феодального уклада отчетливо проявляются уже в X в.
По мере формирования феодальной земельной собственности рабство, существовавшее ранее в патриархальных формах, утрачивает свое значение. Хотя термин «раб» продолжает употребляться и в X, и в XI вв., содержание его меняется. Судебники X — первой половины XI в., а также другие документы показывают, что большинство зависимых людей, обозначаемых этим словом, не могут считаться собственно рабами. Уже в VII в. появляются первые сведения о «рабах», имеющих надел земли, который они обрабатывают, выплачивая оброк и неся другие повинности (в первую очередь барщину). С IX в. этот термин обозначает в основном лично зависимых земельных держателей, и сохранение его — скорее дань консерватизму терминологии, нежели отражение реального положения вещей. Учащаются сведения о рабах, отпущенных на свободу. Судебники оговаривают процедуру предоставления свободы, многие завещания содержат пункты об освобождении рабов, которые, становясь вольноотпущенниками, сохраняли зависимость от своего прежнего господина.
Положение зависимых крестьян было тяжелым. В своих «Беседах» писатель и церковный деятель конца X — первой половины XI в. Эльфрик устами пахаря, который называет себя «несвободным», рассказывает: «На заре я выхожу, впрягая волов в плут, и принуждаю их к пахоте. Не бывает столь плохой погоды, чтобы я осмелился прятаться в доме, ибо боюсь своего господина. Но когда волы запряжены и лемех и резец надеты на плуг, я должен каждый день вспахивать целый акр и более... Я должен наполнять ясли волов сеном и поить их и вычищать навоз...»10 Хотя признавалось право зависимого человека работать на себя, а также получать от господина надел земли, с которого он должен был платить оброк, барщинный труд был велик, и составители судебников стремились несколько ограничить эксплуатацию несвободных, пусть и в рамках соблюдения церковной дисциплины, требовавшей неукоснительного соблюдения воскресного отдыха: «Если эсн исполняет рабскую работу по приказу господина с захода солнца в субботу до заката [накануне] понедельника, его господин должен уплатить 80 шиллингов» («Законы Уитреда», § 9). «Законы Инэ» прибегают к еще более жестким мерам: «Если раб будет работать в воскресенье по приказу своего господина, то да будет он свободным, а господин пусть уплатит штраф в 30 шиллингов» (§ 3).
Но в целом несвободный нередко приравнивался к
имуществу или скоту. Ие случайно в описях лично зависимые люди часто перечисляются вместе с инвентарем и скотом: «...13 мужчин, способных к труду, и 5 женщин, и 8 юношей, и 16 волов...»11
Все судебники, начиная с древнейших, борются с бегством несвободных, видимо самой распространенной формой социального протеста. В «Законах Инэ» предусматривается случай, когда преступление совершил человек, бежавший от своего господина. Он подлежит повешению (§ 24). По «Законам Этельстана» (924— 939 гг.) беглый, будучи пойман, должен быть забит камнями/ Укрывательство и помощь скрывающемуся несвободному, даже незольная, карается большими штрафами; особенно высоко наказание за предоставление беглому оружия или коня («Законы Инэ», § 29).
Разложение общинной организации и развитие частной собственности на землю вели к росту социального расслоения и в среде свободных. В VI—VIII вв. стратификация общества углубляется, возникает все больший разрыв между знатью и свободными общинниками— кэрлами. По «Законам Этельберта» вергельд за убийство кэрла был равен половине вергельда эрла, представителя одной из категорий знати (§ 13—16). К концу VII в. это соотношение меняется, и вергельд кэрла становится равен 7з вергельда эрла («Законы Хлотаря и Эдрика», § 1, 3). В то же время в Уэссексе в соответствии с «Законами Инэ» вергельд рядового общинника соответствует lU вергельда эрла (§ 5).
В VII — VIII вв. свободные общинники-кэрлы имели пахотные наделы земли в личном пользовании и обладали всеми правами свободного человека. Они посещали народные собрания, выполняли военные обязательства, получали компенсацию за вторжение в дом или усадьбу, могли иметь рабов и других зависимых, были вольны покидать свой участок земли и переходить на другое место. Подавляющее большинство установлений судебников VII — VIII вв. посвящено охране прав кэр-лов: их жизни, чести, имущества, рабов, безопасности усадьбы. В то же время кэрлы несли и многочисленные обязанности. В первую очередь это уплата податей королю, если кэрл имел усадьбу на территории королевского домена, или собственнику земли, а также церковной десятины. Кэрлы несли воинскую повинность, служа в ополчении и составляя основную массу пешего войска. Кроме того, они участвовали в задержании преступников, выступали в суде в качестве истцов и свидетелей, наконец, вели торговлю, как местную,
так и международную. Таким образом, в VII — IX вв. кэрлы составляли основу общества.
Размер земельного надела варьировался в очень широких пределах. Средний надел составлял одну-две гайды пахотной земли (гайдой назывался участок пахотной земли, который можно было обработать одной упряжкой из четырех пар волов). В источниках упоминаются и более зажиточные кэрлы: например, в грамоте Этельреда (984 г.) назван «крестьянин», владевший восемью гайдами. С конца VIII в. допускается изменение социального статуса кэрла, владеющего пятью гайдами земли: он получает больший вергельд—1200 шиллингов вместо 600, т. е. приравнивается к тзну, что было связано и с изменениями в организации войска. Кэрл, владеющий таким наделом в третьем поколении, приобретал наследственный статус тэна (первоначально этот термин обозначал дружинников, слуг, позднее он был распространен на всех представителей привилегированной части общества). Тэном становился и купец, «трижды плававший за море» («Законы северных людей»^ 9, 11; «О светских различиях и законе», § 2).
Но такие случаи были нечасты. Значительно более распространенным был процесс обеднения кэрлов и постепенной утраты ими независимости. С VII в. в Англии возникает практика патроната: материальная необеспеченность, невозможность выплатить долг или штраф вели к тому, что свободный общинник попадал в личную зависимость, временную или постоянную, от человека, который оказывал ему покровительство. Возможно, часть патронируемых получала от господина земельный надел и попадала в поземельную зависимость. В таком случае бывший свободный общинник мог быть лишен свободы передвижения, права на его имущество и вергельд переходили к патрону. По «Законам Уитреда» (§ 8, ср. «Законы Инэ», § 39, 62, 70) он должен был выполнять определенную работу в пользу патрона. Формы зависимости были чрезвычайно разнообразны и включали денежные налоги, продуктовые оброки, различные формы барщины. Видимо, к началу X в. относится запись о повинностях кэрлов в одном из поместий: «...с каждой гайды они должны платить 40 пенсов ко дню осеннего равноденствия и давать 6 церковных мер пива, 3 сестария пшеницы для белого хлеба и вспахивать 3 акра в свое собственное время, и засевать их собственными семенами, и в свое собственное время доставить [снятый урожай] в амбар, и давать три фунта ячменя в качестве гафоля (продуктовой ренты.— Е. М.), и пол-акра сжать в качестве гафоля в
собственное врехмя, и сложить урожай в скирды, и нарубить 4 подводы дров... И каждую неделю они должны исполнять такую работу, какую им будет приказано делать, исключая 3 недели: одну — в середине зимы, другую — на пасху и третью—в канун праздника вознесения»12. Как видно из этой описи, кэрл был лично свободным, так как на нем лежала денежная подать. В то же время наряду с продуктовой и денежной рентой он должен был выполнять некоторые формы барщины, что ранее являлось повинностью только несвободных.
Усиление эксплуатации и ущемление личной свободы кэрлов сопровождалось тенденцией к их прикреплению к земле. В ряде судебников IX — первой половины XI в. предусмотрены меры, затрудняющие переселение из одного графства (шайра) в другое или смену господина. Уже в «Законах Альфреда» (конец IX в.) право на изменение места жительства свободного общинника ограничено: «Если кто-нибудь из одного селения захочет искать себе господина в другом селении, то пусть он совершит это с ведома того элдормена, которому он до сих пор был подчинен в его шайре» (§ 37). Особое опасение властей вызывают люди, не имеющие господина и потому неподсудные местным судебным органам. Они рассматриваются властями как возможные нарушители порядка. В первой половине X в. не имеющие господ люди, очевидно, составляют меньшинство, и «Законы Этельстана» прямо обязывают каждого человека иметь «покровителя»: его сородичи должны «сделать такого человека оседлым в интересах народного права и должны найти ему в народном собрании господина» (§ 11,2). Если же господин не будет найден, то «впредь его следует остерегаться, и тот, кто его преследует, может убить его как вора» (там же).
Трактат первой половины XI в. «Об управлении поместьем» подробно рассказывает о структуре поместья, об обязанностях различных категорий земледельцев, об организации труда и формах феодальной ренты. В нем называется несколько групп крестьян, державших от владельца поместья землю, а иногда и скот и инвентарь. Хотя одна из них — гениты — сближается со свободными и, видимо, является бывшими кэрлами (поскольку они выплачивают денежный налог, принимают на постой служилых людей)13, все они обязаны нести определенные повинности в пользу феодала: военные и сторожевые, барщину в форме обработки господской пахотной земли, выпаса скота, починки изгородей; продуктовый сброк. Очевидно, что в фе-
одальном поместье конца англосаксонского периода различия в повинностях между свободными и несвободными крестьянами стираются. Постепенно утрачивала полноправие и подвергалась все большей эксплуатации и та значительная по численности часть крестьян, которая имела свое хозяйство. Уплачивая налоги государству и церкви, выполняя ряд государственных повинностей, они постепенно втягивались в формирующийся класс феодально зависимого крестьянства: Степень свободы общинников сокращалась, и устанавливалась в той или иной форме их экономическая и личная зависимость от собственников земли.
Социальную верхушку общества наряду с королем и членами королевского рода составляют другие представители родовой знати — эрлы, а также служилая аристократия— гезиты и тэны. В VII — IX вв. дифференциация в среде знати была менее выражена, чем различия между знатью и простыми свободными. Королевская служба уже в VIII в. давала ряд привилегий, повышая статус свободного человека . Так, ущерб, причиненный человеку, выполняющему поручение короля, карался двойным вергельдом; значительно увеличивался штраф в пользу любого лица, свободного или несвободного, находящегося на королевской службе. Нередки и пожалования королем более высокого статуса своим приближенным. Например, в грамотах Альфреда 871 — 877 гг. часто упоминается некий Этельнот, который свидетельствует пожалования короля. Позднее, в «Англосаксонской хронике», он именуется элдорменом, возглавлявшим войско одного из шайров в походе против датчан15.
Представители высшей знати, как светской, так и церковной, становятся постепенно крупными собственниками земли. Королевские пожалования, покупка земли, насильственное подчинение свободных общинников ведут к формированию обширных земельных владений, разбросанных на большой территории. Например, тэн Вульфрик Спотт, основатель монастыря в Бёртоне-на-Тренте (1004 г.), владел более чем 72 поместьями, основная часть которых находилась в Стафордшире и Дербишире. Остальные располагались в семи других графствах. Вульфрик принадлежал к одному из наиболее могущественных родов, и многие его родственники были элдорменами "5. Еще обширнее были владения эрлов Годвине и Леофрика, самых могущественных приближенных короля Эдуарда Исповедника (середина XI в.). Однако таких крупных землевладельцев было немного. Преобладали владения из 15—20 поместий.
Представители знати обычно жили в своих поместьях или по крайней мере имели там резиденции. И письменные, и археологические источники дают представление о жизни в усадьбе знатного человека. В раннее время в усадьбе стоял одноэтажный, как правило, деревянный дом, состоящий из одного большого зала. Здесь проводили время днем, устраивали пиры. Ночью здесь спали дружинники. Рядом с залом строились отдельные небольшие жилые помещения — спальни владельца усадьбы, членов его семьи. В усадьбу входили также хозяйственные постройки, включая ремесленные мастерские, конюшни, полуземлянки, где жила челядь. Весь комплекс обносился земляным валом с деревянным тыном поверху17 (см. фронтиспис). В строительстве бургов, как назывались подобные усадьбы, в более позднее время все шире стал использоваться камень для возведения как жилых построек, так и стен. Подобные бурги строили на своих землях и короли.
Наряду с бургами — укрепленными усадьбами знати и короля, а нередко и вокруг них образуются поселения городского типа, где в первую очередь оседали ремесленники и где велась торговля18. Города римского времени пришли после англосаксонского завоевания в упадок и, за исключением нескольких, наиболее крупных и удобно^ расположенных на торговых путях, типа Лондона и Йорка, были заброшены. Но уже в VII — IX вв. начинается возрождение старых и появление новых городских центров. Лондон и Йорк, Вестминстер и Дорчестер, Кентербери и Сэндвич и многие другие становятся центрами ремесла, международной, а в X — первой половине XI в. и внутренней торговли. В них сосредоточиваются органы управления, они являются центрами епархий и резиденциями светских и церковных феодалов, в них формируется городская культура, отличная от сельской. Наконец, в первой половине XI в. возникает особое городское право, окончательно отделившее город от деревни и усилившее значение города как одной из опор королевской власти.
Военный характер завоевания обусловил резкое усиление власти племенного вождя. Уже на континенте, судя по сообщениям римских историков, его власть стала приобретать наследственный характер. Но и после переселения, и даже в X в. старший сын совсем не
обязательно наследовал отцу (см. таблицу). Преемником на троне мог стать любой из сыновей короля, а также его брат или племянник (даже при наличии сыновей). В «Истории» Бэды не раз упоминается, что еще при жизни король назначал своего преемника. Очевидно, королевская власть рассматривалась еще как прерогатива не одного лица, а рода в целом, и любой его член мог претендовать на трон. Именно это родовое обладание правом на королевскую власть послужило причиной многих распрей внутри ранних английских государственных образований. Лишь в X в. постепенно закрепляется право старшего из сыновей короля на трон.
Одновременно упрочивается и положение самого короля. В соответствии с германскими нормами (сохранившимися, например, в Скандинавии и в более позднее время) король, действия которого наносили вред обществу, мог быть изгнан или убит. Еще в VIII в. к этой мере не раз прибегала знать отдельных королевств. В 774 г. был смещен король Нортумбрии Эльхред, в 757 г. король Уэссекса Сигеберхт был лишен королевской власти советом знати «по причине неправедных дел». Но уже в конце X в. известный церковный деятель и писатель Эльфрик утверждает, что король не может быть низвергнут: «...после того, как он коронован, он имеет власть над людьми, и они не могут сбросить его ярмо со своих вый» 19.
В VII в. личность короля ограждается от посягательств, так же как и личность любого свободного, вергельдом, хотя и значительно большего размера. По «Законам северных людей» вергельд за убийство короля, равный вергельду эрла, выплачивается его роду и такая же сумма — «народу» для оплаты «королевского достоинства» (§ 1). О том, что практика и ранее была именно такова, говорит «Англосаксонская хроника», где, например, упомянуто, что в 694 г. жители Кента выплатили королю Уэссекса Инэ 30 000 пенсов за сожжение его родственника, члена королевской семьи20. Дополнительная оплата «королевского достоинства» свидетельствует об особом статусе короля, его возвышении не только над народом в целом, но и над знатью.
На протяжении VII —IX вв. королевская власть укрепляется, король начинает занимать в социальной иерархии место, несопоставимое с положением любого другого представителя светской знати. Королю (как и архиепископу) не требуются свидетели или принесение присяги в суде — эта норма впервые вводится в «Зако-
нах Уитреда» (§ 16). Нарушение мира в жилище короля, на территории его бурга и просто в его присутствии карается все большим вергельдом. Наконец, в «Законах Альфреда» появляется статья, свидетельствующая об окончательном отрыве социального статуса короля от прочих свободных: «Если кто-нибудь злоумышляет против жизни короля лично сам или посредством предоставления убежища изгнаннику или одному из его людей, то он возместит своей жизнью и всем, чем владеет» (§ 4). Речь теперь идет не о денежной компенсации, как прежде, а о смертной казни преступника. Убийство короля, таким образом, выходит за рамки обычных преступлений. Личность короля становится неприкосновенной. С середины VIII в. королевская власть освящается также и авторитетом церкви: в правление короля Оффы в Мерсии была введена церемония помазания на царство и вручения королю атрибутов власти. В грамотах Оффы впервые появляется формула «король божьей милостью». Альфред в конце IX в. обосновывает правомерность земельного пожалования «данной богом властью» и королевским авторитетом.
Изменение отношения к королю являлось следствием резкого возрастания его роли во всех сферах общественной жизни: внешне- и внутриполитической, военной и в первую очередь в сфере гражданского управления21. Уже в VII в. король является высшей судебной инстанцией, по некоторым видам преступлений король может карать смертной казнью (например, вора, пойманного с поличным). За королем как представителем верховной власти закрепляется право распоряжаться жизнью и свободой населения, причем не только рядовых общинников, но и знати.
В IX — X вв. знать, обладая обширными земельными владениями и административными и судебными правами на местах, начала проявлять независимость от королевской власти, а временами и вступать с ней в открытую борьбу. Судебники отражают стремление королей осуществлять контроль над знатью, пресечь своеволие и непокорство «могущественных родов». Попытки воспрепятствовать правосудию стали караться штрафами в пользу короля. Этельстан впервые оговаривает право короля преследовать непокорную знать, изгонять из страны и казнить феодалов, не желающих подчиниться власти и оказывающих ей сопротивление («Законы Этельстана», § 8, 2—3): «И если случится, что какой-либо род станет столь могущественным и таким большим... что они будут отказывать нам в
соблюдении наших прав и выступать на защиту вора, тогда мы все вместе приедем... и призовем столько людей, сколько нам покажется необходимым для данного случая, чтобы эти провинившиеся люди почувствовали сильный страх перед нашим сборищем, и мы все съедемся и отомстим за ущерб и убьем вора и тех, кто сражается вместе с ним...»
Для подавления сопротивления внутри страны и отражения нападений извне короли уже в VII — VIII вв. обладали немалой военной силой. С одной стороны, это были дружины (5), состоящие из профессиональных воинов, находившихся на службе короля и получавших в качестве вознаграждения плату, а также земельные наделы. Младшие дружинники, гезиты, по преимуществу жили в королевских бургах и выполняли наряду с военными и другие функции, выступая нередко в качестве королевских чиновников. Более знатные приближенные короля, тэны, как правило, владели землей и часть времени проводили в своих усадьбах, находясь при дворе короля определенные установленные сроки. Они также участвовали в управлении государством, были членами королевского совета, выступали в качестве должностных лиц. Значение служилой знати по мере феодализации англосаксонского общества растет, и выполнение военной повинности становится первейшей обязанностью знати. С другой стороны, основную массу войска составляло ополчение, набиравшееся по территориальному принципу: по одному снаряженному воину из числа свободных общинни-ков-кэрлов от земельного владения в пять гайд. Каждый административный округ, таким образом, поставлял в войско короля определенное количество людей, возглавляемых элдорменом этого округа и местными тэнами-землевладельцами. Строгое соблюдение воинской повинности и наличие профессиональной части войска привело к созданию в IX — X вв. мощной и боеспособной армии, которая успешно справлялась со сложными задачами, вставшими перед Англией в это время22.
Одновременно происходит и становление органов государственного управления, в VII в. находившихся еще в зачаточном состоянии. Однако именно тогда формируются некоторые основные принципы будущей системы управления, которая более отчетливо проявляется в IX — XI BB.2J Создается сеть административных округов — шайров (впоследствии — графства), управление которыми осуществляют королевские чиновники — элдормены, представители наиболее знатных родов. В
их обязанности первоначально входит сбор налогов и судебных пошлин в пользу короля, руководство окружным ополчением во время военных действий, отправление судопроизводства. В правление Альфреда на территории к югу от Темзы элдормены назначались в каждый из шайров, но в конце X — первой половине XI в. власть элдорменов (под влиянием скандинавской социальной терминологии их теперь обычно называют эрлами — от скандинавского jarl — «знатный человек») распространяется на несколько округов, а непосредственное управление ими переходит к шерифам, выполняющим только административные и судебные функции. Выделяются и чиновники — герефы, управляющие королевскими имениями, занимающиеся сбором податей в пользу короля, представляющие интересы короны, а позднее обязанные заботиться о поддержании порядка («Законы Этельстана», § 11; «Законы Эдгара», § 3, 1; 959— 975 гг.)24.
Основным органом местного управления на протяжении всего англосаксонского периода остается совет шайра, возглавляемый вначале элдорменами, а позднее шерифами. Через эти советы король осуществляет все усиливающийся контроль за состоянием дел. Судебники X в. определяют, что совет шайра должен собираться не реже двух раз в год, рассматривая тяжбы и судебные дела, выходящие за пределы компетенции низшей судебной инстанции — собрания сотни, а также решая вопросы налогообложения, военной службы и пр. Более мелкие судебные дела рассматривались на собраниях сотен, небольших административно-территориальных единиц, составлявших шайр. В них участвовали представители сельских общин, входящих в сотню, священники, крупные землевладельцы, а позднее и специальные чиновники. Посещение собраний сотни являлось обязанностью и привилегией всех свободных общинников-кэрлов. Под руководством выборного «сотенного», а позднее королевского чиновника-герефы вершился суд над преступниками, рассматривались тяжбы, решались вопросы местного управления. На собраниях сотен лежали также и полицейские функции: обязанность найти и обезвредить преступника, обеспечить уплату вергельда.
Высшим органом государственного управления являлся уитенагемот, совет знати при короле. В его состав входили члены королевской семьи, епископы, элдормены, королевские тэны. Вплоть до конца англосаксонского периода функции уитенагемота не были расчленены: на его собраниях решались все админи-
стративные, судебные, законодательные и внешнеполитические вопросы. Члены уитенагемота утверждали (или в случае необходимости избирали) короля, участвовали в составлении законов, свидетельствовали особо крупные земельные пожалования, принимали решения о войне и мире25.
Можно предполагать, что и собрания сотен, и королевский совет восходят к народным собраниям и советам старейшин, существовавшим в родовом обществе. На это указывает и происхождение названия «уитенагемот»: от слова witan — «мудрый, знающий». Но в IX — XI вв. и тот и другой, при всей нерасчлененности функций, являются органами управления раннефеодального государства и носят отчетливо классовый характер.
По мере вызревания феодальных отношений все ярче проявляется тенденция к объединению отдельных королевств и формированию единого древнеанглийского государства. Уэссекс, Кент, Восточная Англия — наиболее крупные из южноанглийских королевств — в VII — IX вв. поочередно главенствуют над остальными. Правители господствующего королевства получают титул Bretwalda—«правитель Британии», который не был номинальным, но давал реальные преимущества перед другими королями: право на дань от остальных королевств, на утверждение крупных земельных пожалований. По временам при дворе «правителя Британии» собирались другие короли, во время войны они должны были оказывать ему военную помощь. В 829 (827) г. автор «Англосаксонской хроники» насчитывает за весь период жизни германцев на Британских островах всего восемь правителей, которые удостоились этого титула (точнее, были достаточно могущественны, чтобы завоевать его)26.
В VII в. на первое место выдвигается Нортумбрия и удерживает приоритет на протяжении трех поколений. В конце VII в. господствующее положение захватывает Мерсия; короли Этельбальд и Оффа распространяют свою власть на всю территорию южнее Хамбера, и лишь в начале IX в. к верховной власти приходят короли Уэссекса, господство которых на протяжении более двух столетий объясняется как высоким социально-экономическим развитием южной Англии, так и политической ситуацией, сложившейся в стране в IX в.
Это столетие во многих отношениях было переломным и знаменовало начало нового этапа в развитии англосаксонского общества. Изменения в характере землевладения, в положении свободных общинников, резкое усиление королевской власти и укрепление аппарата управления означали становление феодальных отношений и создание государства. Немало способствовала этому и внешняя опасность, которая в IX в. потребовала от Англии напряжения всех сил. Эта опасность исходила от бывших соседей англов и ютов на континенте — датчан, а позднее — от норвежцев и шведов27.
В VIII в. скандинавские племена вступают в последнюю стадию разложения родо-племенного строя, что сопровождается усилением внешней экспансии. Аналогичную ситуацию переживали племена англосаксов в V в., когда миграционные процессы привели их на Британские острова. 793 год открыл новую эпоху как в жизни европейских стран, расположенных на западе и юге континента, так и в самой Скандинавии — эпоху викингов. В этом году датчане напали и полностью разграбили монастырь св. Кутберта на о-ве Линдис-фарн (6, 7), в следующем году пострадал монастырь в Ярроу, а в 795 г. скандинавских викингов увидели жители сразу южной и западной Англии и Ирландии. Скандинавы и ранее плавали в Западную Европу, торговали с местным населением, иногда совершали нападения на прибрежные селения. Но события последнего десятилетия VIII — середины IX в. превосходили все предшествующее в первую очередь своими масштабами. До 830-х годов датчане с востока и юга и норвежцы с севера и запада совершают набеги, грабя населенные пункты и монастыри на побережье и в устьях крупных рек. Норвежцы оседают на Шетландских и Оркнейских островах, которые на протяжении всего средневековья будут принадлежать Норвегии, нападают на Ирландию, о-в Мэн, северное и западное побережья Англии. Ужас и панику сеют викингские корабли-«драконы» (8). Ежегодные нападения норманнов были истинным бедствием для Англии, гораздо худшим, по мнению современника, чем голод или мор: «Послал всемогущий бог толпы свирепых язычников — данов, норвежцев, готов и свеев; они опустошали грешную землю Англии от одного морского берега до другого, убивали народ и скот и не щадили ни женщин, ни детей». Обладавшие отличной военной организацией и прекрасным вооружением, викинги в середине IX в. перешли от разовых набегов к захвату и колонизации
обширных территорий на юго-востоке Англии, которые кривели к существенным изменениям политической карты страны (см. карту 2).
С 835 по 865 г. ежегодно отряды датских викингов на десятках кораблей («Англосаксонская хроника» насчитывает их в некоторых походах до 350) осаждают южное и восточное побережье Англии. Вслед за нападением на о-в Шеппей в устье Темзы разорению подвергается п-ов Корнуолл, Эксетер, Портсмут, Винчестер, Кентербери, наконец, Лондон. В 851 г. викинги впервые зимуют в Англии. До этого, проводя у ее берегов лишь летнее время, они возвращались осенью домой. Нечасто проникали они пока и в глубь острова, ограничиваясь прибрежной полосой в 10—15 км. Разрозненные и ведущие непрерывные междоусобицы английские государства, не имевшие опыта отражения нападений с моря, оказались бессильными перед лицом хорошо вооруженного, обученного и организованного врага, использующего быстроходные корабли с малой осадкой, что давало возможность викингам подплывать прямо к берегу (9).
В 30—50-е годы IX в. усиливается натиск норвежцев на Ирландию. В 832 г. некий Тургейс, по сообщению поздних ирландских источников, насыщенных легендами, высадился со своей дружиной на севере Ирландии, затем, воспользовавшись междоусобицей местных правителей, захватил Ольстер и главный город области и религиозный центр Армах, после чего победно прошел чуть ли не по всей Ирландии, став ее верховным правителем. Но, несмотря на то что часть ирландцев примкнула к нему, борьба с завоевателями ширилась, и в 845 г. Тургейс был взят в плен и погиб. В 850—855 гг. в борьбу вступают датчане, но норвежцы, отступившие было после смерти Тургейса, снова набирают силы, и в 853 г. их флотилия под командой некоего Олава, сына норвежского конунга (его обычно отождествляют с полулегендарным Олавом Белым), подходит к Дублину. Ирландцы признали его власть и выплатили дань, а также вергельд за Тургейса. Норвежское «королевство», основанное Олавом, с центром в Дублине просуществовало более двух столетий и послужило исходным пунктом для норвежской колонизации западной Англии.
На востоке же натиск датчан продолжался, «Великое войско» датчан, как его называет «Англосаксонская хроника», высадилось в Восточной Англии осенью 865 г. Его вели сыновья знаменитого викинга Рагнара Кожаные Штаны —Ивар Бескостный и ХальвДан. Про-
ведя год в Восточной Англии по соглашению с местными властями, они обзавелись конями и снаряжением для дальнейших походовuв глубь страны. Первый из них был направлен на Йорк. Как рассказывается в исландской «Саге о Рагнаре Кожаные Штаны», целью Ивара и Хальвдана была месть за отца, который окончил жизнь в змеином колодце в Иорке. Эта история сильно напоминает легенду, но каковы бы ни были истинные причины, 1 ноября 866 г. датчане вошли в Йорк. Объединившиеся для отражения скандинавов два враждовавших до того претендента на нортумбрий-ский трон пали в битве, юго-восточная Нортумбрия попала во власть датчан, а северо-западная — под власть норвежцев, нападение которых совпало с походом Ивара и Хальвдана. На протяжении девяти лет датское войско сражалось в Мерсии, нападало на Уэссекс, разгромило совместную мерсийско-уэссекскую армию, руководимую Этельредом и его братом Альфредом, захватило в 871 г. Лондон. Наконец, в 876 г., разделившись на две части, датское войско начало оседать на захваченных землях. Хронист записывает под этим годом: «Хальвдан разделил земли Нортумбрий, и они занялись пахотой и обеспечением своей жизни»28. Другая часть войска двинулась снова на Уэссекс, но положение там на этот раз было иным. После смерти брата в 871 г. к власти пришел Альфред, прозванный позднее Великим. Имея уже большой опыт борьбы с викингами, Альфред отметил две особенности их тактики: использование морского флота и уклонение от сражений в открытой местности. Уже летом 875 г. построенные по указу Альфреда корабли выдержали первые морские сражения. Важным стратегическим действием Альфреда было восстановление старых и основание новых крепостей, способных содержать большие гарнизоны и отражать нападения некрупных отрядов противника или продержаться до подхода основного войска. В источниках упоминается до 30 крепостей, выполнявших к концу жизни Альфреда оборонительные функции. Неудачи на море и тяжелое поражение в битве, которую Альфред навязал им в 878 г., вынудили датчан покинуть Уэссекс. Предводитель скандинавов Гутрум был крещен и заключил с Альфредом мирный договор, после чего и эта часть войска расселилась в Восточной Англии. Таким образом, к 878 г. большая часть земель на востоке острова от р. Тис на севере до Темзы на юге оказалась заселенной датчанами — участниками похода 865 г.. и стала называться Денло — «областью датского праьа».
Но политического и военного могущества южной Англии было недостаточно, чтобы один Уэссекс мог и дальше сдерживать натиск датчан. Поэтому в 886 г. Альфред занял Лондон и, используя брачные связи с королевскими династиями Восточной Англии и Мерсии, короли которых как раз в это время один умер, а другой бежал за море, стал верховным правителем всей Англии, не занятой датчанами. Так в ходе сопротивления внешним нападениям формировалось единое древнеанглийское государство.
По социально-экономическому развитию скандинавы, расселившиеся в Англии, значительно отставали от англосаксов. Принесенные ими формы землевладения, политический строй, правовые нормы были намного примитивнее и архаичнее англосаксонских. Но, расселяясь среди местного населения, скандинавы довольно быстро усвоили более прогрессивные формы социально-экономического уклада англосаксов, придав им лишь некоторое своеобразие. В X в. в Денло, как и по всей Англии, устанавливается система административно-территориальных округов (wapen-tac в Денло и сотни в других частях Англии) для взимания податей, формируется феодально зависимое крестьянство. Большое значение имеет и христианизация язычников-датчан, стирающая грани в духовной культуре местного и пришлого населения. Различия же их в материальной культуре уже в первой половине X в. перестают ощущаться в результате отмечаемого археологами этнического смешения и постепенной ассимиляции датчан.
Процессы этнического синтеза собственно в Денло усугублялись в X в. активными действиями преемников Альфреда, перешедших от обороны к наступлению. Эта борьба привела к подчинению Денло власти английских королей и прекращению его политической независимости. В 955 г. был изгнан последний скандинавский правитель Йорка Эйрик Кровавая Секира, и вся Англия, включая Нортумбрию и северо-западную Мер-сию, была объединена в руках уэссекской династии, которая удерживала власть до начала XI в.
В правление Этельреда Нерешительного (978— 1016 гг.) снова усиливается экспансия скандинавов. Войско датского короля Свейна Вилобородого, который, как считается, создал в Дании специальные военные лагеря для подготовки воинов (Треллеборг, Аггерсборг, Фюркат; 10), в 1003—1010 гг. грабит земли на востоке Англии, не встречая особого сопротивления. «Когда враг был на востоке, наше войско держалось на западе, а когда враг был на юге, то Наше
войско находилось на севере. Затем все советники были призваны к королю, чтобы обсудить, как следует защищать эту землю, но, хотя решение и было принято, ему не следовали и месяца, и наконец не осталось ни одного вождя, который бы был склонен собрать войско, но каждый бежал как только мог»29,— писал хронист из Абингдона. Английское государство выплачивало колоссальные контрибуции, откупаясь от нападений: «Англосаксонская хроника» сообщает о выплате датчанам 24 000 фунтов серебра в 1002 г., 36 000 фунтов— в 1007 г. Мощный поток серебра отразился в скандинавских кладах этого времени, содержащих около 35 000 англосаксонских монет, большая часть которых чеканена при Этельреде Нерешительном.
В 1013 г. Свейн высадился в Сэндвиче, затем проник в Хамбер и вверх по р. Уз дошел до Гейнсборо, где его провозгласили королем Нортумбрии. Отсюда он направился в Мерсию и Уэссекс, после ожесточенного сопротивления захватил Лондон и стал королем всей Англии. Этельред оказался перед необходимостью бежать в Нормандию. В 1016 г. после его смерти (Свейн умер в 1014 г.) королем Англии становится сын Свейна Кнут. Его популярность в стране упрочилась женитьбой на вдове Этельреда Эмме (11). Вплоть до его смерти в 1036 г. внутреннее и внешнее положение Англии стабилизируется. Однако его сыну Хардакнуту не удалось удержать власть, и с 1042 г. после нескольких лет междоусобной борьбы английское государство вновь вернулось к представителю старой англосаксонской династии Эдуарду Исповеднику, сыну Этельреда Нерешительного и Эммы.
Немаловажную роль в социально-экономическом развитии англосаксонского общества играла церковь. Бэда рассказывает, что будущий папа Григорий I (12) однажды увидел в Риме красивого юношу-раба, привезенного для продажи. Пораженный благородством осанки и силой юноши, Григорий заинтересовался им. Узнав, что это житель Британии, он высказал сожаление, что столь могучий и красивый народ пребывает в грехе, не ведая истинного бога (Бэда, р. 96—97). Вскоре после восшествия на папский престол Григорий направил в Британию Августина для проповеди христианства.
Шел 597 год, и, конечно, христианская религия не была чужда населению Британских островов. Многие
группы кельтов были христианизованы еще в III в., чадолго до переселения германцев, но в ходе завоевания церковь утратила былые позиции. Значительная часть христиан-кельтов эмигрировала на континент, в
Арморику, часть ассимилировалась германцами. Однако на западе страны и в Ирландии сохранились немногочисленные монастыри, где поддерживались традиции кельтского варианта христианства30. В Ирландии по-прежнему жило немало отшельников (13), один из которых, св. Колумба (521—597 гг.), совершил попытку привести англосаксов в лоно церкви и основал знаменитый впоследствии монастырь в Иона. Успеха эта миссия не имела. Тем не менее к началу VII в. почва для принятия новой религии была подготовлена как собственным развитием общества на путях к феодализму, так и постоянными контактами с христианским миром. Поэтому миссии св. Августина и последующих проповедников принесли желаемые результаты.
Однако на всем протяжении VII в. положение христианской церкви в Англии было неустойчивым. Правители, принимая новую веру, во многом руководствовались практическими соображениями и при изменении обстановки легко возвращались к язычеству. Король Кента Этельберт в 601 г. принял христианство под влиянием своей супруги, французской принцессы-христианки, которая привезла с собой епископа (Бэда, р. 52—55); но вскоре после его смерти в 616 г. культ языческих богов был восстановлен, хотя и ненадолго (Бэда, р. 111 —112). Лишь в середине VII в. кентские короли получили возможность уничтожить языческие капища, но прошло еще 50 лет, прежде чем король Кента Уитред установил штраф за идолопоклонство. В середине VII в., во время эпидемии чумы, проповедни-ки-христиапе, как сообщает Бэда, были вынуждены бежать из, казалось бы, обращенного Эссекса (Бзда, р. 240—241). Идолопоклонство охватило все королевство, и потребовалось немало времени, чтобы укрепить положение христианства в этой части Англии.
Нередки были и случаи двоеверия. Рэдвальд, король Восточной Англии и один из восьми «правителей Британии» (ум. около 624 г.), погребение которого было, вероятно, раскокано в Саттон-Ху, был крещен, но затем вернулся к вере предков и в храме установил два алтаря: один для христианского богослужения, другой — для языческих ритуалов (Бэда, р. 140). В его захоронении, языческом по обряду (в корабле, с большим . количеством различных предметов), обнаружены
две ложечки, на одной из которых выгравировано имя «Павел», на другой— «Савл».
Еще позже проникает христианство на север и северо-запад. Христианизация Мерсии начинается лишь с 685 г. Однако политические выгоды христианства, его способность поддержать королевскую власть были оценены знатью южных, наиболее развитых областей Англии, и в 664 г. собор в Витби признает его официальной религией.
Методы введения новой религии и первоначальные формы церковной идеологии, внедряемой в сознание массы населения в Англии, на этой окраине христианского мира, были своеобразны и отличались значительной терпимостью. Тонкий политик, папа Григорий I писал в 601 г. миссионерам, действовавшим в Британии: «...храмы идолов в этой стране вовсе не следует разрушать, но ограничиваться только истреблением одних идолов; пусть окропят такие храмы святою водою, построят алтари и поместят мощи; ибо если эти храмы хорошо отстроены, то полезнее просто их обратить от служения демонам на служение истинному Богу; сам народ, видя свои храмы неразрушенными и изъяв из сердца заблуждения, будет тем охотнее стекаться в местах, к которым издавна привык, познавая и поклоняясь притом истинному Богу. И так как язычники имеют обычай приносить в жертву демонам многочисленных быков, то необходимо им заменить и это каким-нибудь торжеством: в дни памяти или рождения св. мучеников, которых мощи положены там, пусть народ строит себе из древесных ветвей шалаши около церквей... и празднует такие дни религиозною трапезою... когда им будет обеспечено материальное довольство, они легче воспримут и радость духовную» (Бэда, р. 79—80)31. Постепенное вытеснение языческих обычаев, подмена их христианскими вплоть до временного сохранения языческих божеств, но уже в другой ипостаси — как злых духов, пособников дьявола,— такова тактика христианской церкви во вновь обращенных странах.
Одним из таких примеров приспособления языче
ских представлений и их совмещения с христианскими
может служить заклинание от прострела и ревматиче
ских болей, где языческие боги, эсы, приравниваются к
ведьмам, а все заклинание завершается обращением к
христианскому богу
От внезапного колотья—ромашка и красная крапива, прорастающая, сквозь стену дома, и щавель. Кипяти в масле.
В стремительной скачке неслись по холмам, по землям мчались злобные духом. Защищайся теперь, исцелись от зла.
Вон, копьецо, коль вонзилось внутри! Я щит свой схватил, сверкающий панцирь, когда могучие девы урожай собирали, полет ускоряли визжащих копий. Я пошлю им обратно дар не хуже — рассекшую воздух, разящую стрелу.
Вон, копьецо, коль вонзилось внутри! Кузнец ковал, нож точил, грозное оружие, гибель несущее.
Вон, копьецо, коль вонзилось внутри! Шесть кузнецов ковали, копья смерти точили.
Вон, копьецо, коль вонзилось внутри! Коль кроха железа скрылась внутри, творение ведьм, да течет оно вон! Ранен ли ты в кожу, или ранен в плоть, или ранен в кровь, или ранен в кость, или ранен в ногу, да не вредит твоей жизни! Ранен ли ты эсами, или ранен эльвами, или ранен ведьмами—я помогу тебе! Это — против ран эсов, это — против ран эльвов, это — против ран ведьм—я помогу тебе! Пусть летит в горы пославший копье! Да излечишься ты, да поможет тебе Бог!32
Несмотря на поражение 664 г., кельтские миссионе-^ ры не прекращают своей деятельности на севере и северо-западе Англии. Монастырь в Иона стал центром распространения христианства на территории севернее Хамбера, т. е. в первую очередь в Нортумбрии. Кельтские миссионеры в VII—VIII вв. наводняют не только Англию, но и континент, проповедуя христианство у германцев-язычников: во Фризии, Саксонии. Они играют немалую роль в становлении христианской церкви в этих областях: занимают посты епископов, основывают многочисленные монастыри, становятся их настоятелями. Поэтому влияние кельтской церкви сказалось в немалой степени и в Англии.
Ирландская церковь была по преимуществу монастырской, и это обусловило бурный рост монастырей в Англии VII—IX вв. Одним из первых был монастырь св. Кутберта в Линдисфарне, за ним последовало основание монастырей в Эли, Ярроу, Витби и десятках других мест. Их создателями были как проповедники христианства, а позднее церковные иерархи, так и представители светской знати, щедро предоставлявшие землю и средства для постройки церквей и монастырских зданий, украшения церквей, приобретения предметов, необходимых для богослужения, и книг. Многочисленные земельные дарения превращают церковь в
крупнейшего наряду с королем собственника земли, увеличивают ее богатство и авторитет.
В VIII в. положение церкви упрочивается, создается стабильная система диоцезов — церковных округов во главе с епископами. Еще Августин избрал своим центром Кентербери, где и в последующее время находилась резиденция главы английской церкви. Могущественная и богатая, поддерживаемая Римом, англосаксонская церковь играла существенную роль в укреплении государства и королевской власти, освящая ее своим авторитетом. Церковные деятели активно включались в решение внутри- и внешнеполитических вопросов, участвовали в составлении судебников, являлись членами королевских советов. Как единый организм, не связанный с отдельными ранними государственными образованиями, англосаксонская церковь способствовала их консолидации в IX—X вв.
Бурная, исполненная перемен общественная и политическая жизнь находила отражение и в духовном мире англосаксов: в устной словесности и литературе, изобразительном и прикладном искусстве, архитектуре и ремеслах33. Накануне нормандского завоевания Англия славится на всю Европу изяществом оформления рукописей, великолепием шитья, богатством ювелирных изделий. Не случайно произведения английских мастеров VIII — первой половины XI в. можно найти во Франции, Германии, Голландии, Италии: это дары английских королей и церковных иерархов правителям и монастырям соседних стран, это сокровища, награбленные викингами и проданные ими в торговых центрах Западной Европы, это, наконец, добыча норманнов Вильгельма Завоевателя, вывезенная во Францию после 1066 г. Особую ценность и привлекательность англосаксонским изделиям придавало на редкость своеобразное соединение различных традиций: римских, кельтских, скандинавских, французских, элементы которых, переосмысленные и сочетаемые с древнегерманскими, сливались в новых формах островного стиля.
Наиболее ранними, сохранившимися до нашего времени памятниками искусства являются ювелирные изделия из драгоценных металлов и бронзы. Уже в VI в. англосаксы великолепно владеют техникой филиграни и перегородчатой эмали, инкрустации и чеканки. Круглые броши, первоначально заимствованные у франков, усложняются по своему оформлению, в котором широ-
ко используются мотивы германского «звериного СТИЛЯ»— схематического изображения животных и птиц. Под влиянием кельтского искусства входит в обиход и геометрический узор. Вставки из гранатов, горного хрусталя, цветного стекла придают им особую пышность, как, например, броши VII в. из Кингстона (14). Полихромный стиль становится излюбленным в VI—VII вв. Камни, чаще всего гранаты, вставлялись между золотыми перегородками, которые образовывали различные геометрические фигуры: звезды, розетки. Так оформляются в языческое время броши, застежки (см. 15), рукояти мечей, после принятия христианства— кресты (16). Основным материалом для них является золото, реже — серебро и бронза.
В это же время не меньшей популярностью в орнаментике пользуется «звериный стиль», германский по своему происхождению. Условные фигуры животных украшают предметы вооружения, щиты (17) и шлемы, броши и застежки. Кельтский декоративный мотив — плетенка — подсказывает англосаксонским мастерам новую возможность: его соединение со «звериным орнаментом», что достигается созданием сложнейших композиций, в которых туловища, лапы, шеи, хвосты животных удлиняются и переплетаются, образуя причудливые узоры. Все чаще очертания зверя теряются в извивах полос, плетенка занимает все пространство орнаментируемого предмета. Вот два вос-точноанглских изделия (18 и 19). На более ранней броши VI в. еще хорошо различимы звериные головы в центре, тогда как поле застежки пояса заполнено плетением.
Разнообразие ювелирной техники допускало изготовление самых различных предметов из многих материалов. Тонкая чеканка золотого «кольца Эллы» (VII в., 20) и инкрустация золотом, гранатами и стеклом по моржовой или слоновой кости на крышке кошелька из Саттон-Ху (2), пять медальонов с черненными по серебру изображениями Христа во славе и евангелистов на «кубке Тассило» (около 770 г., 21) и серебряный реликварий с инкрустацией (22) являются свидетельствами высокого мастерства англосаксонских ремесленников VI—VIII вв. Эти же тради-• ции продолжаются и развиваются в IX—X вв. (23).
Большое распространение приобретает другая форма прикладного искусства — резьба по кости. Как и скульптура в целом, англосаксонская резьба зарождается под сильным влиянием позднеримской пластики,-.и древнейшие ее образцы, как, например, некоторые
изображения на ларце Фрэнкса (VII в., 24, 25), обладают монументальностью и статичностью позднеантичных прототипов. Постепенно, однако, в резьбе усиливаются естественность, выразительность, динамика. Крышка евангелия из слоновой кости (начало IX в., 26) с двенадцатью сценами на новозаветные сюжеты и в центре — с фигурой Христа, несущего крест, обнаруживает не только тенденцию к реалистичности, но и глубокую экспрессию и одухотворенность сложных многофигурных композиций. Стремление к максимальной выразительности в резьбе по кости, дереву выливается в страстные, патетические сцены, как, например, на навершии епископского посоха середины XI в. с напряженными, полными движения и патетики фигурами людей (27).
Одновременно развивается, хотя и в более традиционных формах, резьба по камню, уходящая корнями в кельтское искусство и не имеющая параллелей в Западной Европе. Уже в VII в. в Ирландии появляются каменные кресты с рельефами, изображающими Христа и сцены на евангельские сюжеты. Одним из лучших является крест из Монастербойс (около 900 г.), на котором высечены рельефы на темы страстей Христовых, а в перекрестии ветвей — фигура распятого Христа (28). Проникая сначала в Нортумбрию, камнерезное мастерство распространяется и в других частях Англии. Нередко скульптурные композиции на крестах сопровождаются текстами на латинском и англосаксонском языках, причем последние выполняются английским руническим письмом. Наиболее примечателен Рут-вельский крест (29), который наряду с изображением Марии с младенцем, Марии Магдалины, Иоанна Крестителя, сцен «Благовещения», «Бегства в Египет» и многими другими содержит текст поэмы «Видение креста», сохранившейся также и в рукописи. Проникновение скандинавского искусства в IX—X вв. заметно сказывается на орнаментике крестов: сложное переплетение полос в скандинавском стиле заполняет всю поверхность ствола одного из самых высоких — 4,6 м — крестов, увенчанного небольшими ветвями с кольцом (30). Насколько можно судить по письменным источникам, эти и десятки других крестов служили для совершения молитв и упрощенных богослужений в тех местах, где поблизости не было церквей, заменяя до известной степени алтари. Тем более странно выглядит крест из Миддлтона (Йоркшир) с изображением викинга (31) и без каких-либо христианских символов, кроме самой формы памятника. Вероятно, он был нысечен скандинавским резчиком-язычником, жившим и Денло и усвоившим обычную для каменных монументов Англии форму — крест. Другой работой, бесспорно принадлежащей скандинаву, является фигура «большого зверя» — традиционный мотив «звериного стиля» в Скандинавии^—на каменной плите, найденной в Лондоне (32).
В значительно меньшей мере известны архитектурные памятники англосаксов. Подавляющее большинство построек было деревянными, и даже при раскопках их останки прослеживаются с трудом. Каменное строительство началось в VII—VIII вв., причем по преимуществу это были монастырские здания и церкви. Светских строений этого времени практически не сохранилось, да и немногие уцелевшие церкви подверглись в последующее время перестройкам и поновлениям. Тем не менее постройки англосаксонского периода свидетельствуют о проникновении на остров романской архитектуры и ее чрезвычайном упрощении. Небольшие размеры, крайне скромное наружное оформление как стен, так и порталов характерны для большинства церквей ( 33). Лишь в X—XI вв. появляются более значительные строения, непременным элементом церквей становится башня в юго-западной части (34), начинают использоваться некоторые элементы декоративного оформления стен. Но наибольших успехов в христианское время англосаксы достигли в литературе и в искусстве рукописания и оформления рукописей.
Искусные в книгах
К V в. словесность германских народов насчитывала несколько веков интенсивного развития. Уже римский историк I в. н. э. Тацит писал, что события прошлого запечатлеваются германцами в поэтической форме, и эти «древние песнопения» любимы всеми1. Существовали также сказания о богах, которых Тацит отождествляет с богами римского пантеона, но ни одного произведения континентальных германцев на мифологические темы мы не знаем. Героические же сказания дошли до нас, хотя и в более поздних обработках: это и фрагмент «Песни о Хильдебранте», и цикл песен о короле Равенны Теодорихе (471—520 гг.), и многочисленные варианты преданий о гибели Бургундского королевства. Традиционные предания о героях, живших во времена великого переселения народов — в IV— V вв. н. э., были принесены англосаксами с континента на Британские острова.
Героико-эпическая традиция, постепенно подавляемая на континенте христианской культурой, расцвела в благоприятных условиях островной изоляции, как бы относительна эта изоляция ни была. Немалую роль здесь сыграло сохранение языческих верований и представлений на протяжении столетий почти в нетронутом виде. О язычестве англосаксов известно мало: отдельные упоминания в «Церковной истории» Бэды, данные топонимики и свидетельства нескольких римских и средневековых авторов. Наряду с поклонением многочисленным богам общегерманского пантеона, среди них в первую очередь Водану — повелителю королей, дарителю удачи и славы, была широко распространена вера в существование злых духов и чудовищ, в магическую силу заклинаний и заговоров2. «Нет никого, кто был бы проникнут такою же верою в приметы и гадания с помощью жребия, как они,— писал о древних германцах Тацит.— Вынимают же они жребий безо всяких затей. Срубленную с плодового дерева ветку они нарезают плашками и, нанеся на них особые знаки, высыпают члтем, как придется, на белоснежную ткань. После лого... жрец племени... вознеся молитвы богам и устремив взор в небо, трижды вынимает по одной плашке и толкует предрекаемое в соответствии с иыскобленными на них заранее знаками»3.
Языческий мир англосаксов, как и других германских народов,— мир богов-воителей, дающих людям главное благо — удачу в бою и славу отважного воина. Этот мир населяли и герои — прославленные вожди, бесстрашные и непобедимые витязи прошедших времен, слава которых продолжала жить и служила примером для новых и новых поколений. В период завоевания малоизвестных земель, населенных враждебными племенами, древние сказания были особенно популярны: ведь в них знаменитые предки также сражались за власть и богатство, завоевывали земли и тем стяжали нетускнеющую славу среди потомков. Трагический конец многих из них лишь подтверждал их избранность: они мужественно встречали смерть, как подобает героям.
Однако подспудно зревшие исторические перемены— становление феодальных отношений — незаметно, но неотвратимо воздействовали на духовную культуру, вели к переосмыслению традиционной словесности. Среди этих многообразных процессов был один, непосредственное влияние которого на литературное творчество англосаксов трудно переоценить. Это было введение христианства.
С VII в. во всей стране возводились церкви, строились монастыри, росло число людей, получивших образование и в этих монастырях, и на континенте, преимущественно во Франции. Приобщившись к христианству, англосаксонское общество включилось в сферу культуры, которая уже сформировалась в христианском мире. Ее проповедниками были как посылаемые Римом крупные церковные деятели: настоятели монастырей, епископы, папские легаты, так и англосаксонские церковнослужители, совершавшие путешествия во Францию и Рим. Присланный папой в 668 г. в качестве архиепископа Кентерберийского Теодор из Тарса (668— 690 гг.) привез с собой немало рукописей, содержащих церковные и светские произведения. Будучи сам человеком образованным, склонным к просветительской деятельности, Теодор насаждал грамотность и основал первые в Англии монастырские скриптории. Позднее, уже в VIII в., Алкуин, наставляя многочисленных писцов, указывал:
...Пусть берегутся они предерзко вносить добавленья,
Дерзкой небрежностью пусть не погрешает рука.
Верную рукопись пусть поищут себе поприлежней,
Где по неложной тропе шло неизменно перо.
Точкою иль запятой пусть смысл пояснят без ошибки,
Знак препинанья любой ставят на месте своем,
Чтобы чтецу не пришлось сбиваться или смолкнуть нежданно...
Древнейшие сохранившиеся англосаксонские, по преимуществу нортумбрийские, рукописи свидетельствуют не только о прилежности писцов, но и о высокой технике письма и оформления рукописей. Уже от VII в. дошли до нашего времени великолепные, украшенные миниатюрами, заставками, колонками манускрипты, созданные в монастырях Англии. Располагаемые в начале книг, миниатюры являлись своего рода торжественным прологом к священным текстам (все рукописи раннего времени включают произведения религиозного содержания: евангелия, литургические тексты, сочинения отцов церкви). Особенно распространены были изображения евангелистов (35), парадные, пышные. Используя позднеантичные образцы, англосаксонские миниатюристы рисовали евангелистов сидящими на троне в декоративно оформленных неглубоких
нишах.
Восприятие буквы как магического знака, свойственное как германцам, так и кельтам, явилось причиной особого распространения инициалов: сложного орнаментального изображения начальной буквы в книге или главе. В рукописях VII—IX вв. изощренный узор инициала в некоторых книгах занимает всю страницу (36) и включает разнообразные мотивы: ирландскую плетенку, растительный и зооморфный орнамент, фигуры людей и животных. Живость и непосредственность рисунка, обращение к светской сюжетике сочетаются с необыкновенной изобретательностью в декоре (37), сочностью и яркостью красок, среди которых излюбленными были красно-желто-коричневые тона.
Стремление к максимальному украшению рукописей и развитие геометрических орнаментов привели к созданию так называемых ковровых страниц в кельтском и англо-кельтском рукописании. Причудливое переплетение лент, сочетающееся с завитками, спиралями, раструбами, заполняет все поле страницы (38), причем необходимо отметить удивительное чувство меры и симметрии у миниатюриста: ритмичное расположение основных элементов орнамента, выделение центрального поля и окаймляющей полосы уравновешивают динамику рисунка. Нортумбрийский стиль Дарроу — Линдисфарна, во многом обязанный кельтским и
римским традициям, сложился как самобытное искусство, высоко ценимое и в самой Англии, и на континенте.
В VIII—IX. вв. в результате датского нашествия нортумбрийские монастыри приходят в упадок, почти чатухает работа в скрипториях. Производство книг перемещается на юг, и основным центром, рукописания становится Кентербери (39). В кентерберийских рукописях миниатюристы чаще прибегают к сюжетным многофигурным композициям, тогда как роль орнаментальных мотивов сокращается.
Второй «золотой век» англосаксонское рукописание переживает во второй половине X в. Его центром становится юг Англии, и лучшие произведения создаются в Винчестере, занявшем в это время выдающееся место в возрождении искусства и литературы. Тесные связи с Францией обусловили значительное влияние каролингского искусства на формирование стиля «винчестерской школы». Наиболее ранним ее произведением является посвятительный лист Дарственной хартии короля Эдгара (966 г., 40). Исполненный на окрашенном пурпуром пергамене, он изображает короля Эдгара, стоящего между Марией и св. Петром и вручающего хартию Христу. Характерным элементом винчестерской орнаментики является рамка из листьев аканфа. Статичные человеческие фигуры нортумбрий-ского стиля сменяются динамикой и повышенной экспрессивностью: все находится в движении, которое отражается даже в складках одежд, как бы колеблемых ветром (41). Изменяется и вид инициалов, утонченных и меньших по размерам, но отличающихся изящным переплетением лент. Рукописи винчестерской школы завоевывают общеевропейское признание и распространяются по крупнейшим собраниям Европы: английские скриптории получают заказы из монастырей Франции, Италии, Германии.
Важнейшую роль играют монастыри и как центры образованности. Англосаксонские монахи и церковные деятели занимаются богословием и литературой, историей и естественными науками. Выдающиеся труды многих представителей англосаксонской церкви входят в золотой фонд европейской литературы, а монастыри в Кентербери, Йорке, Ярроу уже в VIII в. становятся ведущими центрами Европы не только в области богословия, но и в области латинской и греческой учености.
Так к VII в. .формируется, два литературных и, шире,—культурных пласта. С одной стороны, это была принесенная вместе с христианством латинская культу-
pa, общеевропейская по своему характеру, с другой — народная поэтическая традиция, основанная на дохристианской культуре древних германцев. Их относительная самостоятельность вытекала как из истоков той и другой, так и из их функционирования в обществе. Первая имела ограниченное распространение и была связана по преимуществу с монастырской средой и — в меньшей степени — с феодализирующейся знатью. Вторая была достоянием всего общества — от широких масс свободных общинников до высшей знати. Первая опиралась на христианскую картину мира, разработанную в сочинениях отцов церкви; вторая воплощала сложившиеся еще в языческую эпоху представления свободного члена общины, рядового дружинника об окружающем его мире. Первая пользовалась по большей части латинским языком, непонятным массе населения (поэтому литература этого направления часто называется англо-латинской, термином достаточно условным, поскольку, как будет видно далее, древнеанглийский язык широко использовался и в монастырской среде), вторая же развивалась исключительно на основе народного, древнеанглийского языка.
Тем не менее при всей, казалось бы, противоположности этих двух течений не было и не могло быть их изоляции. В сознании христиан-неофитов христианские представления накладывались на языческие понятия, идеи и образы, переплетаясь, сосуществовали и взаимодополняли друг друга.
Ярким примером этого смешения являются изображения на панелях ларца Фрэнкса (VII в.). «Кузнец Веланд (которого, кстати, Альфред Великий упоминает в своем переводе Боэция.— Е. М.) помещен здесь бок о бок с «Поклонением волхвов» (25); на другой стороне — Ромул и Рем; на третьей — Тит у Иерусалима; на крышке ларца — оборона здания человеком, стреляющим из лука по нападающим; его имя написано над ним — JEgli — Эгиль, Стрелок из лука (42), как Вёлунд — Кузнец в скандинавской мифологии... Очевидно, что художник не подозревал... о том, что в его творениях что-либо неправильно или неестественно. Именно в таких условиях сохранялась эпическая поэзия...»— так характеризовал выдающийся исследователь средневековой литературы В. Кёр «состояние умов» в это время5.
Наиболее ранним в плеяде выдающихся писателей Англии был Альдхельм (640—709 гг.), брат уэссекского короля Инэ, аббат одного из первых англосаксонских монастырей (Мальмсберийского), впоследствии Шер-борнский епископ7. Альдхельм прославился своими поэмами и сочинениями на латинском и древнеанглийском языках, хотя последние и не дошли до нас. Уильям Мальмсберийский (начало XII в.) рассказывает как о вполне достоверном факте, что св. Альдхельм — вскоре после смерти он был канонизирован — часто собирал немалое число слушателей, читая свои поэмы, написанные на древнеанглийском языке и прославляющие бога или повествующие о его деяниях8. Звучные стихи, традиционные по своей форме, привычные звуки арфы — все это облегчало слушателям восприятие нового содержания. Пользовались популярностью в церковной среде, и дидактические трактаты Альдхельма. В списке X в. его сочинению «О похвалах девственности» (De iaudibus virginitatis) предшествует небольшая поэма, свидетельствующая о высоком авторитете этого святого и поэта: «Святой и праведный автор, муж, искусный в книгах, благородный поэт Альдхельм, прославленный в земле англосаксов,— вот кто сочинил меня»,— говорится в этом стихотворении как бы от лица самой книги9.
К сожалению, мы знаем лишь одну сторону творчества Альдхельма — его дидактические трактаты, наставляющие монахов и монахинь, священников и паству в христианских добродетелях и проникнутые идеей христианского смирения и аскетизма. Но одно сочинение Альдхельма, дошедшее до нас, поражает своей самобытностью в трактовке материала и соединением англосаксонской и континентальной поэтических традиций. Это сборник «Загадки» (Enigmatae), содержащий 100 стихотворений на латинском языке, чрезвычайно разнообразных по темам и предметам. Здесь мы встретим описания облаков, созвездий, реальных и мифических животных (льва, единорога), предметов вооружения (щита, лат), мельницы и многого другого. Сам жанр загадок (в духе .христианской символики) был широко
распространен в Западной Европе. Непосредственным образцом сочинения Альдхельма послужили загадки Симфозия (конец V в.). Сохраняя в значительной степени дух своего образца — атмосферу наивного мистицизма, где любое проявление природы, любая вещь обретают высший смысл, отражая волю и мудрость божественного провидения, Альдхельм широко использует традиционный арсенал поэтических средств народного певца. В таких загадках, как «Ворон», «Орел», христианский символизм органично сочетается с реалистическим описанием предмета или явления:
Цвет изменяя, бегу, покидаю и небо и землю,
Ни в небесах постоянного нет, ни на суше мне места.
Нет никого, кто бы так терпел постоянно изгнанье,
Но зеленеет весь мир, орошенный дождем моих капель .
Глубоко поэтичное восприятие природы, трогательно-наивный взгляд на мир придают этой загадке Альдхельма («Облако»), как и многим другим, очарование истинной поэзии. Не случайно именно эти загадки были переведены или пересказаны на древнеанглийский язык и включены в «Эксетерскую книгу» (Exeter book), крупнейший сборник англосаксонской поэзии. Их связь с народной словесностью проявляется и в мироощущении, и в использовании поэтических приемов, типичных для традиционного эпоса и неизвестных латинской литературе: аллитераций, внутренних рифм, нанизывания синонимов. В поэтическом творчестве Альдхельма очевидно стремление сблизить церковную и народную культуры, облечь в формы народной словесности христианскую идеологию.
Выдающимся ученым и писателем своего времени был монах-бенедиктинец монастыря в Ярроу Бэда Достопочтенный (672 или 673—735 гг.)11. С его именем связана целая эпоха в развитии англосаксонской литературы. Богатство мысли, глубокая образованность и широта интересов Бэды проявились прежде всего в разнообразии тем его сочинений. Наряду с теологией и грамматикой, наиболее распространенными областями ученых занятий в то время, Бэда пишет трактаты по математике и медицине, истории и поэзии. Его сочинение «О природе вещей» (De natura rerum), основанное на трудах Плиния и Исидора Севильского, содержит рассказы о создании мира и его устройстве, описания различных явлений природы: звезд, солнца и их путей на небосклоне, комет, радуги, океана, многочисленных камней и растений. Хотя в этом труде во многом сказывается средневековый мистицизм, Бэда опирается
на достижения естественнонаучной мысли своего времени и на собственные наблюдения природы. Так, например, бич средневековья — чуму — Бэда описывает с позиций медицинских знаний VIII в. Возникновение болезни он связывает с чрезмерной засухой или излишней влажностью; он считает, что чума проникает в воздух и попадает в человека с пищей или вдыхаемым им воздухом. В этом описании, как и во многих других, проявляется тенденция к рационалистическому объяснению явлений.
Еще нагляднее эта тенденция обнаруживается в крупнейшем сочинении Бэды — «Церковной истории англов» (Historia ecclesiastica gentis anglorurn), законченной в 731 г. Этот труд — первый из длинного ряда сочинений, посвященных происхождению англосаксов и истории Англии,— оказал огромное влияние на развитие раннесредневековой английской и европейской историографии. Во-первых, это было первое авторитетное произведение, где использовалось новое летосчисление— от рождества Христова, предложенное римским диаконом Дионисием Экзегетом (в 525 г.),— вместо традиционного счета времени от сотворения мира. Авторитет Бэды был настолько высок, что его примеру последовало большинство средневековых хронистов. Во-вторых, Бэда первым выдвинул и воплотил в своем сочинении идею единства английского народа-—gens anglorum, объединяющего и англов, и саксов, и ютов.
Основная тема «Истории» — распространение и утверждение христианства в Англии. В соответствии с общеевропейской традицией Бэда начинает ее географическим описанием Британских островов. Историческое повествование открывается рассказом о завоевании Цезарем Британии и доведено до 730 г. Большой интерес проявляет Бэда к отдельным личностям, сыгравшим значительную роль в истории страны: королям и папским легатам, святым и простым монахам.
Прекрасно знающий западноевропейскую хронисти-ку, как и богословские сочинения, Бэда широко использовал все возможности уточнить имеющиеся в его распоряжении сведения, расширить и пополнить их. Большое значение он придавал точности и достоверности приводимых им сообщений. Он не упускает случая сослаться на авторитеты, процитировать автора, пользующегося всеобщим доверием. Создавая «Историю англов», Бэда предпринял небывалую по тем временам работу: он сам и его ученики сверили многие копии документов с оригиналами, хранящимися в других монастырях, а священник Нотхельм, посетивший Рим,
по просьбе Бэды переписал и сверил с оригиналами документы папской канцелярии, в частности послания Григория I в связи с миссией Августина.
Наряду с документальным материалом и более ранними хрониками (например, сочинением Гильдаса) Бэда привлекает многие легенды и сказания о событиях прошлого, сохранившиеся в народной памяти. Он прибегает к ним, когда они одни освещали какие-то моменты истории (как, например, упоминавшееся выше сказание о призвании Хентеста и Хорсы) или сохраняли более подробные сведения об известных по другим источникам событиях.
Велик вклад Бэды и в создание канонов агиографической литературы в Англии. Большой популярностью пользовались его небольшие жития, включенные в «Церковную историю»: житие св. Освальда из Нортум-брии и св. Чада из Мерсии. Позднее оба они были переведены на древнеанглийский язык и во многом определили канонические формы английской житийной литературы.
Сочинения Бэды получили широчайшее распространение в средневековье. Они высоко ценились во всех странах Западной Европы наряду с трудами Орозия, Исидора Севильского. Бэда стал непререкаемым авторитетом для многих поколений богословов, хронистов, ученых вплоть до эпохи Возрождения. И не случайно уже в конце XIII в. великий итальянский поэт Данте поместил Бэду среди других знаменитейших мудрецов и христианских мыслителей древности в рае п.
Большое влияние, оказанное Бэдой на развитие средневековых естественнонаучных и исторических представлений, было связано не только с глубиной и новизной материала в его трактатах, но и с тем, что Бэда имел немало учеников, впоследствии ставших видными деятелями английской церкви. Один из них, Эгберт, глава монастыря в Йорке, превратил его во всемирно известный культурный центр, где спустя несколько десятилетий получил образование Алкуин, один из вдохновителей каролингского Возрождения.
Если Бэда провел всю свою жизнь в монастыре Ярроу (7-летним мальчиком его отдали в Веармутский монастырь, а через два года он перешел в Ярроу), то Алкуин — одна из интереснейших личностей своего времени— это человек, немало постранствовавший на своем веку, видевший крупнейшие города средневековой Европы, близко знакомый с выдающимися церковными и светскими лицами и, наконец, активный участник многих важных событий. Его роль в истории западноев-
ропейской культуры — это роль выдающегося организатора и просветителя, инициатора небывалых по своему размаху и замыслу начинаний, но не самобытного писателя, каким явил себя миру Бэда.
Родившийся в 735 г. в Нортумбрии, Алкуин учился в Йорке у ученика Бэды Эгберта и стал, как предполагают, епископом Кентерберийским. В 780 г. он был послан в Рим и на обратном пути встретился с Карлом Великим. Встреча изменила всю дальнейшую судьбу Алкуина. С этого времени Алкуин находился преимущественно при дворе Карла, возглавляя созданную им академию. Лишь один раз (в 790—792 гг.) побывал Алкуин в Англии, а в конце своей жизни — с 796 г.— стал аббатом в Туре, где умер в 804 г.13 Литературное наследие Алкуина представлено работами исключительно церковного содержания: это трактаты по богословию, на этические тедоы, комментарии к Библии. Не-. большие исторические сочинения не представляют сколько-нибудь серьезного самостоятельного интереса. И тем не менее значение Алкуина в развитии средневековой культуры чрезвычайно велико. «Всем тем, что изучил я у учителей ... этим я весьма рад делиться с людьми нашей народности; и не только с ними, но со всеми, которые охотно ищут»,— писал он епископу Гигбальду около 783 г. Эти слова можно было бы поставить эпиграфом ко всей его деятельности. Целью его сочинений было «не искание новых путей в науке, но передача старых знаний в возможной их чистоте» м.
После смерти Бэды и Алкуина в развитии церковной культуры в Англии наступил некоторый застой, вызванный в первую очередь острой борьбой англосаксонских государств, особенно Нортумбрии, с нараставшей экспансией скандинавских викингов. Набеги на побережье Северного моря, ограбление и разрушение монастырей и церквей привели к утрате ими прежнего значения. Многие монастыри опустели, средств на их восстановление и поддержание не было: все силы уходили на борьбу, по большей части безуспешную, с отрядами датчан и норвежцев. Не удивительно поэтому, что первая половина IX в. отмечена падением грамотности. Это позволило Альфреду Великому 50 лет спустя написать: «Мало было людей по эту сторону Хамбера, кто мог бы понять службу на английском языке или перевести написанное с латыни на английский. И я думаю, что и за Хамбером таких не слишком много. И так их было мало, что я не могу вспомнить ни одного человека к югу от Темзы, когда я начал править этим королевством»15. , Конечно, Альфред сильно сгущает
краски, но англо-латинская литература к началу IX в. уже пережила и завершила период своего расцвета. Это было связано с вполне определенными причинами.
Памятники латиноязычной англосаксонской литературы, как это очевидно даже из столь краткой их характеристики, были рассчитаны на образованного читателя, разбирающегося в тонкостях богословской, исторической и естественнонаучной мысли своего времени. Однако таких читателей в средневековой Англии, естественно, было меньшинство. Несравненно больше было людей, восприятию которых церковная культура была доступна лишь в адаптированном виде. Удовлетворение духовных потребностей этой — основной — части населения: низшего клира, рядовых членов христианских общин — потребовало качественно нового по сравнению с эпохой Бэды и Алкуина подхода к христианской литературной традиции. Необходимость углубления христианского вероучения в массах, распространения элементарных знаний определила два последующих подъема английской прозы: конца IX и второй половины X — первой половины XI в., но прозы уже не латино-, а англоязычной.
Первый из них связан с литературной деятельностью уэссекского короля Альфреда Великого (849— 899 гг.)16. Продолжая гуманистические традиции Алкуина, Альфред предпринял беспрецедентный для своего времени труд: перевод крупнейших латиноязычных произведений европейского средневековья на древнеанглийский язык. Он и его приближенные — а Альфред собрал вокруг себя по примеру академии Карла наиболее выдающихся представителей богословия, философии и литературы — перевели всего пять произведений. Но их выбор обнаруживает глубину знаний и тонкость понимания культуры эпохи. Альфред хотел «передать на языке, который мы все понимаем, несколько книг, наиболее необходимых всем людям...»17. Эти сочинения— наиболее полная история своего народа («Церковная история англов» Бэды), подробнейшее изложение всемирной истории и географических знаний («Семь книг истории против язычников» Павла Орозия), произведение, наложившее отпечаток на развитие философской мысли всего средневековья («Об утешении философией» Боэция), литературный памятник, передающий в форме, доступной для широкого читателя, сущность патриотического миропонимания («Монологи» св. Августина), и кодекс христианской этики («Обязанности пастыря» папы Григория I).
Благодаря просветительской деятельности Альфре-
да — работа над переводами была начата в 887 г. и закончилась лишь с его смертью — круг читателей этих выдающихся произведений сильно расширился. Идеи, конкретные сведения о мире, образы и символика этих сочинений стали доступны многим, приобщившимся таким образом к вершинам христианской культуры. Более того, Альфред не ставил своей задачей точный перевод избранных им сочинений: пополнение имеющихся в оригинале сведений собственными, комментирование переводимого — таковы методы работы Альфреда. Именно ему современные исследователи обязаны ценнейшими сведениями о жизни народов северной и северо-западной Европы, включенными во всемирную историю Орозия.
В эпоху Альфреда и, вероятно, по его прямому указанию началось составление первой «Англосаксонской хроники», содержащей погодное изложение событий, происходивших как в Уэссексе, так и в других королевствах. Не претендующие на стилистическую изысканность или пышность, безыскусные повествования, составленные разными авторами, дают широкую, насколько это возможно в хронике, картину жизни англосаксонского общества X—XI вв.
Со смертью Альфреда закончился первый взлет англоязычной прозы, и в последующие 50 лет она не дала миру сколько-нибудь выдающихся произведений. Более того, даже статьи «Англосаксонской хроники» первой половины X в. обнаруживают упадок повествовательного мастерства. Второй подъем англосаксонской прозы, который иногда называют бенедиктинским Возрождением, приходится на вторую половину X—первую половину XI в. После церковной реформы первой половины X в. в монастырях, ослабленных нападениями язычников-скандинавов, возрождается духовная деятельность, принимает широкий размах переписка книг, составляются новые сборники церковных и светских произведений. Именно к этому времени относятся основные дошедшие до нас рукописи, содержащие эпические памятники (см. ниже). Но центральное место в этой деятельности занимает распространение и углубление богословия, христианской экзегезы и этики. Появляется огромное — несравнимое с предшествующим периодом — число проповедей, комментариев к Библии и сочинениям отцов церкви, житий и оригинальных сочинений на богословские темы.
Среди многочисленных авторов этого периода выделяются Эльфрик (995—1020/1025 гг.) и Вульфстан (?— 1023 г.)18. Они оба были крупными церковными деяте-
лями, особенно Вульфстан, епископ Лондона с 996 г. и Йорка с 1002 г., который оказал значительное влияние на внешнюю и внутреннюю политику Англии. Значительная часть наследия обоих — проповеди, рассчитанные на чтение перед широкими кругами верующих и посвященные поэтому различным аспектам христианской этики, комментированному пересказу некоторых ветхо- и новозаветных сюжетов, близких житиям
святых.
Продолжая традиции Альфреда, Эльфрик осуществляет перевод значительной части Ветхого завета на древнеанглийский язык, снабжая его своими комментариями и дополняя жизнеописаниями трех уэссекских королей: Альфреда, Этельстана и Эдгара. Отбор библейских сюжетов был обусловлен двумя основными задачами. С одной стороны, в условиях нового подъема борьбы со скандинавами повествования о таких библейских героях, как Юдифь, Эсфирь, Самсон, а также добавленные Эльфриком жизнеописания приобретали отчетливое патриотическое звучание, поскольку рассказывали о победах, одержанных этими героями над врагами своего народа. Во-вторых, Эльфрик сознательно избегает сложных богословских вопросов и сюжетов, которые могли бы заронить сомнения или поколебать веру слушателей или читателей его произведения. Наконец, Эльфрик первым из англосаксонских писателей задумывается над целями и характером перевода, излагая свои соображения в предисловии к книге «Бытия»: «Тот, кто переводит, или учит (переводу.— Е.М.) с латыни на английский язык, всегда должен так располагать слова, чтобы его английский сохранял особые свойства того языка. Иначе будет введен в заблуждение тот читатель, кто не знаком с особыми свойствами латыни» 19.
Подъем англосаксонской прозы в конце X — первой половине XI в. проходил в рамках церковной литературы в отличие от светской по преимуществу литературной деятельности Альфреда. Это определило основные особенности творчества Эльфрика и Вульфстана: сугубый дидактизм, стилистическую усложненность наряду с упрощением содержания.
Эти черты оказали влияние и на получившие тогда же распространение «массовые» жанры светской литературы. Предназначенные для широкого и зачастую мало искушенного в книжной премудрости читателя, эти произведения отличались стереотипностью тематики и литературной, формы. Тем не менее и среди них встречалась сочинения большой, художественной ценно-
сти. Одним из них является англосаксонский поэтический «Бестиарий» («Физиолог»). В многочисленных «Физиологах», пользовавшихся большой популярностью у средневекового читателя, в духе христианской символики изображались различные реальные и фантастические животные: единорог, феникс, кит, свойства которых толковались с этико-дидактических позиций. Англосаксонский «Бестиарий» — одно из лучших произведений этого жанра — содержит описания всего трех животных: пантеры, кита и куропатки — существ, населяющих три стихии: землю, море и воздух20. Все три поэмы объединены общим вступлением и заключением, но каждая из них в сущности представляет самостоятельное и законченное произведение, лишь в общих чертах напоминающее свои континентальные прототипы. Пантера изображается прекрасным, с изумительной красоты шкурой существом, добрым и миролюбивым ко всем, кроме Дракона-дьявола, с которым она, символизируя Христа, ожесточенно сражается. Ее трехдневный сон после трапезы и последующее пробуждение должны олицетворять смерть и воскресение Христа. Символизирующий Сатану кит, распахнув пасть, заглатывает рыб, неосторожно заплывших в нее, или увлекает в пучину моря моряков, принявших его широкую спину за остров:
Так искусный лукавец
завлекает многих в бездну, злобесный,
в обитель огненную, всех, кто усердно
силе диавольской служил грехами
и охотно при жизни
внимал в этом мире
злонамеренным его советам, а после за падшими
пасть смыкается, челюсти чудовищные,
крепчайшие створы врат адских...
(Кит, 71—78)
Широкое использование образно-символической христианской сюжетики, как и осмысление ее в духе традиционных легенд (например, в стихотворении «Кит» легенды об острове, который на деле является спиной огромного кита), в «Бестиарий» и других поэмах («Феникс» и др.) было вполне естественно. Существуют три основных источника «массовой» литературы англосаксонского периода: классическая, библейская и национальная традиции21. Отголоски античной литературы, если таковые имеются22, доходили до Англии лишь как часть христианской традиции, переосмысленные и переработанные западноевропейскими писателями. Напротив, влияние христианских этических и эстетических представлений было чрезвычайно сильно. Библия и
вместе с ней церковная повествовательная литература стали неиссякаемым источником тем и сюжетов. Вновь и вновь разрабатывались темы сотворения мира, отдельные эпизоды жизни Иисуса Христа, рассказы о жизни апостолов, христианских святых, причем они облекались в формы привычные, а потому доступные недавно обращенным членам христианских общин. В проповедях и повествовательных произведениях обнаруживается стремление познакомить аудиторию с основными сюжетами Ветхого и Нового заветов. Совершенно очевиден уклон к занимательности повествования, часто в ущерб рассуждениям богословского характера. В произведениях, ориентированных на широкого читателя, значительно меньше места уделяется христианской догматике. Произведения приспосабливаются к восприятию неискушенного и малосведущего читателя, а чаще, вероятно, слушателя.
Вес эти тенденции обнаруживает один из наиболее популярных жанров «массовой» средневековой литературы— жития святых23. Основы англосаксонской агиографии были заложены Бэдой в кратких, входящих в «Церковную историю» житиях и в одном из первых пространных житий местного англосаксонского святого— Кутберта. Каноническая форма жития, выработанная в Западной Европе, была усвоена Бэдой, а чере i него и другими англосаксонскими авторами. Однако и у Бэды, и особенно в последующих произведениях жанр претерпевает изменения под влиянием стремления приспособить текст к восприятию широкой аудитории. Большую роль в этом процессе играло раннее (по сравнению с другими странами Западной Европы) развитие церковной литературы на древнеанглийском языке. Собственно, латинский язык никогда и не был в Англии единственным официальным языком, как во Франкском государстве, Германии и других странах: даже первые судебники (например, «Законы Этельбер-та» — Кент, между 597 и 616 гг.) были записаны на древнеанглийском языке.
Уже в VIII в. были сделаны первые поэтические переложения библейских сказаний на древнеанглийском языке. Однако эти тексты надо было не просто перевести на понятный всем язык: их содержание должно было стать доступным населению своим мировосприятием, оценками, повествовательными формами, т. е. переводу подлежала не только словесная оболочка произведения, его «буква», но и — в первую очередь т— его «дух», содержание. Но мог ли такой «перевод» осуществляться на путях создания совершенно новой,
оригинальной поэзии, радикально отличной от той, что уже существовала в обществе, что пользовалась лю-оовью как кэрлов, так и знати, что звучала на пирах и собраниях в королевских бургах, деревнях и даже монастырях? Разумеется, нет — она была бы столь же непонятна и далека большинству слушателей, как и латинская литература. Закономерно поэтому неосознанное, но неизбежное обрапдение к поэтике традиционного и наиболее распространенного вида словесности англосаксов—героического эпоса, взаимодействие которого с христианской литературой привело к самобытным результатам, не имеющим аналогий в других европейских литературах,— бурному развитию эпической поэзии в VIII—X вв.
Относительная терпимость англосаксонской церкви к народной культуре в эпоху распространения христианства привела к тому, что монастыри стали не только проводниками новой религии в обществе, но и центрами, где сосредоточилась запись памятников народной словесности, правда, с соответствующим ее отбором и обработкой. Именно этим объясняется довольно большое число дошедших до нашего времени памятников народной поэзии. Ведь из центральногерманской поэтической традиции сохранились лишь небольшие отрывки: фрагмент «Песни о Хкльдебранте» и два заклинания. О древнейшей поэзии франков мы не знаем практически ничего. Исчезла, оставив лишь незначительные следы в эпосе других народов, эпическая традиция готов. И только Скандинавия донесла до нас богатейшее поэтическое наследие «героической эпохи»: мифологические и героические песни «Эдды». Конечно, нам известна лишь незначительная часть произведений, исполнявшихся англосаксами24, большинство эпических поэм утрачено безвозвратно. Однако четыре сохранившиеся рукописи древнеанглийских поэтических текстов (все они написаны около 1000 г.)25 и несколько фрагментов обнаруживают редкое богатство и разнообразие тем, сюжетов, поэтических форм. Не случайно поэтому VIII—X века считаются эпохой расцвета англосаксонского эпоса.
В его основе лежал круг идей и представлений, составляющих то, что можно условно назвать художественным сознанием той части населения, в чьей среде возникали и передавались из поколения в поколение, пересоздаваясь в каждом новом исполнении, эпические
произведения. Эстетические потребности сочетались в нем с этическими и юридическими взглядами. В эпосе отражались представления о всемирной (сколь бы ни был ограничен «весь мир») истории и месте в ней истории своего народа; в нем воплощались и передавались последующим поколениям сведения о прошлом; через эпические предания осуществлялись и введение каждого нового поколения в историю, и непрерывная связь времен от прошлого к будущему. Эпос заключал в себе космологическую модель и идеальную модель общества, воссоздавая макро- и микрокосм в поэтических формах. По своей природе эпическое творчество было синкретично и полифункционально и являлось основной формой выражения знаний, чувств, устремлений и идеалов своих создателей26.
Именно поэтому роль исполнителя и создателя эпических сказаний — скопа — в англосаксонском обществе была чрезвычайно велика27. Скоп — приближенный короля, сидящий у его ног на пиршестве, получающий щедрые дары и встречаемый почетом, когда он странствует по свету. Скоп— хранитель мудрости, передаваемой им людям, кладезь знаний. Поэтому в англосаксонских поэмах одно из первых достоинств мудрого человека — знание им многих песен: этим достоинством обладают и Моисей («Исход»), и Хродгар («Беовульф»), и Соломон, и многие другие. «Как драгоценные камни пристали королеве, оружие — воинам, так и хороший скоп — людям»28,— гласило одно из древнеанглийских гномических стихотворений. Без скопа невозможно было обойтись на пиру и в походе, он находился рядом с королем и в дни войны, и в часы мира, чтобы прославлять его подвиги. Только в песнях могла сохраниться и быть передана, потомкам слава героя, память о его доблести и щедрости:
... и приближенный,
любимец конунга, славословий знаток
многопамятливый, сохранитель преданий
старопрежних лет, он, по-своему
сопрягая слова,
начал речь—
восхваленье Беоаульфа; сочетая созвучья
в искусный лад, он вплетал в песнопение
повесть новую, неизвестную людям
поведывал быль...
(Беовульф, 867—874)
Скоп, как правило, дружинник, принимавший участие и в военных действиях. Но сохранилось немало упоминаний о том, что и знатные люди, и короли нередко выступали в качестве певцов: так рассказывают о св. Дунстане и Альдхельме, об Альфреде Великом
и многих других. Исполнение песен не считалось чем-то постыдным, недостойным знатного или просто благочестивого человека. Напротив, умение в звучных стихах поведать о прошлом — свидетельство мудрости, знаний, богоизбранности. Не случайно так часты изображения скопа на миниатюрах древнеанглийских рукописей, и даже библейские персонажи, например Давид, представлены с арфой в руках (39).
Как рассказывается в поэме «Видсид» — «Многостранствовавший», скоп часто переходил от одного правителя к другому, разнося славу и хулу по всему свету:
Так скитаются,
как судьба начертала, песносказители
по землям дальним, о невзгодах слагая слово,
о благих щедроподателях: и на севере, и на юге,
всюду найдется
в песнях искушенный,
не скупящийся на подношенья
державец, перед дружиной жаждущий упрочить
дела свои славословьем, покуда благо жизни
и свет он видит.
(Видсид, Ш—142)
Странствуя из королевства в королевство, исполняя песни при дворах правителей разных земель и народов, скоп вел рассказ о деяниях давно погибших властителей Эрманариха и Аттилы, о победах над чудовищами, великанами и драконами, грозившими гибелью их соплеменникам, отважных и могучих героев — Беовульфа, Сигмунда. Жажда битвы звучала в его сказаниях о распрях и кровопролитных сражениях между данами и ютами, гуннами и бургундами, геатами и свеями, и неважно было, что нет уже на свете многих из этих племен. Они населяли эпический мир англосаксонского скопа и его слушателей и в нем обретали новую полнокровную жизнь.
Были и новые песни у скопа — песни, рожденные христианством:
...там арфа пела
и голос ясный песносказителя,
что преданье повел от начала,
от миротворенья; пел он о том,
как Создатель устроил сушу—равнину,
омытую морем,
о том, как Зиждитель
упрочил солнце и месяц на небе,
дабы светили всем земнородным,
и как Он украсил зеленью земли,
и как наделил Он жизнью тварей,
что дышат и движутся.
(Беовульф, 89—98) 61
Были и печальные песни — о герое, отторгнутом от мира, в котором он жил и которому остались лишь воспоминания о минувшем счастье в кругу друзей за пиршественным столом. Весь этот разнообразный по истокам, сюжетике и настроениям материал объединял в своей памяти дружинный певец.
Цельность эпического фонда англосаксов зиждилась, с одной стороны, на единстве всеобъемлющего образа мира, созданного художественным переосмыслением действительности в сознании многих поколений скопов, с другой — на общей системе стихосложения с традиционным комплексом поэтических средств и приемов29. Имелся выработанный веками набор метафор, сравнений, стереотипных описаний, которые могли использоваться в самых различных произведениях30. Память скопа услужливо подсказывала ему слова и выражения, которые следует употребить при рассказе о той или иной ситуации, при описании определенного события, независимо от того, происходит ли оно с христианским святым, Беовульфом, великаном Гренде-лем или языческим правителем.
Вот, например, скоп живописует сражение, ожесточенное и кровопролитное. Не прибегая к его подробному описанию, он говорит лишь о воронах и волках, насыщающихся на поле брани31. Этот условный «типовой» образ вбирает в себя все множество возможных значений и их нюансов и, лишенный конкретности, применим к характеристике битвы в любой стране и в любое время:
...рать побита
гордая возле города, кого-то ворон унес
через пучину высокую,
кого-то волчина серый растерзал по смерти...
(Скиталец, с. 79—83)
На поле павших
лишь мрачноперый черный ворон
клюет мертвечину клювом остреным,
трупы терзает
угрюмокрылый
орел белохвостый,
войностервятник,
со зверем серым,
с волчиной из чащи.
(Битва при Брунанбурге,
Птицы битвы кричали, падалью сытые — в росе оперение,—• кружили над трупами жаждущие сражения. Волки в ярости, мрачные звери боя, во мраке пели песнь погребальную войску вослед...
60—65)
(Исход, 162—166, перевод автора)
Стереотипность средств выражения наряду с единой системой стилистических приемов (повторов, нанизывания синонимов и т. д.) создавала единство поэтической ткани различных по характеру и сюжетам памятников, скрепляла героический мир англосаксонского эпоса. Имеете с тем единство поэтики эпических произведений не может скрыть разнообразия их видов. Развитие художественного сознания как результат начавшейся дифференциации отдельных сторон общественного сознания в целом, с одной стороны, и влияние христианской словесности с ее осознанными и теоретически осмысленными литературными формами — с другой, вели к постепенному усложнению и расслоению эпической словесности, к появлению новых повествовательных видов. Этот процесс, вероятно, шел постепенно, медленно. Но мы ничего не знаем о нем. Известен лишь его итог — в VIII—X вв. на английской почве создано множество эпических памятников различной тематики, отражающих различные стороны жизни, в различной степени подвергшихся влиянию христианского мировоззрения и литературы.
Каковы же типы этих произведений, можно ли их считать самостоятельными жанрами эпической словесности, что позволяет вычленить их?
Наиболее очевидный признак, на основании которого обычно выделяются отдельные группы памятников,— сюжет и его ориентация на отражение определенного круга событий и явлений32. Так, в поэмах, причисляемых к героическому эпосу, центральное место занимают борьба с чудовищами, племенные распри и войны. Содержание небольших по объему стихотворений, обычно называемых героическими элегиями,— психологическое состояние человека, потерявшего своего господина и близких и остро ощущающего свое одиночество. Религиозный эпос представляет собой обработку сюжетов библейских легенд и житий святых. Исторические песни посвящены поэтическому рассказу о реально происходивших событиях. Разграничение тем и сюжетов влечет за собой ряд других существенных признаков, совокупность которых и позволяет рассматривать выделенные группы как самостоятельные жанры в системе англосаксонского эпоса. Наиболее важными моментами представляются: соотношение памятников различных жанров с общегерманской эпической традицией и с христианской литературой; их отношение к истории, т. е. уровень и характер их историзма; взаимодействие в них правды и вымысла и понимание того и другого; их композиционная структура; трактов-
ка образа героя, а также основные элементы эпического мира памятников, в первую очередь их пространственные и временные характеристики. Некоторые отличия имеются и в социальном функционировании различных жанров, в их предназначенности для определенной аудитории, хотя это обстоятельство и не всегда очевидно в достаточной степени.
Вместе с тем нельзя преувеличивать самостоятельность, отчлененность жанров в англосаксонской эпической поэзии. «Они не противопоставлены достаточно четко друг другу как разные художественные формы»33, и потому границы между ними размыты и неопределенны. Не случайно нет согласия в вопросе о том, например, какие стихотворения относить к жанру героических элегий34, а в «Беовульфе» имеются эпизоды, которые — будь они записаны отдельно — были бы сочтены героическими элегиями, религиозно-эпическими и даже религиозно-дидактическими произведениями. Проницаемость и взаимопереплетение жанров свидетельствуют не только о начальном этапе их развития, но и о еще существующем единстве, цельности эпической поэзии англосаксов, жанровые различия внутри которой представляются по преимуществу вариантами, модификациями поэтической картины мира.
Именно это делает невозможной историческую классификацию эпических жанров^, тем бэлее что все памятники были созданы в дошедших до нас редакциях в промежутке между серединой VIII и концом X в., т. е. практически одновременно. За исключением нескольких произведений — наиболее раннего («Гимн» Кэд-мона — около 680 г.) и наиболее поздних (исторические песни) — нет оснований и для их датировки, хотя попытки такого рода предпринимались неоднократно36. Поэтому единственно возможным представляется выяснение типологии эпических жанров.
Наиболее ранними с типологической точки зрения являются памятники собственно героического эпоса — «Беовульф» (что не исключает возможности более позднего происхождения сохранившейся до наших дней его редакции), «Вальдере», «Битва при Финнсбурге». Это сказания на традиционные сюжеты, восходящие по преимуществу к общегерманскому эпосу и имеющие в нем параллели. Влияние христианской идеологии обнаруживается в них в той мере, в какой она проникает в художественное сознание как один из составляющих (но не определяющих) его элементов. Однако надо отметить, что к этой группе относятся произведения типологически неоднородные. Поэма «Беовульф», пове-
ствующая о победах героя над чудовищами, восходит, очевидно, к архаическим формам эпоса древних германцев, от которого сохранились лишь отдельные следы в скандинавских повествовательных мифологических песнях. Тем удивительнее кажется соединение в рамках одного, цельного произведения мотивов, сюжетов, представлений многих эпох. В нем мы находим элементы различных эпических жанров: элегий (например, жалобы воина), других героических сказаний (песнь о Сигмунде, песнь об Ингельде и др.), религиозного эпоса (песнь о создании мира или обращение Хродгара к Беовульфу). В нем сочетаются представления родового общества с феодальной этикой, героический идеал воина-богатыря — с образом «справедливого правителя».
Иной характер имеют другие героико-эпические произведения, которых, правда, сохранилось очень мало— и по преимуществу во фрагментах. Их герои, как правило, легендарно-исторические личности, сюжетом служат межплеменные (или межгосударственные) распри, они посвящены какому-либо одному событию или цепи событий, составляющих единый сюжет, идеальный эпический мир наделен некоторыми чертами реальности.
Типологически более поздними жанрами представляются религиозный эпос и героические элегии. И тот и другой жанр возникают под сильным воздействием англосаксонской христианской литературной традиции, но разных ее аспектов.
В памятниках религиозного эпоса наиболее ярко проявляется взаимодействие двух пластов англосаксонской культуры и их переплетение в сознании англосаксов. Библейские и житийные сюжеты перерабатываются в формах традиционного германского героического эпоса. Эту переработку, однако, нельзя рассматривать как «вливание молодого вина в ветхие мехи», т. е. как механическое сочетание христианского содержания с традиционной эпической формой. Использование древнегерманской эпической поэтики неизбежно влекло за собой воссоздание (в более или менее полном объеме) картины мира, свойственной германскому дохристианскому обществу. Оно трансформировало понятия христианской этики в привычные и доступные всем героико-эпические представления и тем самым включало христианские сюжеты в привычный мир героических сказаний. Не случайно большая часть памятников основывается на сюжетах, имеющих в себе героические черты, выбираются те библейские персонажи и святые,
поступки которых согласуются с представлениями о героическом. Это Юдифь, убившая Олоферна и тем самым спасшая родной город от полчищ ассирийцев. Это св. Андрей, сокрушающий каннибалов-мирмидонян, чтобы освободить попавшего к ним в плен св. Матфея. Это Моисей, мудрый, знающий много песен вождь и правитель, ведущий свое племя из плена и организующий достойный отпор настигающему их войску египтян (поэма «Исход»). Библейский сюжет развертывается и разрастается в соответствии с требованиями героико-эпической поэтики, хотя временные и пространственные рамки строго ограничены оригиналом. Вводится множество эпизодов, по преимуществу героического содержания, цепь которых и создает постепенное развитие действия.
В героических элегиях получил развитие совершенно иной аспект христианской литературы. Это древнейшие в западноевропейской литературе произведения на народном языке, где в центре внимания рассказчика— психологический мир героя. Разумеется, он стереотипен, как стереотипна и сама ситуация во всех произведениях этого жанра. Более того, внимание сосредоточено лишь на одной стороне этого мира — на чувствах печали, одиночества, острого ощущения изменчивости мира, преходящего характера его радостей и скорбей. Противопоставление счастливого прошлого и трагического настоящего создает контраст, который и лежит в основе композиции элегий. Но все переживания героя развертываются на фоне идеального героического мира. Он присутствует в воспоминаниях героя о счастливом прошлом. Им определяется трагизм ситуации — оторванность героя от этого мира, невозможность для него проявить свою героическую сущность. Герой безлик, у него (за исключением певца Деора) даже нет имени.
Исторические песни представляют более поздний этап развития эпоса. Их связь с общегерманской традицией проявляется лишь в системе стилистических приемов и образов; они ориентированы на изображение конкретного, реального, исторически достоверного события, хотя принципы его отражения содержат много традиционных черт, подчас фантастических. Как рассказ об одном событии, они композиционно строятся на последовательном развертывании действия во времени; место и время действия, как правило, строго ограниченны, одноплановы, приурочены к реальному месту и времени, где и когда происходило событие, лежащее в основе сюжета произведения. Таковы наиболее известные песни «Битва при Мэлдоне» и «Битва ПРИ Ьрунанбурге», таковы и менее значительные_«Песнь о смерти короля Эдуарда» и др. Но и в исторических
бш™ й В ЭЛ6ГИЯХ' И В Религи°зном эпосе мь^находим общую для всех них систему ценностей, единое все объемлющее поэтическое видение мира, наконец' эпический мир и эпическое общество, созданные многими поколениями певцов и наиболее полно воплотившиеся в памятниках героического эпоса.
В сиянии славы: традиционный героический эпос
Мир англосаксонского эпоса возродился для современного читателя в 1815 г. вместе с первой публикацией поэмы «Беовульф». Издание исландского любителя древностей Торкелина, снабженное переводом памятника на латинский язык, сразу же привлекло внимание как специалистов в области древнегерманской литературы, так и широкой публики. Хотя первоначально поэма рассматривалась как создание поэта-датчанина (о чем говорит и само название, данное Торкелином: «О деяниях данов в III и IV вв. Датская поэма на англосаксонском языке»), значение ее было оценено практически сразу. Ярким свидетельством тому являются следующие одно за другим издания поэмы в Англии, Германии, Скандинавских странах и ее переводы на современные европейские языки2.
Интерес к англосаксонской словесности, пробужденный «Беовульфом» в этих странах, находился в тесной связи с господствовавшим в то время романтическим увлечением фольклором. Начались поиски других памятников англосаксонского эпоса, и их результаты не замедлили сказаться. Публикация «Эксетерской рукописи» вывела из небытия героические элегии и такие крупнейшие произведения религиозного эпоса, как «Юлиана» и «Христос». В ней же оказалось и второе по значению произведение героического эпоса — «Widsith» («Многостранствовавший»). Вскоре в Лэмбетском дворце были найдены фрагменты героической поэмы «Битва в Финнсбурге», а в составе «Англосаксонской хроники» выявлены исторические песни. Только тогда, к концу XIX в., англосаксонская словесность предстала во всем ее многообразии и великолепии.
Бесценным источником сведений о древнеанглийском героическом эпосе стала поэма «Видсид» («Многостранствовавший»), написанная, как полагают, в VII в. Это рассказ скопа о племенах и народах, у которых он побывал, о королях, при дворах которых он исполнял
спои песни и которых он восхваляет за щедрость и доблесть:
стран и народов,
и нередко он радовался на пирах дарам...
(Видсид, 1—4)
Видсид вымолвил,
раскрывая словосокровищницу, из мужей путешествующих
обошел он всех больше
За этим многообещающим зачином следует, однако, не поэма, действительно исполнявшаяся в то время при дворах прославленных вождей, и не повествование о реальных странствиях певца, хотя многие из названных далее королей существовали на самом деле. Основная часть поэмы состоит из трех пространных перечислений— тул3. Первая — «перечень королей» — содержит длинный, до 35, ряд имен знаменитейших правителей различных племен и народов, начиная с Александра Македонского:
Долго Хвала
достохвально правил, а самым сильным
был Александр среди людей и благоденствовал больше
всех на этом свете,
о ком я слышал. Этла правил гуннами,
Эорманрик готами, Бекка банингами,
бургендами—Гивика...
(Видсид, 14—19)
Второй перечень, мало отличаясь стилистически от первого, перечисляет племена, третий — правителей, у которых Видсид побывал сам.
Уравновешенность, плавность этих тул подчеркивается стройностью композиции поэмы, ее своеобразной симметричностью." краткие вступление и заключение (по 9 строк) обрамляют тулы, а небольшие «автобиографические» пассажи соединяют их и придают им завершенность. Среди упомянутых в тулах 69 королей (чаще это племенные вожди) и 70 народов часть хорошо известна по памятникам европейской средневековой литературы: Аттила (Этла), король гуннов, который царствовал с 434 по 453 г.; остготский король Эрмана-рих (умер около 375 г.); Теодорих, король франков (после 594 г.); такие народы, как англы, финны, саксы, франки; и по эпическим произведениям древних германцев: герои поэмы «Беовульф» — Хродгар и Хродульф (в «Видсиде»—Хродвульф, в скандинавских сказаниях — Хрольв Жердинка); герой песни «Битва при Финнсбурге»— Финн из рода Фольквальдингов; упомянутый в песнях «Старшей Эдды» и в «Хеймскрингле» правитель
свеев Ангантюр (в «Беовульфе»— Онгентеов) и др. Многие же имена и этнонимы не встречаются больше нигде, и мы не знаем, кто такие Вульфинги или Боинги, кем был Холен, правивший Вроснами, и т. д.
Чрезвычайно широкий хронологический диапазон поэмы явно не согласуется с ее сюжетной канвой — путешествием Видсида, охватывая, если отбросить упоминания Александра Македонского и библейских народов (считается, что это позднейшие вставки переписчика поэмы), III—VI века н. э. Столь же обширен и пространственный кругозор рассказчика: в поле его зрения находятся народы от крайнего северо-востока ойкумены (финны) до ее южных пределов (сарацины). Поэтому выявить какую-либо систему в перечнях не удается.
Вместе с тем создателям «Видсида», очевидно, лучше известен ареал древнейшего расселения германских племен: побережье Балтийского и Северного морей; народы и правители Центральной Европы упоминаются в поэме реже4. К германским древностям ведет и та единственная связующая нить, которая сообщает цельность всему произведению и объединяет содержание тул: все известные нам имена принадлежат героям древнегерманских эпических сказаний. Некоторые из них занимают видное место в сохранившихся эпических произведениях, другие кратко упоминаются в них (как, например, Оффа в «Беовульфе» и «Деоре», Гудхере в «Беовульфе» и «Битве в Финнсбурге»). Связь перечисленных имен — будь то имена исторически реальных или вымышленных лиц — с эпической традицией особенно отчетливо прослеживается во второй туле, где приводятся не только имена, но и содержатся намеки на наиболее известные сюжеты, героями которых они являются. Вспоминая, например, Хродгара, рассказчик перечисляет целый ряд сюжетов, сопрягавшихся с его именем:
Хродвульф с Хродгаром, храбрые, правили
мирно, совместно,
племянник с дядей,
войско викингов
выгнав за пределы, силу Ингельда,
сломив в сраженье, порубив у Хеорота
хеадобеардов рать.
(Видсид, 45—49)
Замечание об изгнании племени (?) викингов остается неясным — других упоминаний этого сюжета нет, остальные сюжеты более подробно освещены в «Беовульфе». Во многих случаях аллюзии рассказчика теряются для современного читателя поэмы, но, оче-
видно, они были полны смысла для слушателей той эпохи, и, возможно, именно широкие и разнообразные ассоциации, вызываемые этими упоминаниями, обусловливали значение поэмы.
Как ни кратки эти аллюзии—иногда лишь одно имя, один этноним,— они дают неповторимую возможность окинуть единым взором многообразие героико-эпических сюжетов, известных англосаксонскому скопу в VII—VIII вв.5 При таком взгляде «сверху» видно, что основная часть сюжетов приурочена к двум временным моментам: первая группа связана с эпохой великого переселения народов и составляет континентальную общегерманскую традицию; вторая—с местными (англосаксонской, скандинавской) традициями.
Эпоха великого переселения народов, важный этап в историческом развитии древних германцев, стала «героическим веком» эпического творчества6. В произведениях, восходящих к этому времени, формируются неповторимые особенности древнегерманской эпики: представления о героике и героической этике, о времени и пространстве, образы идеального воина и правителя, способы обобщения и художественного преломления действительности — все то, что воплотилось в своеобразных формах героического мира германского эпоса . В эту эпоху уходят корнями основные эпические сюжеты, объединенные в несколько циклов: слившиеся воедино предания о гибели первого и второго Бургундских королевств; сказания о Теодорихе из Равенны (471—526 гг.), о короле гуннов Аттиле и др. Сложившиеся до переселения англосаксов на Британские острова, эти сказания стали достоянием всех (или по крайней мере большинства) германских народов. Потому так многочисленны варианты отдельных сказаний, так разнообразны их интерпретации в памятниках, записанных от VI до XIV в. в разных частях германского мира. Нашли они отражение и в англосаксонском эпосе хотя и не в виде дошедших до нас эпических поэм, но как краткие аллюзии в «Видсиде», «Деоре», «Беовульфе».
Значительная часть этих сюжетов более или менее непосредственно связана с именами крупнейших вождей эпохи великого переселения народов: Аттилой, Эрмана-рихом, Теодорихом из Равенны. Их образы становятся тем стержнем, вокруг которого циклизуются предания. Не теряют они своего значения и в эпоху более позднюю, когда складываются местные эпические традиции. Второй—«национальный»—-героический век (для англосаксов, вероятно, охватывающий VII— VIII вв.) создает собственные сюжеты (англосаксон-
ские сказания о короле Оффе, скандинавские — о Хель-ге), выдвигает новых героев (Беовульфа, Сигурда), трансформирует — в иных исторических условиях — структуру и этику героического мира. Однако общегерманские традиции сохраняются не только как источник, питающий местное творчество, но и как эталон, соотнесенность с которым становится важным элементом героического мира. В местных эпических сказаниях общегерманские герои перестают быть активными участниками событий, о которых рассказывается в том или ином произведении, но либо присутствуют на периферии повествования, либо упоминаются в нем и обретают значение поэтических символов, знаменующих отнесение действия к «героической эпохе». Аттила, Эрмана-рих, Теодорих в англосаксонском, да в значительной мере и в скандинавском эпосе не столько действующие герои, сколько приметы, знаки эпического героического века. Уже в «Видсиде» отсутствует хронологическая упорядоченность (жившие на протяжении трех столетий правители все оказываются современниками Видсида), забыта (или скорее представляется несущественной) та конкретная роль, которую каждый из них играл в судьбах германского мира. Остались лишь признание их выдающегося положения и их исконная принадлежность героическому миру древних германцев.
Поэтому хотя бы на периферии действия большинства германских героико-эпических сюжетов присутствуют эти персонажи. Так, Видсид начинает свои странствия с посещения Эрманариха (Видсид, 6—8), ему же когда-то принадлежало драгоценное ожерелье, полученное Беовульфом. В ряду сюжетов, перечисляемых в «Деоре» и служащих параллелями к несчастьям самого певца, важное место занимают не совсем ясные из контекста поэмы события в жизни Эрманариха и Теодориха Равеннского. Более того, прослеживается тенденция соединить эти три образа в одном сюжете. В сказании о нифлунгах («Старшая Эдда») Гудрун становится женой Атли — Аттилы, одним из наиболее прославленных витязей которого (по «Песни о нибелунгах») является Дитрих из Берна (Теодорих Равеннский), а дочь Гудрун, Сванхильд, оказывается женой Ёрмунрек-ка — Эрманариха.
Включено в круг сюжетов о нибелунгах, или, точнее, имеет с ними несколько общих персонажей, и широко известное в германском мире сказание о Вальтере Аквитанском, вероятно, южнонемецкого происхождения. Оно дошло до нас в виде двух поэм: германской — «Вальтарий мощный дланью», изложен-
пои гекзаметрами на латинском языке, и англосаксонской— «Вальдере» (не позже X в.), от которой сохранилось лишь два фрагмента8. Упоминания героев этого сказания встречаются и в более поздних памятниках, как немецких («Песнь о нибелунгах»), так и скандинавских («Сага о Тидреке Бернском»). В нем рассказывается— содержание восстанавливается по латинской поэме,— как заложники Аттилы (Этлы в англосаксонском варианте) Вальтарий (Вальдере), сын короля Аквитании, и Хильдегунда, бургундская принцесса, полюбившие друг друга, спасаются бегством, взяв с собой сокровища Аттилы. Они добираются до владений франкского (в «Вальдере» — бургундского) короля Гун-дахария (англосаксонский Гудхере, Гуннар песен «Старшей Эдды», Гунтер «Песни о нибелунгах») на Рейне. Гундахарий, предполагая, что сокровища Аттилы— это дань, собранная гуннами с франков, решает овладеть кладом. Вместе с 12 воинами, среди которых— Хагано (англосаксонский Хагена, Хёгни песен «Старшей Эдды», Хаген «Песни о нибелунгах»), обменявшийся с Вальтарием клятвами верности, когда они оба жили при дворе Аттилы, Гундахарий нападает на беглецов в узком ущелье. В первый день сражения Вальтарий убивает всех франков, кроме Гундахария и Хагано, который не участвовал в битве. На второй день Гундахарий и Хагано, племянник которого пал накануне, нападают на Вальтария. После ожесточенного сражения герои, получившие тяжелые раны, заключают мир, и Вальтарий с Хильдегундой едут дальше. После смерти отца Вальтарий, женившийся на Хильде-гунде, правит Аквитанией 30 лет9.
Судя по сохранившимся отрывкам, содержащим описание сражения, англосаксонская поэма представляла пространное эпическое произведение, в основе которого лежал несколько иной, чем в латинской переработке, вариант сказания. Однако существенно, что в обеих редакциях фигурируют традиционные эпические персонажи, в первую очередь Аттила. Более того, сюжет сказания, вероятно, отражает реальное историческое событие — взятие Аттилой заложников у германцев после битвы 437 г., но большинство имен и исторических примет утрачивается или искажается в поздних обработках (например, в англосаксонском «Вальдере» Гундахарий предстает как король бургундов). Неизменным остается лишь имя Аттилы. Переброшен мостик и к циклу сказаний о Теодорихе Равеннском: он оказывается бывшим владельцем Мимминга, меча Вальдере. Таким образом, при всей самостоятельности сюжета
поэма десятками нитей оказывается сплетена с узловыми темами и образами обшегерманского эпоса.
Сложившийся в эпоху великого переселения эпический мир древних германцев нашел отражение в наиболее яркой и законченной форме на английской почве в поэме «Беовульф», созданной, как полагают большинство исследователей, в VIII в.10 (43). Ни одно англосаксонское произведение, дошедшее до наших дней, не получило такого широкого признания, как «Беовульф». И это не случайно. Ведь поэма — единственное крупное произведение героического эпоса англосаксов, сохранившееся целиком. Величественные образы поэмы, своеобразный, торжественный стиль изложения, точность и выразительность поэтического языка привлекали и привлекают к нему филологов, поэтов, читателей. Многочисленные исторические реминисценции, описания быта, обрядов, вооружения, отражение этических взглядов той эпохи делают поэму неиссякаемым кладезем сведений для историков политической и социальной жизни англосаксов и скандинавов, историков культуры. Архаичные сюжеты поэмы, перекликающиеся с сюжетами волшебных сказок, представляют интерес для фольклористов. Разнообразие подходов к поэме было связано как с преимущественным интересом ученых разных специальностей к тем или иным ее аспектам, так и с общими тенденциями в мировой науке. Не останавливаясь на истории изучения поэмы", отметим лишь, что на протяжении полутора столетий ее интерпретация претерпела коренные изменения. Определение ее места в англосаксонской и мировой литературе колебалось в самых широких пределах: от причисления ее к народному эпосу, фольклору, до отождествления с творением монастырского клирика, имевшего перед собой в качестве образца «Энеиду» Вергилия. Особенно много усилий прилагалось и прилагается к модернизирующим символико-аллегорическим толкованиям поэмы: как отражению борьбы со стихиями (К. Мюлленхоф), воплощению солярного мифа (Б. Саймоне), христианско-мессианских идей или различных аспектов христианской этики (наказания гордыни, бренности земной жизни и т. д.).
Надо сразу же сказать, что содержание и поэтика «Беовульфа» действительно поражают своей сложностью, многогранностью, разновременностью. И это открывает пути для противоречивых, порой взаимои-
сключающих ее характеристик. Ведь в ней органически переплетены архаические сюжеты борьбы героя с чудовищами (великанами и драконами)—и этика раннефеодального общества; краткий пересказ библейских сказаний—и легенда о золотом кладе, на котором лежит проклятие, являющееся истинной, хотя и тайной причиной гибели Беовульфа; изысканные описания и сложные метафоры (кеннинги) — и древний аллитерационный стих с многочисленными формулами, типичными для фольклорного произведения,— все это неопровержимо указывает на сложную многовековую историю, которую прошла поэма до ее записи в X в.
Фабула поэмы проста и безыскусна: Беовульф, племянник короля геатов — скандинавского племени, населявшего, очевидно, южное побережье современной Швеции и называвшегося в Скандинавии гаутами,— узнает о несчастье, постигшем данов. На их прославленный дворец Хеорот — Оленью палату уже многие годы нападает по ночам человекоподобное чудовище Грендель и пожирает лучших из воинов. Беовульф с небольшой дружиной отправляется к данам, остается на ночь в Хеороте и в жестоком поединке с Гренделем вырывает у него правую руку. Но на следующую ночь в Хеорот приходит мать Гренделя. Мстя за сына, она убивает и уносит с собой одного из датских витязей. Наутро Беовульф в сопровождении короля данов Хрод-гара разыскивает по кровавым следам логово Гренделя, находящееся на дне горного озера, населенного чудовищами. С помощью волшебного меча Беовульф побеждает великаншу и отрубает голову Гренделю. Благополучное возвращение героя отмечается пиром, после чего геаты пускаются в обратный путь. Через некоторое время в неудачном походе на франков погибает Хиге-лак, король геатов; убит в распре со шведами его сын, и королем геатов становится Беовульф. 50 лет его правления — время благоденствия и процветания геатов, «золотой век» племени. Но вот появляется огнедышащий дракон. Клад, охраняемый им, был потревожен, и он, жаждущий мести, нападает на геатские селения и крепости. С помощью своего дружинника Виглафа Беовульф побеждает дракона и завоевывает клад, но оказывается, что клад был проклят его последним владельцем, и каждый, кто овладеет им, должен погибнуть. Раненный драконом, умирает Беовульф, и геаты, оплакивая своего короля, сжигают его тело и насыпают высокий курган на мысе, выдающемся в море, чтобы издалека был виден курган Беовульфа. Поминальный плач завершает поэму.
Фабулу поэмы составляют два мотива , широко известные в древнегермаыском фольклоре (волшебных сказках, сагах, эпосе) и в фольклоре других народов мира: это мотив борьбы с великанами и мотив драконоборчества. Основные элементы фабулы первой части поэмы совпадают в общих чертах со сказочным сюжетом «Три похищенные принцессы»13: в доме, построенном старым королем, появляется чудовище, которое причиняет вред обитателям. Старшие сыновья короля по очереди вступают в борьбу с ним, но терпят поражение; на третью ночь в доме остается младший брат, который ранит и обращает чудовище в бегство. Оно скрывается в подземном (или подводном) логове. Наутро братья по кровавым следам находят путь в подземное (подводное) царство, куда спускается младший брат. Он побеждает ряд фантастических существ и находит жилище чудовища, где томятся в заточении одна или несколько пленниц. После победы над чудовищем герой помогает им подняться на землю, сам же из-за предательства братьев остается внизу, и лишь с большим трудом ему удается вернуться в мир людей.
Сходство сюжетов настолько поразило исследователей, что первая часть поэмы стала рассматриваться чуть ли не как поэтическая обработка волшебной сказки14. Обнаруженные в исландских сагах параллели к сюжету15 на первых порах лишь укрепили это мнение, так же как и обращение к сюжету второй части поэмы.
Мотив драконоборчества не менее распространен в фольклоре. Змей как хтоническое чудовище вошел в мифологию многих народов мира. Обычно образ змея связывается с огненной стихией, откуда позднее развивается образ огнедышащего дракона. Чудовищный змей олицетворяет враждебные человеку силы, противостоит богам и людям, как «мировой змей» скандинавской мифологии Ёрмунганд, который поднимется со дна океана при конце мира и примет участие в борьбе против богов; как змей Апоп, с которым сражается бог Ра в египетском мифологическом эпосе. Образ дракона не менее широко представлен и в героическом эпосе. В русских былинах Добрыня Никитич одерживает победу над Змеем Горынычем, освобождая пленниц из Киева, в скандинавском эпосе Сигурд убивает дракона Фафни-ра (44), забирая себе его сокровища , в древнегреческих героико-мифологических сказаниях Геракл сражается с Лернейской гидрой. О популярности в средние века мотива драконоборчества, использованного и в церковной христианской литературе, говорят многочисленные изображения на порталах церквей битвы
св. Георгия или св. Михаила с дьяволом в облике огнедышащего дракона (45). В древнеанглийских гномических стихах дракон изображается огнедышащим чудовищем, лежащим в могильном кургане и охраняющим золотой клад.
Предполагалось, что сюжет второй части «Беовуль-фа» также связан с волшебной сказкойп: об этом свидетельствует композиция, повторяющая основные элементы сказочного сюжета. Важным моментом сходства является его соединение с мотивом золотого клада, что характерно именно для сказки, а не для мифа и широко представлено в германском героическом эпосе. В ряде сказаний герой, побеждая дракона, овладевает кладом, причем нередко именно стремление добыть золото становится в сюжетах драконоборчества основной мотивировкой подвига героя. Подводя перед смертью итог своей жизни, Беовульф в числе своих главных деяний называет именно завоевание сокровищ дракона — для своего племени («Беовульф», 2792— 2799). В «Песни о Сигмунде», которая пересказана в «Беовульфе» (871—900), сокровища дракона являются единственной побудительной причиной битвы с драконом, а размеры и великолепие клада — мерой величия победы. Сходен и рассказ о битве Фродо с драконом, который изложен Саксоном Грамматиком:
Неподалеку есть остров, поднимающийся пологими склонами, Скрывающий в своих холмах сокровища и гордый добычей. Здесь благородные богатства охраняются стражем сокровищ, Змеем, свернувшимся в кольца многими витками, С хвостом, вытянутым дугой, потрясающим могучими кольцами. Брызжущим ядом .
(Пер. авт.)
В героических песнях «Старшей Эдды» клад нифлунгов является причиной битвы с Фафниром, причем даже предостережение умирающего Фафнира:
...золото звонкое, клад огнекрасный погубит тебя! —
не может остановить Сигурда.
Золотой клад играет в повествовании важную роль. Это обусловливает интерес и к описанию самого клада (в «Беовульфе» оно занимает около 20 строк), и к его истории, в которой особо выделяется тема проклятия, придающего золоту губительную силу. В «Старшей Эдде» — это заклинание карлика Андвари, обрекающее на гибель всех, кто станет владельцем клада:
Золото это, что было у Густа, братьям двоим гибелью будет,
смерть восьмерым принесет героям; богатство мое никому не достанется
В «Беовульфе» — это проклятие последнего из оставшихся в живых воина некогда могучего племени. Золото начинает жить своей, независимой от воли людей жизнью; оно вторгается в их судьбы и сокрушает все на своем пути. Не случайно в героических сказаниях, формирующихся в эпоху разложения родового строя, герои, вовлеченные в борьбу за золото, гибнут, как Сигурд и Беовульф, а вместе с ними гибнет героическое родовое общество, представителями которого они осмысляются в эпических памятниках.
Мотивы сказочного эпоса вплетаются и в характеристику Беовульфа. С одной стороны, это сходство проявляется в самой общей их задаче: и Беовульф, и герой сказки — борцы с враждебными человеку силами, воплощенными в фантастических образах, оба восстанавливают нарушенную чудовищем справедливость. С другой-—в отдельных деталях образа, сохраняющихся в поэме, несмотря на их явное противоречие основному повествованию. Яркий пример —изображение юности Беовульфа, резко контрастирующее с его прославлением как избранного, лучшего среди геатских витязей:
Прежде гауты ибо слабым казался он
презирали его и бесчестили, и беспомощным,
и на пиршествах бесполезным в бою;
обходил его но теперь он за прежнее
вождь дружинный получил с лихвой
своей благосклонностью, воздаяние!
(Беовульф, 2184—2189)
Это единственное упоминание о «достойных презрения» юношеских годах Беовульфа. В других рассказах о его юности —повествовании о состязании с Брекой, о борьбе с морскими чудовищами — подчеркивается, напротив, его богатырская мощь, отвага, прославляются его блистательные победы. Обе версии не согласованы между собой, и «негероичность» Беовульфа в юности была бы непонятна, если бы не известный сказочный мотив «сидня», часто связанный с сюжетом «Три похищенные принцессы» и широко распространенный в эпосе — достаточно вспомнить Илью Муромца в былинах об исцелении Ильи. Но в сказочном сюжете мотив «сидня» играет важную функциональную роль: младший брат, считавшийся дурнем и трусом, в решительный момент оказывается способным совершить подвиг,
который не под силу его старшим «умным» братьям. Тем самым он восстанавливает справедливость и в отношении самого себя. В «Беовульфе» же нет противопоставления юности и зрелости героя, он «героичен» уже от рождения, и вся его жизнь с детских лет — воплощение заложенных в нем изначально героических качеств. Однако традиционный сказочный мотив, связанный с его образом, сохраняется на периферии повествования, утрачивая свое значение для развития сюжета.
Но, несмотря на все сходство, связь между волшебной сказкой и «Беовульфом» нельзя преувеличивать; тем более нет оснований считать сказочный эпос непосредственным источником поэмы: вероятнее, как и считается ныне, и мифологический, и героический, и сказочный эпос (зарождавшиеся на разных этапах развития общественного сознания) взаимодействовали и имели частично общий сюжетный фонд. Однако трактовка одних и тех же сюжетов в различных видах эпоса была принципиально иной. Так, в «Беовульфе» со сказкой сопоставимы фабула и отдельные эпизоды, их детали; различие же коренится в первую очередь в объекте интересов рассказчика и слушателей. В сказочном эпосе все внимание сосредоточено на индивидуальной судьбе героя. Поэтому одинаковый интерес представляют все эпизоды его приключений. Итогом его выезда и последующих событий является устройство семьи (обычное завершение сказки — свадьба героя со спасенной им девушкой)21. Для героического эпоса характерен интерес к судьбам коллектива, к которому принадлежит герой. Подвиги, совершаемые им, направлены на защиту и освобождение племени, страны, государства. Патриотическая направленность в германском эпосе в целом выражена слабее, чем в эпосе других народов, но «Беовульф», безусловно, в этом отношении отражает скорее общие эпические, чем специфические германские, тенденции. Не случайно в нем, как и в других памятниках западноевропейского эпоса, отсутствует тема сватовства (как и в «Песни о Роланде», «Песни о Сиде» и др.), а на первый план выступает тема борьбы с врагами всего племени22.
Различны и принципы отражения действительности в сказочном и в героическом эпосе. В сказке она предстает в максимально обобщенном, деконкретизиро-ванном виде. Действие сказки не введено в хронологические рамки, относится к неопределенному «сказочному» времени. Не приурочено оно и к определенному месту: события происходят в «тридевятом царстве», в
подземном, подводном или ином фантастическом мире. Для героического эпоса, напротив, характерны максимальная конкретизация действия, правдоподобие деталей, создание условно-исторического фона, на котором развертывается действие23. Черты, отличающие поэму от сказок со сходными сюжетами, по сути обусловлены поэтическим мировосприятием создателей поэмы. Наиболее полно и ярко оно воплотилось в поэтическом мире поэмы, мире, где живут и действуют герои и чудовища, мире, одновременно далеком и близком для певца и его слушателей.
...Певец тронул струны арфы и начал рассказ о прославленных героях прошлого. Умолк шум в палате, с пристальным вниманием следят дружинники и их король за событиями жизни славного короля Хродгара, за строительством островерхого Хеорота, восхищаются щедростью, мудростью, благородством короля данов. Таким, собственно, ему и надлежит быть — ведь он потомок славного рода воинов и правителей. Не менее знамениты своими достоинствами и отец его, и дед, не говоря уже об основателе династии — Скильде Скевин-ге, память о котором прожила века и будет жить вечно. И согласны они с заключением певца: да, это был добрый конунг! Сочувствуют они и его беде: ведь со всяким может случиться несчастье, и кто может одолеть такое чудовище, как Грендель! Есть ли, нет ли великанов на самом деле (а скорее всего они есть — просто нечасто встречаются, не то что в прошлые времена) — не это важно. Существенно то, что не всякий может спасти Хродгара: здесь нужен герой, обладающий многими выдающимися качествами. Слушатель уже знает: должен появиться не просто воин, равный своими заслугами лучшим среди сидящих здесь, в зале. Ему будет по плечу подвиг, который не сумели совершить храбрейшие из датских воинов — а они известны как бесстрашные воители, недаром их нападений страшатся жители побережья.
Так, вызывая бесчисленные поэтические, исторические, бытовые ассоциации, переплетая события прошлого и настоящего, рассказчик подготавливает появление Беовульфа — самого могучего, благородного и отважного среди витязей прошлого, и нет и не может быть ему равных в настоящем.
Рассказ ведется о знакомых вещах: и сам певец, и его слушатели — это те же воины, старые, закаленные
в битвах, известные своими победами, о которых, быть может, когда-нибудь тоже сложат песни, и молодые, жаждущие проявить себя в бою, доказать, что и они достойны славы и почестей. Как и дружинники Хродгара, Хигелака или Беовульфа, сидят они в пиршественном зале, перед ними кубки с элем, на руках—запястья и кольца, подаренные королем. Так же расположились для пира и дружинники Вильгельма Завоевателя перед битвой при Гастингсе 1066 г., определившей судьбы Англии (46), на гобелене из Байо. Как Беовульф, плавали они в далекие и близкие страны, чтобы захватить богатую добычу, и не один из их сотоварищей, как Хигелак, погиб в бою. Мир, о котором повествует певец,— это их мир, знакомый во всех мелочах, узнаваемый уже по отдельным намекам. Вот певец описывает шлем Беовульфа:
...кров надежный, увитый сетью
и золоченым
вепрем увенчанный...
(Беовульф, 1450—1451)
Именно такой (может быть, лишь немного менее пышный) видел он на своем господине. Можем и мы увидеть подобный шлем — например, найденный в Сат-тон-Ху (4). И он украшен золочеными фигурками, и он бы сверкал на солнце, будь он на голове Беовульфа, гордо идущего ко дворцу Хродгара. Тысячи подобных мелких деталей (многие из них ускользают от современного читателя) неразрывными нитями связывали повествование с сегодняшним днем его слушателей. Знакомы были и персонажи, и события, упоминаемые певцом лишь вскользь, да большего и не требовалось. Достаточно было лишь сказать, что меч Беовульфа — изделие Веланда, и каждому становилось ясно, что меч был превосходен,— каждый знал о мастерстве этого легендарного кузнеца. Мимоходом упоминает певец печальную участь Хеорота — погибнет он в пламени пожара, когда Хродульф будет бороться за датский трон,— и все вспомнят предание о Хрольве, могучем правителе данов.
Но сколь бы ни был близок своими деталями мир поэмы к жизни рассказчика, он не был тождествен ей. Воспроизводя реальные приметы быта и нравов, он в то же время отличался от нее в своей сущности: это был близкий и одновременно далекий идеальный мир, существующий лишь в сознании певца и его слушателей. Являясь отражением реального мира — что и обусловило его видимое правдоподобие и что заставило многие поколения ученых стремиться сопоставить сюжет по-
эмы с какими-либо реальными событиями24,—-он по сути был созданием поэтического творчества, отделенным от действительности «абсолютной эпической дистанцией» 25.
Созданный воображением и существующий лишь в воображении, эпический мир обладает многими чертами мира действительного: он занимает определенное, хотя и воображаемое, пространство, соотнесенное в то же время с реальными территориями, знакомыми рассказчику.
Действие протекает в присущем этому миру времени, но не всегда совпадающем с реальным. В нем присутствуют реальные предметы быта: жилища, утварь, оружие, одежда и т. д., но все это вещи определенных категорий: миру поэмы свойственны некоторые предметно-вещные атрибуты. Он населен людьми, но далеко не каждый может занять в нем место: это мир героев, избранных, людей, наделенных особыми качествами. Далеко не всякое событие может произойти в этом мире — оно должно согласовываться с определенными эстетическими нормами, быть значимым в системе ценностей именно эпического мира. И наконец, главная, универсальная особенность этого мира, определяющая все остальные его черты,— его героич-ность2б.
Концепция героического (ее основные элементы будут рассмотрены ниже) служила тем основным критерием, в соответствии с которым осуществлялся по большей части неосознанный отбор фактов реальной жизни, отражаемых в эпическом мире: событий, персонажей, деталей быта, вещных атрибутов, которые становились частью эпического мира, заполняли его пространство. Принципиально важным было соответствие рассказываемого не реальности, а тому представлению о героике, которое существовало в сознании рассказчика и слушателей.
Разумеется, эти представления возникали как своеобразное отражение и осмысление действительности, они коренились в укладе жизни, корректировались и преображались под ее влиянием, но по сути своей они являлись художественным преломлением жизни в героических образах, ситуациях, описаниях27. Историческая обусловленность эпической героики проявлялась в конкретных формах поэтического мира поэмы.
Основу героического действия поэмы составляет конфликт крупного масштаба, вовлекающий судьбы целых племен. Наследуя «архаическую эпическую сю-жетику, трансформируя ее в соответствии с новыми
идеалами... героический эпос периода формирования народностей и складывания ранних государств» выдвигает «новые исторические идеалы и новые коллизии — защита родной земли от внешнего врага, героика патриотического подвига... отношения народа и власти» 28. В этом и заключается главное отличие в трактовке аналогичных сюжетов, с одной стороны, в «Беовульфе», с другой — в сказках, а также в скандинавских сагах, в частности в «Саге о Греттире». В саге, как и в сказке, конфликт имеет локальное значение, он связан только с судьбой героя и не выходит за ее пределы. В эпосе, как правило, в основе героического конфликта лежит реальное историческое событие. Но и тогда, когда конфликт, с нашей точки зрения, фантастичен, т. е. в него вовлечены сверхъестественные существа (Грендель и его мать, дракон), масштаб конфликта и его значение нисколько не снижаются: нападения Гренделя и дракона угрожают гибелью всему племени данов — в первом случае и геатов — во втором. Сказочность, неправдоподобие — в глазах современного читателя — конфликтов, лежащих в основе поэмы, не воспринимались как таковые (мы уже говорили об устойчивости бытовой мифологии у англосаксов) и тем самым не могли препятствовать их восприятию как героических. Наоборот, необычность, мощь, особая опасность противников героя усугубляли серьезность ситуации и трудность ее разрешения.
Аналогичны конфликтные ситуации отступлений в поэме, которые, как обычно считается, являются краткими пересказами самостоятельных эпических произведений. Таковы борьба фризов и данов (песнь о битве при Финнсбурге), данов и хадобардов (песнь об Ингель-де и Фреавару) и др. Мелкие племенные распри и столкновения приобретают в устах рассказчика «мировые» масштабы, разрастаются в события, определяющие судьбы народов. Их героическая гиперболизация, не соответствующая реальной значимости,— единственно возможное осмысление этих событий при их перенесении в пределы воображаемого поэтического мира, при их эпизации.
Основная особенность героического конфликта в поэме — его масштабность — определяет и второе его свойство — высокий накал страстей, эмоциональную насыщенность действия. Создание конфликтной ситуации сопровождается взрывом эмоций: ужаса, ярости, беспощадной жестокости, описание которых неизменно включено в преамбулу, предваряющую рассказ о самой битве.
Так двенадцать зим
вождь достойный, друг Скильдингов,
скорби смертные и бесчестье терпел
и печали неисчислимые.
(Беовульф, 147—149)
Многострадального старца-правителя
скорбь сокрушила,
когда он услышал,
что умер лучший из благороднейших его соратников.
Оплакал старец сердопечальный
(Беовульф, 1306—1309) свое злосчастье...
(Беовульф, 2326—2327)
Набор чувств стереотипен. Правитель племени, на которое нападает чудовище, охвачен горем, он оплакивает свое несчастье (Хродгар — в двух первых эпизодах, Беовульф — в третьем). Герой, который должен будет сокрушить чудовище, проявляет героическое бесстрашие, отвагу (Беовульф, 603—608, 1383—1396, 2509— 2527). Чудовище — противник героя — обуреваемо кровожадностью, алчностью, злобой (Грендель: Беовульф, 729—746; его мать: 1276—1281; дракон: 2286— 2310). Эмоциональная атмосфера конфликтов чрезвычайно напряжена: не случайно употребление в этих описаниях эмоционально насыщенных глаголов (ahlieh-han — ликовать, 730; gebelgan—разъяриться, 2550) и прилагательных (galg-mod — злобный, 1277; stearc-heort — твердый сердцем, 2288).
Характер конфликта — его масштабность, значимость, неразрешимость обычными средствами — обусловливает тип и способы героизации эпического героя. В первую очередь подчеркиваются уникальность, неповторимость, которые выражаются в его предназначенности совершить этот подвиг.
Но вот он, витязь, по воле Создателя то совершивший,
чего не умели,
вместе собравшись, мы, хитромыслые!
(Беовульф, 939—942)
Беовульф — единственный из всех живущих на земле, кто может одолеть Гренделя и его мать, сразить огнедышащего дракона. Сама ситуация выступает в роли главной характеристики богатыря, именно она определяет его героическую сущность, которая выявляется в деянии, направленном на спасение целого племени и непосильном другим людям. Все остальные черты, присущие образу, производны и лишь оттеняют с различных сторон как частные проявления его героич-ность.
В образе Беовульфа концентрируются качества всего племени. Сила Беовульфа — это сила всех геатов, о чем говорится в поэме в связи с победой Беовульфа над Гренделем: «...врага они (геаты.— Е. М.) одной силой все превзошли, его (Беовульфа.— Е. М.) мощью» (Беовульф, 698—700). Сам образ могучего богатыря, олицетворяющего силу и мощь своего племени, лишенного индивидуальных черт, но зато наделенного гиперболизированными достоинствами, нацелен на выполнение главной задачи, стоящей перед ним,— защиты племени (своего или дружественного) от чудовищ.
Выполнение этой задачи обеспечивается совокупностью качеств, которыми наделяется Беовульф: силой, отвагой, верностью своему долгу и т. д. Причем все эти качества гиперболизированы, возведены в высшую, недосягаемую для других степень. Сила Беовульфа такова, что «тридцать ратников переборол он одной рукою» (Беовульф, 381—382). Беовульф выделяется среди других дружинников своим внешним видом, сразу же обнаруживающим его героическую сущность. Не случайно датчанин—страж побережья — сразу обращает внимание на Беовульфа:
И я ни в жизни не видел витязя
сильней и выше, чем ваш соратник —
не простолюдин
в нарядной сбруе,— кровь благородная
видна по выправке!
(Беовульф, 248—252)
Точно так же Вульфгар, воин Хродгара, принимающий гостей в Хеороте, с первого же взгляда уверен в том, что Беовульф является прославленным вождем, известным своей силой и воинской доблестью (Беовульф, 336—339).
И внешность Беовульфа, и его сила, и его нравственные качества — верность долгу, верность королю и родичу гиперболизированы, идеальны, что и создает четко ощущаемую слушателями и рассказчиком дистанцию между ними и героем.
Дополнительным средством героизации служит и родословная героя. Человек в поэме не мыслится вне коллектива, с которым он связан узами родства. Введение любого персонажа, собственно, открывается указанием на род, к которому он принадлежит, и перечислением его прославленных предков: подробно рассказывается родословная Хродгара и Хигелака, Унферт—«сын Экглава», Эскхере — «старший брат Ирменлава», Оф-фа—«родич Хеммингов». Вот на сцене появляется Виглаф:
сын Веохстана, щитоноситель...
То Виглаф был,
сородич Эльвхера,
(Беовульф, 2601—2602)
Указание рода, к которому принадлежит персонаж, имеет глубокий смысл. Связь с прославленным, известным своими подвигами родом дополняет характеристику и определяет в известной мере достоинства героя. Он способен и готов к совершению подвигов не только в силу своих личных качеств, но и как представитель славного своими подвигами рода. «Героические» качества в значительной степени оказываются не индивидуальными, а родовыми.
Все достоинства Беовульфа направлены к одной цели, героической по своей сути,— защите племени от нападений врага. Беовульф, и только он, может спасти данов и геатов — таково его предназначение, и, лишь выполняя его, он становится героем. Здесь уместно вспомнить, что и первый, юношеский подвиг Беовульфа, кратко упомянутый в поэме, также заключался в уничтожении чудовищ, нападавших на мореплавателей. Только после этого, говорится в поэме, геаты стали считать его отважным витязем.
Так, представление о героическом реализуется в первую очередь в действии, в подвиге, причем подвиге общественно значимом, совершенном ради блага племени. Рассказчик не представляет возможности «чистого» подвига, совершенного исключительно из стремления к героическому, подвига ради подвига — эта идея возникает значительно позже и развивается в куртуазном романе (например, в романах Артуровского цикла). Деяния Беовульфа не осознаются как самоценный акт личного героизма, вне судеб и благополучия племени.
С тех же позиций оцениваются и действия других персонажей: постройка Хеорота служит прославлению данов; смерть Беовульфа — несчастье, так как за ней должны последовать бедствия для геатов, и т. д. Осуждается за «зломыслие» в отношении своего народа Херемод:
многомудрые мужи, прежде чаявшие,
что сумеет он
упасти их от бед...
...стал он бременем для дружины своей
и для подданных; и скорбели тогда
(Беовульф, 905—909)
о судьбе его
героического поведения: мудрость и щедрость Хродга-ра — короля племени, его покровителя и защитника; отвага, бесстрашие и преданность Виглафа; красота и щедрость Вальхтеов, королевы данов. Эти качества в совокупности составляют своего рода «каталог достоинств», обязательных для положительного персонажа героического эпоса и распространявшихся на литературное изображение любого знатного человека (лишь иногда, как в случае с Херемодом, эти качества обретали знак минус): не случайно перечислению многих из тех достоинств, которые мы находим у героев «Беовульфа», посвящена небольшая поэма «О дарованиях человеческих»29. В наибольшей степени этими достоинствами, естественно, награжден сам Беовульф: отвагой, мудростью, опытом, боевым искусством, искусством кораблевождения и плавания, красотой, ростом, силой и т. д. Почти весь «каталог добродетелей» приложим к герою. Остальные персонажи наделены лишь частью этих стереотипных качеств: определенные «наборы» их, сочетание тех или иных из них, соответствуют различным образам поэмы: идеальному правителю (Хродгару, Беовульфу), воину-богатырю (Беовуль-фу, Виглафу), что и создает в значительной степени обобщенность, стереотипность образов. Характеристика одного и того же качества различных персонажей неизменна, что также способствует созданию образов-стереотипов. Вот, например, характеристика трех королей—идеальных правителей своих племен: Хродгара, Оффы, Беовульфа.
Хродгар возвысился, в битвах удачливый,
без споров ему
покорились сородичи,
выросло войско
из малой дружины в силу великую.
(Беовульф, 64—67)
...от моря до моря
Оффа славился и победами ратными,
и подарками щедрыми
копьеносцам-дружинникам,
и в державе своей мудровластием...
(Беовульф, 1957—1960)
...они простились
с умершим конунгом, восславив подвиги
и мощь державца и мудромыслие...
(Беовульф, 3172—3174)
В образе Беовульфа представление о героическом воплощается в наиболее полном, прекрасном и величественном его варианте. Но есть и другие формы
Количество таких образов-стереотипов невелико, их функции в сюжете строго разграничены, каждый из них воплощает один из аспектов героического поведе-
ния, и, в совокупности образуя систему образов поэмы, они дополняют друг друга.
В первой части поэмы эта система состоит из героя-богатыря, чудовищ — противников героя, правителя племени, которому угрожает чудовище, королевы, хранительницы мира. Наряду с ними в действии принимают участие — пассивное — две дружины: короля — Хродгара и героя — Беовульфа. Та же система образов сохраняется во второй части поэмы, хотя в ней есть ряд изменений, возникающих в силу усложнения образа Беовульфа. Герою — богатырю противостоит чудовище— дракон. Но поскольку образ Беовульфа совмещает черты богатыря и правителя, то появляется фигура второго богатыря — Виглафа, частично взявшая на себя функции, которые в первой части полностью принадлежали Беовульфу. Систему завершают образы идеального правителя — Беовульфа и королевы Хюгд. Как и в первой части, имеются две дружины: Беовульфа-короля («большая» дружина, о которой лишь упоминается) и Беовульфа-богатыря (те 11 человек, которых он выбрал для битвы с драконом). Обе дружины не принимают активного участия в действии, более того, пассивность второй — малой дружины, которая в первой части естественно и закономерно вытекает из «правил» героического эпоса, во второй части приобретает иное — социальное звучание, о чем речь пойдет ниже. Четыре образа стоят в центре действия, в их поступках и речах раскрывается основной конфликт повествования.
Выражаясь в противоборстве двух враждующих сил, конфликт делит образы поэмы на два лагеря, в одном из которых — герой, король и королева племени, их дружины, в другом — чудовища, противники героя. Это деление нельзя рассматривать лишь как формальную, поверхностную реализацию конфликта. Последовательное и многогранное противопоставление этих лагерей ведет к формированию одной из основных черт героического мира: его двучленности, дихотомии. Мир поэмы разделен на две части: в центре первой — герой, в центре второй — его противники. Все элементы этого мира тяготеют к одному из полюсов, нет «нейтральных», не связанных с тем или иным лагерем деталей. Образы персонажей и их характеристики, временные и пространственные особенности, предметы — все несет отпечаток принадлежности к миру героев или их противников.
Система противопоставлений охватывает все элементы обоих миров: блистающему Хеороту, олицетворе-
нию счастья, добра, воинской доблести, противостоит подводное сумеречное жилище Гренделя; высокой нравственности, благородству героя — алчность, кровожадность чудовища; героическому обществу Хеорота — инесоциальное, одинокое существование Гренделя или дракона. Ряд оппозиций можно было бы увеличить во много раз, но ниже, при характеристике отдельных элементов героического мира многие из них будут рассмотрены подробнее, поэтому сейчас хотелось бы обратить внимание лишь на одну особенность дихотомии героического мира.
Противопоставленность отдельных элементов настолько последовательна и всеобъемлюща, что мир чудовищ предстает как перевернутый мир героев. Он имеет те же самые характеристики, но со знаком минус. Это своего рода абсолютная противоположность мира героев, его обратная сторона.
Что представляет собой Грендель? Это великан, известный своей жестокостью и алчностью, как Бе-овульф известен благородством и щедростью. Гиперболизированным качествам Беовульфа соответствуют гиперболизированные описания его противников, что оттеняет и подчеркивает значительность и неосуществимость для других его подвигов. Поэтому не раз отмечается в противоположность статности, красоте Беовульфа безобразный, наводящий ужас вид Гренделя и его матери. Он напоминает изображение волшебника и злобного чародея Мамбреса на миниатюре в рукописи «Чудес Востока» (около 1030 г., 47):
настил дворцовый
ступил, неистовый,
во тьме полыхали
глаза, как факелы,
огонь извергали его глазницы.
Едва он коснулся рукой когтелапой
затворов кованых — упали двери,
ворвался пагубный в устье дома,
на пестроцветный
(Беовульф, 722—728)
Высокой нравственности Беовульфа, основанной на соблюдении норм и обычаев общества, в котором он живет, противостоит «аморальность» Гренделя, его пренебрежение «старыми законами», отказ от выполнения обязательных для любого члена общества норм, например нежелание выплачивать вергельд за убитого. Как основное предназначение Беовульфа — творить добро, освобождая людей от чудовищ, так предназначением Гренделя является зло, наиболее наглядным проявлением чего является людоедство.
Последовательная противопоставленность каждого элемента этих двух миров пронизывает всю поэму. Система оппозиций настолько универсальна, что они, как скрепы, сопрягают мир героев и мир чудовищ в единый, хотя и антагонистический эпический мир. Две его полярные половины не только не исключают друг друга, но, находясь в сложной взаимосвязи, немыслимы одна без другой.
Рассмотрим теперь более подробно отдельные элементы эпического мира, и в первую очередь его социальное устройство.
Не трудно заметить, что система образов поэмы: король, дружинники, королева, герой, его дружина — образует не что иное, как идеальное общество эпического мира. Эпический социум ограничен: в нем нет места реальным общественным отношениям. Лишь од-на-единственная ячейка социальной структуры — вождь и его дружина, в наибольшей степени отвечающая героическому идеалу, возникшему, надо полагать, в дружинной среде, воссоздается в эпическом мире.
Этот микросоциум в поэтическом сознании рассказчика и слушателей заменяет весь остальной мир. В поэме, как и в других памятниках героического эпоса, нет пахарей и купцов, охотников и рабов. Лишь один раз в «Беовульфе» упоминается раб — тот, который украл чашу из сокровищницы дракона (поступок столь низкий сам по себе, что его не мог бы совершить свободный) и тем самым навлек на геатов нападение чудовища. Дружинный мир в опоэтизированной и возвышенной форме и есть идеальное эпическое общество. Дружина поэтому постоянно отождествляется со всем племенем. Говоря о фризах, например, скоп повествует лишь о дворце Финна и его дружинниках, постоянно называя их «все фризы». «Даны» для него — это те, кто пирует в Хеороте, ходит в походы под водительством Хродгара, получает от него дары.
Поэтому описание датского двора в Хеороте — наиболее полное изображение эпического идеального общества в англосаксонской поэзии30, а сам Хеорот является вещественным, материальным воплощением и олицетворением дружинного мира. Его создание может быть сопоставлено с актом творения мира — не случайно первым в нем были исполнены песни о творении земли. Завершение Хеорота знаменует установление социального порядка и гармонии:
Он же задумал данов подвигнуть
на труд небывалый: хоромы строить,
чертог для трапез, какого люди
вовек не видывали;
там разделял бы он со старыми, с юными
все, чем богат был по милости Божьей,—
только земля неделима . , и войско одно.
(Беовульф, 67—73)
Только при таком понимании роли Хеорота — как центра, вокруг которого строится весь эпический мир,— становится ясно и то, почему вся ярость Гренде-ля обращена именно против дворца. Казалось бы, основатель и хранитель радостного мира героев— Хродгар. И кто, как не он, должен быть уничтожен, чтобы воцарился хаос чудовищ? Но нет. Хродгар спокойно живет в своих покоях поблизости от Хеорота, а великан нападает на всех, кто смеет остаться в Хеороте после захода солнца. Достаточно отойти от знаменитой палаты на несколько шагов, чтобы очутиться в безопасности:
Не раз случалось людям в ту пору
искать ночлега,
стелить постели
вдали от высокой
дворцовой кровли,
ибо враг кровожаждущий
в этом доме бесчинствовал,
и, спасаясь от недруга, уходили воины
прочь от места опасного.
(Беовульф, 138—143)
Все это указывает на совершенно особую роль, которую играет Хеорот в представлениях скопа и соответственно в героическом мире поэмы. Гибель Хеорота, предсказываемая скопом,— это одновременно и гибель датского героического общества, уничтожение порядка и гармонии, попрание нравственных норм, скрепляющих мир, в первую очередь выполнения взаимного долга короля и его дружинников. Собственно, и гибель Хеорота есть результат нарушения традиционных этических норм.
Благополучие общества полностью зависит от соблюдения освященных многовековой практикой норм поведения, подобающих королю, с одной стороны, и его воинам — с другой. Король должен быть могуществен, щедр, мудр (последнее понимается именно как соблюдение традиционных норм поведения). Воин — предан королю, отважен в битве.
Центром и средоточием этого общества является король — идеальный правитель своего народа. Образ «идеального правителя» хорошо знаком европейскому эпосу, но более позднего времени: вспомним Карла
Великого в «Песни о Роланде», князя Владимира в русских былинах. В «Беовульфе» он встречается уже в первой части поэмы: это образ Хродгара, «старого и седовласого» короля данов, основная сюжетная функция которого — не совершение подвигов (хотя и говорится, что в юности он одержал немало побед на ратном поле), а привлечение героев и предоставление им возможности совершить подвиг. Его пассивность в момент несчастий требует активного вмешательства извне, появления богатыря, который сможет восстановить порядок и мир. В образе идеального правителя воплощаются представления о социальном порядке и благополучии. Одна из основных его функций — распределение богатств, раздача сокровищ. Именно поэтому столько внимания уделяется щедрости Хродгара и других правителей. Она является залогом справедливого, «правильного» распределения ценностей. Поэтому и Хеорот в первую очередь изображается как место раздачи сокровищ:
все, чем богат был
по милости Божьей,-
только земля неделима и войско одно.
Он же задумал... хоромы строить... там разделял бы он
со старыми, с юными
Там золотые
дарил он кольца
(Беовульф, 67—73) всем пирующим.
(Беовульф, 80—81)
Вторая функция правителя — защита своего племени, своей дружины от возможного урона. О важности этой функции свидетельствует большое количество эпитетов, выражающих идею защиты, покровительства: leod gebyrgea («защитник народа» — 269), helm («защитник, шлем» —371, 456), eodor («охранитель» —428, 663), wigendra hleo («хранитель воинов» — 429), folces hyrde («пастырь народа» — 610), eorla hleo («хранитель эр-лов» —1035) — по отношению к Хродгару; epelweard («хранитель племени» — 2210), folces weard («страж народа»— 2513), eorla hleo («хранитель эрлов» — 791), wigendra hleo («хранитель воинов»—1972, 2337) — по отношению к Беовульфу.
И еще одно качество правителя регулярно отмечается в поэме — его мудрость, которая понимается, однако, не как чисто интеллектуальное качество, а как практическое следование существующим этическим нормам, неукоснительное выполнение того, что долж-
по. Мудр тот король, который соответствует героическому идеалу, этикетному образу.
Выполнение взаимных обязанностей создает в обществе мир и гармонию, которые царят в Хеороте до нападений Гренделя и после победы Беовульфа над ним:
старейшины дружны;
слуги покорны; хмельные воины
мне повинуются!
Конунгу предан
каждый наш ратник, верен другу
и кроток духом;
(Беовульф, 1228—1231)
Долг по отношению друг к другу — это те узы, которые связывают героическое общество воедино, это основа основ его благополучия и жизнеспособности31.
Понятие взаимного долга играет в поэме важнейшую роль. В нем сочетаются этические представления разных эпох, их трансформация отражает эволюцию поэ.мы и эволюцию того общества, в котором она существовала. Концепция долга мыслится чрезвычайно широко: это призма, сквозь которую рассматриваются взаимоотношения человека и общества, человека и его родичей, дружины и короля. Широта основной этической категории создает сложность и многоплановость изображения персонажей, мотивировок их действий. Ведь, с одной стороны, любой человек (равно как и чудовище) — член определенного рода. Узы родства едва ли не самые важные социальные связи. О каждом даже третьестепенном персонаже указывается, кто его родичи, к какому роду он принадлежит, а в некоторых случаях приводится и подробная родословная героев (так, предкам Хродгара посвящено более 90 строк).
С другой стороны, в эпоху позднеродового и раннефеодального строя человек включен в формирующуюся систему отношений вассалитета, что обусловливает взаимные обязательства короля и его дружины. Обязанности короля по отношению к дружинникам достаточно однозначны и с наибольшей полнотой воплощены в образе идеального правителя. Сложнее с отношением дружинников к королю. Декларируемым идеалом является Виглаф, однако отклонения от этого идеала образуют чуть ли не правило. Очевидно, определяющим для певца продолжают оставаться родственные связи: Беовульф верен своему сюзерену Хигелаку, который одновременно является его дядей. Он помогает сыну Хигелака и заботится о нем, как подобает родичу. Хродульф осуждается в наибольшей степени за то, что в борьбе за датский трон убивает своего родича,
сына Хродгара. Да и Виглаф, как оказывается, связан с Беовульфом узами хоть и отдаленного, но родства.
Долг вассальной верности—плата за милости, которыми одаривает король своего дружинника. Именно так понимает Виглаф свой долг, произнося речь, обличающую «малую дружину» в пренебрежении своим долгом:
зря отличил он
мечами острыми
вас, дрожащих
при виде недруга.
Не мог он похвастаться вашей помощью...
.. .Правдоречивый
сказал бы: воистину вождь, наделивший
вас, нестоящих, кольцами золота,
ратными сбруями...
(Беовульф, 2863—2872)
Распад героического общества может быть вызван лишь одной причиной — несоблюдением «героических» норм поведения, «нелояльностью» одной из сторон. И тогда наступает катастрофа: мир разрушается, утрачиваются связи между отдельными его членами, каждый из них в отдельности уже не может существовать как полноценная личность — именно положение человека вне присущего ему социума станет в центре внимания героических элегий. Дисгармония датского общества после смерти Хродгара наступает как результат предательства Хродульфа, нарушения им вассальной верности по отношению к сыну Хродгара. Гибель геатского общества — результат невыполнения дружиной Бе-овульфа обязанностей перед своим королем на поле битвы. Никакие внешние причины, как бы существенны они ни были, как кажется, не могут поколебать героическое общество, если сохранены его основы. Нападения Гренделя, хотя они и наносят урон дружине, не вызывают катастрофических последствий: Беовульф застает датский двор опечаленным, но вполне гармоничным и нормально функционирующим: его встречают страж побережья, затем советник Хродгара, «согласно обычаю», его приводят к Хродгару, вечернее застолье не отклоняется от привычного течения, между Хродга-ром и его дружиной царят мир и согласие.
Положение Гренделя рисуется в том же ключе и часто теми же словами, что и положение героя элегий, утратившего связь с героическим миром. Грендель «отвергнут» богом, «изгнан» из мира людей и потому должен влачить жалкое существование изгоя32.
В не меньшей степени, чем характер конфликта, тип героев, облик общественной структуры, концепция героического определяет детали быта и вещи, наполняющие эпический мир33. Далеко не все бытовое окружение англосаксонского воина находит отражение в поэме. Пожалуй, лишь три категории предметов более или менее постоянно привлекают внимание рассказчика: это предметы вооружения, пиршественная палата и праздничная утварь. Все остальное бесчисленное многообразие вещей отсутствует в поэме: они не упоминаются, их не существует в том мире, где живут и действуют герои.
Конечно, чаще всего изображается оружие: латы, шлемы, щиты, мечи. Именно с их помощью герой побеждает своих противников, они его единственные помощники в единоборстве, только на их помощь он может рассчитывать.
Также герою
стало подспорьем то, что вручил ему
вития Хродгаров: меч с рукоятью,
старинный Хрунтинг, лучший из славных
клинков наследных (были на лезвии,
в крови закаленном,
зельем вытравлены
узорные змеи); в руке героя,
ступить решившегося на путь опасный,
на вражью землю, тот меч не дрогнет—
не раз бывал он, клинок остреный,
в работе ратной.
(Беовульф, 1455—1464)
Великолепие, неповторимость оружия является распространенным приемом героической характеристики, оно служит внешним, видимым атрибутом героической сущности персонажа. Избранность героя находит отражение и в избранности оружия, в их предназначенности друг другу. Особенно важную роль играет меч, кото-
рый Беовульф находит в подводном жилище Гренделя и которым он убивает свирепую великаншу:
Тогда он увидел среди сокровищ
орудие славное, меч победный,
во многих битвах он был испытан,
клинок—наследие древних гигантов;
несоразмерный,
он был для смертного
излишне тяжек
в игре сражений...
(Беовульф, 1557—1562)
Этот меч по описанию и функциям в повествовании— типичный волшебный предмет сказочного эпоса. Но в поэме его значение несравненно шире: он указывает на избранность героя, его выдающиеся качества, способность к подвигам. Прославлению Беовульфа служат и другие описания оружия (щита, с которым он выходит на битву с драконом, меча Нэглинга, шлема с золочеными вепрями и т. д.), корабля, на котором он приплыл к данам.
Особая ценность и превосходные качества оружия и доспехов — мечей, шлемов, лат — отмечаются разными способами. В первую очередь это обычные эпитеты, указывающие на остроту, крепость, прочность оружия, подробное описание украшений на нем: фигурок вепрей на шлеме, орнамента на рукоятке меча, найденного Беовульфом в подземном жилище Гренделя, на лезвии меча Хрунтинга и т. д. Не меньшее значение имеет и «генеалогия» оружия: его происхождение, принадлежность его прославленным воинам, победы, одержанные с его помощью. Типична характеристика меча Виглафа:
...наследье потомка Охтхере,
скитальца Эанмунда, который был в битве
убит, бездомный, в сраженье с Веохстаном,
взявшим в добычу это оружие...
тот меч хранился
и щит и кольчуга у Веохстана,
покуда не вырос ему преемник,
дабы продолжить славу отцовскую
среди гаутов...
(Беовульф, 2609—2613, 2619—2622)
Родословная оружия, как и родословная персонажа, удостоверяет его достоинства, свидетельствует о присущих ему изначально, не зависящих от него самого выдающихся качествах.
В то же время благодаря столь подробным описаниям истории того или иного предмета он начинает жить своей собственной жизнью. Его нынешний владелец обладает им лишь временно, он один из длинной цепи людей, владевших этим предметом. Меч Виглафа, например, это laf—наследственное сокровище, которое
принадлежало многим прославленным воинам до него и которое станет достоянием его потомков34. Меч осуществляет непрерывную преемственность поколений, оста-заясь неизменным воплощением героического поведения, передаваемым из отдаленного прошлого в будущее.
Предметы далеко не всегда пассивные символы связи поколений. Не раз именно они определяют развитие героического действия, выявляя конфликт и приводя действие к критической развязке. Такова роль меча в трагических событиях распри между данами и хадобардами. Один из воинов Ингельда узнает меч, которым похваляется на пиру датчанин, дружинник Фреавару, дочери Хродгара, и вспоминает, что этим мечом раньше владел один из хадобардских вождей, убитый данами. Его воспоминания пробуждают гнев хадобардов, и вновь вспыхивает распря, которая была, как казалось, погашена, а мир скреплен свадьбой Ингельда и Фреавару (Беовульф, 2041—2060). Именно вид меча вызывает взрыв подавляемых эмоций, бурную и неожиданную развязку.
Большое внимание уделяется рассказчиком и тем дарам, которые Беовульф получает от Хродгара и Хигелака за победу над великанами. Певец подробно и любовно повествует о каждом из предметов, характеризует их внешний вид, превосходные качества, «родословную» каждого из них:
Ласковым словом,
чашей медовой был он привечен,
а также пожалован двумя запястьями
златовитыми да украшением —
кольцом ошейным, какого в жизни
я и не видывал,
и кто из героев
владел, не знаю, подобным сокровищем,
кроме Хамы, который в дом свой
внеся ларец с ожерельем Бросинга,
бежал от гнева Эорменрика
под руку Предвечного.
(Беовульф, 1192—1201)
В этих описаниях подчеркивается принадлежность предмета лишь избранным героям. Пышность, великолепие дара, с одной стороны, являются мерилом подвига, материальным воплощением мужества, отваги, силы, проявленных героем в борьбе; с другой—они позволяют герою приобщиться к удаче, славе, счастью короля, сделавшего дар, и всех тех знаменитых людей, которые ранее владели этим предметом35.
Значение ценного предмета как символа достоинств персонажа — специфически героико-эпическая черта. Она распространяется как на отдельного персонажа,
так и на целое племя, богатство которого определяет его коллективное достоинство: славное и могучее племя—а таков его героический идеал, и других мы не встретим в поэме — обязательно должно обладать многими сокровищами, которые являются вещественным, видимым всем проявлением его положения в окружающем мире. На этой концепции основывается и то значение, которое имеет в повествовании клад, охраняемый драконом. Неразрывно связаны гибель древнего племени и погребение клада; дракон мстит не столько в силу своей алчности — этот мотив и не упоминается в поэме, сколько потому, что покушение на клад равноценно покушению на его достоинство, умалению его героических качеств; обретение клада должно преумножить силу и славу племени геатов.
Описания предметов в поэме не только функционально значимы. Рассказчик сам любуется ими, с тонким знанием дела и очевидным удовольствием изображает тот или иной предмет. Не менее детальны и проникновенны рисунки вещей на миниатюрах рукописей англосаксонского периода — достаточно взглянуть на изображение доспехов и оружия всадников на миниатюре из рукописи XI в. (5). Не удивительно, что описания часто разрастаются, занимая до 10 и более строк. Наиболее обстоятельно изображение клада, хранителем которого был дракон: здесь перечислены десятки предметов, оружие, утварь, украшения, самоцветы, причем каждый из них охарактеризован отдельно (Беовульф, 2756—2771). Предметы, которыми наполнен эпический мир, сообщают ему живость, яркость и блеск. Причем особенно блеск и сияние, потому что в поэме чрезвычайно мало прилагательных, обозначающих цвета, но зато постоянно встречаются эпитеты «сверкающий, блестящий», глаголы «сверкать, сиять, блестеть». «Искрится» корабль, на который должны возложить тело Скильда (33), «блестят» кольчуги дружинников Беовульфа, когда они сходят на датский берег (227), блистают золотом вепри на золоченых шлемах геатов (306), «златослепящая кровля Хеорота» видна издали (310)... Предметный мир «Беовульфа» ярок, наряден, праздничен, и именно в этом обличье он героичен. Будничные, повседневные, тусклые предметы не согласуются с представлением о героике. Лишь те предметы, которые выявляют или подчеркивают различные аспекты героической сущности персонажа, лишь предметы, великолепие и прекрасные качества которых достойны героев, занимают место в эпическом мире.
Героический идеал, как мы видели, определяет внешний облик эпического мира и события, происходящие в нем. Но есть и другие свойства эпического мира, воспринимаемые на первый взгляд как нечто самоочевидное, реальное, несоотносимое с героикой эпического мира. Это пространство, занимаемое им, и время, которое в нем протекает.
Первое знакомство с эпическими произведениями англосаксов, и в частности с «Беовульфом» и «Видси-дом», создает впечатление, что эпическое пространство как таковое неотделимо от пространства реального: в «Видсиде», например, упоминается огромное количество реально существовавших народов и территорий; не меньше, хотя и в менее концентрированной форме, таких упоминаний в «Беовульфе». В поэме действуют племена данов, фризов, ютов, франков, шведов. Описания местности — столь правдоподобные, как скалы датского побережья, микротопонимы типа Хреоснаберг, Хронеснес и т. д.,'—заставили не одно поколение ученых прилагать много усилий, чтобы точно локализовать место, где располагался Хеорот36, где находилось озеро— жилище Гренделя и его матери, где были селения геатов и королевский дворец Беовульфа и где, наконец, те скалы, возле которых Беовульф сражался с драконом. Неудачи таких попыток закономерны, но не из-за нечеткости и скудости описаний местности или природы. Напротив, «Беовульф» содержит едва ли не наиболее поэтичные и яркие пейзажные зарисовки в древнеанглийской литературе — достаточно вспомнить описание пути к озеру, где находится жилище Гренделя:
Дальше направились где меж утесов
высокородные стези кремнистые
к скалам гранитным, шли над ущельем,
к теснинам темным, кишащим нечистью...
(Беовульф, 1408—1411)
И не в поэтической условности описаний дело, а в том, что эпический мир имеет свое собственное пространство, которое, хотя и соотносится с пространством реальным, не может быть отождествлено с ним, поскольку существует как некоторая поэтическая абстракция лишь в воображении рассказчика и слушателей.
Эпическое пространство, как оно представляется англосаксонскому скопу, чрезвычайно ограниченно и мало. Самые дальние обитатели мира — финны — оказываются на таком расстоянии, которое Беовульф преодолевает, состязаясь с Брекой в плавании. Далекие
и близкие земли одинаково далеки или близки—в зависимости от точки зрения рассказчика — и одинаково несоотносимы с расстояниями реальными. Поэтому Видсид с легкостью оказывается то на севере, то на юге Европы, и все народы представляются равно доступными и близкими для него.
Весь мир видится скопу как совокупность отдельных точек — локусов, представленных королевскими дворцами, где находятся король, его дружина, символизирующие все племя (данов, фризов, хадобардов, франков и т. д.), другие участники пиров. Племя данов воплощается и как бы концентрируется в образе Хрод-гара и его дружинников, а вся территория датского королевства сводится к Хеороту. Хотя и упоминаются в поэме геатские бурги и селения, которые сжигает дракон, но для сказителя реален лишь дворец Хигелака, где король выслушивает рассказ Беовульфа, получает и раздает дары своим дружинникам. Мир сводится к ряду дворцов, замков, пиршественных палат, и эта «точеч-ность» пространства сужает границы мира, лишает его масштаба расстояний. Движение — переход из точки в точку — важно лишь в своих конечных пунктах, его промежуточные стадии интереса не представляют и потому просто опускаются. В путешествии Беовульфа к данам существенно лишь перенесение действия из земли (=дворца) геатов в землю данов (=Хеорот), поэтому подробно описаны сборы Беовульфа, отплытие корабля, а затем геаты оказываются у данов и начинается пространное объяснение Беовульфа со стражем побережья, затем Вульфгаром, и наконец геатская дружина оказывается в Хеороте. Расстояние между «точками» несущественно и потому условно.
Пространство между точками-дворцами представляется скопу ничем не заполненным, лишенным каких-либо характерных примет. Но пусто оно не само по себе: его пустота определяется отсутствием в нем атрибутов героического мира, и потому пространство вне этих точек — это пространство вне героического мира. Оно включено в другую систему ценностей, наполнено событиями, людьми, предметами, не связанными с представлениями об эпической героике, и тем самым не попадает в поле зрения скопа. Промежуточное пространство не заполнено лишь с точки зрения героического действия, именно в связи с этим оно сжимается, и отдельные точки эпического мира как бы примыкают одна к другой. Пространство концентрируется, сгущается настолько, что весь мир помещается в стенах королевского дворца.
Уклад жизни, взаимоотношения людей, населяющих дворец (Хеорот, дворец Хигелака и т. д.), нравы и обычаи, царящие в нем, представляются моделью всего миропорядка. Это героический микрокосм, который как две капли воды похож на все остальные локусы эпического мира. Строгое выполнение взаимного долга является основным устоем мира как данов, так и гуннов, фризов и др. Щедры и Аттила, и Теодорих, и Хродгар. С интересом и вниманием слушают песни Видсида при дворах разных правителей. И во всех концах эпического мира понятны и близки мотивы, которыми руководствуются герои. Героический мир умножается, многократно воспроизводится во многих точках эпического пространства, и это сообщает ему однородность и универсальность. Пространство едино и в каждой точке равно самому себе, оно не может обладать различными признаками в различных его частях. Его неразрывная связь с героическим миром, обусловленность его существования этим миром позволяют говорить о нем как о героическом пространстве, структура которого строго подчинена дихотомическому делению мира .
Географические — ландшафтные — приметы эпического пространства отражают реальные условия существования тех, в чьей среде формировался героический мир. В «Беовульфе» явственно чувствуется близость моря: не говоря уже о морском плавании героя к данам, оно упоминается и в рассказах о первом юношеском подвиге Беовульфа (уничтожение морских чудовищ), о состязании в плавании; геатская дружина из дворца Хигелака идет к своему кораблю, дорога от моря ведет к Хеороту, тело дракона геаты сбрасывают с утеса в море, курган Беовульфа насыпан на мысе, чтобы он виден был далеко в море. Естествен гористый ландшафт, который описан и в первой части поэмы (жилище Гренделя находится в горном озере и окружено острыми скалами), и во второй (пещера, в которой скрывается дракон, находится в горах). Сам Хеорот расположен в равнинной местности, где есть болота, о которых упоминает Хродгар. Изображения ландшафта лишены гиперболизации, они, вероятно, и не воспринимались как самостоятельный эстетический элемент повествования, поскольку их включение в текст жестко обусловлено развитием действия и не выходит за рамки необходимого пояснения, т. е. преследует практические цели38: Беовульф направляет путь к «серым утесам» (2540), «тропа торная вела по равнине, путь указуя в лесную чащу» (1403—1404). Ландшафт нейтрален и не
имеет особых примет героической приподнятости, вероятно, и потому, что герой, хотя и действует иногда на лоне природы, никогда не сопряжен с ней, не вступает с ней в какое-либо взаимодействие. Более того, природа предстает как нечто исключительное, выходящее за рамки героической повседневности, чуждое и, вероятно, враждебное миру людей. Поэтому в англосаксонском эпосе описание природы — если оно встречается (например, в элегиях) — всегда мрачно, угрюмо, вызывает чувство страха и настороженности. Отсутствие поэтических средств для изображения пейзажа прекрасного и радующего человека вынудило даже создателя поэмы «Феникс» в изображении рая («Блаженная земля»)Ъ9 пользоваться по преимуществу отрицательными конструкциями:
...чистая и беспечальная счастья обитель,
цветущая непрестанно: ни утесы, ни горы
ни скалы клыкастые, ни каменные уступы
в поднебесье не вздыбаются, как здесь повсеместно,
ни ущелия, ни лощины, ни пещеры, ни провалы,
ни бугры, ни обрывы—
не уродуют земь неровности...
(Блаженная земля, 20—25)
Действие поэмы происходит почти исключительно во дворце, в замкнутом, «очеловеченном» пространстве. Если оно и попадает во власть чудовищ, то временно и не полностью:
освященного Богом, не касался поганый,
не смел осквернять трона кольцедарителя.
Светлый Хеорот стал пристанищем
полночной нечисти— только места высокого,
(Беовульф, 166—170)
Грендель владеет Хеоротом после захода солнца, и не весь дворец подвластен ему. В этой неполноте обладания таится возможность возвращения дворца героям, восстановления миропорядка. Большинство же эпизодов битвы героя с чудовищами (Беовульфа с великаншей и драконом, Сигурда с Фафниром) происходят за пределами дворца, но они происходят и за пределами мира людей: и горное озеро, и скалы, где находится пещера дракона, и Гнитахейд, логово Фафнира,— это территории противников героя, чудовищ, но никак не людей. С природой непосредственно связана лишь та часть эпического мира, которая противостоит миру
ДО
героя .
Специфика эпического пространства, его условность создают дистанцию между миром рассказчика и слушателей и эпическим миром. Эта дистанция формируется
и временной отнесенностью действия, и вообще протеканием времени в эпическом мире. Это не мифологическое «неопределенное» или «изначальное» время архаического эпоса, а условно-историческое время, наделенное внешними признаками историчности, несмотря на вневременность самого сюжета41. Действие поэмы отнесено к «героическому времени» германского эпоса — эпохе великого переселения народов. Выше упоминалось использование некоторых исторических имен (Ат-тилы и др.) как символов этой эпохи. Встречаются они и в «Беовульфе», безотносительно к развитию действия поэмы, но как краткие аллюзии в описаниях. Рассказывается в поэме и о некоторых реально происходивших событиях, которые засвидетельствованы хрониками и анналами других народов (например, о походе Хигела-ка)42.
В создании исторического фона участвует множество топонимов и этнонимов, разбросанных в тексте. Реальность большинства из них проверить практически невозможно, но и в тех случаях, когда представляется шанс соотнести их с действительно существовавшим племенем или местом, степень их исторической достоверности вызывает глубокие сомнения. Например, Беовульф, рассказывая о состязании с Брекой, говорит:
морским течением к финским скалам.
...меня, усталого,
но невредимого, приливом вынесло,
(Беовульф, 581—583)
Дословно в тексте сказано «on Firma land» — «на землю финнов». Вопрос в том, какая историческая реальность скрывается за этим топонимом. Скорее всего никакой. Упоминается земля финнов лишь как самая дальняя, предельная часть ойкумены, упоминается для того, чтобы придать большую масштабность победе Беовульфа над Брекой: герой доплыл до края света, куда никто из известных воинов добраться не может и только слухи о существовании которого дошли до Англии.
Еще более интересный случай представляет один из самых часто встречающихся в поэме этнонимов: название племени, к которому принадлежит сам Беовульф,— геаты, которое соответствует, как полагают большинство современных исследователей, названию скандинавского племени гауты (gautar)43. Когда-то могучее и большое, о чем рассказывают многие античные и раннесредневековые историки до VII в., племя геатов-гаутов в более поздней хронографии не упоминается, а в памятниках художественной словесности как англосаксов, так и скандинавов теряет все конкретно-
исторические приметы. Обычно подробные описания места обитания народа, перечисления конунгов и прославленных воинов пропадают, сохраняются лишь краткие упоминания: «он был гаутом», «он был родом из Гаутланда»,— относящиеся в скандинавских «сагах о древних временах» к наиболее знаменитым героям (например, Бодвару Бьярки). Создается впечатление, что Гаутланд — страна героев, а не реальная территория, населенная определенным народом. Все представители племени отважны, могучи, являются своего рода эталоном героичности. Поступив в дружины соседей-конунгов (а все свои подвиги герои-гауты совершают в чужих землях), они приносят им славу и победу. Теряя черты конкретно-исторической реальности, геаты-гауты преобразуются из действительно бывшего народа в эпическое племя, существующее как модель идеального героического племени лишь в эпическом мире. Сам этноним становится символом определенных качеств героя, указывающим на его исконную принадлежность к героическому миру44.
Вероятно, именно в связи с условностью, «эпичностью» этнонимов «геаты» и «даны» создалась парадоксальная ситуация, так и не получившая объяснения: в эпоху ожесточенной борьбы англосаксов со скандинавской экспансией формируется эпическая поэма, прославляющая героя-скандинава и его подвиги, совершенные ради блага тех самых данов, которые разоряют Англию45. Но лишь для современного читателя, знакомого с историей, археологией, культурой Скандинавских стран, геаты и даны «Беовульфа»—реальные народы, населявшие конкретные территории и известные некоторым средневековым авторам. Для скопа же и его слушателей такого прямого соответствия не было и, видимо, не могло быть. Эпический сюжет, пришедший к англосаксам, вероятно, еще до их переселения на Британские острова, в ходе своего развития преображал конкретные реалии, переносил их из действительного в эпический мир, где они утрачивали значительную часть своего конкретно-исторического содержания, зато обретали нетленный поэтический смысл. Поэтому геаты и даны, как и другие «исторически достоверные» этнонимы и топонимы поэмы,—-. одновременно и те самые геаты и даны, которые жили на юге Швеции и на Ютландском полуострове, и в то же время типизированные «эпические» народы, поэтический образ идеального племени.
Таких условно-исторических реалий, преобразующих время действия поэмы в условно-историческое
время, можно привести немало. Но важно не их количество, а их значение. Благодаря широкому включению их в повествование время действия поэмы воспринималось рассказчиком и слушателями как действительно бывшее, существовавшее в реальности, а не как фантастическое: сказочное или мифологическое. «Историзация времени» отражала общую установку на достоверность, «невымышленность» рассказываемого.
Отнесение действия к «героической эпохе» включало эпический мир поэмы в более широкий, но имеющий те же особенности мир всего древнегерманского эпоса, создавало единство эпического времени и обусловливало его замкнутость. Все основные сюжеты наиболее раннего германского героического эпоса (известные, однако, по более поздним англосаксонским, скандинавским, верхненемецким редакциям) отнесены к одному времени и не выходят за его пределы. Эпическое время ограничено хронологическими рамками «героической эпохи», и все события, сжимаясь или растягиваясь, умещаются в нем. Замкнутость и компактность времени позволяла выработать незначительные по количеству, но чрезвычайно емкие и запоминающиеся обозначения, приметы «героического времени». Не случайно из поколения в поколение передаются, не претерпевая изменений, имена прославленных героев и названия мест, где они совершали свои подвиги, в то время как их индивидуальные характеристики и даже последовательность событий, связанных с ними, трансформируются, переосмысливаются иногда почти до неузнаваемости46. Имена собственные, в первую очередь имена героев, являются символами героической эпохи, героического времени. Образованные сложными существительными, подобными поэтическим синонимам, они также служили средством героизации: так, имена Wid-sid"— «много-странствовавший», Hrod-gar— «славное копье», Beowulf— «пчелиный волк», т. е. «медведь»47, значащи и, более того, содержат оценку, восхваляющую и прославляющую носителя имени.
Время поэмы не замыкается в самом сюжете. Многочисленные отступления о предках Хродгара, о судьбе Эрманариха, о шведско-геатской распре и т. д. расширяют хронологические рамки повествования, выводят слушателя за пределы самого сюжета. Создается некая, достаточно ограниченная, правда, временная перспектива, на фоне которой особенно ярко и величественно выступают подвиги Беовульфа и которая охватывает как прошлое, так и будущее. Насколько можно судить, она основывается на широком распространении
эпических сюжетов в среде слушателей. Рассказчик может позволить себе краткие намеки на дела давно минувшие и на грядущие (для Беовульфа или данов) события лишь потому, что все слушатели знают и помнят другие сказания, подробно повествующие о них, и потому эти аллюзии были поняты и соотносимы с развертывающимся действием.
Упоминания и рассказы о прошлых и будущих событиях буквально переполняют поэму. Они вводятся и в авторской речи (например, все четыре отступления о походе Хигелака), и в речах персонажей (так, Хродгар упоминает о бывшей когда-то размолвке Эггте-ова, отца Беовульфа, с геатами; Беовульф подробно рассказывает Хигелаку о грядущей судьбе дочери Хродгара, выданной замуж за Ингельда, и т. д.). Они вызывают постоянные остановки в развитии сюжета, прерывистость основного временного плана — настоя-щего48.
В то же время все отступления имеют и тесную связь с настоящим. Прошлое объясняет настоящее, раскрывает существо происходящего в нем; будущее является прямым следствием и развитием отдельных моментов настоящего и потому тоже неотделимо от него. Прошлое и будущее являются в поэме функциями настоящего и воспринимаются через его призму. Тем самым настоящее в поэме, т. е. время протекания событий сюжета, выдвигается на первый план, выступает более рельефно и ярко.
Что же представляет собой сюжетное время поэмы? В первую очередь оно строго линейно. Насколько легко забегает в будущее и возвращается в прошлое рассказчик в различных деталях, уточняющих действие, настолько жестко выдерживается им последовательность событий самой фабулы. Действие за действием проходят перед слушателем, и каждое из них занимает отведенное ему место во временном ряду, причем в одном временном отрезке содержится лишь одно событие, в какой бы точке пространства оно ни совершалось. Каждое из них обусловлено предшествующим, и потому оно не может быть передвинуто на хронологической шкале. Исключение составляют лишь две оговорки рассказчика перед битвами Беовульфа с Гренде-лем и драконом, когда он заранее как бы предупреждает, чем закончится предстоящее сражение:
...а вождь был должен дни этой жизни
в битве закончить, убив чудовище...
(Беовульф, 2341—2342)
Но эти предсказания будущего также основаны на общеизвестности фабулы, само повествование рассчитано не на сообщение совершенно новой информации, а на воспроизведение уже известного, и потому «предсказания» как бы удостоверяли традиционность рассказываемого и концентрировали внимание слушателей на том, как, а не что рассказывается.
Это восприятие и воплощение времени в поэме (и не только в ней, но и в других эпических памятниках) объясняет постоянное расчленение многоплановых эпизодов на серию последовательных действий, например сцен боя.
Последовательность, очередность событий подчеркивается способом отсчета времени — от предшествующего события. Беовульф отплывает из земли геатов и через день и ночь видит утесы датского берега. Беовульф правит геатами 50 лет, и после этого дракон начинает свои нападения и т. д. Никаких других возможностей счета времени поэма не обнаруживает: никакие внешние, не относящиеся к сюжету события не имеют для рассказчика значения временных ориентиров и не могут быть соотнесены со временем сюжета. Более того, в самой поэме временной распределейности подлежат лишь действия, непосредственно составляющие сюжет. Только они обладают длительностью по отношению друг к другу, занимают место во временном ряду. Что же касается отступлений, выходов в прошлое и будущее, то здесь невозможны вообще какие-либо отсчеты времени. Нигде нет ни единого указания на то, когда происходило то или иное упоминаемое событие: битва в Финнсбурге, гибель Хигелака, сражение у Хреоснаберга и т. д. В лучшем случае мы можем определить, что поход Хигелака к франкам состоялся после возвращения Беовульфа от данов и до его восшествия на геатский престол, но, как много после и за сколько до, неизвестно и не интересует рассказчика. О большинстве же событий мы не знаем и этого. Прошлое не членится на отдельные отрезки времени. Оно аморфно и обретает структуру, только если заполнено рядом последовательных, взаимосвязанных событий; тогда к нему применимы те же определения, что и к настоящему в поэме: достаточно вспомнить рассказ о распре геатов и шведов (Беовульф, 2922—2998), чтобы убедиться в том, что и там мы имеем дело с «сюжетным» одноплановым линейным временем.
Но пожалуй, главной особенностью «сюжетного» времени является его непосредственная связь с действием, событием. «Сюжетное» время оформляется и
приводится в движение развитием действия. «Пустые» промежутки времени, как и «пустое» пространство, отмечаются лишь в редчайших случаях и вполне условно («прошло 50 лет»,но они не содержали героического действия, и потому о них нечего сказать) либо — чаще — не отмечаются вовсе.
Таким образом, время в эпическом мире поэмы подчинено закону героического. С одной стороны, оно героично уже потому, что принадлежит «героической эпохе» германского эпоса; с другой стороны, как и пространство, оно определяется героическим действием и не мыслится вне его. Структура эпического мира, таким образом, является взаимосвязанной и взаимодействующей системой «пространство — время — действие» .
Таков эпический мир поэмы, мир противоборствующих добра и зла, мир героического деяния, гиперболизированных чувств и возможностей, мир, в котором отражается реальная жизнь певцов и слушателей, но лишь одной своей стороной — героической, праздничной, необыденной. Герои поэмы отделены от слушателей не тем, что они вымышлены, а идеальностью мира, в котором они живут, и идеальностью своих качеств. Немаловажную роль в формировании поэмы играет и христианский элемент.
Сюжет поэмы не несет никаких черт, связывающих его с христианской идеологией, христианскими литературными традициями. Как признают большинство современных исследователей, христианские элементы возникли в поэме на довольно позднем этапе ее развития, но к моменту ее записи были органически вплетены в текст, и без их характеристики анализ поэмы не может быть сколько-нибудь полным49. Религиозность была неотъемлемой частью сознания средневекового человека, ею была проникнута вся его жизнь от рождения и до смерти. Поэтому неудивительно, что и в поэме, существовавшей во времена становления и укрепления христианской идеологии, она нашла довольно широкое отражение, причем не только в форме отдельных и более или менее самостоятельных упоминаний христианских легенд и реалий50, но и как один из элементов эпического мира в целом.
Было давно уже замечено достаточно странное и до сих пор не объясненное обстоятельство: новозаветная —наиболее существенная в глазах средневекового
человека — литература не нашла никакого отражения в тексте: нет ни упоминаний имени Христа, несмотря на многочисленные обращения к богу, ни ссылок на его жизнь или какие-либо события из жизни святых. Создается впечатление, что рассказчик или незнаком с новозаветными сюжетами (что практически невозможно), или по каким-то причинам не прибегает в своем изложении к ним. В то же время ветхозаветные сюжеты представлены широко: это легенда о сотворении мира (Беовульф, 90—98), о всемирном потопе (1689), о Каине и Авеле (106—108), о конце мира (978, 2724, 3069). Много в поэме и «нейтральных» бессюжетных включений элементов христианской идеологии: частые обращения героев к богу («Дарителю славы» — Беовульф, 316, 928, 955, «Всемогущему повелителю» — 16, 665, 1314, и т. д.); рассуждения о гибельности гордыни (этой теме посвящена речь Хродгара—1727— 1768). Христианские представления в поэме в целом отличаются крайней расплывчатостью и неясностью для самих слушателей. Они свидетельствуют о постепенном вытеснении представлений язычества, которые отнюдь еще не устранены полностью. Достаточно вспомнить описание рукояти меча, найденного Беовуль-фом в подводном жилище Гренделя:
... он разглядывал древний черен,
искусно чеканенный, на котором означивалось,
как пресек потоп великаново семя
в водах неиссякаемых,— кара страшная! —
утопил Господь род гигантов,
богоотверженцев, в хлябях яростных
в мертвенных зыбях; и сияли на золоте
руны ясные, возвещавшие,
для кого и кем этот змееукрашенный
меч был выкован в те века незапамятные
вместе с череном, рукоятью витой...
(Беовульф, 1687—1698)
В традиционно-эпическом описании меча слились сюжеты и представления христианства и язычества, в нем соседствуют легенды о всемирном потопе и о великанах (образ, распространенный и в германской мифологии), божий гнев и руническая надпись.
Видимо, не без оснований можно предположить, что в поэме нашли отражение мотивы и сюжеты христианства по преимуществу космогонического и эсхатологического характера, которые имеют черты сходства с космогоническими сюжетами древнегерманской мифологии. Благодаря их сопоставимости со знакомыми и привычными представлениями они быстрее и легче
усваивались новообращенными христианами. Не случайно, например, воплощенное в многочисленных кен-нингах представление о боге, бесспорно христианском: бог для рассказчика и слушателей — это некое высшее существо, распределяющее земные блага и дары по образцу древнегерманского конунга, повелевающее судьбами людей, дарующее достойным победу в битве и славу. Наиболее часты выражения, которые, например, в скандинавской мифологии относятся к Одину: «всемогущий отец», «даритель славы», «даритель победы». Лишь очень немногие эпитеты или метафоры связаны непосредственно с христианскими представлениями, например «вечный отец».
Речь Хродгара, которая обычно считается наиболее ярким воплощением христианской идеологии, является по сути своей декларацией в формах христианской терминологии правил взаимоотношений короля и его подданных. Именно пренебрежение короля своим долгом, забвение своих обязанностей, как они мыслятся в героическом мире, осуждаются Хродгаром, рассказчиком и слушателями. Поведение «возгордившегося» короля соотносится не только с христианским, но и с героическим идеалом правителя.
Постоянные декларации божественной помощи Бе-овульфу, Хродгару, участия бога в земных делах и т. д. отнюдь не исключают практического подхода рассказчика к событиям поэмы. Невзирая на все, Беовульф побеждает Гренделя «своей собственной силой» (Беовульф, 700); слушатель не ждет каких-либо чудес или непосредственного вмешательства бога, и Беовульф погибает от ран, полученных в битве с огнедышащим драконом. Все развитие сюжета, все детали поведения героев объясняются вполне практическими, земными мотивами (об элементах сказочной фантастики говорилось выше), христианские мотивировки лишь иногда наслаиваются и как бы подкрепляют традиционно-эпические. Например, Беовульф уверен в победе над Гренделем и потому, что он в расцвете героических сил и это деяние является проявлением его сущности героя, и потому, что пользуется покровительством бога.
Значительно существеннее роль христианских элементов в системе ценностей эпического мира. Пространство, принадлежащее героям, как и они сами, находится под покровительством бога. Бог охраняет трон Хродгара и не допускает, чтобы Грендель воссел на него, он помогает Беовульфу во всех его подвигах (не избавляя, однако, от гибели); герои в свою очередь преданы богу, как и следует вассалам по отношению к
своему сюзерену. Бог — верховный повелитель героев, и отношения между ними строятся по знакомому земному образцу: взаимное выполнение долга обеспечивает благополучие и неизменность миропорядка.
Участие бога в судьбе Беовульфа, его поддержка и помощь в сражениях — дополнительное средство героизации образа, сообщающее ему ореол праведности в глазах слушателей-христиан, пускай неофитов еще слабо знакомых со сложной догматикой и символикой, но уже воспринявших некоторые основные положения нового вероучения. Победы Беовульфа над чудовищами нравственны и освящены авторитетом бога.
Другой полюс эпического мира — это полюс отверженных богом его врагов и недругов. Система оппозиций распространяется и на характеристику персонажей с христианских позиций и также противопоставляет героев и чудовищ. В давние времена бог осудил и отверг противников героя за различные злодеяния, и они изгнаны не только из мира героев, но и из мира божьего. Они находятся вне общественных связей, как земных, так и небесных, и победа над ними героя — это восстановление как земной, так и небесной справедливости. Более того, можно предположить, что Грендель в представлении рассказчика и слушателей ассоциируется с библейским (ветхозаветным) сатаной: многие метафоры, обозначающие его, являются парафразами слова «дьявол» в христианской литературе: helle hafta (captivus inferni) — «пленник ада», feond mancynnes (ho-stis humani generis) — «враг рода человеческого»51.
Влияние христианской религии, таким образом, проявляется в «Беовульфе» в большей степени в передаче самой атмосферы жизни, где религиозность является естественным проявлением средневекового сознания, нежели в намеренном воплощении основ христианского вероучения. Именно поэтому христианские представления включаются в систему элементов, определяющих облик эпического мира, его внешние атрибуты. Тем не менее наиболее существенные стороны эпического мира, его структура не обнаруживают влияния христианства, а остаются традиционно-героическими. Христианская идеология проникает лишь в наиболее подвижную, наиболее подверженную изменениям систему ценностей эпического мира, причем на правах одного из многих ее элементов, и не влечет за собой радикальной перестройки или пересмотра остальных этических представлений. Христианская модель мира в некоторых своих частях совмещается с эпической, накладывается на нее, но не вытесняет и не подменяет ее.
Эпический мир «Беовульфа» близок общегерманскому, модификации его незначительны и, самое главное, не затрагивают его структуры. В то же время поэма, основываясь на традиционном общегерманском сюжете, отнесенном к «героической» для германцев эпохе, приобретает некоторые локальные черты и включает множество отступлений, сюжеты которых связаны с местными, английской и скандинавской, традициями. Правда, как свидетельствует «Видсид», грань между этими традициями ощущалась слабо: в поэме не проводится различий между сюжетами (или героями) общегерманскими и местными; все они перечисляются подряд, без определенной системы. Тем не менее локальные сюжеты, очевидно, возникают в более позднюю эпоху, о чем свидетельствует ряд особенностей поэм на эти темы.
К сожалению, до нашего времени не сохранилось полностью ни одной англосаксонской поэмы этого типа, хотя о существовании их мы знаем немало, и в первую очередь из «Беовульфа», где кратко пересказаны некоторые поэмы. Вторым источником наших сведений о героических поэмах на местные сюжеты является, конечно, «Видсид». И лишь краткий фрагмент одной из таких поэм, по счастью пересказанной полностью в «Беовульфе», дошел до нашего времени — это фрагмент (около 50 строк) песни «Битва в Финнсбурге» . Среди других поэм, содержание (но не форма воплощения) которых известно, можно назвать сказания об Ингель-де, короле хадобардов, который женился на дочери Хродгара в знак мира с данами (эта история излагается в «Беовульфе»), о мерсийском короле Оффе53 и др.
Насколько можно судить на основании фрагмента «Битвы в Финнсбурге» и пересказов других поэм, эпический мир, воплощенный в них, в целом очень близок «Беовульфу», хотя, возможно, и не тождествен ему. Общими являются наиболее существенные, структурообразующие элементы, в первую очередь концепция героического, определяющая основные признаки эпического мира. Общезначимым (для племени или народа) является центральный конфликт поэм, его разрешение влияет на судьбы данов и хадобардов в сказании об Ингельде, данов и фризов—в песни о Финнсбурге. Героическое действие — сражение — находится в центре внимания рассказчика, праздничные пиры с раздачей даров и приготовления к битве служат его обрамлением. Действия, характеристики героев
сильно гиперболизированы, проникнуты пафосом героики. Сохраняются наиболее важные особенности и пространственно-временных характеристик эпического мира. Пространство представляется, как и в «Беовульфе», «точечным», дискретным, центр мира — дворец, в котором пируют герои, там же происходит и часть сражений: нападение на данов во время пира в сказании об Ингельде, битва данов и фризов во дворце Финна («Битва в Финнсбурге»). Замкнуто и дискретно «сюжетное» время этих поэм. Последовательные изображения отдельных эпизодов свидетельствуют об однопланово-сти повествования, строгой приуроченности временных промежутков к определенному участку эпического пространства. Так, сохранившийся фрагмент «Битвы в Финнсбурге» содержит рассказ об одном из эпизодов сражения в замке Финна — нападении фризов на зал, в котором расположились датские воины Хнэфа.
Как ни сложно говорить о поэтике произведений, которые не сохранились в полном виде, все же, как кажется, можно сделать несколько наблюдений об особенностях их эпического мира в сравнении с традиционным общегерманским. Во-первых, содержание конфликта лишено в них элементов фантастики: друг другу противопоставлены не герои и чудовища, как в «Беовульфе», а два племени или две группы одного племени. Это обстоятельство влечет ряд других изменений. Нет столь четкого, как в «Беовульфе», разграничения двух полюсов эпического мира. Повествуя о происходящем, рассказчик, как кажется, занимает позицию стороннего наблюдателя, не внося элемента оценки противников и не принимая сторону одного из них. Соответственно утрачивается столь существенное в «Беовульфе» постоянное противопоставление мира людей и мира чудовищ. В героических поэмах есть только мир людей, героев, который функционирует в соответствии с общей моделью.
Во-вторых, пространство эпического мира, как о нем можно судить, представляется значительно менее условным, чем в традиционном героическом эпосе. Уже сам конфликт, требующий участия в нем реально существующих или существовавших в недавнем прошлом племен, обусловливает снижение условности при изображении пространства, необходимость его топографического приурочения к какой-то определенной местности.
В-третьих, представляется, что время этих поэм не выходит за пределы «сюжетного» времени. Сам сюжет ни по времени, ни по другим признакам не приурочива-
ется к «героической эпохе», а отнесен к более позднему и своему для каждой из поэм времени, которое начинается и заканчивается вместе с сюжетом.
Постепенное развитие героического эпоса на собственно английской почве ведет не только к некоторой модификации традиционных форм эпоса. Сосуществование и одновременное функционирование типологически разностадиальных жанров приводит к трансформации в них представлений о героическом мире и героическом обществе.
Во мраке одиночества: героические элегии
Эпический герой... Он выступает в блеске славы, в сверкании доспехов, бесстрашно сражается с несметными полчищами врагов или побеждает в поединке ужасающего, сверхъестественного противника —дракона, великана. Но может ли он остаться героем, если его лишить атрибутов величия, если его удел — печаль и горестные размышления, если он пассивен и погружен в страдания? Казалось бы, такому персонажу нет места в героическом эпосе, и тем не менее именно таков герой англосаксонских элегий.
Тяготы морского плавания, чувство оторванности от всего близкого и родного, тоску по привычному образу жизни описывает Мореплаватель в пространном монологе (поэма «Морестранник»). В изгнании остро переживает свое одиночество, вспоминая былое, Странник («Скиталец»). Погибло некогда могущественное племя, и последний оставшийся в живых воин скрывает в земле сокровища предков, оплакивая их горькую судьбу и готовясь к жизни, полной невзгод («Беовульф», 2231—2270). Вынужден покинуть своего господина, отдавшего предпочтение другому певцу, Деор («Деор»)'.
Даже краткий пересказ содержания некоторых элегий показывает, что все они посвящены одной и той же теме, которую условно можно назвать «изгнанием», т. е. исключением героя из мира, к которому он принадлежит. В результате каких-то трагических событий (войны, болезней, изгнания), которые упоминаются лишь вскользь, герой отторгнут от привычного ему мира: утратил благосклонность своего господина Деор; защищая свою землю, погибли все соплеменники воина из «Беовульфа»; в битве пали родичи, друзья и вождь Скитальца; в изгнании Морестранник, Вульф («Вульф и Эадвакер»), воин из «Послания мужа»; какая-то болезнь опустошила город, описываемый в «Руинах» (если только выражение cwomon woldagas («настали дни мора») можно понимать буквально).
В центре внимания рассказчика — изображение того состояния, в котором находится герой, а отнюдь не событий, которые привели его к нынешнему бедственному положению. Стереотипность ситуации обусловливает устойчивый набор чувств и переживаний героя элегий: тоску, угнетенность духа, отчаяние. И сюжет элегий, и их эмоциональная атмосфера жестко определены и могут варьироваться лишь в ограниченных пределах.
Ситуация, в которой оказывается герой элегий, исполнена трагизма: разорваны узы социальных связей, герой-дружинник лишен покровительства вождя и дружбы товарищей, он утратил пристанище и кров. Оторванность героя от мира, к которому он принадлежал, ставит его в исключительное, более того, опасное для него положение. Средневековый человек был связан с коллективом, к которому он принадлежал, тысячами нитей. Он не мыслил себя вне своего локального мирка, который как в капле воды отражал и замещал в его сознании весь универсум. Вне своего коллектива, своей среды он переставал существовать как личность. Не случайно еще в XI в. в Исландии самым страшным наказанием, которому подвергались лишь за совершение наиболее тяжких преступлений (убийство родича, например), было изгнание, объявление человека вне закона. Утрата своего места в системе социальной иерархии создавала для человека почти непреодолимые трудности: лишенный покровительства, человек не мог рассчитывать на защиту и помощь, его имущество, земля и сама его жизнь переставали быть огражденными от посягательств более сильного. Не случайно так заботит Беовульфа судьба его дружины, если он погибнет в поединке с матерью Гренделя:
...Славный! припомни,
наследник Хальфдана, теперь, даритель,
когда я в битву иду, о всемудрый,
что мне обещано: коль скоро, конунг,
я жизнь утрачу,
тебя спасая,
ты не откажешься от слова чести,
от долга отчего, и будешь защитой
моим сподвижникам, дружине верной,
коль скоро я сгибну...
(Беовульф, 1474—148 J)
Не случайно и требование англосаксонских судебников, чтобы каждый человек имел сюзерена и покровителя (ср. главу I).
Утрата связей со своей средой уничтожает человека, лишает его всего: определенного положения в социальной иерархии, имущества, земли. Более того, он
теряет даже свое имя. Примечательно, что ни один герой элегий, кроме Деора, не имеет имени. Обычно рассказ ведется от 1-го лица, в авторском же повествовании герой назван «мужем», «воином» или просто обозначается местоимением 3-го лица—«он». Даже в том единственном случае, когда из поэмы мы узнаем имя героя, оно приводится во фразе: «было мне имя Деор» (me waes Deor пота). Прошедшее время — «было» — странно звучит для современного человека: ведь, что бы ни случилось, человек сохраняет свое имя. Иного мнения, очевидно, придерживается певец: Де-ором звали человека, имевшего господина и друзей, службу и земли. Теперь же, лишенный всех связей со своей средой, он утратил и свое имя. В этой поэтической условности концентрируется и достигает вершин патетики идея утраты героем присущего ему мира.
Герой элегий не только безымянен — он вообще лишен всяких индивидуальных примет. Ни единого слова не говорится о его этнической или родовой принадлежности: вспомним, как подробно и с любовью изображается в эпической поэзии прославленный род, к которому принадлежит даже и второстепенный персонаж: Виглаф, Эскхере, Унферт в «Беовульфе», например. Нет ни единой обмолвки о том месте, где жил раньше герой элегии, лишь иногда и вскользь упомянуто, какое положение он занимал в дружинной иерархии. Герой — и это одна из характернейших черт жанра героических элегий—лишен всех связей с реальностью, он вырван из мира социальных отношений, из мира людей.
Отсутствие фабулы и безликость героя взаимообусловлены: любое действие (а их последовательность и составляет фабулу произведения) требовало бы установления некоторых связей между героем и обществом, включало бы его в некую социальную среду, т. е. снимало бы трагизм ситуации.
Таково настоящее героя, то положение, в котором застает его слушатель или читатель элегий. Жизнь героя остановилась, замерла в наивысшей точке его страданий. Но в былое время — и в воспоминаниях героя рождаются яркие картины прошлого — все было иначе. Его жизнь проходила на поле брани и в пиршественном зале; вместе со своими товарищами-дружинниками он получал дары из рук щедрого короля (Скиталец, Вульф), он внимал звукам арфы и пению скопа (воин в «Беовульфе»). Герой имел родичей, верных друзей и покровителя, под защитой которого находился. Многими нитями он был связан с окружа-
ющим его миром: родственными узами, обетами верности, ясными и привычными иерархическими связями. Его жизнь была всецело регламентирована существовавшими нормами, и тогда он чувствовал себя уверенным и счастливым.
Контраст между описанием настоящего и прошедшего лежит в основе композиции элегий: описание трагического настоящего сменяется красочной картиной былого: воины в блестящих доспехах за столами пиров восславляли свои победы, звон оружия, шум голосов, звуки песен наполняли города, но теперь... И снова перед взором героя возникают руины, пустынные здания, озаренные, однако, призрачным отблеском былой славы. Противопоставление прошлого и настоящего подчеркивается и углубляется частыми переходами от одного к другому. Так, в «Скитальце» на протяжении 20 строк четыре раза сменяются картины: от констатации бедственного положения героя («познавший изгнанье», «Скиталец», 32) к воспоминаниям о раздаче сокровищ во время пира (34—36), которые завершаются патетическим восклицанием: «Убита радость», возвращающим героя в мир бед и печалей, которые ему хорошо известны: «Он уже знает...» (37)2. Но его мысль недолго задерживается на печальных картинах, «видения приходят в душу...» (41), и снова герой попадает в зал для пиров, видит себя рядом с вождем. И опять быстро наступает пробуждение к действительности (45). Каждый переход выделен глаголами, поясняющими, картина настоящего или былого изображена в следующих строках. Воспоминания о прошлом вводятся глаголами, подчеркивающими иллюзорность этих картин: gemon (34), pinked him on mode (41), gemynd (51) — «вспоминает», «мнится ему», «встают в памяти». Напротив, четки и конкретны глаголы, которые открывают описания действительности: «знает», «просыпается», «видит» (37, 45, 46) и др.
Противопоставление прошлого и настоящего достигается и в тех случаях, когда картина минувшего вводится как антитеза настоящему:
Не слышно арфы, не топочут кони,—
не вьется сокол все похитила,
в высоком зале, всех истратила
и на дворе смертная пагуба!..
(Беовульф, 2262—2265)
Яркие и живые образы прошлого—вьющийся сокол, скачущие кони, звуки арфы — воспринимаются через призму настоящего. Повторение конструкции с начальной отрицательной частицей пе усиливает контраст,
заставляет трагически звучать эти короткие, ясные фразы. Система противопоставлений пронизывает элегии, достигая своего апогея в восклицании героя «Скитальца» :
...Где же тот конь и где же увы, кольчужный ратник,
конник? увы, войсководы слава,
где исконный златодаритель? то миновало время
где веселье застолий? скрылось, как не бывало,
где эти все хоромы?— за покровами ночи,
увы, золоченая чаша,
(Скиталец, 92—96)
Как и в «Беовульфе», предложения, начинающиеся со слов «Hwa?r cwom» — «Куда ушли...», наслаиваются одно на другое, переходя от конкретных предметов, символов былого великолепия (конь, воин), к обобщению эмоциональной атмосферы прошлого (веселье застолий). Мы не только видим, какой была жизнь героя, но и слышим вопль отчаяния человека, лишенного смысла существования.
Противопоставление прошлого и настоящего героя определяет двуплановость изображения в элегиях. Жизнь героя разорвана на две части, его прошлое и настоящее разделены непроходимой пропастью и не пересекаются. Это два противостоящих друг другу мира со своими приметами и символами, связями, временем, эмоциональной атмосферой. Прошлое — мир людей, настоящее — холодное море, зимнее безлюдье; прошлое — богато убранные палаты, высокие крепости, настоящее — жалкая лачуга на морском берегу, утлый корабль в бушующем море, развалины дворца; прошлое— радостные голоса и звон оружия, настоящее — завывание вьюги и рокот прибоя; прошлое — действие, жизнь, настоящее — бесплодное прозябание.
Первое, что обращает на себя внимание при сопоставлении двух миров элегий,— это четкое разграничение временных планов. Прошлое и настоящее не связаны между собой, второе не вытекает из первого, не является его естественным следствием и продолжением3. Напротив, настоящее понимается как прошлое со знаком минус, не случайно так распространены в элегиях «отрицательные описания» прошлого, подобные приведенному выше. «Связь времен» для героя элегий распалась, и восстановить ее невозможно. Именно поэтому каждый из временных планов замкнут в себе. Время необратимо: нельзя вернуть былое великолепие, нет исхода и в настоящем. Замкнутость временных планов ведет к статичности, остановке времени в каждом из них. Ни один из миров не способен к
развитию, движению, хотя, казалось бы, картины прошлого исполнены динамики. Скачут кони, вьется сокол, герой обнимает своего господина и получает дары из его рук. Картины прошлого содержат действия, их быстрая череда отражается в смене кратких, нераспространенных предложений, но эти действия статичны по своей сути. Действие как бы замкнулось в круговороте, не содержит цели и направленности; оно повторяется, воспроизводит само себя и замирает в той же точке, в которой началось. Как на ожившей картинке, мчатся, не двигаясь с места, кони; вновь и вновь поднимают кубки воины.
Лишено перспективы, сиюминутно и одновременно вечно время и в настоящем героя. Но статика изображения здесь имеет иную природу: герой пассивен по своей сути, он лишен возможности действовать и может лишь размышлять о своей печальной участи. Иной объект изображения — эмоциональный мир человека— требует и иных стилистических приемов: появляются длинные периоды, насыщенные причастными оборотами, широко используется параллелизм, а значительная часть глаголов обозначает различные формы восприятия:
...им же подобно должен думы свои прятать
я, разлученный с отчизной, удрученный, сирый,
помыслы я цепями опутал ныне,
когда государь мой
златоподатель в земную лег темницу,
а сам я в изгнанье
за потоками застылыми,
угнетенный зимами,
взыскал, тоскуя по крову
кольцедробителя...
(Скиталец, 19—25)
Плавность, неторопливость периодов, изображающих настоящее героя, сталкивается со стремительным потоком кадров-картин прошлого, вспыхивающих и гаснущих в его сознании. Но в обоих случаях время, лишенное причинно-следственных связей, не имеет направленности, не несет с собой изменений и ощущается лишь как нечто застывшее в своей сиюминутной данности.
Второй ряд противопоставлений двух миров охватывает предметно-вещный мир, окружающий героя в прошлом и настоящем. Мир прошлого, как и мир «Беовульфа», «Видсида», «Вальдере»,— это бург англосаксонского вождя или правителя небольшого государства, где в соответствии с эпическим идеалом протекает жизнь его дружины. Сражения и войны, в которых они постоянно участвуют, хотя и не показаны непосредственно, составляют неотъемлемую часть их суще-
ствования. В воспоминаниях героя элегий—редкие периоды мира, покоя, но основное занятие его самого и его товарищей — война — присутствует постоянно в упоминаниях оружия и доспехов, в характеристике окружения короля: «могучие воины», «воины, знаменитые своими победами», «прославленные мужи».
Этот мир насыщен разнообразными предметами, боевыми доспехами, чашами, кубками, арфами. Яркие краски, сверкание золота, блеск оружия создают многоцветную радостную картину:
...где сверкали прежде золотом властные,
латами ратники знатные, хмельные
казной любовались,
камениями и серебром, имением драгоценным,
мужи дружинные,
жемчугом самоцветным...
(Руины, 32—36)
В ней находится место и для людей, и для животных, и для вещей. Соразмерность частей, естественность включения отдельных элементов изображаемого, несмотря на краткость описаний, позволяет увидеть и ощутить этот мир.
Сам отбор предметов и событий указывает на героичность изображаемого. Здесь не место будничным, повседневным деталям, прозаическим подробностям жизни. Она предстает в величии и блеске, свойственных лишь идеальному миру героического эпоса. И как воплощение этого великолепия — сцены пиров, во время которых проявляются щедрость короля, его забота о дружине, верность дружинников своему покровителю и друг другу (Скиталец, 34—36; Руины, 23 — 37; Морестранник, 44—45 и др.). В застольных речах произносятся обеты верности, находят выражение воинственный дух и жажда подвига. Герой элегий в мечтах видит себя, как правило, именно в такие моменты — в пиршественной зале, рядом с королем, окруженным товарищами, когда он приобщается к утраченной им жизни, возвращается в героический мир.
Был изобильный город,
бани многие; крыши крутоверхие;
крики воинские, пенье в переполненных
пиршественных палатах...
(Руины, 21—23)
...он вспомянет, мучаясь,
молодость ратную и подарки в застольях
государя-златоподателя, и как был он его любимцем...
...государя как будто
обнимает он и целует, и руки ему на колена
и голову слагает,
как было, когда слугою
в дни минувшие
делил он дары престола...
(Скиталец, 34—36, 41—44)
Принципиально иным предстает перед ним мир настоящего. Это скорее не мир, а микромир одного человека, весь без остатка заполненный им самим. В нем не остается места для других людей (единственное исключение, возможно, составляет поэма «Послание мужа», где рядом с героиней находится гонец. Правда, часто предполагается, что это и не человек, а дощечка с рунической надписью). Поэтому излюбленная в элегиях форма повествования — монолог, рассказ героя о своих собственных переживаниях, о своей судьбе.
Вещественное окружение сведено к минимуму: это корабль в «Морестраинике», жалкая лачуга, землянка— жилище героя и природа, на фоне которой развертывается картина страданий героя. Безлюден и не имеет предметно-вещных атрибутов мир настоящего, но тем более он эгоцентричен, сфокусирован на герое. Человек показан как бы крупным планом, так что виден весь, целиком. Его тело, члены начинают привлекать внимание рассказчика: герой жалуется, что «холод прокалывал ознобом ноги» («Морестранник», 8—9), «озябло тело» («Скиталец», 33), «он меряет взмахами (руки.— Е.М.) море ледяное» («Скиталец», 4); еще чаще упоминаются «разбитое, полное печали» сердце, угнетенный дух, томимая горем душа. Тело и душа героя заслоняют весь окружающий мир, оказываются достойными внимания и описания. Можно ли представить себе Беовульфа, жалующегося на замерзшие ноги? Очевидно, такое упоминание вызвало бы комический эффект своим несоответствием героическому идеалу, парящему высоко над прозой будней. В элегиях же мир настоящего допускает такое «снижение» образа, видимо, именно в силу несоразмерности, непропорциональности его частей. Становится заметным и, более того, важным то, что в другом контексте мелко и несущественно. Вырванный из мира людей герой заполняет собой все пространство, открывающееся взору создателей элегий.
Лишь изображение фона, на котором развертывается картина переживаний героя, в какой-то степени попадает в поле зрения рассказчика. Этот фон создается двумя типами картин: пейзажами и изображением покинутых, разрушающихся дворцов, замков. В некоторых элегиях предпочтение отдается одной из них —в «Морестраннике» это только изображение бушующего моря; в «Руинах»—развалины крепости. Но часто обе картины соседствуют, и взор рассказчика перемещается от одной картины к другой.
Описания природы приурочены к изображению настоящего героя, его жизни в изгнании. Ни одно из них
не связано с воспоминаниями героя о его счастливом прошлом, т. е. о том времени, когда он жил среди людей, имел имя, друзей, покровителя. Разорванные социальные связи в какой-то степени восполняются или замещаются возникающими связями героя с природным окружением:
...холод прокалывал ознобом ноги,
ледяными оковами
мороз оковывал,
и не раз стенало горе в сердце горючее...
(Морестранник, 11)
Параллельные ряды образов: состояние героя— состояние природы — устанавливают взаимосвязь между тем и другим, создают ощущение активного взаимодействия между ними.
Частые и обширные в элегиях описания природы: зимнего моря, шторма, наступления весны — конкретны и достоверны.
зерна ледяные пали на пашню...
...мга все гуще,
пурга с полуночи, земь промерзает,
(Морестранник, 31—33)
Но это не пейзажные зарисовки в их современном понимании. Число образов-картин природы ограниченно: зима, морозная штормовая ночь, летающие над бушующим морем птицы, скованное льдом море. Эти образы переходят из поэмы в поэму, выполняют одну и ту же функцию: они являются своего рода штампами, символами эмоционального состояния героя. Чувства тоски, одиночества, безысходности, охватившие героя, находят поэтическое выражение в образах зимнего моря:
и с неба снег,
и со снегом дождь; и с новой силой стонет
старая рана— память о павшем:
не спит злосчастье...
Но ото сна очнувшись,
вновь он видит, сирота-скиталец,
темные волны и как, воспаряя на крыльях,
ныряют морские птицы,
(Скиталец, 45—50)
Бездеятельность, угнетенность героя находят параллель в образе моря, скованного льдом, в неподвижности зимней заледеневшей природы. Пробудившимся надеждам на избавление и возврат к прежнему благополучию соответствует образ весны, пробуждения природы:
поля зеленые,
земля воспряла,
,,рощи цветами покрылись, стал наряден город,
и все это в сердце
мужа, сильного духом, вселяет желание
вплавь пуститься к землям дальним
по стезе соленой...
(Морестранник, 48—52)
перекликаются с его настроением. Гибель дворца или крепости — это одновременно и гибель тех, кто давал жизнь этим зданиям, наполняя их шумом и весельем. В картины «мертвого города» вплетаются изображения судеб людей, его населявших:
Очень редко вспыхивает перед героем элегий луч надежды, редки и описания весенней природы, и даже в них проскальзывают печальные нотки: крик кукушки — символ весны — напоминает героине «Послание мужа» о разлуке и «горестно» звучит для нее.
Стереотипность изображения природы связана с набором образов, метафор, эпитетов, которые постоянно употребляются в элегиях. Так, во многих описаниях встречаются образы моря в ледяных оковах, птиц, летающих над морем с пронзительными криками, снежной бури. Дополнительные ассоциации между переживаниями героя и природой создает использование одних и тех же слов и словосочетаний, образующих параллельные ряды: «мороз сковал землю» — «сон и печаль сковали сердце одинокого человека» (Морестранник, 32; Скиталец, 40). Природа и душевное состояние человека создают некое единство, вытекающее из общей эгоцентрической направленности элегий: картины природы значимы лишь тогда, когда они соотнесены и находятся в прямой связи с изображениями героя. Их ценность — ценность символов, емких и красочных, «обозначающих» определенное состояние героя.
Более самостоятельны в элегиях картины «мертвого города»4. Хотя и они являются символами гибели мира, в котором жил герой в прошлом, их распространенность, широта и разнообразие изображаемого бесспорно свидетельствуют об их собственной, не зависящей от изображения героя значимости. В противоположность описаниям природы картины «мертвого города» не переплетаются с характеристикой эмоционального настроя героя, они вкраплены в повествование как более или менее самостоятельные эпизоды, не требующие постоянного соотнесения с героем.
здания упадают,
вожди покоятся,
утрачена радость, рать побита...
...ветрам открытые, покрытые инеем
стены остались,
опустели жилища,
(Скиталец, 76—79)
Развалины, опустевшие, безлюдные палаты, непригодные для жизни, заросшие плющом стены — эти безрадостные, наводящие тоску картины, проносящиеся в сознании героя элегий, объясняют и в то же время
...рать побита гордая, возле города,—
кого-то из битвы гибель проворная умчала,
кого-то ворон унес
через пучину высокую, кого-то волчина серый
растерзал по смерти,
кого-то в землю глубоко
зарыли соратники...
(Скиталец, 79—8
Самостоятельность этих описаний, возможно, обусловлена «пограничным» положением «мертвого города», связующего оба временных плана. Именно крепость, дворец являются материальным воплощением прошлого в настоящем, хотя от него и остались лишь руины. Это та сцена, на которой развертывались картины как великолепного прошлого, так и печального настоящего. Необычайное значение картин «мертвого города», их полифункциональность заставляют рассказчика элегий расширять их, вновь и вновь возвращаться к ним в рамках одной поэмы. Более того, одна из элегий (возможно, правда, что сохранилась лишь ее часть) полностью посвящена описанию разрушенной крепости:
Каменная диковина—
великанов работа. Рок разрушил.
Ограда кирпичная. Пали стропила;
башни осыпаются; украдены врат забрала;
мороз на известке;
щели в дощатых —
в щепки изгрызены крыши временем...
стены красно-кирпичные видели, серо-мшаные,
держав крушенья; под вихрями выстояли;
рухнули высокосводчатые...
(Руины, 1 — 11)
Исследователи поэмы полагают, что в ней изображено одно из каменных строений (или группа строений) времен римского господства в Англии (I—IV вв.), возможно в Бате. Но важен не конкретный объект, описанию которого посвящена поэма,— перед нами на мгновение предстает мир, в котором живет англосаксонский скоп. Это картина жизни окруженного дружиной вождя, жизнь, полная сражений и радостей пира, скрепленная верностью и преданностью дружинников и вождей. Гибель дворца, запустение — далеко не только разрушение данного здания. Это гибель целого мира с определенным укладом, нормами, традициями. Мертвы дружинники — сотоварищи героя поэмы, и порваны связи, соединявшие его с миром, он лишен опоры
привычных действий и отношений. Погиб правитель — и герой утратил смысл своего существования: он ни с кем более не связан узами верности, он никому ничем не обязан, но он одновременно и лишен покровительства, защиты, жизненных благ.
Статика описаний природы сменяется здесь динамичной выразительностью быстро сменяющихся деталей, совокупность которых создает картину «мертвого города». В описаниях разрушений почти нет прилагательных. Многие предложения состоят лишь из подлежащего и сказуемого: «рок разрушил, пали стропила, башни осыпаются» и т. д. Длинный ряд глаголов и причастий: gebrascon, burston, brosnad, berofen — заставляет ожить картину, показать здание в процессе его разрушения. Оно происходит как будто у нас на глазах: колеблются и рушатся с грохотом стены, осыпаются черепицы, обнажаются перекрытия сводов.
Картины «мертвого города» в наиболее яркой форме раскрывают и контраст эмоциональной атмосферы, свойственной миру прошлого и миру настоящего. Прошлому соответствует радостное, приподнятое настроение. В прошлом была «вся радость» (wyn eal — Скиталец, 36); атмосфера праздничности, веселья присуща всем эпизодам, изображающим картины былого. Эта атмосфера создается и лексикой соответствующих эпизодов, и синтаксическим построением фраз, о чем говорилось выше, и быстрой сменой картин, а также и самим отбором изображаемых сцен, в первую очередь пира как символа дружинного образа жизни. Герой ощущает связь (точнее говоря, замечается им не сама эта связь — настолько она естественна и органична,— ощущается ее утрата) с окружающим миром, и это придает ему уверенность, твердость. Основные эмоции, переживаемые им,— счастье, гордость своей причастностью к блестящему героическому миру, преданность своему господину.
Прямо противоположен эмоциональный строй настоящего. Трагизм, ощущение безысходности пронизывают элегии. Многократно варьируется тема тоски, печали, охвативших героя, от кратких упоминаний состояния его духа: «Я... вовсе истосковалась» (Плач жены, 29), «С новой силой стонет старая рана — память о погибшем» (Скиталец, 49—50) — до развернутых описаний его страданий:
Быль пропеть не раз безвременье,
я о себе могу, нередко в сердце
повестить о скитаньях, горе горькое
как на пути многодневном, и невзгоды всякие
знал в челне я,
многих скорбей обители, качку морскую,
и как ночами я стоял, бессонный,
на носу корабельном, когда несло нас на скалы:
холод прокалывал
ознобом ноги,
ледяными оковами мороз оковывал,
и не раз стенало горе в сердце горючее,
голод грыз утробу в море души измученной...
(Морестранник, 1 — 12)
В начальных строках «Морестранника», как ни в одной другой элегии, ясно обнаруживается постепенное нарастание силы эмоций. Нейтральное начало — «Быль пропеть я о себе могу, повестить...» — еще не предвещает каких-либо бурных проявлений чувств, но уже во второй строке упоминание «тягостных дней» (geswinc-dagas) настраивает слушателя на восприятие повествования о печальных событиях. Изображение переживаний героя расширяется, углубляется эмоциональная характеристика: он переносил тревоги, бремя страданий, сердечные муки. Перечисление сходных по своему существу, но характеризующих различные стороны состояния героя эмоций постепенно сгущает краски и подводит слушателя к наивысшей точке: «горе в сердце горючее». Нагнетание эпитетов, метафор, образов, символизирующих горе человека, создает атмосферу подавленности, глубокой и безысходной тоски.
Несколько более безыскусны изображения настроения героя в других элегиях, они не образуют единой последовательной картины. Отдельные упоминания о том, что герой удручен духом, печален, тоскует по прошлому, обуреваем отчаянием и т. д., разбросаны по всему тексту. Но это не мешает почувствовать драматизм ситуации, в которой находится герой, остроту его переживаний. Даже многочисленные воспоминания героя, где царит совершенно иная атмосфера, не могут ослабить общее настроение элегий: слишком часто картины прошлого возникают как прямое противопоставление настоящему, для чего используются конструкции «отрицательного описания» («не слышно арфы, не вьется сокол...» — Беовульф, 2262 и далее) и непосредственные высказывания: «Минули радости все!» (Скиталец, 36), «Время ушло, скрылось во мраке, словно и не было!» (Скиталец, 95—96). Эти описания и восклицания, хотя в них звучат отголоски настроений, свойственных прошлому, не только не снимают, но в силу контраста усугубляют трагизм настоящего, постоянно напоминая герою, чего он лишился. Поэтому в целом мир элегий трагичен и безысходен.
Единственная связующая нить между двумя мирами— сам герой, он принадлежит как прошлому, так и настоящему, сквозь призму его восприятия оценивают рассказчик, а вслед за ним и слушатели все происходившее и происходящее. В мире прошлого герой наделен всеми привычными атрибутами героико-эпической обстановки: он гарцует на коне, блистая оружием, участвует в пирах после сражений, принимает дары щедрого короля. Но существенную особенность по сравнению с героическим эпосом составляет его слияние с другими представителями его среды. Герой элегии не выделяется среди других дружинников, не находится на переднем плане, он растворен в присущем ему окружении. Он — один из многих, и нет никаких индивидуальных особенностей, позволяющих как-либо выделить его из той среды, к которой он принадлежит. Противореча в принципе эстетическим требованиям героического эпоса, эта растворенность отдельного лица в героическом обществе является существенной чертой жанра элегий: благодаря ей отчетливо выступает одиночество героя в настоящем. Помимо своего желания он выделяется из коллектива, обособляется и приобретает некоторую индивидуальность (конечно, здесь не имеется в виду индивидуализация литературных образов более позднего времени). Обретение индивидуальности оборачивается в элегиях своего рода «дегероизацией» героя с точки зрения эпических установок. Лишенный эпического окружения, где каждая деталь подчеркивает его героическую сущность, он теряет непосредственную связь с героическим миром, отделение от которого поэтически осмысливается как его драма. Она состоит и в том, что идеальный эпический герой вырван из той единственной обстановки, в которой он может выявить свою героическую сущность, он лишен атрибутов героического и тем самым своего собственного я.
Но настоящее элегий — это не проза будней. Героический идеальный мир оборачивается лишь своей обратной стороной. Насколько великолепен и светел был мир прошлого, настолько мрачен и трагичен мир настоящего. Он изображен в тех же гиперболизированных, «героических» формах, его безысходность так же величественна, как и былое сияние славы.
Таким образом, настоящее и прошлое элегий при всей их несхожести, более того, противоположности образуют единство — это два полюса героико-эпиче-ского мира. Они связаны рядом оппозиций, которые охватывают не только вещную сторону описаний (о
чем. собственно, шла речь выше), но и сущность самого мира: героическое действие — полная бездеятельность, активность героя—его пассивность; а также душевный мир героя: радость — печаль, боевой азарт — тоска, уверенность в своих силах, гордость — чувство бренности всего земного, преходящести земных радостей.
Именно яоследнее легло в основу большинства современных интерпретаций героических элегий. Обращая внимание на христианские мотивы в некоторых из них (по преимуществу в «Морестраннике» и «Скитальце»), многие исследователи считают их своеобразным воплощением христианской идеи бренности всего земного в противовес вечности божественного. Один из крупнейших исследователей элегий, Ч. Кеннеди, писал: «Их (элегий.— Е.М.) сфера интересов — всеобщее, происходящее из чувства трагичности самой жизни, сознание преходящести земных радостей и мимолетности славы земной силы. Их ритм созвучен бесконечному потоку времени и перемен. Их пафос проистекает из знания того, что вся жизнь движется на хрупких крыльях. Их величие—в сознании того, что для жизни человека—это вначале надежда и короткая борьба, а затем молчание, воспоминания и руины времени»5. Но это определение элегий учитывает лишь одну, хотя и существенную из сторон отображения в них жизни. Чтобы подробнее рассмотреть этот вопрос, нам придется, отвлекшись от поэтики элегий, подробнее остановиться на их возможных источниках и на их взаимодействии с другими жанрами англосаксонского эпоса и литературы.
Некоторые специалисты считают поэмы «Плач жены» и «Послание мужа» частями одной героической поэмы6. Такой же взгляд высказывался и на происхождение поэм «Морестранник», «Вульф и Эадвакер». Прямую зависимость между элегиями в целом и героическим эпосом пытались установить Р. Имельман, Р. Боэр, В. Лоуренс и некоторые другие7. Однако этим попыткам противоречила одна из главных особенностей элегий—отсутствие сюжета, действия. Ни одну из элегий нельзя непосредственно связать с каким-либо из известных нам эпических сюжетов. Лишь в поэме «Деор», наиболее своеобразной из элегий и потому иногда исключаемой из их числа, есть прямая перекличка с германским героическим эпосом.
Каждая из пяти строф элегии — строфическое по
строение с рефреном не свойственно англосаксонской
поэзии и является примечательной особенностью «Де-
ора»—посвящена отдельному эпическому сюжету, че-
тыре из которых хорошо известны по памятникам скандинавского героического эпоса. Первые две строфы содержат упоминания скандинавского сказания о кузнеце Вёлунде (древнеанглийский Веланд), основателе одного из знаменитейших эпических родов Вёлсун-гов, к которому принадлежал, в частности, Сигурд, убийца дракона Фафнира. В первой из них повествуется о пленении Веланда конунгом Нидхадом (в песнях «Старшей Эдды» — Нидуд), во второй — о мести Веланда, обезглавившего юных сыновей конунга, сделавшего чаши из их черепов и обесчестившего его дочь Беадо-хильд (в древнескандинавской традиции — Бёдвильд). В эддической «Песни о Вёлунде» далее рассказывается, что Вёлунд освободился из заточения, взлетев в воздух с помощью волшебного кольца, а поздняя «Сага о Тидреке Бернском» пересказывает легенду в несколько ином варианте: Вёлунд изготовил крылья из перьев птиц и улетел от Нидуда, а Бёдвильд родила сына по имени Видга (который упоминается в «Видсиде» как Видья). Это сказание в различных вариантах было хорошо известно в Англии. В «Беовульфе» и других англосаксонских памятниках не раз то или иное оружие называется «работой Веланда», отголоски сказания звучат в «Видсиде»8. Нашел отражение этот сюжет и в изобразительном искусстве англосаксов: на одной из панелей ларца Фрэнкса (середина VII в.) вырезана сцена мести Веланда (45), на другой — воин, душащий птиц, его имя начертано рунами,—'/Egli (древнескандинавское Egill — так звали брата Вёлунда, охотника).
В четвертой строфе Деор вспоминает Теодориха Равеннского, героя цикла верхненемецких эпических песен и скандинавской «Саги о Тидреке Бернском», прославленного персонажа германского эпоса.
Пятая — посвящена остготскому королю Эрманари-ху, о правлении которого сохранилось несколько песен в скандинавской эпической традиции, а также упоминания в англосаксонских поэмах «Видсид» и «Беовульф»9. Причем имена Теодориха и Эрманариха, как говорилось выше, принадлежат «героической эпохе» германского эпоса и в поздних памятниках символизируют причастность к ней изображаемых событий.
Сюжет, упоминаемый в третьей строфе — единственный в «Деоре»,— неясен, поскольку он не разработан ни в одной из дошедших до нас поэм
Мы же немало
о Мэдхильд слышали, как стала ей пропастью
страсть Геата, что мучила ночами мужа бессонного.
(Деор, 14--16)
Попытки связать его с каким-либо известным нам сказанием пока не дали убедительных результатов11. Более того, романтические мотивы были не свойственны германскому эпосу, насколько мы его знаем. Но «молчание — не доказательство», и потому не исключено, что «любовь геата к Мэдхильд» составляла сюжет какой-то эпической поэмы.
Перебирая воспоминания о трагических судьбах героев прошлого — а для англосаксонского скопа это не литературные, вымышленные образы, а реальные правители,— Деор сопоставляет их со своей собственной судьбой. Мотивы героического эпоса не образуют сюжет элегии, они оттеняют ее собственный сюжет, изложенный в последней строфе, и представляют аналогии к нему. Сюжет же поэмы —и это дает основания отнести ее к числу элегий—стереотипен: другой певец заменил Деора в сердце господина, и он теперь вынужден скитаться, оставшись без покровителя. Все строфы содержат реминисценции тех эпизодов эпических сказаний, которые посвящены драматическим ситуациям. Но автора «Деора» привлекают в них не событийная канва и даже не тот героический пафос, который присущ им. Для него драматические эпизоды оборачиваются своей эмоционально-психологической—чуждой героическому эпосу — стороной. Вот сказание о Веланде. В «Старшей Эдде» это песнь торжествующей мести. Горе Нидуда или Бёдвильд не представляет интереса для сказителя: эпический контекст исключает подобное проявление чувств. Вне поля зрения рассказчика остаются и страдания плененного Вёлунда в той мере, в которой они выходят за рамки «мотива мести». В «Деоре» же все акценты смещены: на первом плане — страдания и несчастия всех действующих лиц сказания:
Вёлунд изведал ... сидельца многострадального...
тоску изгнанья, Беадохильд большей
горе изгою
слугою было в доме зимнестуденом
болью было, горшим горем
не гибель братьев...
(Деор, 1—4, 8—9)
Мотив мести не упоминается вообще, и сказание приобретает совершенно иной смысл и значение, чем в скандинавском эпосе: бремя страданий — удел каждого, и даже самые прославленные герои прошлого не избежали его. Именно этот эмоционально-психологический угол зрения и делает «Деор» элегией, а не памятником героического эпоса.
Своеобразный параллелизм сюжетов во всех строфах подчеркивается единством рефрена: «Как минуло
то, так и это минет». Это усложнение, распространение известного фольклорного приема, характерного для поэтических (а иногда и прозаических) произведений. Но в фольклоре мы чаще встречаем более простые формы параллелизма: параллелизм сравнений, метафор, иногда стилистических конструкций.
о друг воителей,
доверь пришельцам, мне с моею
верной дружиной, отряду храбрых
охрану Хеорота!
Доверь, владыка блистательных данов,
опора Скильдингов, щит народа,—
тебя заклинаю я, прибывший
с дальнего берега,—
(Беовульф, 427—433)
В элегии «Деор» параллелизм не стереотипный поэтический прием, не просто стилистическое средство, распространяющее и украшающее текст. Он приобретает важное значение в структуре поэмы и становится в определенной степени ключом к ее пониманию. Все упомянутые эпические сюжеты касаются «великих людей» прошлого. Их трагический конец, известный слушателям, не преуменьшает, а, наоборот, усиливает блеск их величия: их слава, не померкнув, пережила века. Сопоставление с ними невольно отбрасывает блеск того же трагического величия и на судьбу Деора. Как и они, подчеркивается в элегии, страдает Деор, как и для них, пройдет все, но останется слава и память людей. Тем самым судьба Деора из локального, малозначительного события превращается в героическую катастрофу, приобретает возвышенное звучание, фигура скопа становится в ряд с Теодорихом, Веландом, Эрманарихом.
Сюжетные параллели связывают элегию с героическим миром англосаксонского эпоса. В «Деоре» нет описания прошлого, не показано и настоящее. Четырнадцать строк последней строфы — собственно содержание поэмы — лишь намечают канву повествования, скорее констатируют, чем изображают, ситуацию, типичную для элегий:
Муж горемычный, что в этом мире
он, смутный духом, пути святого
сидит и думает, властителя неисповедимы:
страдалец безрадостный, кому отмерены
что не видать предела немалые блага,
его недоле, часть беспечальная,
о том он мыслит, а другим — злосчастье.
(Деор, 28—34)
Это лишь остов элегии, но он облекается в плоть и кровь именно параллелями в первых пяти строфах. Упоминания Веланда и Эрманариха вызывают бесчисленный ряд ассоциаций, уводящих слушателя (или позднее читателя) в идеальный эпический мир, на фоне которого и воспринимается заключительная строфа.
Таким образом, связь с героическим эпосом даже поэмы «Деор», единственной, которая, казалось бы, прямо использует сюжеты героические, является опосредованной. Поэма не столько заимствует сюжеты и образы, сколько уходит корнями в героический мир эпоса. Элементы отображаемого мира, ситуации, образ героя — все преломляется через модель идеальной эпической действительности, существующей в сознании певца. В эпическом мире черпают свои образы, идеалы, представления и картины жизни создатели элегий. И хотя в них воплощаются сюжеты, не свойственные героическому эпосу, их мир остается тем же самым.
Что же дало толчок развитию именно этих сюжетов, откуда появилась идея бренности всего сущего, которая составляет лейтмотив элегий? Почему в VIII в. возник этот столь самобытный жанр? Ответить на эти вопросы однозначно, видимо, невозможно. Практически все специалисты, занимавшиеся элегиями, приписывают эти особенности влиянию христианской идеологии п, указывая при этом на значительное количество различных упоминаний бога, божественного провидения и т. д. Действительно, таких упоминаний немало: вспомним, например, строки 32—34 «Деора»: «пути святого властителя неисповедимы». Более того, концовка «Скитальца» несколько напоминает проповедь:
Блажен, кто стережет свою веру,
ибо жалобам муж не должен
всем предаваться сердцем,
коль сам он в себе не сыщет,
как ему исцелиться в скорби;
добро тому, кто взыскует
помощи господней на небе,
где обеспечена всем людям защита.
(Скиталец, 112—115)
Не раз обращается в своих мыслях к богу Море-странник. Более того, зачастую и там, где нет прямых упоминаний христианских реалий, возникают ассоциации, связанные с настроениями безысходности, прехо-дящести жизни. Какой неизбывной тоской исполнены строки 92—96 «Скитальца», как болезненно остро выражено в них ощущение мимолетности, бренности земных радостей:
...то миновало время, скрылось, как не бывало,
за покровами ночи. (Скиталец, 95—96)
Не менее патетичен и рефрен «Деора»: «Как минуло то, так и это минет».
В то же время в некоторых элегиях невозможно найти никаких следов влияния христианского мировоззрения. Это касается таких песен, как «Руины», «Вульф и Эадвакер», «Послание мужа». Да и элегии в «Беовульфе» лишены каких бы то ни было христианских реминисценций. Не случайно Тен Бринк и Лоуренс считали христианские элементы в элегиях позднейшими наслоениями п. Некоторые другие исследователи говорили о смешении языческих и христианских представлений в элегиях. Были сделаны даже попытки вычленить и отбросить строки элегий, содержащие христианские реалии. Так, позднейшим добавлением религиозно настроенного редактора или писца считают нередко вторую часть (от строки 65) «Скитальца»и, заключительный (после строки 108) раздел «Морестранника».
Однако едва ли плодотворной может оказаться попытка расчленить органически цельное произведение, будь то «Беовульф» или элегия, на составные части, механически вырывая куски из художественной ткани повествования. Ведь прежде, чем слиться воедино, они были осмыслены, соединены в сознании певца (или редактора или переписчика), и лишь из этого сплава могло родиться законченное произведение. Именно поэтому решительно невозможно отсечь христианские элементы в элегиях и считать их абсолютно чужеродными интерполяциями.
К VIII в. христианство, хотя и в примитивной, облегченной форме, широко вошло в быт и сознание англосаксов. Образы и сюжеты Библии стали привычными элементами повествовательной культуры и в значительной степени, как будет показано в следующей главе, смешались с традиционными формами героического эпоса. Естественно, что пополнился и видоизменился круг стереотипных представлений и идеалов англосаксонского скопа, его идеальный эпический мир. В новой картине героического мира определенное место заняло и христианство. Поэтому христианские реалии в элегиях не чужеродные вкрапления, а отражение усложненной, вобравшей в себя элементы религиозного мышления модели героического мира.
Здесь, в этой модели, коренится и развиваемая в элегиях идея бренности земной жизни. Но только ли
христианству свойственна эта идея? Действительно, в той форме и с той остротой, как она выражена в элегиях, она настолько созвучна христианскому ubi sunt, что в ней нельзя не усмотреть влияние новой религии15. Однако остается открытым вопрос, была ли эта идея совершенно нова для германского фольклора или же она могла совместиться с какими-то прежними —дохристианскими — представлениями?
Как кажется, существовали по крайней мере две сферы древнегерманской поэтической традиции, где идея бренности мира играла особенно важную роль. В первую очередь это космологические представления древних германцев. Вторая связана с традицией плачей, сопровождавших погребальный обряд.
Насколько известна германская языческая мифология— а она дошла до нас почти исключительно в виде древнескандинавских мифологических песен и сказаний,— важное место в ней занимало представление о цикличности времени, его движении по замкнутому кругу. Цикл времен завершается гибелью богов и всего мира, затем следует их возрождение, и все повторяется сначала. Мир не вечен, он имеет начало и конец, что обусловливает конечность, временность всего сущего в мире.
В скандинавской космологии эта мысль не получила особенно подробного развития, но она лежит в основе одной из важнейших этических норм древне скандинавского общества: все проходит и изменяется на земле, остается лишь добрая или злая память о человеке, его слава как некая отделившаяся от него самостоятельная субстанция. Поэтому цель жизни человека— завоевать славу, обеспечить память по себе среди потомков16. Эта же концепция славы пронизывает весь германский героический эпос от песен о Сигурде до «Беовульфа»:
Каждого смертного ждет кончина! —
пусть же, кто может, вживе заслужит
вечную славу!
Ибо для воина лучшая плата —
память достойная!
(Беовульф, 1386—1389)
В этих словах Беовульфа отчетливо выражено противопоставление бренности человеческой жизни вечности заслуженной им славы. Существование подобных представлений сильно облегчало усвоение христианской концепции бренности мира.
Более того, как нередко считается, христианское вероучение, важное место в котором занимают пред-
ставления о конце мира, дало дополнительный импульс для углубления и развития древнескандинавской эсхатологии. Конец мира, гибель богов стали важнейшей темой в мифологии и могли оказать немалое влияние и на внерелигиозную словесность. Мы не знаем, насколько известны были эти сюжеты англосаксам, но нельзя не отметить, что и в данном случае одна из центральных идей христианства перекликалась со сходными представлениями языческой мифологии и, вероятно, совмещалась с ними.
Но христианское представление о преходящем характере земных радостей и счастья лишь одна из частей, и к тому же не самая существенная, концепции в целом. Ведь мимолетности земной жизни христианство противопоставляет вечность небесного блаженства или адских мучений. Более того, земная жизнь человека именно в силу ее быстротечности малозначительна. Она является лишь преддверием вечной жизни, она полна соблазна и греха, и человек должен пройти ее с осторожностью, дабы не лишить себя вечного блаженства.
Ни малейших намеков на эти мотивы христианского вероучения — а они совсем не маловажны — мы не найдем в героических элегиях. Прошлое героя прекрасно без всяких оговорок. Все мечты героев элегий устремлены к реальной, земной жизни, а не загробному миру, к радостям земной, а не вечной жизни.
Единственным исключением, пожалуй, является концовка поэмы «Морестранник», в которой вообще влияние христианского мировосприятия ощущается значительно сильнее, чем в других элегиях. Вторая часть поэмы (Морестранник, 64—124), как отмечали многие исследователи, чрезвычайно напоминает проповедь с характерными для нее композиционными элементами: определением темы (власть и богатство на земле), антитезой (невозможность их использования после смерти и праведная жизнь на земле как единственный путь к спасению) и заключением — моралью:
...Судьба сильнее,
всевластней Господь, чем кажется людям. Помыслим же ныне, где наше жилище, и дальше решим, как достичь его можем, и будем стремиться навек обрести блаженство небесное,
где жизнь проходит в любви к Повелителю и радостях рая! За милость явленую восславим Господа вечного, Дарителя славы во все времена! Аминь!
(Морестранник, 115—124. Пер. авт.)
Отчетливая чужеродность этой части поэмы всем остальным элегиям, да и первой части этой поэмы17, где практически нет никаких христианских реалий, заставила большинство исследователей согласиться, что поэма состоит из двух частей, созданных разными авторами !8, и толковать ее как христианскую аллегорию постижения высшего, религиозного знания19.
Несмотря на это исключение, кажется несомненным, что христианские представления не догматически усваиваются рассказчиком элегий, а претерпевают строгий, хотя и неосознаваемый отбор. Из всего комплекса христианских представлений о бренности мира усваивается и находит отражение в элегиях лишь то, что созвучно более древним, дохристианским представлениям, лишь то, что перекликается с языческим мироощущением. Однако, наслаиваясь, эти представления приобретают качественно новую форму, которая, отличаясь как от первых, так и от вторых, воплотилась в героических элегиях.
Вторым источником элегий могли послужить погребальные плачи20. Параллельно с героическим эпосом существовали и развивались другие фольклорные жанры: заклинания, заговоры, загадки, гномические стихи. Они известны по ряду записей X—XI вв. Текстов же погребальных плачей не сохранилось. Тем не менее кое-что о них известно — по преимуществу из поэмы «Беовульф». Во-первых, это те несколько строк, которые посвящены Эскхере, дружиннику Хродгара, унесенному матерью Гренделя в свое логово. Уже в них обнаруживаются такие существенные элементы плача, как прославление погибшего и выражение скорби по поводу его гибели. Во-вторых, это заключительные строки поэмы, где женщины племени геатов до и после завершения обряда погребения оплакивают героя:
Герои-сородичи горе оплакивали,
гибель конунга, и некая старица
там причитала, простоволосая
выла над Беовульфом,
плакала старая
и погребальную песню пела
о том, что страшное время близится—
смерть, грабежи и битвы бесславные.
(Беовульф, 3148—3155)
...они простились
с умершим конунгом, восславив подвиги
и мощь державца и мудромыслие,—
так подобает
людям, любившим
вождя при жизни, хвалить, как прежде,
и чтить правителя, когда он покинул
юдоль земную!
(Беовульф, 3172—3177)
В сжатом виде здесь пересказано содержание плача—прославление Беовульфа, которое ведется в двух планах: рассказ о его прошлых подвигах и характеристика его выдающихся качеств («слава»); предсказание будущих несчастий, на которые обречено племя после гибели героя. Хотя плач по своей сущности — рассказ о настоящем, «эмоциональный отклик» на настоящее21, в нем присутствует и повествовательный элемент: как случилось то, что произошло, и что произойдет в будущем в результате случившегося. Повествовательные элементы более подробно разработаны в речи гонца, несущего весть о смерти героя. Начиная обращение к геатам, гонец сразу вводит их в ситуацию:
.Возлег сегодня на ложе смерти
владыка ведеров,
гаут всевластный...
(Беовульф, 2900—2901)
Затем он переходит к характеристике того будущего, которое ожидает геатов:
полнокровной исполненной героическим величием жизнью в прошлом и горестным прозябанием, последовавшим за ней. В плаче, как и в речи гонца, и в элегиях особое значение имеют вневременные мотивы: описание доли-судьбы, горя, смерти, разлуки и их противопоставление былому. Однако в «Беовульфе» это противопоставление основано не на индивидуальной судьбе героя, как в элегиях, а на судьбе племени: прежде геаты жили счастливо, спокойно, не тревожимые воинственными соседями. Будущее же племени печально: погиб король, который был надежным защитником племени, и оно обречено на гибель в борьбе со шведами.
Непосредственную связь элегий и плачей обнаруживает эпизод поэмы «Беовульф», который часто причисляется к героическим элегиям,— повествование о последнем оставшемся в живых воине когда-то могучего племени. Обладая всеми структурными элементами элегии, что было отмечено выше, этот эпизод расценивается самим рассказчиком поэмы как плач:
Ждут нас войны и кровомщение, едва о смерти
правителя нашего
узнают фризы, франки услышат.
Так в одиночестве и днем и ночью,
живой, он оплакивал племя сгинувшее...
(Беовульф, 2266—2267)
(Беовульф, 2910—2913)
Это краткое вступление дает толчок к длительному отступлению, повествующему об истоках вражды геатов и шведов, ее перипетиях и завершении. Заключение речи гонца содержит красочное противопоставление недавнего прошлого геатов (счастливого и радостного) их будущему (лишенные короля, они погибнут в войне со шведами):
Если отвлечься от отнесения действия к конкретному времени (прошлое, настоящее, будущее), то нельзя не обратить внимание на поразительное сходство с элегиями: те же образы и во многом те же выражения описывают аналогичную ситуацию: контраст между
...в былое канули
с конунгом вместе пиры и радости;
морозным утром, в руках сжимая
копейные древки, повстанут ратники,
но их разбудит
не арфа в чертоге,
а черный ворон, орлу выхваляющийся
обильной трапезой, ему уготованной,
и как он храбро на пару с волком
трупы терзает!..
(Беовульф, 3020—3027)
Конечно, плачи в «Беовульфе» несравненно шире по тематике, отличаются они от фольклорных плачей-причитаний и композиционными особенностями, но некоторые наиболее существенные элементы плачей перекликаются с элегиями. Во-первых, бесспорно созвучны «вневременные» мотивы плачей и элегий. Во-вторых, в плачах заложена основа композиционного строения элегий—противопоставление прошлого и настоящего, хотя конкретные формы этого противопоставления различны, как различны и принципы взаимосвязи этих двух планов.
Сопоставление элегий с христианскими интернациональными и фольклорными национальными традициями того же времени обнаруживает сложность и многообразие истоков этого в высшей степени своеобразного эпического жанра. Кажется очевидным смешение в них языческих и христианских представлений о бренности мира, образующих труднорасчленимый сплав в сознании певца. Вырастая на почве традиций героического эпоса, элегии обязаны ему своим поэтическим миром, образной системой. Традиция погребальных плачей-причитаний подсказала композиционное строение элегий— противопоставление прошлого и настоящего. Од
нако, и это следует подчеркнуть, речь идет не о
механическом сочетании отдельных элементов, почер
пнутых в различных традициях. Речь идет, как мы
стремились показать, об органическом слиянии внешне
разнородных элементов, о сплаве чувств, представ
лений и поэтических образов, из которого ро
дились своеобразные, поражающие совре
менного читателя тонкостью поэти
ческого мироощущения про
изведения—героичес
кие элегии.
Дружина господня: религиозный эпос
«Что общего между Ингельдом и Христом?» Задав этот риторический вопрос монахам монастыря в Линдисфарне, которые с равным удовольствием слушали и поэтические переложения библейских сюжетов, и сказания о героях древности — Оффе, Веланде, Ингельде, Алкуин, человек редкой для своего времени образованности, один из столпов не только англосаксонской, но и западноевропейской церкви, раскрывал далее свою мысль: «Пусть громко звучат за столами в вашей трапезной слова господа. Надлежит слушать чтеца, а не флейтиста, отцов церкви, а не языческие песни... Не настолько просторен наш дом, чтобы вместить обоих, и не предназначен он для тех, кто веселится на рыночной площади»1. Монахи, поучаемые им, в своей массе были выходцами из простого народа, малоискушенными в книжных и богословских премудростях, и их восприятие поэзии опиралось на иные представления. Для них, в противоположность Алкуину, не существовало пропасти между Ингельдом и Христом, один не противостоял другому как представители разных, тем более взаимоисключающих мировоззрений. Они сосуществовали как герои произведений, где в сходных формах отражалась и воплощалась единая по своей сути картина мира.
По традиции, берущей начало в «Церковной истории англов» Бэды (р. 307—311), зарождение христианского эпоса связывается с именем Кэдмона (Caedmon), неграмотного пастуха, которому однажды во сне явился ангел и приказал восславить в стихах на родном языке сотворение мира и его создателя. Наутро Кэд-мон пришел в монастырь Витби и исполнил в присутствии настоятельницы монастыря Гильды и других служителей гимн о творении мира. Пораженная красотой гимна, аббатиса приказала ежедневно читать Кэд-мону Библию, с тем чтобы он в стихах излагал услышанное им2.
Монастырский характер легенды очевиден. Бэда — единственный, кто рассказывает о Кэдмоне, и его повествование не лишено некоторого налета сказочности: чудесное превращение пастуха во вдохновенного певца является распространенным фольклорным мотивом3. Не известны и другие творения Кэдмона, хотя Бэда говорит о них; лишь девять строк приведены Бэдой и вошли в литературу под названием «Гимн Кэдмона»:
Восславим же стража царства небесного, мощь господа и мудрость божественную, создание славы отца, когда основал он, вечный владыка, начала дивные. Он создал сначала, святой зиждитель, небо, как крышу, для рода людей. Затем сотворил, страж человечества, вечный владыка, землю срединную, людям вселенную,— всемогущий господь.
(Пер. авт.)
Очевидно, эти строки и являются той песнью (или ее частью) о творении мира, которую упоминает Бэда как первое сочинение Кэдмона и, более того, как первое песнопение на англосаксонском языке, посвященное христианской тематике: «Верно, что после него и другие англы пытались сложить религиозные поэмы, но никто не мог сравниться с ним». Однако утверждение Бэды о том, что Кэдмон был родоначальником древнеанглийской религиозной поэзии, сомнительно. Текст гимна состоит из цепочки нанизанных одна на другую формул и стереотипных выражений (до 83% текста), встречающихся и в других памятниках4, т. е. основан на уже сложившейся поэтической традиции. Причем часть формул отражает специфически христианскую терминологию, насаждаемый христианством круг идей и представлений (44% формул)5. Если формулы «страж человечества» (moncyrmass uard), «отец славы» (uuldurfadur), «всемогущий господин» (frea allmec-tig) могли сложиться в языческую эпоху как обозначения одного из богов языческого пантеона или просто конунга (ср. sige-drihten — Беовульф, 391— «победоносный господин»; sigora waldend — Беовульф, 2875 — «повелитель побед»), то такие выражения, как «святой создатель» (haleg scepend), «страж царства небесного» (hefaenricaes uard) и др., обнаруживают чисто христианское происхождение. Очевидно, Кэдмон опирался на уже существовавшую до него традицию, черпал в ней основные образы и поэтические средства, развивал ее, но не был ее создателем.
Рассказ Бэды о Кэдмоне завершается перечислением поэм, сочиненных пастухом и записанных в монастыре Витби: «Он пел сначала о создании мира и начале человечества, и весь рассказ по книге «Бытие», т. е. первую книгу Моисееву, а затем об исходе народа израилева из страны Египет, и об их прибытии в землю обетованную, и о многих других историях из священного писания... и о воплощении Христа, и о его страстях, и о его вознесении на небеса, и о пришествии святого духа, и об учении апостолов, и о дне грядущего суда, и об ужасе наказания, полного мучений, и о сладостности небесного царства сложил он много песен...» Действительно, почти все сюжеты, перечисленные Бэдой, лежат в основе поэм, сохранившихся до нашего времени. Другой вопрос, можно ли их приписать Кэдмону. Сходство мировосприятия, отраженного в поэмах, общая приподнятость, патетичность стиля, ряд общих стилистических черт позволили выделить группу поэм на библейские темы, которые обычно называются исследователями «каноном Кэдмона». Это поэмы «Бытие», «Исход», «Даниил», «Христос и Сатана» и некоторые другие. Традиционно эти поэмы датируются временем до 750 г., т. е. относятся к той эпохе, когда сложилась дошедшая до нас редакция поэмы «Беовульф». Тем не менее их язык, лексика, стилистика не позволяют отнести их к творчеству одного автора6, и с именем Кэдмона можно уверенно связать лишь приведенные выше девять строк «Гимна».
Вторым известным нам, хотя бы по имени, автором
поэм на религиозные сюжеты является Кюневульф,
оставивший свою подпись в виде рунических знаков,
включенных в заключительные строфы четырех поэм:
«Юлианы», «Елены», «Христа» и «Судеб апостолов»7.
Авторство других поэм, которые ранее приписывались
Кюневульфу («Андрей» и др.) и которые сходны с
подписанными Кюневульфом, не может быть достовер
но установлено. Тем не менее выделяется «канон
Кюневульфа» — группа поэм, поэтических переложений
новозаветных сюжетов и житий святых, отличающихся
от «канона Кэдмона» сюжетикой (поэмы «канона Кэд
мона» разрабатывают по преимуществу ветхозаветные
темы), большей сухостью стиля, более глубоким зна
комством с церковной догматикой. Полагают, что Кюне
вульф был клириком одного из англосаксонских мона
стырей (может быть, епископом в Линдисфарне, умер
шим в 779 или 780 г.), чем и объясняется образован
ность автора и начитанность в церковной литературе.
Поэмы «круга Кюневульфа» датируются 750—850 гг.
Религиозный эпос англосаксов обнаруживает поразительное разнообразие тем, сюжетов, характера изложения материала. Это и переложения ветхо- и новозаветных сюжетов («Исход», «Юдифь», «Христос»), и поэтические пересказы житий святых и апостолов, иногда сильно отличающиеся от своих латинских прототипов («Елена», «Андрей»), и аллегории («Феникс»), и символические поэмы, исполненные христианской экзальтации («Видение креста»). Разными настроениями проникнуты поэмы даже на сходные сюжеты, нетождественным представляется и мир этих поэм: достаточно сравнить, например, поэмы «Юлиана» и «Андрей». Обе они основаны на латиноязычных житиях св. Юлианы (IV в.) и апостола Андрея, обе созданы примерно в одно и то же время, и предполагалось даже, что не только «Юлиана» (где есть подпись), но и «Андрей» j-вляется творением Кюневульфа, обе посвящены подвигу святого, ведомого божьим провидением, в борьбе с язычниками, на стороне которых сатана и его приспешники
Правитель Никомедии, известный преследованием христиан Хелисий, вознамерился жениться на дочери своего военачальника праведнице Юлиане. Невзирая на уговоры и угрозы отца, девушка твердо отказывается от замужества, если Хелисий не примет христианства. Разгневанный Хелисий хочет казнить ее, но, пораженный красотой Юлианы, предлагает ей богатые дары и власть, хотя отказаться от языческой веры не хочет. Упорство Юлианы вновь приводит Хелисия в ярость, он приказывает поместить ее на ночь в темницу, а утром казнить, собрав для назидания народ. Ночью в темницу является один из приспешников дьявола в облике ангела и пытается склонить Юлиану к браку с Хелиси-см. Но девушка разоблачает врага и с божественной помощью обретает над ним власть, так что он вынужден рассказать ей о том, как улавливаются люди в сети дьявола, какова иерархия ада и т. д. Наутро Юлиану подвергают истязаниям, которые она стойко переносит, поддерживаемая ангелом, и продолжает молиться и проповедовать перед собравшимся народом. Ей отрубают голову, а Хелисий, охваченный страхом, садится на корабль со своими людьми, и после нескольких дней скитания по морю его корабль тонет в бушующем море.
Подвиг Юлианы — мученичество, упорное, но пассивное противостояние домогательствам Хелисия.
Жизнь апостола Андрея представлена в одноименной поэме лишь одним эпизодом—освобождением св. Матфея, захваченного людоедами-мирмидонянами.
Совершенно очевидно, что сам сюжет предполагает совершенно иной — физический — аспект подвига, который усиливается характером переработки «заданной» житием темы.
Голос свыше приказывает апостолу Андрею отправиться в далекую Скифию к людоедам-мирмидонянам, чтобы освободить ослепленного и заточенного в темницу св. Матфея, которого собираются убить. Устрашенный опасностью, Андрей пытается отказаться от этой миссии, указывая, что проще послать ангела, который легко преодолеет расстояние до Скифии. Но Христос требует повиновения, и на следующее утро Андрей обнаруживает на берегу ладью с тремя моряками, которые готовы доставить его в Скифию. Кормчий корабля — сам Христос, а двое его спутников — ангелы, поэтому, невзирая на бурю, описание которой — одно из лучших в древнеанглийской поэзии, Андрей через сутки оказывается у мирмидонян. Проникнув в город, Андрей открывает темницу и совершает первое чудо, вернув зрение Матфею. После этого он возвращается в город и начинает проповедовать истинную веру, в то время как мирмидоняне обнаруживают, что пленник исчез. Появление дьявола побуждает язычников к нападению на Андрея. Его хватают и запирают в той же темнице, где ранее находился Матфей и куда является дьявол, чтобы испугать и унизить Андрея. Своей твердостью в вере апостол одерживает над ним победу, а его стойкость во время истязаний повергает мирмидонян в сомнение. Посланное Христом наводнение уничтожает большую часть язычников, а остальные принимают христианство, после чего Андрей с освобожденными Матфеем и его спутниками возвращается на родину8.
Сами сюжеты предполагают различный подход автора к изображаемому, различный способ описания событий. И тем не менее если обратиться к созданному многими авторами — в их числе и Кэдмон, и Кюне-вульф — миру религиозно-эпических поэм, то он предстанет перед нами, при всем разнообразии и варьировании тем, поэтического строя, атмосферы, как довольно однородное целое.
Каковы бы ни были его конкретные формы, конфликт религиозных, как и традиционно-героических, поэм состоит в противоборстве двух сил, приходящих в прямое столкновение, непосредственным выражением которого являются или битва, или диалог — сражение умов. Происходит как бы распространение героического конфликта из физической сферы в духовную.
В схематической форме сюжет «Андрея» может-i быть изложен как подготовка Андрея к борьбе с мирмидонянами (плавание и т. д.), битва с ними, реализация победы. Существеннейшей частью поэмы «Исход» (основанной на тексте ветхозаветной книги «Исход», но не следующей ей дословно), посвященной бегству израильтян под водительством Моисея из Египта, является сражение с полчищами фараона и изображение гибели египетского войска в водах Красного моря (эти эпизоды занимают около 400 строк из 589). Поэма «Юдифь» посвящена победе прекрасной Юдифи над язычником Олоферном, осадившим Вифлеем.
Словесное сражение святого с дьяволом представлено в наиболее развернутой форме в «Юлиане», когда дьявол под видом ангела является в темницу и пытается убедить девушку согласиться на свадьбу с Хелисием, но она быстро разоблачает его и вступает с ним в диспут. Словесный поединок, в котором раскрывается истинность аргументации святого и разоблачается враждебная богу и людям сущность дьявола, представляется не менее значительной победой святого, чем поединок с оружием в руках. Да, собственно, и нет принципиальной разницы в изображении того или иного типа конфликта. Вот один из приспешников Сатаны собирается искушать Адама и Еву, дабы людской род был низвергнут из Рая:
шлем-невидимку надел
и дивными пряжками накрепко пристегнул...
(Грехопадение, 208—211)
Тут изготовился,
обрядился богопротивник рьяный в доспехи бранные,—
был он сердцем неправеден,—
Казалось бы, зачем дьяволу доспехи — ведь совратить людей он может лишь «злодейской хитростью» (217), а не силой оружия, словом, а не мечом. Да и слово, а тем более слово святого, не менее грозное оружие, чем меч: оно разит с не меньшей силой и поражает противника-дьявола столь же надежно, как стрела или копье. Раны, наносимые словом святого, столь же болезненны: недаром корчится в муках дьявол, явившийся Юлиане, и вынужден раскрыть перед ней свои тайны.
Если в агиографии всякий подвиг — подвиг веры по преимуществу9, то в представлении авторов религиозных поэм он, видимо, является модификацией или непременно связан и с подвигом физическим, тем более что и в героическом эпосе битве предшествует вызов врага — своего рода словесный поединок: Беовульф
вызывает на бой Гренделя, трижды обращается к дракону. И в более поздних исторических песнях перед сражением герой вступает в диалог-поединок со своим врагом («Битва При Мэлдоне»). Конечно, диалог святого и дьявола—жанр христианской литературы, широко распространенный в средневековой Европе. Тем не менее думается, что у англосаксов эта литературная форма приобрела облик героического конфликта не без влияния героико-эпической традиции.
Не случайно поэтому образы сражения в религиозном эпосе насыщают диалоги — это те категории, которыми мыслит поэт, даже если речь не идет непосредственно о битве10. Вот, например, описание того, как дьявол совращает человека:
...печальный,
должен другого искать, менее стойкого,
витязя худшего в войске сражающихся,
кого совратить я могу своим злом
стать нерадивым в бою. Хоть дух укрепит,
насколько сумел,— я уж готов
в тайные мысли прокрасться,
пусть войско внутри душу его ограждает,
как в бастионе. Крепостные ворота
злобою я открываю. Сделав в башне пролом
и вход одолев, посылаю вперед
в его грудь зависти мысли...
(Юлиаеа, 393—405. Пер. авт.)
Человек представляется крепостью, которую осаждает дьявол, глубокая вера, отсутствие гордыни и зависти, а главное, неуклонное выполнение своего долга—вот оружие человека. Именно «нерадивого» в выполнении своего долга и ищет дьявол, против него направлено оружие: завистливые мысли, тщеславие и т. д. Даже в таком, казалось бы, далеком от воинственного духа произведении, как «Видение креста»,— экзальтированном повествовании, ведущемся от лица крестного древа, о том, как был распят Христос",—поведение Христа перед казнью сопоставляется с подготовкой воина к битве, а те переживания, которыми наделяется крест, сравниваются с чувствами воина, который порывается отомстить врагу, но должен повиноваться своему господину и терпеливо сносить мучения п.
И не пал я— не спорил с господней волей,—
не посмел я преломиться, хотя место окрестное
кругом содрогнулось, и врагов под собою
,я погрести хотел бы...
...и я содрогнулся, но не смел шевельнуться, не
преломился, не склонился тогда я долу,
но стоял, как должно, недвижно...
(Видение Креста, 35—38, 42—43)
Жизнь героя религиозных поэм истолковывается поэтом как битва, как непрекращающееся сражение с дьяволом. Преодоление соблазнов и окончательная победа над дьяволом — вот тот подвиг, который должен совершить герой. Однако далеко не вся жизнь, не все этапы этой борьбы изображаются в поэмах в противоположность, например, житиям святых, из которых авторы поэм часто черпают свои сюжеты. Вот, например, изображение битвы, в которой св. Освальд, в то время еще король Нортумбрии, одерживает решающую победу, приведшую к христианизации королевства, над войском язычника Кедвалла: «Тогда Освальд поднял крест в честь Бога прежде, чем вступил в битву, и воззвал к своим сотоварищам: «Преклоним колени перед Крестом и помолимся Всемогущему, дабы защитил он нас от надменного врага, тщащегося сразить нас. Ведь Бог знает сам, что мы по праву боремся с этим жестоким королем, защищая наш народ». Тогда все они опустились на колени рядом с Освальдом и молились и затем рано утром вступили в сражение и одержали победу, так как Бог помогал им ради веры Освальда, и они сразили врага, гордого Кедвалла, с его великим войском, того, кто думал, что нет такого войска, которое могло бы победить его»13. Ни одного намека на героический мотив, ни малейшего интереса к ходу сражения, поведению героев в битве не содержится здесь. Вся событийная сторона сведена фактически к констатации самого факта победы Освальда, которая рассматривается лишь как проявление божественного промысла. Поскольку результат сражения заранее предопределен, то отсутствует нарастание действия, кульминация; все события жизни святого равноценны своей соотнесенностью с вечностью.
Сюжет религиозных поэм, напротив, составляет тот момент в жизни святого, когда конфликт достигает вершины, когда требуется напряжение всех его сил, чтобы одержать победу, когда в наибольшей степени раскрывается его сущность, т. е. конфликт героический, необыденный, причастный героике эпического мира, хотя эта героика и не столь однозначна, как в традиционном эпосе. Сюжет ветхозаветной книги «Юдифь», например, предполагает широкое использование героических мотивов. Их разработка в англосаксонской поэме обнаруживает такое богатство варьирования, сплетения их, такую живость героических образов, которые трудно ожидать в переложении библейского сюжета.
Начало поэмы утеряно, и она открывается сценой
пира в шатре Олоферна у стен Вифлеема. Картина пьяного разгула язычников, не соблюдающих «древние законы», резко контрастирует с гармоничными и спокойными сценами пиров в других эпических памятниках англосаксов |4. После пира Олоферн требует привести к нему Юдифь, но засыпает, и девушка, оставшись одна, вынимает меч Олоферна и отрубает ему голову. Возвратившись в Вифлеем, она показывает голову жителям и побуждает их напасть на стан ассирийцев, пока они спят в тяжелом похмелье. Нападение завершается полным разгромом войска Олоферна, а Юдифь прославляется жителями Вифлеема15.
Кульминационный момент сюжета — избиение ассирийцев— настолько ярко и живо рисует картину неудержимого натиска вифлеемцев, паники в стане Олоферна, замешательства, когда обнаруживается его обезглавленное тело, и бегства ассирийцев, что невольно создается ощущение стремительности, героического порыва. Этому способствует изменение «позиции» автора при описании боя. Автор как бы перемещается из тыла нападающих вифлеемцев в их передние ряды, оказывается в гуще схватки, затем шум битвы стихает у него за спиной: он уже среди палаток, откуда выскакивают заспанные ассирийцы, и вот перед ним шатер Олоферна. Вместе с военачальниками он задерживается у входа, боясь потревожить сон своего господина, но приближающийся шум боя заставляет решиться... ужас, охвативший вошедших при виде обезглавленного тела, и неудержимое бегство завершают эпизод |6.
Героика религиозного эпоса и эпоса традиционного отличаются, как мы видим, не отдельными элементами, а их пропорциями, взаимным соотношением17. Если в традиционном эпосе христианские мотивы в характеристике героя, в строе героического мира играли третьестепенную, подчиненную роль, то здесь они выходят на первый план. Героично, оправданно только то действие, которое или направлено на служение богу, выполнение своего долга перед ним, или санкционировано богом. Так, действия Юлианы, ее мученичество — это героическая победа ради воссоединения с богом, ради его прославления. Победы Андрея, Юдифи, Моисея совершаются по повелению бога: ангел посылает Андрея к мирмидонянам, Юдифь и Моисей пользуются покровительством бога.
Значительно сильнее также выражена роль божественной помощи в характеристике персонажей. Благодаря ей Моисей из нерешительного, застенчивого чело-
века, каким он представлен в Библии, превращается в одаренного умом, твердостью духа, отвагой вождя, который умело правит своим народом. Эти качества как недвусмысленно указывается в поэме, не присущи ему изначально, а являются результатом божественного вдохновения. Именно таким мы видим его на миниатюре IX в., получающего скрижали из руки господа, а затем объявляющего Закон группе вождей, внешностью напоминающих англосаксонских воинов (см. 48).
Структурное членение мира обусловлено дуализмом христианского мировосприятия с его основной оппозицией «бог — сатана». Мир распадается на два противоборствующих лагеря, один из которых занимают бог, ангелы, христиане, сочувствующие герою, и сам герой или героиня, второй — дьявол и его приспешники, язычники— противники героя. Принадлежность к христианскому миру является обязательным элементом характеристики героя, как и приверженность язычеству — его противников. Борьба этих полярных сил составляет основной сюжет поэм. Тем не менее это не традиционная для христианской литературы борьба «царства небесного» и «земного». Мир, в котором живут и действуют герои религиозного эпоса, как правило, нейтрален, он не противопоставлен ни «небесному миру», населенному богом и ангелами, ни «дьявольскому», где обитают сатана и его прислужники. Как и пространство традиционного эпоса, это скорее арена, на которой разворачивается противоборство двух воинств. Эпическое пространство поэтому в большинстве религиозных поэм не разграничивается, как в героическом эпосе, оно в равной степени населено представителями обоих лагерей и потому не имеет само по себе каких-либо положительных или отрицательных свойств. Так в «Юлиане» изображается страна (поэтический мир), в которой живет героиня поэмы:
Широко распростерлась
его страна, раскинулась над миром,
чуть меньше была, чем весь великий мир.
Из города в город ходили приспешники,
как он повелел, творили насилие,
незнавшие бога, в злобе своей
ненавидели божий закон, чинили вражду,
сотворяли кумиры, терзали святых,
убивали прозревших, сжигали избранных
(Юлиана, 8—16. Пер. авт.)
Такое смешение представителей противоборствующих сторон встречается и во многих других поэмах
Однако «нейтральность» и нерасчлененность пространства типичны далеко не для всех поэм религиозного эпоса. При преобладании традиционно-героических мотивов и образов пространство начинает обретать дуалистичность, и в таких поэмах, как «Андрей», «Бытие», «Юдифь», мы найдем более близкую к героическому эпосу структуру пространства. Страна мирми-донян (Скифия) наделена всеми атрибутами пространства, тяготеющего к полюсу противников героя: она отделена от территории, где живет герой, и, чтобы попасть туда, требуется преодолеть препятствия (морское плавание); болота и топи создают условия, непригодные для жизни человека; противопоставленный герою круг персонажей сосредоточивается на этой территории. Точно так же и в «Бытии» 1S проводится четкая грань между раем, обиталищем бога и ангелов, «царством горнем» и адом, куда попадает восставший против бога сатана:
негаснущии огонь врагов опаляет,
там на рассвете
ветер восточный,
стужа лютая,
хлад и пламень...
...в край подземельный, он, карающий бог, поместил их,
в темное пекло: там с вечера мученья вечно длятся,
(Грехопадение, 76— 81)
В «Юдифи» Вифлеем и лагерь Олоферна разделены опасной «промежуточной» зоной. Необходимость вступить в непосредственное сражение с противником заставляет героя преодолеть это пространство.
Но многое в героическом идеале религиозных поэм традиционно именно для героического эпоса, а не для христианской литературы и потому вступает в противоречие с таким распространенным клерикальным жанром, как жития святых. В первую очередь мир религиозных поэм — это мир героического действия, поступков, а не размышлений. Здесь нет места, например, идее христианской аскезы, самоуглубления. Служение богу находит выражение лишь в одной форме — в героическом действии, подвиге. Поэтому из многочисленных библейских и агиографических сюжетов для переработки избираются лишь те, которые содержат элементы героики в традиционно германском ее понимании: непосредственное столкновение противоборствующих сил, борьба, в которой герой, чтобы выйти из нее победителем, вынужден полностью раскрыть свои возможности и способности.
К героическому перевоплощению христианских сюжетов толкал сочинителей этих поэм не только сложив-
шийся в поэтической практике стереотип художественного сознания, но и весь тот арсенал поэтических средств и приемов, который был выработан на протяжении нескольких столетий:. В «Гимне» Кэдмона, одном из наиболее ранних произведений христианского эпоса, число поэтических формул христианского содержания и происхождения невелико по сравнению с традиционно-героическими. Язык поэтических стереотипов, выражающих понятия христианской идеологии, основанные на ее образной, символической системе, лишь формируется на наших глазах, и поэт вынужден обращаться к тому единственному существующему поэтическому языку, который он знает,— языку германского героического эпоса. Образы, темы, общие места, метафоры, эпитеты — весь запас поэтических приемов он черпает у скопа-дружинника. «Как кажется, человек, знавший религиозные легенды и легенды о святых, когда-то познакомился и с устной традиционной поэзией и ее стилем, познакомился настолько хорошо, чтобы сочинять в том же самом или близком стиле. Хотя сочинители этих поэм («Елены», «Андрея» и др.— Е. М.), возможно, знали истории святых из проповедей, а не обязательно в письменной форме, обычно считается, что они знали их по письменным источникам, т. е. по латинским редакциям, имевшимся в монастырях. Я бы хотел подчеркнуть, что в этих поэмах... начал складываться новый круг формул для выражения новых идей христианской поэзии по моделям устной традиционной поэзии. Я бы поэтому определил религиозную поэзию как «переходную» или «смешанную»» 19. Обратимся, например, к описанию погони, отправленной фараоном после исхода Моисея из Египта:
Эрлы в душе надежду утратили,
когда увидали на южной дороге
войско фараона: вышел на них
дорогами трудными отряд блистающий—
с тяжелыми копьями, со вьющимися трубами —
щиты сияли, широкая близилась
цепь воинов...
Птицы битвы кричали, падалью сытые —
в росе оперение— кружили над трупами,
жаждущие сражения. Волки в ярости,
мрачные звери боя, во мраке пели
песнь погребальную войску вослед —
пророча многим скорую гибель.
(Исход, 154—167. Пер. авт.)
Ничего подобного, конечно, нет в библейском рассказе, сухо сообщающем, что фараон «запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою. И взял шестьсот
колесниц отборных... и он погнался за сынами Изра-илевыми, а сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними Египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их расположившихся у моря... Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот, Египтяне идут за ними: и весьма устрашились и возопили сыны Израилевы к Господу...» (Исход, XIV, 6—10). В поэме же представлены все основные атрибуты героического описания битвы: блистающее оружие героев, птицы и звери битвы (вороны, волки), предвестие кровавого сражения (хотя на самом деле войско фараона погибнет в пучине Красного моря, а не от меча воинов Моисея, т. е. кровопролития не будет) и т. д. Поэт умеет описывать эти события лишь традиционным языком героического эпоса, даже если некоторые привычные образы приходят в противоречие с рассказываемым. Отсутствие в поэмах христианской догматики иногда прямо объясняется неразработанностью средств выражения подобных идей в поэтическом языке20.
Более того, совмещение христианской и языческой мифологии, о чем не раз говорилось выше, обнаруживается и в этих, казалось бы, проникнутых христианской идеологией памятниках. Не вызывает сомнений, что ««Видение Креста» замечательно особой утонченностью и многосмысленностью христианской символики. Крест предстает в поэме и как символ торжества бога, и как орудие истязания, как крест поруганный и почитаемый...»21. Но одновременно «крестное древо» соединяет небо и землю. Христианству чуждо представление о мировом древе, и этот образ вряд ли мог возникнуть в ортодоксальном христианстве. Но зато мировое древо — один из центральных элементов германской языческой космологии: ясень Иггдрасиль в скандинавской мифологии объединяет все миры, являясь стержнем Вселенной. И хотя, конечно, «крестное древо» поэмы уж совсем не равнозначно Иггдрасилю, отголосок его структурообразующего значения улавливается. Так что если задаться вопросом, как, в каких формах автор воспринимает свое повествование, то становится очевидным, что он видит поэтический мир в образах прежде всего героического эпоса.
Но использование поэтического языка героического эпоса влечет не только привнесение традиционно-эпических образов и сцен в религиозный сюжет: большая часть этих формул, тем и образов в той или иной форме отражает определенное — героико-эпическое — мировосприятие и основывается на законах, управля-
ющих эпическим миром. В разных поэмах Христос называется «отважным воином», «могучим вождем», «стражем народа», т. е. метафорами, типичными для обозначения германского короля (Беовульфа, Хродга-ра, Хигелака). Подчеркивание физической силы, отваги и прочих «героических» качеств Христа ставит его как героя поэм «Христос», «Христос и Сатана» в один ряд с Беовульфом или Вальдере. Сходные приемы изображения и общность принципов героизации образов (хотя и с разной степенью раскрытия отдельных элементов) создают тот самый мостик между Христом и Ингельдом в сознании рядовых членов монастырских общин, который обличал Алкуин.
Изгнанниками, отлученными от героического общества, рисуются в сознании поэта противники героев, в первую очередь Сатана. Отвергнутый богом, он вместе со своими сторонниками влачит жалкое существование изгоя, как и герой элегий. Исторгнутый из рая, Сатана22 произносит речь, достойную героя «Скитальца»: он оплакивает свою судьбу и несчастья, изображает тяготы своего положения; чувство утраты былого благополучия усиливается воспоминаниями о прежней счастливой жизни на службе у своего господина. Для него нет места в социальной иерархии, его прибежище— ад — столь же мрачно и уныло, как жилище героя элегий на морском берегу, и так же далеко оно от мира героев и людей.
Героическое общество христианских поэм строится по тем же традиционным принципам — на взаимоотношениях короля и его дружины, и нет принципиальной разницы в том, что образ короля замещается в них образом бога: как и идеальный король германского эпоса, бог милостив и щедр, раздает дары своим верным воинам и требует взамен преданности. Таким же вождем предстает и Сатана до своего падения, который напоминает, уже оказавшись в аду, своим приспешникам:
...прежде я даривал от щедрот моих сокровища,
когда мы радовались, там владея престолом,
в местах блаженных,—
пора, соратники,
время настало
государю, как должно,
воздать за прежнее, сослужить мне служение...
(Грехопадение, 175 — 180)
Герои христианских поэм—верные дружинники бога, их подвиги — исполнение своего долга господину. Это представление отражено в многочисленных эпитетах и метафорах, применяемых даже к женщинам
(Юлиане и Юдифи): «отважный воитель», «бесстрашная воительница», «могучий витязь» и т. п.
Благополучие и благоденствие этого общества, как и в героическом эпосе, зависит от выполнения всеми его членами взаимных обязанностей. Бог создает ангелов, чтобы они составили его дружину, и Сатана занимает в ней место наиболее опытного и достойного воина, он «гордый ратеначальник», воевода («Бытие Б», 104). От него ожидается верность и преданность богу, своими доблестями он должен снискать славу господину. Рассказ о падении ангелов представляется нарушением законов верности, разрывом освященной обычаем связи «король — дружинник» :
помериться с богом, собрать не меньшую
рать, чем господня славная дружина...
...нелживо он должен служить владыке,
своему государю;
ему же думалось,
что мощью может он
(Грехопадение, 33 — 37)
Сам Сатана рассматривает свое восстание против Бога исключительно в формах вооруженной борьбы:
Соберутся мои соратники,
избравшие меня верховным,
все мужи нестрашимые,
и мы совершим в сраженье
дело, какое задумаем,—
вот добрая моя дружина, сердца мне верные...
(Грехопадение, 50 — 53)
Изгнание Сатаны (49), Адама — естественное и закономерное наказание, материализованный результат их собственного отказа от следования нормам героического общества23. Узнав о преступлении Сатаны, Бог, как и следует германскому вождю, приходит в негодование и мстит неверным дружинникам («Бытие Б»). В результате изгнания Сатаны и ангелов из рая создаются два идентичных по своей структуре общества, противостоящих друг другу: воинство Бога и воинство Сатаны.
Таким образом, мир религиозных поэм в ряде своих черт предстает как мир героический. Однако этим не исчерпывается его содержание. Сюжеты поэм, дидактика, некоторые элементы мировосприятия обусловливают их сущность как произведений сугубо христианских. И вместе с тем в них присутствует в косвенной, разлитой форме героика эпического мира. Обратимся еще раз к поэме «Исход». Морализаторско-дидактическим зачину и концовке поэмы (исход — это благая весть о спасении человечества, обращенная ко
всем имеющим уши: бог милосерд, и, хотя, земная жизнь проходит в вечном страхе перед .всевозможными прегрешениями, в Судный день все праведники будут вознаграждены и с триумфом войдут в царство небесное) противостоят героико-эпическое воплощение сюжета, традиционные обргиы и традиционная формульная лексика, воссоздающие дух и атмосферу героического действия.
Закат героев: исторические песни
Последняя переработка традиций героического эпоса — и в хронологическом, и в типологическом отношении — исторические песни, время происхождения которых — X — начало XI в. Все известные англосаксонские исторические песни, кроме одной—«Битвы при Мэлдоне», включены в состав «Англосаксонской хроники» вместе с рассказами об отдельных эпизодах борьбы с экспансией скандинавских викингов в Англии: о разгроме датчан и их шотландских и ирландских союзников королем Этельстаном в 937 г. («Битва при Брунанбур-ге»); об освобождении в 942 г. пяти уэссекских городов королем Эдмундом; о смерти уэссекского элдормена Бюрхтнота и гибели его войска в сражении с датчанами в 991 г. («Битва при Мэлдоне»); о пленении около 1036 г. Альфреда, сына Этельреда, норвежским королем Харальдом Жестоким Правителем и др. Все эти события засвидетельствованы древнеанглийскими хрониками и скандинавскими сагами, имена героев поэм известны по различным документам: дарственным грамотам, завещаниям и т. д.1 Песни, как считается, сложены участниками, очевидцами или по крайней мере современниками событий, о которых повествуется в них2.
Большая часть исторических песен конечно же не может сравниться с «Беовульфом» или «Деором». Но среди них есть две, выразительность и яркость которых не уступают эпическим памятникам более раннего времени. Это «Битва при Мэлдоне» и «Битва при Брунанбурге». Первая рассказывает о высадке датчан в устье р. Пенды и столкновении с войском уэссекского элдормена Бюрхтнота. Начало песни утеряно, и она открывается сценой подготовки англичан к сражению. Бюрхтнот отклоняет требование викингов заплатить выкуп за мир, но сражение начаться не может, так как из-за высокого уровня воды в реке викинги не могут перейти на берег, занятый англичанами. Скандинавы
пытаются подняться на мост, но англы защищают его столь отважно, что нападающие вынуждены отступить и просить Бюрхтнота дать им перейти реку, чтобы начать битву. Элдормен пропускает их. В ожесточенном бою гибнет Бюрхтнот, часть дружинников бежит с поля боя, обрекая остальных, верных памяти вождя, на смерть. «Англосаксонская хроника» так рассказывает об этом событии: «В тот год Анлаф (его обычно отождествляют с Олавом Трюггвасоном.—Е. М.) пришел с 93 кораблями к Фолькестану и разграбил всю округу, а затем направился в Сандвич и оттуда в Ипсвич и, опустошив их, двинулся в Мэлдон. А злдормен Брихтнот выступил против них со своим войском и сражался с ними; и они убили там элдормена и оставили за собой поле битвы...» «И в этот год было решено впервые заплатить дань датчанам из-за великого ужаса, который они вызывали по всему побережью»,—добавляет другой список «Англосаксонской хроники»3. Краткий и сухой отчет хроники дополняется другими источниками, из которых мы узнаем, что Бюрхтнот был покровителем монастыря в Эли, где он и был похоронен вскоре после сражения. Это дало основания предполагать, что один из монахов этого "монастыря являлся свидетелем, а может быть, и участником битвы и написал поэму4.
«Битва при Брунанбурге» рассказывает, напротив, о блистательной победе короля Этельстана над соединенными силами датчан и скоттов. В ней последовательно описан ход сражения от высадки викингов до их бегства на корабли5.
Посвященные драматическим моментам многовековой борьбы со скандинавами, исторические песни воплощают героический конфликт в его наиболее чистом виде: прямом военном столкновении двух противоборствующих сил, подробное описание которого и составляет сюжет песни. Однако сражение, хотя ему и посвящена большая часть текста песен, не исчерпывает содержание конфликта. Это скорее внешняя форма его проявления, видимая, событийная его сторона. Более существенным в поэтической интерпретации является конфликт между героическими нормами поведения Бюрхтнота, Этельстана и обыденной, практической моралью, рационалистическим восприятием событий. Об этом говорят как отношение автора песен к рассказываемому, так и само построение песен.
Место изображаемого в песне эпизода в ходе реальной борьбы с датчанами малосущественно для, его поэтической героизации: наряду с действительно важ-
ным, во многом определившим ход исторического развития сражением при Брунанбурге в основу песен ложатся такие события, как коронация короля Эдгара (умер в 975 г.), пленение Альфреда, не имевшие большого исторического значения, да и сражение при Мэлдоне не имело сколько-нибудь важных последствий: получив выкуп, скандинавы покинули Англию. Принципиальная важность события — не в его роли для судьбы народа или страны, как в традиционном героическом эпосе: та или иная победа или поражение не соотнесены с общим ходом борьбы с викингами; значение события оценивается лишь в такой категории «героического мира», как слава и честь:
В это лето
Этельстан державный, кольцедробитель,
и брат его, наследник, Эадмунд, в битве
добыли славу и честь всевечную
мечами в сече под Брунанбургом...
(Битва при Брунанбурге, 1 — 5)
И одержавший блистательную победу Этельстан, и потерпевший разгром и погибший на поле боя Бюрхтнот стяжали себе славу; увековечению этой славы — а отнюдь не простому описанию события — и посвящены песни. Поэтому каждый из этих эпизодов в борьбе со скандинавами изображается как самостоятельное, завершающееся само в себе событие, а не как одно из длинной цепи событий. Для автора каждой из песен ее собственный сюжет самоценен.
Наиболее полно сущность конфликта раскрывается в центральном эпизоде песни «Битва при Мэлдоне». Бегство некоторых дружинников Бюрхтнота после его гибели, бесспорно, кульминационный момент песни, после которого действие уже неудержимо стремится к своему завершению — разгрому английского войска. Бегство с поля боя сыновей Одды и вслед за ними некоторых других определяет трагическую развязку сюжета, и именно в этом месте повествования — в речах оставшихся верными своему долгу воинов — конфликт определяется наиболее ярко:
...Часто кричали мы за чашей меда,
славой на лавах
клялись-хвалились,
да не услышу в людях слов стыдных,
когда государь наш пал на поле,—
в тех застольях
стойкостью ратной пускай же каждый
покажет свою отвагу.
будто я бегал
от корабельщиков...
теперь должны мы друг друга
ободрять и драться рука, и доколе
плечом к плечу, копья не притупилисьдоколе мечом владеет острия годны.
(Битва при Мэлдоне, 212 — 215, 220 — 221, 233 — 237)
В речах Эльфвине, Оффы, Леофсуну воплощается героический идеал поведения воина, который был двумя веками раньше провозглашен Виглафом:
...уж лучше мне в пламени навеки сгинуть,
владыку спасая,
чем ждать в укрытье!
(Беовульф, 2650 — 2651)
Сыновья Одды, напротив, рационалистически трезво оценивают свои силы и возможные последствия бескомпромиссного следования героической этике:
Годвине и Годвиг,
о гордости не радея,
спиной повернулись,
в лесную чащу бежали,
под сень дерев от сечи
спасенья ради, больше их было, беглых,
чем подобало...
(Битва при Мэлдоне, 192—195)
Их прагматизму противопоставлен не признающий никаких препятствий и компромиссов героический долг. Следованием ему определяется все поведение Бюрхтно-та, начиная с переговоров с посланцем викингов, который предлагает позорную, с точки зрения Бюрхтнота, сделку — выплату дани вместо сражения. Гордое негодование Бюрхтнота обнаруживает образ мыслей и этику, близкие нормам героического общества:
...не бесчестный со своим
ополченьем за владенья Этельреда,
здесь военачальник встал, государя нашего,
он биться будет за людей и наделы...
на этой границе
(Битва при Мэлдоне, 51—54)
Между тем это была распространенная практика, и в хрониках и анналах постоянно упоминается о нападениях викингов, которые были предотвращены не оружием, а золотом6. И после поражения при Мэлдоне Этельред выплатил Олаву большую сумму денег, после чего войско датчан покинуло Уэссекс. Бюрхтнот последовательно и неуклонно следует героической морали, обрекая тем самым себя на гибель. Его этика противостоит как низменным побуждениям викингов — их впол-
не устроит мирная сделка (об этом говорит их посланец),— так и трусливому поведению сыновей Одды, больше пекущихся о своей безопасности, чем о славе, и готовых ценой бесчестья спасти свою жизнь.
В центре внимания авторов «Битвы при Мэлдоне» и «Битвы при Брунанбурге» стоит основная этическая категория героического мира — категория долга7, и именно ее трактовка и воплощение в исторических песнях позволяют говорить об их мире как мире героическом. Противопоставление мужества и трусости, пренебрежения опасностью и заботы о благополучии возникает с первых строк поэмы, когда распоряжения Бюрхтнота перед битвой обнаруживают, что «труса не празднует ратный начальник» (6),— своего рода скрытое, еще только намечаемое противопоставление. Выраженное традиционными образами и формулами описание сборов к битве, включение афористических высказываний о поведении воина в битве — все подготавливает восприятие героического действия, развертывающегося в соответствии с нормами идеального эпического мира. Более того, как Гуннар, предчувствуя гибельность своей поездки к Атли, рубит челны (или не привязывает корабли), чтобы отрезать себе путь к отступлению, так и Бюрхтнот перед началом битвы
Сам он всадникам приказал
всех коней отпустить, спешно спешиться,—
уповали бы в рукопашной молодые лишь на доблесть, да на доброе свое оружие.
(Битва при Мэлдоне, 2 — 4)
Демонстративное пренебрежение опасностью, устранение путей возможного отступления наглядно свидетельствуют о героической решимости воина и окончательности сделанного им выбора.
Тема героической решимости формулируется далее в ответе Бюрхтнота посланцу викингов. Выслушав его предложение — речь викинга, кстати говоря, лишена метафор, сравнений, повторов, она коротка и деловита и своей поэтической формой разительно отличается от «эпических речей» англичан,— Бюрхтнот излагает свое решение:
Бюрхтнот вскричал,
щит подъявши, дротом ясеневым
тряс он, яростный, и такими словами, отважный,
ему ответил:
«Понимаешь ты, бродяга моря, о чем расшумелось
это войско?—
вам не дань дадут, но добрые копья,
дроты отравленные,
издревние острия...»
(Битва при Мэлдоне, 42—47)
Ответ, вполне достойный персонажа героического эт> са! Особенно показательно выражение yrre and anrasd — «гневно и твердо» (в переводе «яростный, отважный»), которое в «Беовульфе» (1575) поясняется—«как подобает герою». Речь Бюрхтнота близка героическому эпосу как по своему духу, так и по способам выражения мысли. Выкуп или дань стрелами, копьями и мечами также широко распространенный героико-эпический образ: достаточно вспомнить, например, древнерусскую «Повесть' временных лет» и рассказ о полянах, пославших хазарам мечи вместо дани8. Выплата выкупа невозможна для Бюрхтнота, как признание своей слабости, неспособности к борьбе, подчинения врагу. Выбор между сражением и откупом как реальная альтернатива даже не стоит перед Бюрхтнотом: для него возможен лишь один путь — борьбы, результат которой предопределен богом. В речи Бюрхтнота звучат те же мотивы, что и в вызовах Беовульфа Гренделю и дракону: лишь поединок с врагом, борьба не на жизнь, а на смерть достойны героя, лишь в них раскрывается героическая сущность его характера, его возможности. Будет ли итогом этой битвы победа или поражение — не столь важно, как следование до конца велению долга.
Дальнейшее развитие сюжета песни переводит намеченное в речах персонажей противопоставление в поступки и действия, совершаемые ими. Воин за воином вступает в сражение, выказывая свою верность долгу и памяти Бюрхтнота. «Пусть же каждый покажет свою отвагу» (215),— говорит Эльфвине. И они один за другим проходят перед нами, чтобы, сразив врага, пасть от удара меча или копья. Именно здесь конфликт приобретает свою наиболее законченную форму: героическое мировосприятие, декларируемое Бюрхтнотом и верными ему дружинниками, материализуется в конкретных действиях персонажей. Своим поведением они разрушают мерки и нормы повседневности и обретают новое качество — идеальных героев эпического мира.
Этому перелому в повествовании соответствует и сдвиг в стилистике поэмы9. Насколько сухим, ясным, не обремененным повторами и метафорическими выражениями (кеннингами) был язык первой части песни:
Тут смекнули недруги,
они узнали страшную
стражу брода, гости лихие
пошли на хитрость, лишь бы малость
места им уступили, через брод перебраться дали
рати на берег...
(Битва при Мэлдоне, 84 —
настолько традиционно и насыщено формулами, «эпично» описание самого сражения:
...приближалась битва, слава близилась,
время пришло пасть избранникам израненным
на поле брани.
Вот взволновалось войско,
вороны кружат, орел воспарил, стервятник,
крики на поле...
(Битва при Мэлдоне, 103—107)
Авторы поэмы широко прибегают к сложившимся поэтическим приемам и средствам изображения, обильно используют кеннинги, метафоры, иногда насыщая ими текст до такой степени, что затуманивается его
смысл:
...их не радовала, слабейших в битве,
работа бранная на поле павших,
пенье копии, стычка стягов,
сплетенье стали, сшибка дружинная...
(Битва при Брунанбурге, 48 — 51)
Благодаря мировидению автора, его обращению к геро-ико-эпической поэтической технике реальное историческое событие преломляется в песнях как легендарное, обретает внутренний, глубокий смысл, а простые уэс-секские воины преображаются в эпических героев.
Выполнив до конца свое героическое предназначение, гибнет под ударами мечей Бюрхтнот, и его смерть вновь ставит перед английской дружиной проблему выбора: прекратить ли сопротивление датчанам или продолжить сражение, чтобы отомстить за смерть своего господина. Как в дружине Беовульфа, так и в дружине Бюрхтнота наступает раскол. Осуждение покинувших поле битвы мотивировано теми же причинами, которые высказывает Виглаф в «Беовульфе»: бежавшие не выполнили свой долг по отношению к Бюрхтноту, уклонились от платы за те милости, которыми он осыпал их, пренебрегли героическим кодексом поведения.
Конфликт поэмы, таким образом, приобретает масштабность благодаря столкновению этических норм, свойственных разным мировоззрениям: идеальному, героическому и обыденному, практическому. Герой изображается в критический момент своей жизни, требующий максимального напряжения всех его сил. Бесстрашное преодоление опасности, непоколебимая стойкость и выполнение своего героического долга как основной императив поведения — вот те черты, которые обусловливают возвышенный, эпический характер конфликта исторических песен. Масштабность его в этих
произведениях заключается в выявлении героической сущности персонажа, в его идеальности, противопоставленной обыденности.
В то же время конфликт исторических песен значительно «индивидуалистичнее», чем в героическом эпосе. Выше шла речь об отсутствии в глазах певца связи между воспеваемыми им событиями и общим ходом борьбы со скандинавами. Самоценность и замкнутость сюжета песен — черта, резко отличающая их от традиционного героического эпоса. Более того, автора занимает лишь судьба героя песни, в крайнем случае, как в «Битве при Мэлдоне»,— его дружины, причем только в пределах описываемого события. Не случайно поэму «Битва при Брунанбурге» нередко сравнивают с хвалебными стихами скандинавских скальдов, посвященными прославлению того или иного конунга и потому сосредоточенными на описании одного или нескольких его деяний. Поступки героев песен оцениваются автором не в зависимости от их общественной значимости, а в силу их соответствия героическому идеалу, незримо и, возможно, далеко не всегда осознанно стоящему перед внутренним взором певца. Конфликт между героическим и обыденным не только составляет содержание «Битвы при Мэлдоне», но он происходит и в сознании самого автора, человека, оставившего «героическую эпоху» далеко позади.
С одной стороны, автор восхищается Бюрхтнотом, поет ему славу, скорбит о его гибели и смерти его верных дружинников. С другой — героический иррационализм, пренебрежение здравым смыслом вызывают если и не осуждение, то размышления, в которых оценка двойственна. Вот, например, эпизод «Битвы при Мэлдоне», когда Бюрхтнот пропускает войско викингов на свой берег, чтобы начать наконец битву. С одной стороны, образ Бюрхтнота сближается с героями эпических памятников. С другой — автор с некоторым осуждением показывает «избыточность» героического мировосприятия и поведения Бюрхтнота, его ofermod — «гордыню, чрезмерную отвагу» (в «Беовульфе» это слово служит высшей похвалой герою, определяет именно героичность его качеств и достоинств), которые в реальной жизни ведут к гибели. Автор довольно неясно говорит о причинах решения элдормена пропустить викингов10, но употребление слова «ofermod» как будто указывает, что, по мнению автора, Бюрхтнот чрезмерно положился на свои силы, переоценил мощь и верность своего войска в желании сразиться с врагом11. Эпизод же в целом выявляет неприменимость героиче-
ских идеалов в реальной жизни: их привнесение в обыденный ход событий кончается поражением как самого героя, так и его соратников.
Преимущественный интерес к судьбе героя резко сужает и временные, и пространственные пределы эпического мира песен. Он полностью замкнут сюжетным временем и строго приурочен к тому месту, где это событие произошло на самом деле. Никакие побочные темы, сюжеты, повествования не расширяют временные и пространственные рамки исторических песен. Их время — это близкое прошлое, пережитое многими и известное всем слушателям; поэтому оказывается невозможным установить какие бы то ни было временные и пространственные связи с германским «героическим веком». Более того, концентрированность, одноплано-вость действия создает и специфическую структуру эпического мира, время замкнуто в самом событии, строго однолинейно и не допускает сколько-нибудь значительных перескоков. От начального эпизода (к сожалению, не сохранились вступительные части ни «Битвы при Мэлдоне», ни «Битвы при Брунанбурге») действие последовательно развивается во времени, эпизоды следуют один за другим, вводимые словом «Ъа» — «затем, тогда», к своей кульминации и затем развязке. Поскольку сцена действия не меняется на протяжении всего повествования, то невозможны и никакие «параллельные» действия, происходящие одновременно с главным.
Время и пространство мира исторических песен цельны и едины для каждой из песен, но лишь внутри ее. Их изображение полно мелких примет, что позволяет довольно точно локализовать их' . Так, в «Битве при Мэлдоне» действие происходит на берегу р. Пенды, в «Битве при Брунанбурге»—на морском побережье, где сражаются англы с викингами, не в условном пространстве, а во вполне реальном месте высадки датчан. Все это препятствует использованию «типовых сцен» и общих мест при изображении пространства.
Но при всей внешней исторической достоверности места и времени исторические песни не являются хроникой событий. Это повествования о героическом противоборстве идеального и реального миров. Весь пафос конфликта сосредоточен в эмоциональной и этической сферах и потому находит свое выражение ке столько во внешних проявлениях, сколько в речах и поступках действующих лиц. Никакие вещные, пространственные атрибуты не участвуют в характеристике противостоящих сторон. Датское войско слито в единую нерасчлененную массу. Противники героев— датские викинги практически не изображаются в поэмах. Они присутствуют как некая сила, определяющая и вызывающая проявление героизма со стороны англов. Даже единственный выделенный из общей массы датчанин— посланец конунга Анлафа, предлагающий Бюрхтноту выплатить дань, также лишен индивидуальных примет.
Слитность, нерасчлененность индивидов в массе (викингов или англов), среди которой выделяется только один—Бюрхтнот, ведет к тому, что, например, сыновья Одды, бежавшие с поля боя после смерти элдормена, наделены всеми теми же внешними атрибутами, что и верные своему долгу воины. Автор подчеркивает отсутствие у них каких-либо значащих отличий, более того, их сходство, хотя и внешнее, с Бюрхтно-том, что было бы совершенно невозможно в героическом эпосе:
Годрик трусливый, Одды отпрыск,
продал нас в битве:
многим тогда помнилось,
не наш ли военачальник на знатном коне скачет...
(Битва при Мэлдоне, 237—240)
Контраст между «героической» внешностью и прагматически-обыденным поведением придает конфликту особую остроту и в то же время концентрирует внимание рассказчика и слушателей на этической его стороне.
Мир исторических песен, как мы видим, максимально сближен с действительностью: в нем находят отражение реальные события, исторические персонажи, время и место действия ограничены реальными обстоятельствами. Единственным отголоском героико-эпического мира англосаксов является кодекс героического поведения, определяющий мировосприятие и действия всех персонажей, равно как и устанавливающий законы человеческих взаимоотношений в мире исторических песен. Но он приходит в трагическое противоречие с действительностью, и гибнет Бюрхтнот и его верные дружинники — последние герои эпического мира англосаксов.
Героический мир англосаксонского эпоса
И там, в палатах,
завидев стольких героев-сородичей,
храбрых воителей, спящих по лавам,
возликовал он: думал, до утра
душу каждого, жизнь из плоти,
успеет вырвать, коль скоро ему
уготовано в зале
пышное пиршество...
тут же воина
из сонных выхватив, разъяло ярое,
хрустя костями, плоть и остов
и кровь живую впивало, глотая
теплое мясо; мертвое тело
с руками, с ногами враз было съедено.
(Беовульф, 729—746)
Жуткое и мерзостное зрелище! Как подробно оно изображено, как последовательно перечисляются действия Гренделя, сколько деталей, придающих осязаемую живость картине людоедства! Что это? Смакование отвратительных подробностей или нагнетание ужаса для устрашения слушателей в духе рассказов Хичкока? И первое, и второе предлагалось как объяснение этой сцены. Но стоит лишь подойти к ней не изолированно, но учитывая структуру всей поэмы и — шире — эпического мира в целом, как она предстает иной, приобретает определенный и законченный смысл. Это—«пир наоборот», празднество в мире зла и хаоса, в мире чудовищ.
Тема пира не случайно занимает совершенно особое по своей важности место в англосаксонском — и не только в англосаксонском — эпосе. «Совместное поглощение пищи и напитков имело в сознании этих людей глубокий общественный, религиозный и моральный смысл; между сотрапезниками устанавливались дружественные связи, изглаживалась вражда»1.
В пиршественной палате эпических произведений устанавливается, закрепляется и поддерживается героический миропорядок со своей социальной структурой и иерархией. Идеальный эпический социум именно здесь, в зале для пиров, обретает материальные, вещественные формы. Его замкнутость, этикетность соответствуют замкнутости и завершенной оформленности героического мира. Во время пира проявляются возможности, заложенные в этом мире, создаются и закрепляются связи, которые позднее дадут толчок действию сюжета. В речах персонажей выявляются их качества, которые воплотятся в битве; песни скопа и развлекают собравшихся, и поучают их, и предостерегают от грядущих бед.
Тема пира присутствует в той или иной форме в большинстве эпических памятников: в «Беовульфе» и «Юдифи», в элегиях и «Андрее». Исключение составляют лишь исторические песни. И, несмотря на варьирование темы, на ее различное освещение в произведениях различных жанров, как проявление и реализация социальных связей, воплощение героического общества она обладает определенным единством:
В поэме «Беовульф» четыре раза изображаются празднества героев : трижды они происходят в Хеоро-те, пиршественной палате короля данов Хродгара, и один раз в королевском дворце гёатов. Их описание занимает около 750 строк поэмы, т.е. почти 23% объема текста. Более кратко упомянуты пиршества у фризов (во дворце Финна) и хадобардов (во время которого начинается вновь распря с данами). Все шесть эпизодов обнаруживают ряд общих элементов описания, что позволяет говорить о существовании некой модели героического пиршества, модели поэтически-условной, но имеющей глубокие корни в исторической реальности.
Пиршество в догосударственных и раннеклассовых обществах — это и одно из важнейших средств социального общения, и ритуальное действо, обеспечивающее благополучие рода, племени или союза племен. Полифункциональность, и в особенности социально-организующая роль пира как общественного события определяет его место в структуре мифологического и эпического миров. В древнегерманской мифологии ежедневно повторяющиеся пиры воинов-эйнхериев в Вальхалле, чертоге Одина, в первую очередь являются ритуалом, утверждающим незыблемость мира и устанавливающим всеобщую гармонию: убитые в бою, на земле воины возрождаются как эйнхерии, пирующие в Вальхалле; сраженные в схватках в Вальхалле эйнхерии возрождаются наутро для нового пира и новых сражений. Противопоставление «пир — сражение» отражает противопоставление устойчивости миропорядка конфликту и нарушению гармонии в нем.
Как ритуальное действо эпический пир состоит из цепи последовательных, жестко закрепленных как по форме, так и в своем чередовании эпизодов, имеющих важное внутреннее содержание. Каковы же основные элементы модели героического пиршества?
Строго регламентирована локализация сцены — королевский дворец или специальная палата для пиров. В дискретном пространстве героического эпоса англосаксов палата для пиров представляет собой один из важнейших локусов, в котором и вокруг которого концентрируется героическое действие3. Строительство такой палаты — в поэме «Беовульф» подробно повествуется о постройке Хеорота — расценивается как величайшее событие в жизни племени и как одно из наиболее значительных деяний короля4.
Глобальное значение, придаваемое постройке дворца, непосредственно связано с тем местом, которое он занимает в системе эпического мироздания: пиршественная палата, королевский дворец —центр, средоточие героического мира, его символ и в то же время вещественный, зримый образ.
Материализация образа достигается и описанием самого дворца, и особенно наполнением его огромным количеством различных предметов. Как правило, в памятниках англосаксонского эпоса отсутствует не только изображение, но даже упоминание каких-либо вещей — исключение составляет лишь оружие. Здесь же, напротив, вещи занимают первостепенное место, палата для пиров буквально перенасыщена ими: это и предметы декора, обстановки (ткани, скамьи, столы), и оружие, развешанное по стенам и сверкающее на собравшихся, это украшения женщин, находящихся в зале, это пиршественная утварь: кубки, чаши, блюда, на которых едят и из которых пьют пирующие. Блеск оружия, сверкание драгоценностей, звон кубков оживляют картину и наполняют зал светом и звуками.
Строительство палаты моделирует и оформляет эпическое пространство, что в системе эпического мира равнозначно его творению. Лежащие в основе этого эпизода отголоски космогонических мифов в героико-эпическом преломлении позволяют создателю поэмы провести прямую параллель между постройкой Хеорота и сотворением мира в христианской традиции: именно песнь о творении исполняется дружинным певцом-скопом на первом пире в Хеороте (Беовульф, 89—98). Аналогично рассматривается воздвижение зала для пиров и в поэме «Бытие» (1104—1245), переложении первой книги «Пятикнижия»: это одновременно и творе-
ние мира, и воспроизведение некоего прообраза, и распространение божественной власти (христианского миропорядка) еще в одной части Вселенной, т. е. приобщение не освоенного ранее пространства к эпическому (или религиозно-эпическому) миру5.
Вместе с тем постройка дворца не только знаменует создание (или воссоздание в соответствии с традиционным прообразом) эпического мира в пространстве, но с этим событием связывается и установление (точнее, воспроизведение) социального устройства6. Таким образом, дворец — это не обычное «место действия», не равноценный другим локус эпического пространства7, но важнейший среди них, центр мироздания, в котором конструируется и воспроизводится эпический миропорядок. Тем самым обязательная приуроченность пира к королевскому дворцу подчеркивает его социальную функцию.
Все отмеченные элементы модели героического пира непосредственно связаны и в различных формах воплощают его важнейшую социальную функцию: установление и поддержание миропорядка. Героический социум с его иерархией и раз и навсегда закрепленными связями находит наиболее полное и последовательное воплощение именно в сценах пиршества. Здесь проявляются и подтверждаются уже сложившиеся формы социальных отношений между королем, его дружиной (в поэтическом преломлении —племенем), его родичами и вассалами. Возникают и новые связи, которые, однако, полностью укладываются в традиционные нормы: например, признание Беовульфом своим сюзереном Хродгара, передача Хигелаком Беовульфу земельного пожалования за верную службу и атрибутов власти. Все это происходит во время пиров. Роль пира в
поддержании социального порядка и равновесия особенно выделена в речи Виглафа к дружинникам Беовуль-фа, покинувшим его в роковой битве с драконом:-
Правдоречивый
сказал бы: воистину вождь, наделивший
вас, нестоящих, кольцами золота,
ратными сбруями (ибо нередко
в застольях бражных наряды сечи,
в дружинном зале дарил державный
шлемы, кольчуги, всем, приходившим
в его пределы)...
(Беовульф,2863—2869)
Особый акцент на том, что эти подарки делались во время пира в королевском дворце, как кажется, усугубляет вину дружинников, нарушивших свои обязанности, ибо связи, установленные в этой обстановке, должны быть особенно крепки и нерушимы.
Таким образом, модели героического пиршества присущ ряд обязательных элементов: локализация его в пиршественной палате или королевском дворце — центре эпического мироздания, строительство которого равнозначно творению эпического мира; установление и воспроизведение социальных связей, скрепляющих эпический микрокосм; последовательная ритуализация самого процесса пира при строгой этикетности и традиционности действий персонажей; наконец, функциональная закрепленность этих действий за определенными персонажами.
Вариация этой модели, где социальная функция пира отчетливо доминирует, представлена в героических элегиях. В одиноком существовании безликого и безымянного героя нет и не может быть пиршества: он изолирован от себе подобных, и всякое социальное общение недостижимо для него. Его воспоминания о героическом мире, к которому он исконно принадлежал, связаны именно со сценами пира. Тема пира настойчиво, лейтмотивом, проходит в элегиях как фон, как воплощение прошлого героя и как материальный образ его надежд на восстановление свойственного ему статуса в обществе:
Был изобильный город,
бани многие; крыши крутоверхие;
крики воинские, пенье в переполненных
пиршественных палатах...
(Руины,' 21—23)
..некому ныне
лощить до блеска
чеканные кубки,— ушли герои!
(Беовульф, 2251—2254:)
Как утрата радостей,, пира изображается настоящее героя элегий. Их обретение вновь — символ включения воина в героический мир:
...взыскал, тоскуя по крову,
такого кольцедробителя
далекого или близкого,
лишь бы меня приветил
он, добрый, в доме,
и в медовых застольях
захотел бы осиротевшего
утешить лаской,
одарил бы радостью.
(Скиталец, 25—29)
Для элегий, где характерно устойчивое противопоставление прошлого и настоящего в жизни героя, тема пира обретает черты символа героического прошлого и непосредственно связана с воссозданием эпического мира.
Даже в кратких упоминаниях, разбросанных в элегиях, отчетливо выступают основные элементы модели пира: его приуроченность к королевскому дворцу, зтикетность, социальная значимость. Именно последнее выходит в элегиях на первый план: поддержание связей, объединяющих короля и его дружину в единый социальный организм. Основная причина и сущность трагедии героя элегий — утрата им общественных связей, «исключение» из героического социума. Но именно они и воплощаются в теме пира. Поэтому ее отсутствие в настоящем — одном временном пласте и присутствие в прошлом поэтически значимо и маркирует определенное социальное положение героя в его отношении к эпическому миру.
В более сложном мире религиозного эпоса, который претерпел значительные изменения под влиянием христианской литературной традиции и в сюжетике, и в мировосприятии, и в поэтике, тема героического пира почти не разрабатывается. Верховный сюзерен и правитель мира, раздающий всяческие блага своему воин-СТву — святым — сам бог, и, естественно, формы осуществления связи между ним и его вассалами иные. Непосредственное физическое общение с ним, как с королем героического эпоса, невозможно и потому заменено общением духовным. Узы взаимной верности, сходные по существу со взаимоотношениями короля и дружины в памятниках собственно героического эпоса, реализуются лишь в речах и действиях святых. Это, видимо, одна из причин, по которой в поэмах религиозного эпоса отсутствуют сцены героического пиршества.
Вторая—- заключается в том, что герои не только отделены дистанцией «небесное — земное» от своего1 господина, но и разобщены между собой. Герой каждой из них выступает один против своих (и бога) врагов, он лишь сознает свою Причастность «дружине господней». Но путь испытаний и героического подвига он должен пройти один, доказав свою собственную, индивидуальную преданность господину.
Поэтому тема героического пира возникает и получает отголоски в религиозном эпосе не в форме описаний или сколько-нибудь развернутых упоминаний, но в основном в виде отдельных метафор и сравнений, свидетельствующих о знакомстве авторов этих поэм с самой темой и ее поэтическим содержанием и внутренней символикой.
Другое дело — лагерь противников героя. «Пир Гренделя», описание которого приведено в начале главы, происходит в той же королевской палате, что и пир героев,— Хеороте. Сумрачное, подводное жилище великана не может служить пиршественной палатой даже для «пира наоборот», так как не является центром эпического мироздания, средоточием героического действия.
Мир чудовищ по своей природе асоциален: хотя сказитель, предлагая «родословие» Гренделя, тем самым пытается воссоздать социум противников героя, чудовища в поэме (Грендель, его мать, дракон) лишены каких-либо общественных связей. Озеро, в котором обитают Грендель и его мать, как выясняется позже, населено множеством различных чудовищ, но ни родственные узы, ни социальные связи не объединяют их в единое сообщество, противостоящее сплоченному миру героев. Поэтому пир Гренделя — не установление общественных отношений, а, напротив, их разрушение, не поддержание и закрепление гармоничного миропорядка, а его попрание и уничтожение.
Цепь противопоставлений распространяется практически на все детали описания пира, как на важнейшие, непременные для модели, так и на частные, носящие более случайный характер. Этикетность и стереотипность действий участников пира заменяется полной неупорядоченностью, ситуативной обусловленностью поведения Гренделя. Он осторожно крадется в зал, хватает ближайшего из спящих и жадно и торопливо пожирает его. Ритуализированное героическое действо обращается в свою противоположность, и подчеркнутое сказителем отсутствие регламентированности в поведении единственного участника пира становится не только
отрицанием традиционного этикета мира героев, но и своего рода «антиэтикетом» мира чудовищ.
Утверждение традиционности и регулярной повторяемости как важного признака героического пира также трансформируется в свою противоположность. Набеги Гренделя всегда неожиданны и непредсказуемы. Более того, Грендель не подчиняется принятым обычаям и порядкам: не платит вергельд за убитого, сражается без оружия, т. е. все его поведение строится на «антинормах» поведения героя.
Наконец, вещный мир, столь существенный в модели героического пира, утрачивает значение в изображении «пира чудовищ». Великолепие, пышность, яркость пиршества героев преобразуется в мрачное тайное насыщение во тьме ночи; вместо звона кубков, радостных голосов, песен скопа раздается хруст костей; наконец, вместо традиционного эля — чудовищная пища Гренделя: те, кто еще вчера вечером участвовал в героическом празднестве, ночью становятся его добычей. Натурализм подробностей лишь усиливает и подчеркивает чудовищность пира великана. Таким образом, при сохранении модели пира как таковой в мире чудовищ все ее элементы обретают противоположный знак, обращаются в свою противоположность. И поэтическая, и социальная функции пира перевернуты, сам пир утрачивает свой основной ритуальный смысл как форма социального общения. И это изменение смысловой нагрузки ведет к последовательному противопоставлению всех элементов модели, их инвертированию. Модель пира обретает два варианта, героический и антигероический, прямой и инвертированный.
В поэмах религиозного эпоса в противоположность традиционно-героическому лагерь противников героя предстает единой сплоченной массой, тогда как герой выступает один. Поэтому существование некоего сообщества, хотя и противопоставленного герою, создает предпосылки для изображения этого «антисоциума», что приводит к появлению темы пира именно в описаниях мира противников героя. Наиболее подробно он изображен в поэме «Юдифь»: Олоферн собирает в своем шатре военачальников для пиршественной трапезы
Картина пьяного разгула, попрания традиционных норм поведения передана ярко и живо, что особенно контрастирует со стереотипными приемами описания сцены пира. Как и празднество в Хеороте, пир в шатре Олоферна начинается с приглашения знатных гостей и вождей. Но следующая же деталь открывает серию противопоставлений с «героическим пиром»: вместо неторопливого описания убранства зала, приготовленного для ритуального действа, отмечается лишь пышность украшения пищи, приготовленной для пира, детали временной и недолговечной. Парадный выход короля, неспешное, торжественное размещение гостей «по чину», предуготовляющее долгую трапезу, уступают место торопливым сборам: все боятся жестокого правителя и спешат исполнить его приглашение-приказ, забывая о чинности и порядке. Все поведение участников празднества отметает представление об этикете и упорядоченности: гости «пришли и сели», набросились на эль и пищу, вместо размеренных речей, привычных песен скопа в шатре царят шум и хаос.
Особенно вызывающе поведение самого Олоферна, главного противника героини: оно последовательно противопоставлено нормам, обязательным для образа идеального правителя в традиционном эпосе. Нарушение им стереотипа поведения приходит в прямое противоречие с традиционными формулами «правителя людей»: «властитель народов», «дарящий золото друг воинов» и другими, которые в памятниках героического эпоса применимы лишь к образу идеального правителя, Хрод-гара, Хигелака, Беовульфа. Все поведение Олоферна
немыслимо в мире героев. Он «вопит, орет, хохочет», утратив сдержанность и чинность, подобающие вождю, требует столь же непристойного поведения от своих не менее, чем он сам, злонамеренных сотрапезников.
Не установление и поддержание миропорядка несет с собой этот пир, а его разрушение, хаос беззакония и беспорядка. Общество противников героя, лишенное опоры традиций и упорядоченности, обречено на гибель— не случайно вожди Олоферна названы faege — «обреченными на смерть», «лишенными радости». Это не столько фигуральное выражение, сколько прямое и непосредственное воплощение того, как понимается создателем «Юдифи» роль традиционного миропорядка. Поэтому гибель войска Олоферна и победа Юдифи закономерны и естественны, они логически вытекают из изображения мира Олоферна.
Нарушение гармонии и порядка в героическом мире, как правило, обозначается создателем эпического произведения именно как «антиэтикетное» поведение на пире, несоблюдение принятых обычаев. Вот, например, Хродгар, восхваляя Беовульфа, противопоставляет ему правившего некогда данами Херемода, который
домочадцев разил, сотрапезников,
и покинул мир, вождь неправедный,
в одиночестве...
...гордо властвовал
не во благо им, но к погибели
племени датского. Он, исполненный лютости,
(Беовульф, 1711 — 1715)
Очевидно, что «неправедные дела» Херемода (вспомним упомянутого в первой главе уэссекского короля Сиге-берхта, изгнанного советом знати в 757 г. по той же причине) вершились далеко не только за пиршественным столом. Но для сказителя этот традиционный образ оказывается наиболее полноценным способом описания соответствующей ситуации.
Тема пира в ее «героическом» и «чудовищном» (инвертированном) воплощении является одновременно и одной из наиболее емких и многозначных форм проявления дихотомии героического мира8. Мир англосаксонского эпоса строго двучленен, и все его элементы тяготеют к одному из полюсов, не оставляя нейтральной ни одну деталь. Система противопоставлений охватывает все узловые моменты структуры эпического мира от его пространственных характеристик до внешнего вида героев.
Структура эпического пространства строго подчинена дихотомическому членению мира. Концентрация
действия на двух полюсах обусловливает разграничение пространственных сфер. Хеорот предстает как центр мира героев. На другом полюсе — жилище Гренделя, пещера дракона, шатер Олоферна, место обитания противника героя. Расположенные как будто поблизости (переходы из одного центра в другой не занимают много времени), эти локусы не смыкаются друг с другом, и переход персонажа от одного полюса к другому создает критическую ситуацию. Проникновение Гренделя в Хеорот, дракона в землю геатов, нападение Олоферна создают угрозу героическому обществу и нарушают миропорядок. Появление обитателя этого мира среди людей требует немедленного вмешательства героя. Напротив, проникновение героя в мир чудовищ ведет к очищению занятого ими пространства, его приобщению к героическому миру и возобновлению нормального героического миропорядка9. Не случайно после победы Беовульфа над матерью Гренделя «успокаиваются воды в омуте» (Беовульф, 1630—1631); погибает при кораблекрушении язычник Хелисий, казнивший Юлиану; бежит войско Олоферна, потерявшее своего предводителя.
Враждебность двух миров, их полярность в то же время не предполагают качественного различия в самом характере эпического пространства, иначе была бы невозможна его трансформация из героического в антигероическое и наоборот. В обеих его частях действуют одни и те же законы, происходят равноценные по значимости события (более того, как правило, события в них взаимосвязаны), им свойственны одинаковые предметно-вещные атрибуты. И Хеорот, и палаты Гренделя в равной мере являются центрами мира, противостоящими друг другу. Они связаны между собой единым героическим действием, и отсутствие одного из них лишило бы значения и второй: ведь Беовульф, Юдифь, Юлиана могут проявить себя, обнаружить свой героические качества лишь в борьбе, восстанавливая гармонию эпического мира.
В отличие от мира героев с четкой иерархией социальных связей в традиционном эпосе англосаксов мир чудовищ асоциален. Они находятся вне этики героев, более того, нормы, которыми они руководствуются, являются своего рода отрицанием, инверсией «героической» этики.
Последовательная система оппозиций продолжается и в деталях: красота героя или героини (Беовульфа, Юдифи) противопоставлена уродству и безобразию их противников (Гренделя, дракона, Олоферна); радостная
музыка пиршества — безмолвию жилища изгнанника в элегиях; благородство Бюрхтнота — коварству и алчности викингов и т. д. Поэтому мир чудовищ предстает в целом как инвертированный мир героев. Оба обладают одними и теми же характеристиками, но имеющими знак плюс или знак минус.
Таким образом, эпический мир англосаксов качественно единообразен и представляет структурное целое; присущая же ему дихотомия воплощается в формах инверсии.
Вместе с тем в теме пира проявляются наиболее явственно и представления создателей англосаксонского эпоса о миропорядке, социальной структуре общества, его функционировании. Но поэтическое преломление существенно трансформирует англосаксонскую действительность в устах певца. Тщетны были бы попытки провести прямые параллели между отдельными эпизодами или упоминаниями и конкретными историческими фактами, хотя они и делались не раз10. Да, конечно, Хигелак дарит Беовульфу после его возвращения от данов землю с домами и дворцом—земельные пожалования хорошо известны по грамотам. Да, конечно, захоронение Рэдвальда совершено по обряду, близкому описанному в «Беовульфе», а королевская резиденция Хродгара—Хеорот и какие-то примыкающие к нему постройки, куда Хродгар с домочадцами отправляется ночевать после пира, соответствует археологической реконструкции бурга. Все это так. Однако отсутствие примет исторической эпохи в самих сюжетах «Беовульфа», элегий, поэм на религиозные темы позволяет отнести их к любому времени. Поэтому, хотя жизнь Беовульфа, например, и события, упомянутые в поэме, приурочены к IV—VI вв., исторические реалии и описания уклада жизни относятся и к значительно более позднему времени — VII—VIII вв. Более того, они постоянно изменяются, отражая различные этапы в развитии англосаксонского общества. Каждое поколение добавляет в повествование штрихи настоящего. Благодаря этому настоящее сливается с прошлым, события, имевшие место много веков назад, являются для слушателей такой же реальностью, как и то, что происходит на их глазах.
Нарушение исторической перспективы и принципиальная невозможность сколько-нибудь адекватного отражения одного временного среза в эпических памятни-
ках приводят к тому, что героическое общество как поэтический образ обретает устойчивость и незыблемость основных черт. Наиболее подробно изображенное в «Беовульфе», оно чрезвычайно далеко от общества реального. Лишь одна социальная ячейка отражается в нем: король и его дружина, замещая в поэтической системе все многообразие и сложность социальных связей англосаксонского мира. Идеальный господин и идеальный вассал, свято хранящие взаимную верность и неуклонно соблюдающие свои обязанности, составляют героическое общество. Эта двучленная структура может модифицироваться: господин — дружинный певец, бог — святой, но ее сущность остается неизменной, как не подвержены переменам и узы, скрепляющие это общество. Основанный на справедливости, строгом следовании традиционным нормам, долге верности, героический социум являет картину всеобщего (в его собственных рамках) благоденствия и гармонии — идеализированное воплощение чаяний и устремлений свободного англосакса.
Принципиальная общность (но не тождественность) эпического мира англосаксов в произведениях разных жанров поддерживается и рядом других элементов: двучленностью мира и последовательной противопоставленностью его отдельных элементов, исключительностью по своей значимости событий, происходящих в нем, и т. д. Но особенно существенным представляется понимание героики в различных жанрах эпических памятников, отражающее единство поэтического мировосприятия их создателей. Устойчивые, традиционные черты этой концепции, понимаемой прежде всего как максимально полное, завершенное — вплоть до физической гибели — исполнение долга, абсолютное проявление героической сущности персонажа сохраняются на всем многовековом протяжении существования эпической традиции. Неизменны такие черты героического, как его реализация в действии, масштабность (реальная или мнимая) конфликта, центральное место героя, вокруг образа которого строится повествование. Героический идеал не утрачивает своего основополагающего значения даже для создателей наиболее поздних памятников— исторических песен; в них, как и в элегиях, именно с ним соотносится, им поверяется все изображаемое.
Вместе с тем конкретное воплощение героического в памятниках разных жанров претерпевает немалые изменения. Происходят постепенная индивидуализация, приземление героики, обращение от абстрактных времен-
ных сюжетов к конкретно-историческим темам. Вместо судеб народов (пусть и состоящих подчас — в поэтическом изображении — из трех-четырех десятков человек), как в традиционном героическом эпосе, рассказчика начинает все в большей степени интересовать персональная судьба героя, и лишь его одного. В элегиях герой заслоняет собой весь мир, в религиозном эпосе конфликт ограничивается личной борьбой святого с дьяволом или полчищами язычников, и значение этого противоборства состоит не в его воздействии на судьбы христианского мира (обращение язычникев, укрепление христиан в вере предрешено и не может вызвать сомнения), а в его личной сопричастности извечному сражению между богом и сатаной и в индивидуальной победе святого, ведущей его к вечности. Лишь в малой степени соотносит поэт события исторических песен с ходом борьбы англичан со скандинавами. На первом плане — судьба героя, и лишь через ее призму видится ему все происходящее.
Эта общая тенденция к «приземленное™», конкретизации и индивидуализации повествования обусловила и другие изменения героического мира: его внешнего облика и предметных атрибутов, постепенное уменьшение количества оппозиций, членящих мир на два противоборствующих лагеря, вплоть до уничтожения внешних различий между воинами, верными Бюрхтноту и предавшими его. Теряют свою героическую условность пространство и время, так что в исторических песнях они максимально, насколько это возможно для художественного произведения, сближены с реальностью. Тем не менее все эти отличия представляются не более чем вариантами единого в своей сущности мира эпической поэзии англосаксов, мира героики и идеального общества, зиждущегося на неуклонном выполнении героического долга.
Заключение
Более ста лет продолжается изучение исторических основ эпических памятников: русских былин, юнацкого эпоса южных славян, французских «песен о деяниях», верхненемецких поэм о Дитрихе Бернском, германского сказания о нибелунгах, англосаксонского «Беовульфа». И хотя ныне историзм героического эпоса и, шире, фольклора сомнений не вызывает1, его формы и характер в различных фольклорных жанрах требуют дальнейших исследований. Методы старой исторической школы (и в отечественной, и в зарубежной науке), представители которой основную задачу видели в установлении конкретных исторических событий и лиц, запечатленных в отдельных эпических произведениях, уступили место более широкому пониманию фольклорного историзма как своеобразного отражения действительности. Причем способы отражения, степень охвата действительности, вычленение каких-то определенных ее сторон—все эти и многие другие особенности определяются жанровыми признаками произведения.
Героический эпос европейских народов воплотил историческое сознание его создателей, но лишь в редких случаях (как, например, в «Песни о моем Сиде», «Песни о Роланде», песнях Косовского цикла) можно установить исторические события, легшие в основу или послужившие импульсом для возникновения эпического памятника. Тем менее это возможно для архаических форм эпоса, формировавшихся в догосударственную или раннегосударственную эпоху, сюжеты которого внеисторичны по своей сути: борьба с чудовищами («Беовульф»), происхождение тех или иных культурных ценностей («Калевала») и т. д.2 Однако отсутствие «исторического ядра», т. е. события, которое стало бы основой для формирования сюжета, отнюдь не лишает эти произведения историзма. Их поэтический строй, образы, система ценностей, наконец, созданный в них мир являются поэтическим осмыслением и воплощением действительности3.
Многочисленны и разнообразны способы преломления истории в англосаксонском эпосе, о многих из них речь шла выше. Одним из них является уже само зарождение жанровой дифференциации англосаксонского эпоса, отражающей усложнение духовной жизни в раннефеодальных государствах Британии: героический эпос, ранее синкретически соединявший эстетические, этические, исторические и другие представления своих творцов, перестает удовлетворять разносторонние духовные запросы общества. Поэтому возникают драматические героические элегии, уводящие в сферу человеческих эмоций; поэмы на религиозные сюжеты, воплощающие христианский идеал героического; исторические песни, непосредственно ориентированные на изображение и запечатлейте исторических событий.
Другой способ, наиболее близкий современным историкам и потому наиболее изученный,— отражение в эпических памятниках конкретных реалий, которые могут быть локализованы во времени и пространстве4. Так, поражают своим сходством обряды погребений: выявленный археологами в Саттон-Ху и описанный в поэме «Беовульф». Частым упоминаниям в англосаксонских судебниках и грамотах о королевских земельных пожалованиях в поэме соответствует дар, полученный Беовульфом от Хигелака в знак признания его подвигов на датской земле: Хигелак дарит герою 7000 гайд земли5 и дом с престолом (bold ond brego-stol; Беовульф, 2194—2195).
Эти реалии далеко не всегда отражаются в эпических памятниках в столь прямой форме, как в приведенных примерах. Значительно чаще они поэтически осмыслены, преобразованы и вплетены в художественную ткань памятника. Вот лишь один из многих возможных примеров. В судебниках VII—VIII вв. красной нитью проходит тенденция к замене кровной мести системой вергельдов — компенсацией за различные преступления против свободного человека. Своеобразно преломление этого исторического процесса в поэме «Беовульф». В обществе героев безраздельно господствует принцип денежной компенсации: упоминается выкуп, который Хродгар заплатил за Эггтеова, отца Беовульфа; Хродгар вручает Беовульфу для передачи Хигелаку как верховному сюзерену (вот еще одна историческая реалия, отражающая отношения сюзеренитета) вергельд за убитого Гренделем воина-геата; упоминаются вергельды, выплаченные при примирении фризов и данов (в замке Финна), данов и хадобардов и т. д. Менее последовательно этот принцип осуществляется в отношениях членов героического общества с их врагами: в ходе борьбы геатов и шведов, о которой подробно рассказывается в нескольких отступлениях, убийство, как правило, карается убийством, денежная
компенсация выплачивается лишь при заключении мира. Мстителем при этом выступает сам герой, возглавляющий идеальное эпическое общество,— Беовульф, который посылает вслед шведу — убийце Хардреда, сына Хигелака, свою дружину (Беовульф, 2390—2395). В мире же противников героя продолжает царить кровная месть: Грендель не платит вергельдов за убитых данов, мать Гренделя мстит за смерть сына, убивая датского эрла, дракон в отместку за похищенную чашу сжигает своим дыханием селения геатов. Сказитель отказывает чудовищам в возможности приобщиться к новым социальным установлениям. Художественное переосмысление явлений, происходящих в обществе, ведет к полярному — в соответствии с дихотомической структурой героического мира — противопоставлению: одобренные и принятые в обществе элементы нового становятся неотъемлемой частью мира эпических героев — отжившее старое, приобретшее негативную оценку, остается принадлежностью мира чудовищ6.
Этот ряд параллелей можно увеличить во много раз: и «Беовульф», и элегии, и поэмы религиозного эпоса, и тем более исторические песни насыщены историческими и бытовыми приметами, которые делают героический мир эпоса узнаваемым для сказителя и слушателей. Но при всем их значении важнейшей формой отображения действительности, опосредованной художественным сознанием творца эпоса, является сам героический мир эпических памятников. Он строится по образу и подобию мира действительного, в нем как а капле воды отражается противоречивая жизнь общества, в котором складывается эпическое произведение.: «Эпос — это история в народной памяти и предвзятой; идеализации, но его предвзятость поэтическая...»7—^ писал сто лет назад выдающийся русский филолог-компаративист А. Н. Веселовский. .«Поэтическая идеализация», т.е. художественное обобщение, преображает действительность и творит новый, эпический мир по законам героического: мир условный, но насыщенный реальными приметами своего времени; возвышенный, но черпающий понимание возвышенного, отталкиваясь от будничного, повседневного; мир, своей героикой противостоящий обыденности жизни.


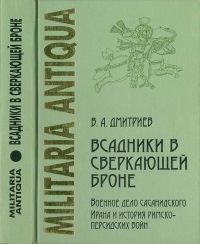
Комментарии к книге «Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе», Елена Александровна Мельникова
Всего 0 комментариев