Hаум Синдаловский Мифология Петербурга Очерки
Путешествие в мир петербургского городского фольклора (вместо предисловия)
Принято думать, что Петербург, возникший на пустом месте, не достигший и трехсотлетнего возраста, непростительно юный по сравнению с другими городами подобного ранга, не может иметь ни глубоких корней, ни достаточно древней родословной и как следствие – своего, только ему присущего фольклора. До недавнего времени считалось, что он и не имел его. А все, что так или иначе было похоже на фольклор, снисходительно называлось байками, которым просто отказывали в легальном существовании. В лучшем случае их не замечали, в худшем – если замечали – запрещали. Об их широкой публикации речи быть вообще не могло. Исключение составляли разве что исторические песни да современные частушки, чья жизнеутверждающая мощь должна была знаменовать высокий уровень культуры простого народа.
Между тем такой фольклор – с точным архитектурным, топонимическим, географическим или историческим петербургским адресом – появился едва ли не с самого рождения города. Он развивался в самых разных ипостасях – легендах и преданиях, частушках и анекдотах, пословицах и поговорках, загадках, считалках, детских страшилках…
Летучий по своему характеру, фольклор мог мгновенно родиться и тут же исчезнуть. Мог остаться во времени, передаваясь из уст в уста, на ходу совершенствуясь и отшлифовывая свою форму. Мог быть подхвачен и использован в литературе, будучи в этом случае навеки сохраненным, но затерянным в многомиллионностраничной Книге о Петербурге. Оставалось только извлечь его либо из совокупной памяти петербуржцев, либо из литературных источников, либо из разговоров окружающих.
Первая запись городского петербургского фольклора, положившая начало моему собранию, появилась случайно.
В ту пору, чуть ли не два десятилетия назад, я читал цикл лекций по истории и архитектуре Октябрьского района Ленинграда. Однажды разговор зашел об интереснейшем памятнике – мраморной верстовой пирамиде на площади Репина, бывшей Калинкинской. Пирамида была установлена в 1774 году архитектором Антонио Ринальди и известна в народе как «Коломенская верста». Она стоит на правом берегу Фонтанки, выложена из прекрасных кусков любимого архитектором материала – мрамора. Одна из плоскостей украшена солнечными часами, другая обезображена загадочными и непонятными проржавевшими крепежными деталями. Я рассказывал своим слушателям романтическую историю о том, как в 1762 году, за двенадцать лет до появления верстового столба, Екатерина Алексеевна, жена императора Петра III, совершив, как тогда говорили, революцию и свергнув своего мужа, в сопровождении Екатерины Дашковой и братьев Орловых направлялась из Петергофа в Петербург. Остановившись именно на этом месте, она приняла присягу на верность созванных барабанным боем измайловцев и после короткого отдыха проследовала в Зимний дворец для восшествия на престол, о чем и сообщала спустя двенадцать лет бронзовая доска, укрепленная на верстовом столбе: «Императрица Екатерина останавливалась на сем месте…» и т. д. В конце XIX века доска была утрачена, а на обелиске остались крепежные болты. Для большей убедительности рассказа я ссылался на изданный в 1965 году справочник «Памятники Ленинграда и его окрестностей». Его авторы включили верстовой столб в раздел «Памятники полководцам и государственным деятелям России». Это льстило патриотической гордости и слушателей, и моей, поскольку памятников в привычном понимании этого слова вблизи площади Репина нет. Да и с архитектурными шедеврами петербургской Коломне не очень-то повезло. Сальный буян – прекрасное творение Тома де Томона в створе Лоцманской улицы – разобрали еще в 1914 году; Покровский собор, один из образцов раннего классицизма, связанный с именем архитектора Ивана Егоровича Старова, да еще упоминаемый Пушкиным в «Домике в Коломне» и, может быть, потому называемый в народе «Пушкинским», уничтожен в 1930-х годах. А тут – памятник, да еще исторический. Памятник восшествия на престол.
Каково же было мое разочарование, когда позднее я выяснил, что все это не более чем легенда. Красивая. Романтическая. Но легенда. Что же было на самом деле? Оказывается, верстовой столб, обозначающий начало отсчета расстояния от Петербурга до Петергофа, был установлен в 1774 году на границе города, которая в то время проходила по левому берегу Фонтанки. Он стоял справа от Старо-Калинкина моста при съезде на Петергофскую дорогу, чему есть и документальное подтверждение: именно там расположил его художник Гампельн в 1825 году на десятиметровой «Панораме Екатерингофского гулянья». В 1907 году столб помешал прокладке конно-железной дороги в Нарвскую часть Петербурга. Вот тогда-то его разобрали, перенесли и вновь аккуратно собрали уже на правом берегу реки. Но поскольку на новом месте он уже не мог быть точкой отсчета, то об этом и сообщили отцы города, укрепив на нем бронзовую доску с пояснением: «Сооружен в царствование Екатерины II в 83 ½ саженях от прежнего места». Смысл действий городских властей состоял в том, чтобы не исказить правду. В самом деле, ведь второй верстовой столб находился уже не в версте от первого, а на расстоянии 1 версты и 83,5 сажени.
Дело даже не в том, что была восстановлена некая довольно призрачная историческая справедливость, хотя верстовой столб в качестве «Памятника восшествия на престол» и исчез из очередного издания упомянутого справочника. Дело в том, что, как оказалось, ни предание, ни исторический факт не противоречили друг другу и не исключали один другого. Они просто по-разному освещали одни и те же события. В одном случае этот свет был официальный, а потому не допускающий двусмысленностей и кривотолков, как бы свет извне, в другом – приватный, личный, интимный, как бы свет изнутри. А поскольку это освещение происходит одновременно, то история оказывается более выпуклой, многогранной, обогащенной.
В моей картотеке городского петербургского фольклора легенда о мраморной верстовой пирамиде стала первой. Сейчас эта картотека насчитывает более семи тысяч карточек.
Если согласиться с утверждением, что легенда – это свидетель и источник истории, а история, как известно, – это последовательное описание событий, то не попробовать ли все эти свидетельства выстроить в хронологическом порядке? Уже первые попытки дали поразительные результаты. Мифов, преданий и легенд оказалось достаточно, чтобы заполнить практически равномерно почти все отрезки петербургской истории.
Уже в 1730-х годах была зафиксирована легенда, связанная с основанием Петербурга. Согласно ей, еще на заре нашей эры Андрей Первозванный, один из двенадцати апостолов, проповедуя христианство, дошел до Невы и Волхова. Идя вдоль берегов, он увидел в небе сияние, означавшее, что здесь будет возведен царствующий град. Скорее всего эта легенда имела официальное происхождение. Она была нужна как идеологическое оружие в борьбе с противниками петровских реформ. Этим же целям служило и предание о том, что битва Александра Невского, причисленного к лику святых и ставшего небесным покровителем Петербурга, происходила там, где впоследствии была построена Александро-Невская лавра, хотя на самом деле она произошла гораздо выше по течению Невы.
Но были легенды и народного происхождения, рожденные среди разносчиков Сытного рынка, грузчиков на Троицкой пристани и землекопов на строительстве Петропавловской крепости. Рассказывали о немецком происхождении Петра, о тайной любви императрицы к камергеру Монсу. Оглядываясь по сторонам, шептались о любимце императора Алексашке Меншикове, который был бит императором дубиною за то, что, вопреки воле царя, построил здание Двенадцати коллегий перпендикулярно Неве только потому, что император в награду за строительство обещал своему любимцу землю рядом со стройкой, и если бы он строил вдоль Невы, то земли ему причиталось бы с гулькин нос.
Расхожей темой раннего петербургского фольклора долгое время оставались наводнения. Они с удручающим постоянством посещали Петербург, став постоянным кошмаром населения. Пожалуй, одной из первых стала распространяться легенда о том, что еще задолго до основания Петербурга жители этих проклятых болот никогда не строили прочных жилищ. Едва только вода в Неве начинала подниматься, они мгновенно разбирали легкие строения, превращая их в удобные плоты. Забросив на плоты нехитрый скарб, они привязывали их к верхушкам деревьев, а сами спасались на возвышенных местах, дожидаясь, пока вода вернется в свои берега.
Наводнения происходили, как правило, осенью, иногда зимой. Но первое случилось в августе 1703 года – время в петербургском календаре небывалое для такого разгула стихии. И это первое наводнение было страшным, если учесть, что тогда достаточно было сорока сантиметров подъема воды, чтобы вся территория Петербурга превратилась в сплошное болото. В глазах многих это был Божий знак. Предупреждение. Царь пренебрег им. Но мало ли было предупреждений, которые игнорировал Петр!
Едва ли не сразу после смерти Петра Великого начало сбываться зловещее предсказание, рожденное, по одной легенде, в келье заточенной в монастырь Евдокии Лопухиной, первой жены Петра, по другой – в пыточных застенках Петропавловской крепости во время следствия по делу царевича Алексея, по третьей – в раскольничьих скитах среди обиженных и оскорбленных, молчаливых и воинствующих врагов петровских преобразований: «Быть Петербургу пусту!» Юный император Петр II в 1728 году спешно покидает Петербург и обосновывается в первопрестольной. Петербург постепенно приходит в запустение – разваливаются дома, торопливо подведенные под крыши, дороги зарастают болотной травой, из города валом валит купеческий и мастеровой люд. Еще чуть-чуть – и быть Петербургу пусту. Но неожиданно для всех 14-летний император умирает. Вступившая на престол императрица Анна Иоанновна торжественно возвращается в Петербург. Несбывшимся остается еще одно предсказание.
С этого времени столичная жизнь характеризуется известной устойчивостью и определенной предсказуемостью, на что фольклор чутко реагирует. Это вовсе не значит, что боязливый интерес к стихии пропадает, однако значительная часть внимания фольклора переключается на события не столько разрушительного, сколько созидательного свойства. Появляется интерес к строительству и архитектуре, к жизни царского двора, к политическим и дворцовым интригам. Возникают целые циклы легенд, благодаря которым, с одной стороны, любимцы истории становятся популярны в народе, с другой – народные герои занимают в истории свое место.
Так цикл легенд и мифов о княжне Таракановой сделал эту героиню политической интриги широко известной и любимой в народе. Пожалуй, самой впечатляющей легендой этого романтического цикла следует считать легенду о смерти графа Алексея Орлова, случившейся в Москве в 1807 году. Смерть его была тяжела, а мучения страшны и нестерпимы. Говорят, герой Чесмы приказывал домовому оркестру играть как можно громче, чтобы заглушить его отчаянные вопли, вызванные невыносимыми болями. Легенда утверждает, что это была расплата за подлость по отношению к княжне Таракановой, молодой женщине, жестоко и низко обманутой графом. По приказанию Екатерины II Алексей Орлов отправился в Европу, чтобы любой ценой вернуть в Петербург самозванку, объявившую себя дочерью Елизаветы Петровны. Орлов выполнил поручение императрицы. Княжна была привезена в Петербург, заточена в Петропавловскую крепость, где, беременная от графа, умерла в 1775 году.
В то же время никому не известная жена придворного певчего Андрея Петрова Ксения, благодаря огромному количеству легенд о ней, стала в известном смысле исторической личностью и впоследствии была причислена к лику святых. Легенды о ней продолжают возникать до сих пор, а мифическая жизнь Блаженной Ксении Петербургской прослеживается на протяжении уже более двух столетий. Святая Ксения появляется во все кризисные моменты петербургской истории, предупреждая об опасности, исцеляя больных, спасая раненых, помогая бедным и страждущим. Часовня Ксении на Смоленском кладбище давно уже превратилась в петербургскую Мекку, а сама она нет-нет да появляется, согласно одной из современных легенд, на улицах сегодняшнего Петербурга. Попытки искоренить культ этой петербургской святой успеха не имели даже в самые страшные времена сталинских репрессий. В 1950-х годах ленинградские власти решили устроить в часовне Ксении сапожную мастерскую. Могилу Ксении замуровали и построили над ней настил. На нем и работали мастера. Но ни одного гвоздика не дала им забить Божья угодница. Работали, как на трясине. Все валилось из рук. Тогда решили организовать в часовне скульптурную мастерскую для изготовления парковых украшений типа «Девушка с веслом» или «Женщина с винтовкой». Но и из этого ничего не вышло. Как ни запирали мастера, уходя домой, часовню, а наутро – замки целы, а вместо скульптур – одни черепки.
Пожалуй, с известной долей уверенности можно утверждать, что степень заинтересованности фольклора той или иной личностью характеризует значение последней для истории. Наряду с именами особ царской крови в фольклоре в равной, а то и в большей степени мелькают имена, ставшие славой и гордостью Петербурга, да и всей России. Это лишний раз подтверждает мысль о том, что народ писал свою – параллельную официальной – историю, не только не уступая последней в выборе имен и событий, но и совпадая с ней в этом. В частности, прижизненных легенд и посмертных преданий о Пушкине так много, что это требует отдельного разговора. Хочется только подчеркнуть одну мысль, с удивительной настойчивостью и последовательностью проходящую через весь фольклор о Пушкине: поэт был убит преднамеренно, убийство готовилось заранее и виновен в этом высший свет.
Согласно одной легенде, поэту подсунули незаряженный пистолет. Обманули. Согласно другой, на Дантесе была под мундиром кольчуга, согласно третьей – жандармы, которые знали о дуэли и должны были предотвратить ее, поехали в другую сторону. И так далее, и тому подобное.
На Невском проспекте чуть ли не каждое здание хранит таинственные предания или легенды. Так, огромный дом, построенный зодчим M. М. Перетятковичем в 1912 году для купца 1-й гильдии, известного банкира М. И. Вавельберга и ныне занятый кассами Аэрофлота, может напомнить о том, что, принимая дом от строителей, банкир сделал только одно замечание. Увидев надписи на дверях «Толкать от себя», он заявил: «Это не мой принцип. Переделайте на „Тянуть к себе“».
Известна интригующая легенда о золотой люстре Елисеевского магазина, якобы оставленной бежавшим после революции за границу хозяином.
А литературное кафе, что на углу Мойки и Невского проспекта, давно оберегает тайну смерти Петра Ильича Чайковского.
Чудовищный вал торжествующего злодейства прокатился по Петербургу в 1917 году. Фольклор мгновенно на это откликнулся. Родилась легенда о некоем знатном американце, который, перед тем как уехать из революционного Петрограда, вопрошал: «На что вам, большевикам, такой прекрасный город? Что вы с ним будете делать?»
С этого времени ленинградская легенда окончательно теряет атрибуты присущего ей позитива. На светлом фоне ликующего оптимизма школьных учебников и институтских курсов государственной истории звучат темы разрушения и террора, опасности и тревоги за судьбу города. Появляются легенды о предложениях Америки купить то Исаакиевский собор в обмен на хлеб для голодающего Поволжья, то – решетку Летнего сада в уплату долга за сто паровозов для развития социалистической индустрии. Исчезает в печах одного из металлургических заводов Памятник Славы в честь побед отечественного оружия в русско-турецкой войне 1877–1878 годов, возведенный архитектором Гриммом перед Троицким собором в ротах Измайловского полка. Тут же появилась легенда. Исчезновение памятника, рассказывает она, связано с государственным визитом Ворошилова в дружественную Турцию, которая будто бы сочла оскорбительным для себя существование в далеком Ленинграде постоянного напоминания о своем еще сравнительно недавнем поражении.
Судьба Памятника Славы была решена. Да и сам Измайловский всей гвардии собор, построенный великим зодчим Василием Петровичем Стасовым, как об этом рассказывает другая легенда, должен был быть перестроен в крематорий. Не хватило времени. Разразилась война. Было не до того.
Начались бомбежки и артобстрелы. Горели продовольственные склады. Замкнулось кольцо блокады. Усиливался голод. Все рушилось. Кроме стойкости ленинградцев, кроме их веры в конечную победу. Сейчас многие спорят о том, что защищали голодные и изможденные холодом ленинградцы. Советскую власть? Естественное право на жизнь? Город? Спорить бесполезно. Скорее и то, и другое, и третье.
Попробуем хотя бы мельком взглянуть на фольклор той поры. Вот только некоторые темы, которых он коснулся. В подвальных этажах печально знаменитого «Большого дома» на Литейном, несмотря на полное отсутствие электроэнергии даже для промышленных предприятий, выпускавших снаряды для фронта, исправно крутились жернова страшной мельницы, перемалывавшей замученных и расстрелянных в застенках НКВД… Английские моряки, прибывшие в блокадный Ленинград с дружественной делегацией, зашли однажды в закрытый спецмагазин, адрес которого им указали в Смольном. И не было границ их удивлению, рассказывает легенда, когда они увидели там обилие высококачественных товаров, предназначенных для партийных функционеров… В 1942 году в одном из подвалов осажденного Ленинграда нашли несколько бочек отличного французского вина, которое могло бы спасти жизнь и здоровье многим блокадникам. Однако Жданов, как утверждает легенда, решил преподнести это вино Сталину в день победы. Легенда рассказывает, что вино в результате неумелого хранения через три года прокисло, и Сталин не смог воспользоваться припрятанным от блокадников НЗ.
Гораздо позже фольклор возвращается к традиционным темам, одна из которых – подземные ходы. Интерес к ним народное творчество проявляло на протяжении всей истории Петербурга. По уверениям знатоков, общая протяженность этих ходов составляет чуть ли не 450 километров. Практически все они легендарны, то есть не имеют документального подтверждения. Только из Зимнего дворца, если верить легендам, в разные точки города ведут одиннадцать подземных ходов. Подземные ходы, по слухам, соединяли три важнейших городских учреждения – Смольный, «Большой дом» и тюрьму «Кресты». Свои подземные ходы молва приписывала Михайловскому замку и церкви Воскресения Христова, известной в народе как «Спас-на-крови». Сеть подземных ходов, утверждает фольклор, есть в Кронштадте и в Павловске, в Петергофе и в Царском Селе.
Первая петербургская пословица появилась едва ли не одновременно с рождением города. Ее связывают с именем Ивана Балакирева, прославленного шута Петра I. Будто бы он в ответ на вопрос царя: «Что говорит народ о Петербурге?» – ответил: «С одной стороны – море, с другой – горе, с третьей – мох, а с четвертой – ох!» И, конечно, получил под хохот придворных четыре полновесных удара знаменитой царской дубинкой: «Вот тебе – море, вот тебе – горе, вот тебе – мох, а вот тебе – ох!» Но фраза сохранилась, обрела крылья и вошла в золотой фонд петербургской фразеологии.
С некоторой натяжкой, но все же можно утверждать, что пословицы первых десятилетий Петербурга как бы фиксировали этапы и формулировали итоги непрерывного соперничества между двумя столицами. «Москва создана веками, Питер – миллионами», «Питер строился рублями, Москва – веками», «Славна Москва калачами, Петербург – усачами», «Питер – город, Москва – огород», «Москва бьет с носка, а Питер бока повытер», «В Питер – по ветер, в Москву – по тоску».
И это только фрагменты полемики между Петербургом и Москвой, полемики, длящейся с переменным успехом до сих пор, то затухая, то вновь вспыхивая, доходя порою до крайностей, типа кичливого и амбициозного «Нам Москва не указ» со стороны Петербурга и пренебрежительно-снисходительного «Что за петербуржество?!» – со стороны Москвы. Похоже, этот спор никогда не закончится. В недавно услышанной фразе мне даже почудилась некая надежда на вмешательство в этот спор каких-то высших сил: «Отольются Москве невские слезки».
Известный вклад в эту перепалку внесли и писатели, по большей части петербуржские, оставившие на поле брани немало метких слов и крылатых выражений, ставших затем афоризмами и пословицами.
Между тем жизнь шла своим чередом. Вопреки предсказаниям и пророчествам Петербург стремительно рос и развивался. Его население постоянно увеличивалось. Если первых жителей приходилось силой, с помощью царских указов, поименных сенатских списков и других насильственных мер заставлять жить в новой столице, то очень скоро Петербург становится центром притяжения тысяч крестьян и ремесленников, торговцев, порвавших с землей, отчим домом, семьей и пытавшихся найти постоянный заработок в столице. Появляются поговорки: «От каждого порога на Питер дорога», но в то же время: «В Питер с котомочкой, из Питера с ребеночком».
Работой в столице гордились. Разочарование приходило позже. Естественный отбор был скор и жесток. Приходилось признать, что «Хорош город Питер, да бока повытер», и «Питер кому город, а кому ворог». А самое главное, знали и понимали, что «В Петербурге денег много, только даром не дают». Все всё знали и все всё понимали, однако остановить поток искателей счастья было невозможно, и уже в середине XIX века приходилось вслед за фольклором признать, что «Псковский да витебский – народ самый питерский».
Характерно, что в это время героями пословиц и поговорок становятся столичные предприятия. С одной стороны, в фольклоре осталось: «Что ни церковь – то поп, что ни казарма – то клоп, что ни фабрика – то Кноп», где в один ряд с «опиумом для народа» и клопами – бедствием, сопутствующим нищете, поставлен известный владелец многих текстильных предприятий, в том числе бумагопрядильной мануфактуры, ныне фабрики «Веретено», барон Кноп. С другой стороны, петербуржцы на вопрос: «Как дела?» гордо отвечали: «Как у Берда, только дым пожиже, да труба пониже». Лучшую рекламу для основанного Чарлзом Бердом металлургического производства, ныне завода «Адмиралтейские верфи», вряд ли можно придумать.
Такая же своеобразная реклама была и у Экспедиции заготовления государственных бумаг, ныне фабрики «Гознак». Передовое для своего времени специализированное предприятие по выпуску бумажных денег и ценных бумаг было построено в начале XIX века на левом берегу Фонтанки у Египетского моста. Репутация этой фабрики среди петербуржцев была так высока, что в городе сложилась своеобразная формула ворчания. При просьбе дать денег взаймы, петербуржцы уклончиво отвечали: «У меня не Экспедиция заготовления бумаг».
Увековечены в городском фольклоре не только предприятия, но и предприимчивые деловые люди, оставившие тот или иной след в жизни города. Например, купец 1-й гильдии Василий Эдуардович Шитт, получивший право на винную торговлю в рабочих районах города: «Шитт на углу пришит» и «В Питере все углы сШиты»; и поставщик соли двора его величества А. И. Перетц, про которого снисходительно шутили: «Где соль, там и Перетц».
Да уж, соли и перца петербургской фразеологии не занимать. Доставалось всем – и царям, и холуям. Не успели петербуржцы привыкнуть к памятнику Николаю I на Исаакиевской площади, как тут же было подмечено, что установлен он на одной оси с памятником Петру I, и пошла гулять по городу пословица: «Дурак умного догоняет, да Исаакий мешает».
Архитектурные и скульптурные доминанты Петербурга, одни названия которых вызывают в сознании жителей города вполне сложившиеся художественные образы, не требующие дополнительной расшифровки, все чаще становятся материалом для пословиц и поговорок. «Всякий сам себе Исаакий», «Легче Медного всадника уговорить», «Сенат и Синод живут подАрками», «Плюс-минус Нарвские ворота»… Сенат и Синод, объединенные величественной аркой над Галерной улицей, для петербуржцев всегда были символами взяточничества и коррупции. А знаменитые Нарвские ворота, действительно, давали повод для ассоциаций, связанных с приблизительностью, неточностью. Оказывается, первые триумфальные ворота, названные Нарвскими, появились в 1814 году около Обводного канала. Они предназначались для торжественной встречи воинов – победителей Наполеона, возвращавшихся из Франции. Строил их архитектор Джакомо Кваренги. Но построенные из недолговечных материалов – дерева и алебастра, ворота вскоре обветшали. И тогда их решили возобновить. Новые триумфальные ворота возводил уже другой архитектор – В. П. Стасов. Изменено было и место установки ворот. Иным был и материал, на этот раз – кирпич и медь. Таким образом, торжественно открытые в 1834 году Нарвские ворота были как бы и те, и не те. Приблизительно те… Так появилась в Петербурге известная формула приблизительности, неточности.
Постоянно разрастаясь, Петербург последовательно включал в свои границы вначале городские окраины, затем – ближайшие пригороды, а часто и целые поселки и деревни. Все это так или иначе отражалось в фольклоре, в том числе – в городской фразеологии. Когда в бывшем поселке Рыбацком началось массовое жилищное строительство, то получение квартиры в этом удаленном районе города называлось не иначе, как «Рыбацкое счастье». Если петербуржцу надо сказать, что времени еще вполне достаточно, он может воспользоваться недавно появившейся поговоркой: «Даже из Купчина можно успеть».
История Петербурга-Петрограда-Ленинграда окрашена целым спектром чувств и эмоций – от отчаянья и надежды в периоды смут и несчастий до ликующей радости в дни побед и успехов. Следы этой радуги переживаний легко обнаружить в петербургской фразеологии. Это и известная формула общности: «Братцы-ленинградцы», и присказки, рожденные в дни неуверенности и сомнений первых лет перестройки: «С дамбой ли, без дамбы – все равно нам амба», «Жить бы на Фонтанке, но с видом на Манхеттен», и, наконец, формула переходного времени: «Уже не Одесса, но еще не Петербург».
В этой связи хочется ненадолго вернуться на сто лет назад. В 1880-х годах петербургская статистика отметила угрожающий рост самоубийств.
Причем, особенно пугало, что это было связано с Невой. Отчаявшиеся неудачники, проигравшиеся авантюристы, отвергнутые влюбленные недолго думая топились. Это немедленно стало темой городского фольклора. Но обратите внимание, какой изящный эвфемизм предложила петербургская фразеология взамен грубого «утопиться»: «Броситься в объятия красавицы Невы».
Топонимика, что в буквальном переводе с греческого означает название или имя места, всегда представляет некое дуалистическое единство официального и неофициального. Наряду с формальным названием того или иного городского объекта, зафиксированным в справочниках и путеводителях, на городских картах и уличных указательных табличках, зачастую существовало другое, а нередко и третье, и четвертое – народное, равно известное среди населения. Причем, если официальное имя подвергалось критике, доходящей порой до требований изменения, то неофициальное принималось, как правило, безоговорочно, точнее – либо просто не приживалось и мгновенно исчезало из употребления, либо приживалось и тогда становилось равноправным с официальным.
Петербург в этом смысле исключения не составил. Более того, история его топонимики и начиналась с просторечных, народных названий, ибо первые указы о наименовании улиц появились только в конце 1730-х – начале 1740-х годов. Причем чаще всего они просто фиксировали бытовавшие уже многие годы народные названия. Каменный остров, остров Голодай, Моховая и Гороховая улицы и многие другие названия задолго до появления на городских планах существовали в повседневном обиходе. Однако далеко не всем фольклорным топонимам была уготована такая счастливая судьба. Многие так и остались на слуху, хотя, к счастью, не исчезли бесследно. Устная память поколений сохранила «Козье болото» – местность в конце Торговой улицы в Коломне, «Лягушачье болото», на котором Екатерина II, по преданию, услышав из уст гонца именно на этом месте долгожданную весть о победе русского флота под Чесмой, повелела выстроить Чесменский дворец, «Горячее поле» – вечно дымившая городская мусорная свалка вдоль Царскосельской дороги, «Стеклянный городок» – рабочая слободка, построенная владельцами стеклянного и зеркального заводов на территории нынешней Глазурной, Глиняной, Фаянсовой и Хрустальной улиц.
Преимущество народного имени часто оказывалось настолько очевидным, что в официальных источниках закреплялись порой даже искаженные, неправильные, с точки зрения языковых законов, варианты. Так, на Топонимической карте Петербурга появились улицы Моховая и Зеленина, Лештуков переулок, Аларчин мост.
Фольклор, однако, менее всего озабочен тем, попадет ли очередное его изобретение в официальный топонимический список. Тем более, что фольклор вообще, а петербургский в особенности, отличает подчеркнутая, демонстративная антиофициальность, своеобразное фрондерство, откровенная оппозиционность. Его постоянное стремление разрушить, преступить общепринятые идеологические нормы и представления в конце концов оказали городу неожиданную услугу. Возник многотысячный, постоянно пополняющийся словник наименований, несущий колоссальную информационную, смысловую и психологическую нагрузку. Без этого фольклорного топонимического ряда образ Петербурга обеднел бы и потускнел, стал бы таким же бедным, как иные районы, проштампованные однообразными, никак не связанными с историей, географией или бытом города топонимами типа Белградская, Будапештская, Бухарестская… Наставников, Ударников, Передовиков… Крыленко, Дыбенко, Овсеенко… и так далее. Народ безошибочно окрестил эти районы «Страной дураков», «Петербургскими хрущобами», «Полями идиотов».
Исключительная изобретательность фольклора при этом не была самоцелью. Просто потребность дать имя порождала несколько вариантов, а общеупотребительным становился один (редко – два-три), но наиболее острый по форме и наиболее точный по содержанию. Так, обелиск на площади Победы стал называться «Стамеской», но в то же время и «Мечтой импотента». Памятник Ленину в ста метрах от площади на Московском проспекте – «Ленин в исполнении Махмуда Эсамбаева». И впрямь, если смотреть на памятник из окон движущегося транспорта, то Владимир Ильич чем-то напоминает танцующего Махмуда. Надо сказать, программа тотальной идеологизации Ленинграда в советское время подвергалась постоянному остракизму со стороны фольклора. И объектом номер один становились многочисленные памятники Ленину. Это и «Белая головка» – ныне снятый бюст на Московском вокзале, и «Экспонат с клешней» – памятник у Финляндского вокзала, и «Конура вечно живого» – ленинский мемориал «Шалаш» в Разливе. Знаменитый крейсер «Аврора» в просторечии называют «Утюгом социализма» и «Фрегатом на крови», по аналогии со «Спасом-на-Крови» – храмом Воскресения Христова, возведенном на Екатерининском канале на месте убийства императора Александра II.
Социальные и политические потрясения, охватившие послевоенный мир, оставили характерные меты в микротопонимике Ленинграда. В 1960-е годы появляется знаменитый «Сайгон» – кафе на углу Невского и Владимирского проспектов, общегородская тусовка, ленинградский символ короткой оттепели. Эхом отозвалась ленинградская микротопонимика на всплеск повстанческого движения в Ирландии. Кафе на углу Невского проспекта и улицы Марата получило у молодежи название «Ольстер». В ответ на ввод советских войск в Афганистан кафе на улице Дзержинского (ныне Гороховой) именуется «Кабулом».
Безымянные кафе и безликие общественные столовые, районные универсамы и пустые продовольственные магазины, меченные порядковыми номерами и ничем не отличающиеся друг от друга, учебные и проектные институты со сложными, непроизносимыми аббревиатурами на титульных досках у парадных дверей, унылые профсоюзные дома культуры с обязательным именем «небесного покровителя» в названии – все это буквально требовало заявить о себе иным способом, иными словами. Фольклор с готовностью отзывался на эти ожидания. Появляются микротопонимы: «Проскурятник», «Мухенвальд», «ДК имени отчества» и т. д.
В незабываемые времена кипучей борьбы за продовольственную программу с помощью подсобных сельских хозяйств Адмиралтейский завод обзавелся угодьями, где инженеры высочайшей квалификации выращивали турнепс и разводили скот. Образовавшийся таким образом искусственный конгломерат адмиралтейцы с безжалостной самоиронией называли «Судоферма-свиноверфь». В это же время Кировский завод, который в 1960–1970 годах поддерживался принудительным и дешевым трудом заключенных и военнослужащих, называли «Дырой социализма». До сих пор на Обводном канале можно увидеть своеобразные, не лишенные живописности корпуса ныне закрытого Коксогазового завода, многие годы отравлявшего жизнь тысячам ленинградцев и потому называвшегося в народе «Зарей Бухенвальда». К этому же ряду можно отнести и фольклорное название городского крематория – «Огни социализма», и Южного кладбища – «Южный соцлагерь», и городской многопрофильной больницы № 3 на улице Вавилова – «Третья истребительная», и многое другое.
Интересно проследить, с какой безошибочной точностью именует народ отдельные здания и сооружения. Фонтан у Пулковских высот, оформленный по углам характерными фигурами четырех сфинксов – «Четыре ведьмы». Пресловутая дамба, кабинетное детище первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Г. В. Романова – «Дамба Романовна». Дом, где жил Григорий Распутин, на Гороховой, 64 – «Дом Гришки Распутина», а дом на улице Куйбышева, 1/5, где находилась квартира его ленинградского тезки, – «Дом Гришки Романова».
Механизм образования фольклорных наименований довольно прост: либо путем незначительных морфологических изменений демонстративно подчеркнуть самые характерные особенности (так Обводный канал превращается в «Обвонный», сквер с памятником А. С. Попову на Каменноостровском проспекте – в «Поповский», Невский проспект в 1920-е годы – в «Нэпский»), либо путем переноса образно, метафорически придать названию иной, часто противоположный смысл. Улица Пролетарской Диктатуры получила название «Тупик Коммунизма», а проспект небезызвестного Суслова – «Проспект Серого Кардинала».
Остается с сожалением заметить, что жизнь микротопонимики чрезвычайно коротка. Только некоторым названиям удается остаться на слуху нескольких поколений. Тем более важно их постоянное выявление, фиксация и, по возможности, систематизация. В них так много от каждой эпохи, что было бы непростительным грехом пренебречь этим.
Широко и разнообразно представлены в петербургском фольклоре частушки. Замечательны они своим, по преимуществу иногородним, провинциальным происхождением. Это взгляд на Петербург глазами вологжан, рязанцев, псковичей, архангелогородцев:
Вы, родители, я в Питере Сударушку завел И на эту на сударушку Все денежки извел. Выйду я на улицу, Запрягу я курицу, На пристежку петушка, Поеду в Питер по дружка!* * *
Задушевные подружки, Поедем в Ленинград. В Ленинграде много учится Хорошеньких ребят. Мимо светлого окошечка Там течет река Нева, Мне, мальчишечке, поднаскучила Чужая сторона.* * *
Позволь, тятенька, жениться, Позволь взять кого хочу. Не позволишь доброй волей, С милкой в Питер укачу.* * *
Прощай, Нарвская застава И Путиловский завод, Я с возлюбленным забавой Сажусь на пароход.Бурная жизнь петербургских балаганов на Марсовом поле и Адмиралтейском лугу закончилась в начале XX века. Балаганы исчезли, но в мемуарной и специальной литературе сохранились блестящие образцы народной поэзии. Это раёшные стихи и прибаутки балаганных дедов-зазывал. Среди них есть много конкретно петербургских:
Венчали нас у Флора, Против Гостиного двора, Где висят три фонаря. Свадьба была пышная, Только не было ничего лишнего. Кареты и коляски не нанимали, Ни за что денег не давали. Невесту в телегу вворотили, А меня, доброго молодца, посадили К мерину на хвост И повезли прямо на Тучков мост. Там была и свадьба.В 1880-х годах широкой популярностью пользовались концерты в пользу того или иного благотворительного заведения. Непременными участниками таких концертов были и петербургские раёшники. Как правило, такие мероприятия приурочивались к общегородским праздникам на масленой или пасхальной неделях. Некоторые образцы творчества народных актеров-импровизаторов сохранились. Вот как выглядело такое выступление на празднике в пользу Охтенского детского приюта:
Здравия желаю, С Масленицей поздравляю; С выпивкой, закуской, С широкою русской, С разгулом великим, С восьмидневным веселием; С блинами, попойками, С ухарскими тройками; С пылом, с жаром, С хмельным угаром!.. Всех поздравляю, Гулять дозволяю!.. Пришел людей повидать И себя показать; Покрутиться, покамборить, Ни в чем себя не неволить: Пущу свою картинку в ход, Потешить православный народ. Пришел к вам с Царицына лугу… Хотел ехать в Калугу, Да костоломки испужался Да в Дворянское собрание К Охтенским ребятишкам и примчался… Машкарад, значит, почуял.Как это ни удивительно, но в общедоступном и широко популярном «Советском энциклопедическом словаре» (М., 1983) слова «анекдот» не было вообще. Оно появилось в переиздании, осуществленном Санкт-Петербургским фондом «Ленинградская галерея» в 1991 году. Значение этой короткой, в пять с половиной строчек, статьи трудно переоценить, поскольку она дает определение анекдота в двух ипостасях. Это и короткий, добавим – часто неизданный, рассказ об историческом лице или событии – жанр весьма популярный в русской общественной жизни XVIII–XIX веков; и анекдот, как жанр современного городского фольклора – короткий смешной рассказик с неожиданным острым концом. В петербургском городском фольклоре анекдот широко представлен как в том, так и в другом качестве.
Одним из героев петербургских анекдотов был всеобщий любимец Иван Андреевич Крылов. Раз Крылов проходил по Невскому и неожиданно встретил императора. Николай I еще издали ему закричал: «Ба, Иван Андреевич, что за чудеса? – встречаю тебя на Невском. Куда идешь? Мы так давно с тобой не виделись». – «Я и сам, государь, так же думаю, – отвечает Крылов, – кажется, живем довольно близко, а не видимся».
Или вот еще анекдот, который попал в 3-й том изданной в 1872 году «Энциклопедии весельчака»: «Несколько молодых повес, прогуливаясь однажды в Летнем саду, встретились со знаменитым Крыловым, и один из них, смеясь, сказал: „Вот идет на нас туча“. – „Да, – сказал баснописец, проходя мимо них, – потому и лягушки расквакались“».
Большинство анекдотов того времени сохранились благодаря записям, сделанным А. С. Пушкиным в его знаменитых «Table talk», П. А. Вяземским в записных книжках, Н. В. Кукольником в «Анекдотах» и другими писателями. «Господин комендант! – сказал Александр I Башуцкому, – какой это у вас порядок! Можно ли себе представить! Где монумент Петру Великому?» – «На Сенатской площади». – «Был да сплыл! Сегодня ночью украли. Поезжайте разыщите!» Башуцкий, бледный, уехал. Возвращается веселый, довольный, чуть в двери – кричит: «Успокойтесь, Ваше Величество. Монумент целехонек на месте стоит! А чтобы чего в самом деле не случилось, я приказал к нему поставить часового». Все захохотали. «Первое апреля, любезнейший, первое апреля», – сказал государь и отправился к разводу. На следующий день ночью Башуцкий будит государя: «Пожар!» Александр встает, одевается, выходит, спрашивает: «А где пожар?» – «Первое апреля, Ваше Величество, первое апреля». Государь посмотрел на Башуцкого с соболезнованием и сказал: «Дурак, любезнейший, и это уже не первое апреля, а сущая правда». Этот анекдот приведен в записи Нестора Кукольника.
А вот другой анекдот того же времени, записанный Пушкиным. После похорон графа Кочубея «графиня выпросила у государя разрешение огородить решеткой часть пола, под которой он лежал. Старушка Новосильцева сказала: „Посмотрим каково-то ему будет в день второго пришествия. Он еще будет карабкаться через свою решетку, а другие давно уже будут на небесах“».
Современные анекдоты – это собрание блестящих и остроумных микроновелл из жизни города и горожан:
Приезжий выходит из Финляндского вокзала и останавливает прохожего:
– Простите, где здесь Госстрах?
Прохожий указывает на противоположный берег Невы, где высится здание «Большого дома»:
– Где Госстрах не знаю, а госужас – напротив.
* * *
Леонид Ильич Брежнев и сопровождающие лица перед Смольным.
– Это здание мы хотим отдать под Ваш музей, дорогой Леонид Ильич.
– Добро.
– Это старинное здание первой половины XIX века…
– Погодите, погодите… Вы говорите, первая половина… А где же вторая?
* * *
Ленинградское швейное объединение «Большевичка» и западногерманская фирма «Бурда Моден» основали совместное предприятие под названием «Бурда большевистская».
* * *
Ленинградская фабрика «Скороход» выпустила партию сапог на платформе КПСС.
* * *
– Молодой человек, скажите, пожалуйста, это Большой проспект?
Молодой человек поднимает голову… оглядывается… прикидывает…
– Да… значительный.
* * *
Фаина Георгиевна Раневская приехала однажды на отдых в Репино. Наутро ее подруга Татьяна Ованесова, разбуженная шумом проходящей электрички, постучалась к Раневской.
– Как отдыхали, Фаина Георгиевна?
– Танечка, как называется этот дом отдыха?
– Имени Яблочкиной.
– Почему не имени Анны Карениной? Я всю ночь спала под поездом.
Несмотря на обилие накопленного материала – в моем собрании уже более семи тысяч единиц хранения петербургского городского фольклора – он ни в коем случае не претендует на полноту. Фольклорное наследие неисчерпаемо, как и современное мифотворчество, питаемое из неиссякаемого источника петербургской жизни.
Однако даже незначительный опыт поиска фольклора дает невеселые результаты. Несмотря на то что его много, а по некоторым оценкам, очень много, в большинстве своем фольклор былых времен сохранился только в художественной литературе и дневниковых записях, причем чаще всего он выполнял исключительно иллюстративную роль. Даже такие писатели, как Пыляев или Столпянский, не ставили перед собой задачи собрать фольклор. Они его просто использовали в своем творчестве. Легко представить, сколько бесценного материала, особенно наиболее летучего, такого как крылатые выражения, пословицы, неофициальные названия, выкрики торговцев-разносчиков, курьезные объявления и вывески и многое-многое другое, не переданное из уст в уста, покружив в закоулках памяти, безвозвратно утрачивается. Судьба материальной культуры в этом смысле более благополучна. Она, эта культура, может рассчитывать на археологические раскопки в будущем.
В связи с этим давно не дает мне покоя мысль об образовании в Петербурге некоей Городской Экспедиции Петербургского Фольклора, которая могла бы постоянно вслушиваться в профессиональный жаргон и молодежный сленг, в детские игровые речевки и обыденную речь горожан, вчитываться в художественную литературу и периодическую печать, всматриваться в неофициальные граффити и полуофициальные вывески и все это с одной целью – создать Единый Свод Петербургского Фольклора.
Такое под силу только всем вместе.
Наше приглашение в мир петербургского городского фольклора – это одновременно и приглашение к работе.
Псковский да витебский – народ самый питерский
Искусственный, принудительный характер формирования населения Петербурга определился сразу. Активное строительство города началось уже летом 1703 года. Острая необходимость в рабочей силе заставила Петра I обратиться к опыту, практиковавшемуся на Руси еще в XVII веке. Для строительства крепостей на большинство российских губерний налагалась натуральная трудовая повинность. Так, волею судьбы первыми строителями Петербурга оказались работные люди, предназначенные для Шлиссельбурга. Но уже с 1704 года губернаторы обязаны были посылать в Петербург 40 тысяч человек ежегодно. По-разному складывались судьбы этих людей. Многие из них, не выдержав изнурительного труда, полуголодного существования и непривычных климатических условий, умирали, другие, отработав положенный срок, возвращались к своим семьям, уступая место очередным партиям рабочих, гонимых на каторгу в Петербург, а некоторые, прозванные в народе «Переведенцами», оставались в Петербурге «на вечное житье». Они-то и стали петербуржцами в первом поколении.
Смертность на строительных работах в Петербурге была такой высокой, что это дало повод утверждать, будто Петербург построен на костях, а население всей России за время царствования Петра I и возведения новой столицы уменьшилось в четыре раза. Сохранилась частушка рабочих, строивших Кронштадт, который возводился одновременно с Петербургом:
Расскажи, хрещеный люд, Отчего здесь люди мрут С Покрову до Покрову На проклятом острову.До 1710 года кладбищ, в современном понимании этого слова, в Петербурге не было. Умерших хоронили при приходских церквах, а иногда там, где жили и умирали переведенцы – вблизи их палаточных городков, шалашей и землянок. После освящения собора во имя Преподобного Сампсоння-странноприимца на Выборгской стороне Петру I, согласно старинной легенде, пришла в голову остроумная мысль. Святой Сампсоний был странноприимцем, а в Петербург пришли жить и работать люди других стран, то есть странноприимцы, и где же как не здесь, под сенью странноприимца им покоиться. Так, если верить преданию, в Петербурге появилось первое кладбище.
До сих пор в богатой топонимике Васильевского острова сохраняются следы пребывания в Петербурге плотников и землекопов Смоленской губернии. По преданию, рабочая артель смолян поселилась здесь еще в первой четверти XVIII века. Но прожили они недолго. Непривычный образ жизни и непосильный труд свел их почти всех в могилу. Умерших свозили на берег Черной речки и там хоронили. С тех пор речку стали называть Смоленкой. Смоленским стало и возникшее таким образом кладбище, а на левом берегу реки, посреди огромного пустынного поля, которое также прозвали Смоленским, выстроили церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери.
С началом строительства северной столицы связаны еще две петербургские легенды. В одной рассказывается, что село Мурино, которое давно уже вошло в границы города, назвали так его первые поселенцы, насильственно переселенные сюда из Муромского уезда Московской губернии. Другая легенда рассказывает о возникновении Красного Села – эффектно раскинувшегося среди красивых озер поселения, известного с первой четверти XVIII века. До сих пор жива легенда о том, что свое название – довольно традиционное на Руси, это село получило благодаря живописному, красивому, или «красному», как говорили в старину, рельефу местности. Однако эта легенда опровергается утверждением специалистов о том, что в царствование Петра Великого из подмосковного Красного Села сюда были переведены крестьяне для «усиления русского элемента» в завоеванной Ингерманландии. Будто бы эти крестьяне и перенесли название своего родового села на петербургскую землю. Если это так, то пословица: «Твоя бабушка моего дедушку из Красного Села за нос вела», записанная еще В. И. Далем, относится к Петербургу.
Одна из многочисленных легенд петербургской Коломны утверждает, что название и этого старинного района, ограниченного реками Фонтанкой, Мойкой, Пряжкой и Крюковым каналом, восходит к подмосковному селу Коломенское, откуда прибыли подкопщики и каменщики в первые годы строительства Петербурга.
В одном из живописнейших уголков Коломны, на берегу Фонтанки, при въезде на Старо-Калинкин мост со стороны площади Репина стоит верстовой столб, или, как высокопарно выражались в старину, мраморная верстовая пирамида – еще одно свидетельство давних этносоциальных связей Петербурга с Подмосковьем. Обычай отмечать дорожные версты между городами возник в середине XVII века при царе Алексее Михайловиче, отце будущего реформатора России. Первые деревянные верстовые столбы были установлены между Москвой и летней царской резиденцией в селе Коломенском. Столбы ставились высокие, и с тех пор в народе появилось два крылатых выражения. Дороги, обозначенные верстовыми вехами, стали называть столбовыми, а высоких и долговязых парней – «Коломенской верстой». Последний фразеологизм в Петербурге получил неожиданное применение. «Коломенской верстой» стали называть первый верстовой столб, установленный в 1774 году на дороге из Петербурга в Петергоф. Возвели его, как я уже упоминал, на тогдашней границе города по проекту архитектора Антонио Ринальди. С тех пор прошло более двух столетий. Граница города давно уже ушла не только за Фонтанку и Обводный канал, а гораздо дальше, но «Коломенская верста» прочно вошла в архитектурный облик Петербурга, напоминая о первых строителях и жителях северной столицы.
Несмотря на колоссальный размах строительства Петербурга в петровское время, рост его населения в значительной степени регулировался принудительными мерами. К 1725 году население столицы составляло около 40 тысяч человек. Но в последующие годы темпы роста населения Петербурга уже в три раза превышали средние показатели по стране. К концу XVIII века численность населения столицы достигла 220 тысяч человек. В XIX веке, особенно во второй его половине, население Петербурга стало расти еще стремительнее. В 1860-х годах оно составило полмиллиона человек, а к началу XX века Петербург занял четвертое место в мире по численности населения, уступая лишь Лондону, Парижу и Константинополю.
Причинами такого бурного роста стали отмена крепостного права, зарождение капиталистических, рыночных отношений и стремительное развитие промышленности в столице. Петербург в это время становится центром притяжения для тысяч крестьян, порвавших с землей и в большинстве своем ищущих постоянного заработка, а в меньшинстве – случайного обогащения, легкой свободной жизни, неожиданного поворота судьбы.
С этого времени Петербург в полной мере познакомился с отходничеством. Крестьянин-отходник покидал свою деревню и уходил – то ли на сезон, то ли навсегда – на отхожий промысел. Фольклор оставил множество свидетельств этого социального явления. Известна во многих регионах России колыбельная песенка, которую, мечтая о богатой зажиточной жизни сыновей, напевали своим несмышленышам деревенские мамы:
Спи-поспи по ночам, Да расти по часам, Вырастишь большой, Станешь в Питер ходить, Сребро-золото носить.Едва эти несмышленыши подрастали, как созревшие плоды материнского воспитания тут же обрушивались на головы родителей:
Батюшка родитель! Отпусти-тка меня в Питер; Дай мне паспорт годовой, Не дожидай меня домой.* * *
Была устлана дороженька Соломой яровой. Не дожидай-ка меня, маменька, Из Питера домой.* * *
Все пташки поют Сизокрыленькие. В Петербург уедут жить Наши миленькие.* * *
В Питер, девушка, уеду В дальнее селеньице, Буду письма посылать В почтово отделеньице.Практически ничего не изменилось и в советское время. Кроме традиционной семейной зависимости, на молодежь тяжким бременем навалилась зависимость от комсомольских и партийных сельских начальников, от председателя колхоза, во власти которого было неограниченное право выдачи молодым людям паспортов, что давало единственную возможность уехать из деревни:
В Ленинграде жизнь хороша – Меня дроля известил. Я уехала бы, девушки, – Колхоз не отпустил.Но несмотря ни на что, уровень миграции сельского населения и тогда был достаточно высок:
Через речку нет моста – Брошена колодина. Уезжаю в Ленинград До свиданья, родина.* * *
Задушевная, на станции Гудели поезда, В Ленинград уехал дролечка, Наверно, навсегда.* * *
В комсомол я запишусь И шапочку одену. На милой своей женюсь, В Ленинград уеду.Чаще всего покидали деревни юноши. Менее обремененные семейными обязанностями, более приспособленные к жизни, что называется, в походных условиях, они чаще и решительнее, чем их робкие подруги, пытались переломить судьбу. Столица манила сказочными прелестями свободы и красивой жизни. Не зря Петербург долгое время считался «мужским» городом. Доля женского населения на протяжении всего XIX века едва доходила до 32 %. Но и девушки, особенно самые юные, стремились сменить тяжкий крестьянский труд на вольную жизнь в столице. Их борьба за раскрепощение и равные права с парнями стала постоянным сюжетом сельского фольклора. Хотя надо оговорить одну крайне любопытную деталь: борясь за равноправие, девушки не подвергали никакому сомнению свою зависимость от молодых людей. Независимость, со всеми пагубными последствиями этого в условиях жизни в огромном и чужом городе, появится потом. А пока – только в Петербург и только с милым:
Милый в Питере живет, А я к Питеру глядеть. Замечаете, подружки, Без него стала худеть.* * *
Дайте паспорт, я уеду, Дороги родители. Не хочу в деревне жить – Мой миленок в Питере.* * *
Говорят, Питер далеко, Питер – наша сторона. Весна придет – туда поеду, Там залеточка моя.* * *
Мой миленок хитер, хитер – На метле уехал в Питер. А я маху не дала – На ухвате догнала.* * *
– Дорогой, куда поехал? – Дорогая, в Ленинград. – Дорогой, и я с тобою. – Дорогая, очень рад.В северной Карелии записана одна весьма выразительная пословица, смысл которой, очевидно, хорошо понимали вступающие в самостоятельную жизнь молодые селяне: «От каждого порога на Питер дорога». Отходники Галичского уезда Костромской губернии работали в Петербурге в основном малярами. Среди земляков за ними закрепилось прозвище: «Питерщики». О них слагали частушки:
Петербургская телега, Костромское колесо. И куда тебя, беспутный, В сенокос-то понесло?Нарицательным именем ярославских крестьян, отправлявшихся на отхожий промысел в столицу, в противоположность «оседлым» или «домачам», стало: «Питерщики», «Питерцы» или «Питеряки».
Миграция сельского населения сделалась массовой с середины XIX века, когда сформировалась сеть железных дорог. В столицу буквально хлынул поток крестьян и ремесленников из Псковской, Витебской, Ярославской, Тверской, Новгородской губерний. Переселенцы становились кузнецами и текстильщиками, портными и сапожниками, работницами табачных фабрик и прачками. К концу века в Петербурге бытовала уже известная нам пословица, наиболее точно выражавшая суть сложившейся ситуации: «Псковский да витебский – народ самый питерский».
Следы псковского влияния на рост численности петербуржцев были заметны в фольклоре вплоть до середины XX века. В конце 1930-х годов на углу Косой и Кожевенной линий Васильевского острова находился продовольственный магазин, известный в то время в просторечии под названием «Скобарский». Им, по воспоминаниям горожан, пользовались так называемые «лимитчики» – переселенцы из Псковской области, работавшие на Кожевенном заводе. Там же, на Косой линии в 1920-х годах стояло огромное бесхозное здание, в котором обитали проститутки и бездомные. Командовал ими небезызвестный Мотя Беспалый, этакий питерский Робин Гуд, благородный вор, который занимался бандитизмом и разбоем, помогая при этом нищим и обездоленным. Это о нем, Моте Беспалом, бытовала в те годы поговорка: «Где Бог не может – Мотя поможет». Даже милиция среди бела дня старалась обходить этот дом стороной. От греха подальше. Дом этот в народе окрестили: «Скопской дворец». Сейчас в нем располагается одно из общежитий Балтийского завода.
Не отставала от Псковской и Витебская губерния. Распространенным промыслом крестьян Витебщины была поденная работа по разгрузке кирпича с барж на Калашниковской пристани. Кирпичи с судов переносили на берег на специальных подвесках, укрепленных на плечах носильщиков. За лето холщовые рубахи мужиков насквозь пропитывались красной кирпичной пылью и, возвращаясь в свои деревни, крестьяне, побывавшие в столице, с гордостью показывали на свои спины: «Наша деревня Питером красна».
Понятно, что и крестьяне обширной Петербургской губернии также занимались отходничеством. Так, например, женщины из старинного села Копорье, известного еще с 1240 года и ныне расположенного в Ломоносовском районе, часто подряжались в богатые барские усадьбы огородницами. Этот промысел у петербуржцев был в почете и копорок охотно нанимали. В конце концов за ними закрепилось устойчивое прозвище: «Копорки-огородницы», или просто «Копорки». Все хорошо понимали, что за этим стоит.
Одновременно с появлением в городской среде нового, если можно так выразиться, крестьянского типа петербуржца, пореформенная эпоха 1860 – 1870-х годов способствовала возникновению и в крестьянской среде неизвестного ранее социального типа. Крестьянин, поживший некоторое время в городе, да к тому же еще и грамотный, да если еще он привез из столицы две-три лубочные книжки, получал прозвище: «Полированный питерец». Этот образ потершегося среди горожан провинциала жив и сегодня. Еще совсем недавно можно было услышать ироническую кличку незадачливого неофита: «Оленинграженный».
Далеко не всем провинциалам Питер оказывался по плечу. Вблизи свобода превращалась в иллюзию, богатство – в призрак. Помятые столичной жизнью и отрезвевшие псковичи и ярославцы становились извозчиками и лакеями, чернорабочими и носильщиками. До сегодняшнего дня в петербургском городском фольклоре сохраняется множество пословичных вариантов на одну и ту же болезненную тему: «Хорош город Питер, да бока вытер»; «Питер – карман вытер»; «Батюшко Питер бока наши повытер»; «Матушка Нева испромыла нам бока». Пословицам и поговоркам вторят частушки:
Уж как с Питера начать, До Казани окончать. Уж как в Питере Нева Испромыла нам бока.Среди лихих петербургских ямщиков и извозчиков существовала разудалая поговорка: «В Питере всех не объедешь». Велико было желание выделиться, обойти соседа, понравиться клиенту. Глубокий социальный смысл этой поговорки появился позже. Подтекст оказался до обидного прост и философски мудр. Он уточнялся и конкретизировался в других пословичных формулах народной мудрости: «Питер кому город, а кому ворог»; «Кого Питер полюбит – калач купит, кого не полюбит – и тулуп слупит». Да, в Питере всех не объедешь. Вот они – величественные дворцы, в которых наслаждаются жизнью зажиточные вельможи, роскошные экипажи, в которых катаются красивые и довольные люди, богатые магазины с пугающими ценами на товары в ярких витринах. Деньги в Петербурге, надо полагать, есть. Но вот пословицы и поговорки, записанные в Вологодской губернии: «В Петербурге денег много, только даром не дают»; «В Питере денег кадка, да опущена лопатка; кадка-то узка, а лопатка-то склизка»; «В Питере деньги у потоки не вися» (потока – водотечник, нижний свес кровли, желоб). О том же – в деревенских частушках:
В Петербурге жизнь хороша, Только денег нет ни гроша; Заведется пятачок И бежишь с ним в кабачок.* * *
Наши дома работают, Мы во Питере живем; От нас денег ожидают, Мы в опорочках идем.* * *
В Питере жизнь хороша, Не принес я вам ни гроша. Извините, родители, Проигрался в Питере.Естественный отбор, или, как говорили в народе, «Питерская браковка», была жестокой и беспощадной. Сословный и чопорный Петербург отторгал, как инородные тела, слабых и неспособных, мягкотелых и неудачливых. Великая одиссея, как правило, заканчивалась в родной деревне. Трудное возвращение в убогий сельский быт скрашивалось неприхотливым деревенским юмором под неизменную гармошку:
Меня Питер оконфузил, Но и я его срамил. Из-за питерской заставы Босиком домой катил.* * *
То ли я не молодец, То ли я не Фомка. Как из Питера бежал – Прыгала котомка.* * *
Я во Питер-то на троечке, А из Питера пешком, А из Питера пешком Со своим худым мешком.* * *
Я во Питер собирался, Думал в барины попасть. Только в бары не попал, В лапотках домой придрал.* * *
Пришел с Питера домой. Говорит мне батька мой: – Ну-ка, питерский сынок, Выкладай-ка на оброк! – Ну какой, отец, оброк – Насилу ноги уволок.* * *
Ванька с Питера приехал, Гармонь новую привез. Гармонь новая потерта – Гармонист похож на черта.Впрочем, иногда было и не до шуток:
Ваню в Питер отправляли, Думали хорошаго, По этапу привезли Ваньку толсторожего.По-разному уходили из деревни, по-разному возвращались. О некоторых насмешливый фольклор Вологодской губернии говорил: «Поехал в Питер, да дунул взад витер, доехал до овина, думал, что половина, – назад и вернулся».
А самые напористые и упрямые вновь и вновь пытались повернуть капризную госпожу удачу лицом к себе. Бесприютные, беспаспортные, из Петербурга изгнанные и лишенные права проживания в нем, они снова возвращались в столицу с маниакальной надеждой стать в конце концов петербуржцами. В просторечии их называли «Спиридоны-повороты». Многие из них побеждали в этой изнурительной борьбе. Их воле и упорству можно позавидовать. Очевидно, они стали достойными предками многих сегодняшних петербуржцев. Ими гордились на родине. О них пели частушки деревенские красавицы.
Частушка, записанная в 1914 году в Рязанской губернии:
Голубой платок линяет, Мил по Питеру гуляет. Мой Ванюша в Питере, Его ребята видели: Он стоит у лавочки – Продает булавочки.Ярославская губерния, 1913 год:
Милый в Питере нажился, Интересный горазд стал, Бывало, я с ним не гуляла – Теперь он сам со мной не стал.Ленинградская область, 1982 год:
Мой забава в Питере, Недавно люди видели. За дубовым столом Писал серебряным пером.В долгие декабрьские вечера перед Новым годом крестьянские девушки собирались в какой-нибудь просторной избе и гадали о суженых. Конечно, хотелось, чтобы он был красивым, сильным и обязательно богатым. Девушки садились вокруг стола, на который ставили чашу или блюдо с водой. В воду опускали кольца, серьги, браслеты, бусы и другие нехитрые украшения. У кого что было. Блюдо накрывали скатертью. Самая старшая начинала петь. Во время пения каждая девушка старалась вынуть свое кольцо или другое украшение под тот песенный стих, который ей ближе всего по сердцу. (Помните, у Пушкина: «Из блюда полного водою/Выходят кольца чередою».) Такие песни называются подблюдными. Вот песня, которую пели в Новгородской губернии:
Идет мужик из Питера: Куницами, лисицами обтыкался, Черным соболем опоясался. Кому вынется, Тому сбудется, Не минуется Слава!Эта песня была опубликована в печати в 1898 году. Новгородская губерния – под боком у Петербурга, и естественно, что грезы невест из-под Новгорода уводят их в близкий и желанный Питер. Но вот что удивительно: и подмосковные провинциалочки мечтали о питерских женихах. В 1979 году Московский педагогический институт издал сборник «Фольклор Московской области», в котором можно прочитать подблюдную песню:
Корысть на двор – Женихи за стол. Слава! Едут мужики Из Питера. Куницам-лисицам Обтыкалися, Черным соболем Опоясалися – Пиво варить, Свадьбу заводить.Что ж, провинциальным барышням было о ком мечтать под напевы подблюдных песен. Имена богатых петербургских купцов, выходцев из глухих деревень были широко известны далеко за пределами столицы. Одним из таких знаменитых петербуржцев стал крестьянин безвестного села Яковцево Ярославского уезда Ярославской губернии Петр Елисеев. О нем, известном основателе торговой фирмы, рассказывали легенды. Будто бы он был крепостным графа Шереметева и однажды, среди лютой зимы, угостил гостей графа свежей земляникой, за что получил вольную. Это произошло вскоре после войны 1812 года. По другой легенде, Петр Елисеев крепостным никогда не был, а в Питер отправился на заработки, как это делали многие мужики. В начале своей карьеры Елисееву пришлось таскать мешки, разгружая корабли на Стрелке Васильевского острова, где в то время находился петербургский морской порт. Вскоре предприимчивый крестьянин сколотил рабочую артель, а через несколько лет уже владел несколькими магазинами в обеих столицах. А еще через некоторое время Елисеев становится поставщиком императорского двора.
Такая удивительная карьера не могла не стать примером для подражания. Целомудренные и благовоспитанные ярославские девственницы и рязанские мадонны ценили в своих избранниках устремленность, деловую хватку, терпение и упорство. Все остальное фольклором решительно осуждается. Даже если в каждой строчке сквозит снисходительность к своим непутевым «забавам»:
Мой забава в Питере На каменном заводе. Пьет вино, курит табак, Денежки проводит.* * *
Мой забава в Питере, Тамо спит на плитене. Сороковки любит пить, Подушку не на что купить.* * *
Как за речкой, за рекой Солнышко сияет, Не моя ли пьяница В Питере гуляет.* * *
Мой миленок в Питере, Его ребята видели: В одной руке тросточка, В другой – папиросочка.Но особенно острому осуждению в провинциальном фольклоре подвергались оступившиеся молодухи. Судьба женщин в столице вообще складывалась драматически. Напомним, что Петербург был городом преимущественно мужским. Это накладывало определенный отпечаток на взаимоотношения полов. А если учесть, что только в «личной прислуге», служившей в домах, в конце 1860-х годов состояло ни много ни мало около 10 % всего петербургского населения, то легко понять положение робких и застенчивых недавних крестьянок в столице. Многие из них становились жертвами мужской сексуальной агрессивности, многие – в отсутствие родительского пригляда и гнета строгой деревенской морали – просто не выдерживали мучительного испытания свободой. Их ждала улица.
В 1843 году в Петербурге был создан Врачебно-полицейский комитет, который зарегистрировал 400 женщин, занимавшихся проституцией. А к середине 1880-х годов в Петербурге исправно функционировало уже около 150 публичных домов. Дорога от фабричных домов до подъездов под красными фонарями была короткой. Короче, чем из деревни в Петербург.
Русская литература – от Достоевского до Куприна и Блока – посвятила этой теме не одну тысячу страниц. Не оставил ее без внимания и фольклор – как городской, так и провинциальный. Широчайшую известность приобрела в свое время уже приводившаяся мною пословица: «В Питер с котомочкой, из Питера с ребеночком». Ее пели и декламировали на все лады так часто, что сейчас уже трудно разобраться, что было первично: то ли цитата из частушки превратилась в пословицу, то ли самой пословице стало тесно в короткой пословичной форме и она вошла в частушку:
В Питер-то с котомочкой, Из Питера с ребеночком. На-тко, маменька, на чай, Да петербуржца покачай.Каждую из таких частушек легко можно развернуть в повесть или роман, но чем бы тогда отличалось правдоподобие литературы от правды фольклора:
Ванючиха старая Самовар поставила, Не успела вскипятить – Дочка с Питеру катить.* * *
Пришла с Питера девчонка, Принесла маме ребенка. Вот тебе, маменька, на чай, Толстопузова качай.* * *
В Петербурге на Сенной Дивовались надо мной: «Эка девка бесшабашна, Не торопится домой».* * *
Нынче я уже не прачка, Больше не стираю. Я по Невскому хожу, Граждан примечаю.* * *
В Ленинграде на базаре Мальчики дешевые – Три копейки с половиной Самые хорошие.Я уже не однажды подчеркивал и аргументировал это образцами городского петербургского фольклора, что петербуржец – это и национальность, и звание, и профессия. В народной драме «Шайка разбойников», записанной фольклористами в далекой Пермской области, один из ее героев – Доктор – поет песню:
Я не русский, не французский, Сам я доктор петербургский. Лечу на славу, Хоть Фому, хоть Савву… и т. д.Факт этот для фольклора настолько очевиден, что он, фольклор, его даже не доказывает и не объясняет. Фольклору вообще не свойствен ни публицистический азарт, ни дидактическое занудство. Фольклор просто констатирует. Да, господа патриоты: «Псковский да витебский – народ самый питерский». А ленинградцы? На этот счет в богатейшем арсенале петербургского фольклора есть анекдот:
– Где можно встретить коренного ленинградца?
– В бане и в коммунальной квартире.
Этот анекдот, надо сказать, не очень характерен для петербургского фольклора в целом. В нем ощущается весьма заметный привкус раздражения. Для фольклора более типична недавно появившаяся формула, исключительно точная, хотя и не окончательно отшлифованная: «Санкт-Петербург населен ленинградцами в той же мере, в какой Ленинград был населен петербуржцами».
Улица Веротерпимости, или Фольклор многоязычного Петербурга
Для Петербурга понятие «многоязычный» никогда не было ни идеологической пропагандистской формулой, ни расхожим литературным штампом. Петербург действительно с самого рождения был городом многонациональным. Первыми его строителями, наряду с солдатами армии генерал-адмирала Апраксина, были финны, издавна населявшие Приневскую низменность. Первым архитектором был швейцарец Доменико Трезини. А первыми жителями становились так называемые работные люди или «переведенцы» – крестьяне и мастеровые, согнанные на строительство новой столицы из всех губерний многонациональной России.
Прорубив «Окно в Европу» для россиян, Петр Великий одновременно широко распахнул двери России для европейцев. В Петербург буквально хлынул поток ремесленников и торговцев, корабелов и волонтеров, кондитеров и строителей разных национальностей. Едва ли не с первых дней своего существования Петербург становится многоязычным и веротерпимым. Молитвенные дома различных вероисповеданий возводятся в буквальной близости к царскому дворцу и, что главное, рядом друг с другом. На Невском проспекте до сих пор в непосредственном соседстве равноправно красуются Голландская церковь, костел Святой Екатерины, Армянская церковь, Лютеранская церковь, православный Казанский собор. В начале XIX века некий француз предлагал даже изменить название Невского проспекта на проспект Веротерпимости. Городом веротерпимости, видя в этом одно из главных отличий его от других городов мира, называл Петербург повидавший многие страны Александр Дюма.
Конечно, среди тех, кто рискнул попытать счастья на бескрайних и чуть ли не безжизненных просторах России были и неисправимые романтики, и отъявленные негодяи, и отчаянные авантюристы, и просто преступники, скрывавшиеся от своих правительств. Но абсолютное большинство этих иностранцев, без сомнения, были глубоко порядочные, добросовестные и честные работники и солдаты, политики и учителя, чиновники и актеры – все те, кто, став петербуржцами в первом поколении, составили честь и славу своего города.
Петербург гордился своей многонациональностью. На масленичных и пасхальных праздниках на Адмиралтейском лугу или Марсовом поле балаганные деды, неторопливо раскручивая бумажную ленту потешной панорамы с изображением различных городов, бойко слагали стихотворные строки:
А это город Питер, Которому еврей нос вытер. Это город русский, Хохол у него французский, Рост молодецкий, Только дух немецкий! Да это ничего – проветрится.Ему вторил другой балаганный затейник с накладной бородой и хитроватой улыбкой:
…Черной речкой немцы завладели, В Павловске евреи засели, А с другой стороны чухонские иностранцы – Господа финляндцы…Отсутствие (или незначительное присутствие) в приведенных текстах оценочных интонаций не должно вводить в заблуждение. Они еще будут. Мы с ними встретимся. Достаточно вспомнить легенду о заговоре иностранцев, в результате которого один иностранец – голландский посланник Геккерн – организовал убийство Пушкина, другой – француз Дантес – смертельно ранил поэта, третий – немец Арендт – не вылечил его, четвертый – Данзас – был секундантом на этой злосчастной дуэли и не предотвратил ее; или погромный антинемецкий шабаш ура-патриотов на улицах Петрограда в августе 1914 года; или издевательскую частушку в пору высшего расцвета государственного антисемитизма, вылившегося в пресловутое «дело врачей»: «В кинотеатре „Колизей“, что ни зритель, то еврей», – достаточно вспомнить все это, чтобы понять, что не все было благополучно в городе Санкт-Петербурге. Однако современный фольклор, коллективными авторами которого стали потомки тех, первых, строителей города, свой приговор вынес:
Когда б не инородец Фальконе, И Петр не оказался б на коне.Более того. Когда в 1990 году редакции московских журналов «Молодая гвардия» и «Наш современник» решили провести в Ленинграде так называемые «Российские встречи» с явно выраженным националистическим душком, городской фольклор тут же окрестил эту акцию «Расистскими встречами».
Но вернемся в XVIII век. К середине столетия из 75 тысяч жителей столицы иностранцы составляли 7,5 %. Селились, как правило, кучно – городскими слободами и пригородными колониями, строго соблюдая национальный принцип. Так, например, в районе Дворцовой площади находилась Немецкая слобода с центральной Немецкой улицей, позже переименованной в Миллионную, на Васильевском острове – Французская слобода. Среди жителей столицы были финны, поляки, шведы, греки, татары и представители многих других народов. Когда в 1712 году из Москвы в Петербург наконец переехали все ближайшие родственники Петра I – вдовствующие царицы, сестра Наталья Алексеевна, сын Алексей Петрович, – то все они, включая многочисленных приближенных и огромную дворню, поселились вблизи Литейного двора, в районе нынешней Шпалерной улицы. В отличие от иностранных слобод, всю эту территорию вплоть до Смольного двора в народе прозвали «Русской слободой».
Вопреки расхожему мнению, ведущему свое начало от блестящей пушкинской метафоры «на берегу пустынных волн», Петербург вырос далеко не на пустом месте. Только в границах исторического центра города существовало около сорока различных поселений. Некоторые из них еще до шведской оккупации этих земель принадлежали Новгороду и носили русские названия: Спасское, Одинцово, Волково, Максимово. Однако большинство этих поселений были финскими. До сих пор в топонимике многих петербургских районов отчетливо слышатся финские корни: Купчино, Парголово, Автово, Шушары…
Вблизи упомянутой Немецкой слободы, от Мойки в сторону современной Дворцовой площади, в начале XVIII века протянулась еще одна – финская – слобода, из-за чего всю эту местность в народе называли «Финскими шхерами». Многие финны проживали на далекой Выборгской стороне. Они старательно подчеркивали свою самостоятельность и автономность, и даже Петербург называли по-своему – Пиетари.
Если с огромной долей условности называть финнов иностранцами, то именно эти иностранцы первыми оставили в памяти поколений фольклорную реакцию на неожиданное появление в устье Невы такого крупного города. Известными в то время строительными способами город построить было невозможно. Он бы просто утонул в болоте. Одна из красивейших финских легенд рассказывает, что Петербург на пучине возводил богатырь. Построил первый дом своего города – болото его поглотило. Построил второй дом – та же судьба. Богатырь не унывает. Он строит третий дом, но и третий дом съедает безжалостное болото. Тогда, утверждает легенда, богатырь задумался, нахмурил свои черные брови, наморщил свой широкий лоб, в черных больших глазах загорелись упрямые огоньки. Долго думал богатырь и придумал. Растопырил он свою богатырскую ладонь и построил на ней сразу весь город. Затем осторожно опустил его на болото. Съесть целый город болото не могло, оно должно было покориться. И город Петра остался цел.
Авторитет трудолюбивых и добросовестных финских крестьян в Петербурге был настолько высок, что среди русских молочниц сложилась традиция произносить «молоко», «масло», «сливки» на финский манер, подчеркивая тем самым высокое качество своего товара. А широко распространенный в Петербурге XIX века образ девушки-молочницы с Охты – был запечатлен Пушкиным в «Евгении Онегине»: «С кувшином охтенка спешит,/Под ней снег утренний хрустит». «Охтенка-молочница» – такое поэтическое фольклорное прозвище девушек-разносчиц молока с Охты – навсегда осталось в истории Петербурга.
Кроме молока, финские крестьяне снабжали растущее население столицы и другими продуктами, как животноводства, так и земледелия. Постепенно складывался так называемый «Финский пояс Петербурга», который долгое время довольно успешно справлялся с этой задачей.
Финские крестьяне были постоянными и непременными участниками всех, особенно зимних, петербургских гуляний. Тысячи извозчиков наезжали в Петербург на две короткие масленичные недели со своими легкими расписными, празднично украшенными санками, которые, как и их возниц, петербургские обыватели называли вейками – от финского слова veikko, что в переводе означает «друг», «товарищ», «брат». Считалось, что не прокатиться на масленице, как тогда говорили, «На чухне», все равно что и самой масленицы не видеть. Это было красиво и весело. А главное – дешево. Плата за проезд в любой конец города составляла тридцать копеек. Широко известна была в Петербурге поговорка финских легковых извозчиков, которую, коверкая язык, любили повторять горожане: «Хоть Шпалерная, хоть Галерная – все равно рицать копеек».
Вейки в Петербурге были любимыми персонажами городского фольклора. До сих пор от старых людей можно услышать: «Расфуфырился, как вейка». Их называли «Желтоглазыми», или «Желтоглазыми гужеедами», чаще всего не понимая смысла этого насмешливого, а порой и бранного прозвища. На самом деле оно появилось еще в первой половине XVIII века: в 1735 году был издан указ, обязывавший извозчиков красить свои экипажи в желтый цвет.
О финнах ходили добродушные анекдоты. Приехал чухна на Пасху в Петербург и по совету русских приятелей пошел в церковь. «Ну, как, – спросили его друзья, когда он вернулся, – понравилось?» – «Понравилось-то понравилось, только, вот, ничего не понял». – «?!» – «Выходит поп и, обращаясь к толпе, кричит: „Крестовский остров“, а толпа ему хором отвечает: „Васильевский остров“». Русские хохочут над простодушным финном, которому в обыкновенном: «Христос воскрес – воистину воскрес» слышатся названия островов. Финн не понимает, но тоже смеется.
Но, как и всем инородцам, финнам жить в России было непросто. Сохранилась легенда о том, как Николай I посетил однажды 1-ю гимназию. Указывая на одного из учеников, он будто бы грубо сказал директору: «А это что там у вас за чухонская морда? – И добавил: – Первая гимназия должна быть во всем первой. Чтоб таких физиономий у вас тут не было».
До сих пор бытует в Петербурге и ругательство: «Чухна парголовская», впрочем, скорее всего оно имеет не национальный, а территориальный характер, по типу: «Шпана лиговская».
Можно вспомнить сохранившиеся с давних пор либо появившиеся совсем недавно фольклорные топонимы, связанные с финнами. «Чухонка» – так в народе называют парковую зону в Колпине. Этим же именем окрестили реку Ижору. «Чухляндией» называют в Петербурге гостиницу «Карелия» на улице Тухачевского. «Чухонской Швейцарией» гордо именовали петербуржцы дачный район Парголова – одно из самых популярных мест отдыха горожан в XIX веке. Да и сам Петербург в разное время в обиходе называли то «Финским болотом», то «Финополисом». И даже тщетно пытаясь противопоставить инородческому Петербургу «русскую Москву», наши доморощенные петербургские славянофилы придумали ругательное прозвище «Финский Петербург».
Они же, то есть славянофилы, изобрели и «Немецкий Петербург».
Среди этнических групп населения Петербурга в течение всей его двухвековой дореволюционной истории немцы неизменно занимали устойчивое второе место после русских. Наивысший пик их присутствия пришелся на конец 1860-х годов. Статистика утверждает, что в 1869 году немцы составили 6,8 % всего населения столицы. При этом надо отметить, что в тот же период русских в Петербурге было 83,2 %. Легко подсчитать, какой гигантский процент немцы составляли среди всех иноязычных групп населения.
Основными районами расселения немцев в Петербурге были центральные. Еще в первой четверти XVIII века, как утверждал ганноверский резидент в Петербурге Ф. X. Вебер, Адмиралтейский остров в народе именовался «Немецкой слободой», так как «в этой части города живет большинство немцев». Вторым районом по численности проживания немцев был Васильевский остров, точнее его восточная часть. Аккуратные, добросовестные и талантливые умельцы, они снискали среди горожан всеобщее уважение, а такой фольклорный фразеологизм, как «Василеостровский немец», стал символом добротности, основательности, солидности и благополучия. По воспоминаниям Ирины Одоевцевой, когда хотели кого-то похвалить, именно так и говорили: «Какой-то весь добротный, на иностранный лад, вроде Василеостровского немца». Интересно отметить, что в Петербурге имел хождение другой, противоположный по смыслу фразеологизм. О франтоватом петиметре, сквозь показное щегольство которого за версту несло откровенным провинциализмом, говорили: «Парголовский иностранец».
В 1770-х годах по указу Екатерины II на Старой Муринской дороге было построено поселение для немецких колонистов, названное Гражданкой. К северу от него постепенно появилось другое поселение, где жили русские. В петербургской фольклорной микротопонимике эта часть Гражданки стала называться «Русской Гражданкой». Такие же сельскохозяйственные немецкие колонии в екатерининское время выросли вдоль Царскосельского тракта и на окраине Царского Села. До сих пор пруды у Московского шоссе города Пушкина местные жители называют «Колонистскими», а всю местность вокруг этих живописных водоемов – «Колоничкой».
Большая немецкая община в середине XIX века существовала на Выборгской стороне, в Лесном. Характерной особенностью жизни немцев было не только компактное, но и автономное существование. Со своими школами и учителями, со своим пастором, со своим традиционным жизненным укладом. Со своими легендами. Вот уже более ста лет среди горожан живет совершенно немецкая по духу, но вполне петербургская романтическая легенда о двух семьях из немецкой слободы за Лесным. К одной семье принадлежал юный Карл, к другой – прекрасная Эмилия. Чувствительное сердце Карла было пленено прелестью молодой красавицы. Но папы и мамы – и те и другие, – узнав об их любви, дружно сказали: «Найн!» – и на чисто немецко-петербургском диалекте добавили: «Подождем, пока Карл будет зарабатывать достаточно, чтобы начать откладывать „зайн кляйнес Шатц“» – свои маленькие сбережения. Прошло десять лет. Карл стал зарабатывать вполне достаточно и уже отложил некоторое «Шатц», но папы и мамы, обсудив вопрос, снова сказали «Найн». Прошло еще двадцать лет – детки снова попросили разрешения пожениться. Но и на этот раз родители ответили: «О найн!» И тогда пятидесятилетние Карлхен и Эмилия грустно посмотрели друг на друга, взялись за руки, пошли на Круглый пруд и бросились в него. И когда их тела наутро баграми вытащили из пруда, они еще держали друг друга за руки. И тогда господин пастор и господин учитель посоветовали прихожанам назвать именами влюбленных одну из самых красивых улиц поселка, чтобы отметить столь удивительную швабскую любовь и не менее дивное послушание родителям.
Эта легенда, рассказанная в свое время Львом Васильевичем Успенским, имеет под собой вполне реальную основу. Такая драматическая история действительно случилась на северной окраине Петербурга в 1855 году. Молодой немецкий слесарь Карл влюбился в дочь местного булочника Эмилию. Отчаявшись получить согласие своих родителей, петербургские Ромео и Джульетта покончили с собой, бросившись в искусственный пруд. До 1917 года жителям Лесного была хорошо известна и общая могила несчастных влюбленных с простым металлическим крестом. Ее всегда украшали свежие цветы. Могилу чтили. Она считалась достопримечательностью Петербурга. Выпускались даже почтовые открытки с ее изображением. Долгое время о событиях той давней поры напоминал и проспект Карла и Эмилии. Но в 1952 году с чьего-то партийного благословения он был переименован в Тосненскую улицу.
Рассказывали в Петербурге легенды и о необыкновенном немецком трудолюбии. Будто бы даже во время театральных представлений работящие немки, чтобы не терять времени даром, вязали на спицах. В самых трогательных местах они все, как одна, отрывались от работы, утирали слезы аккуратно выглаженными платочками, а затем снова все, как одна, принимались за работу. Мало того, чтя сложившиеся годами традиции, в петербургском немецком театре по вторникам и пятницам спектакли не ставились, поскольку «купечествующий немец в эти дни по вечерам занимается приготовлением писем на почту».
В 1870-е годы петербургские немцы широко праздновали Иванову ночь, или ночь на Ивана Купала. Центром праздника был Крестовский остров. Посреди острова издавна находился песчаный холм, на верхней площадке которого, по свидетельству современников, одновременно помещалось около ста человек. Фольклорное название этого холма – «Кулерберг» произошло, по мнению многих, от глагола «kullern», что приблизительно означает «скатываться, ложась на бок». Будто бы так в очень далеком прошлом развлекались прапрадеды петербургских немцев в ночь на Ивана Купала. Со временем этот старинный ритуал приобрел более респектабельные формы, и в петербургский период немцы уже не скатывались с «Кулерберга», а сбегали с вершины холма, непременно парами – кавалер с дамой. Остался в собрании петербургского городского фольклора и микротопоним «Кулерберг».
Влияние немцев на все сферы жизни России вообще и Петербурга в частности было необыкновенно высоким. Сказывался не только значительный процент немецкого населения Петербурга, но и многолетние родственные связи императорских домов России и Германии.
Сходство государственного устройства обеих стран приводило, порой, к досадным курьезам. Так, о солдатах, переодетых Павлом I в неуклюжую прусскую форму, в Петербурге говорили: «Русс а ля прусс». Но если с воцарением Александра I солдаты сбросили ненавистную, а главное, неудобную прусскую форму, то национальный состав российского офицерства еще очень долго в значительной степени оставался немецким. Как рассказывает одно предание, известный своими прославянскими взглядами Александр III, самый русский император, как его любили называть в Петербурге, на представлении ему группы офицеров одного из армейских штабов, услышав фамилию Козлов, не смог удержаться от радостного восклицания: «Наконец-то!» Все остальные фамилии оканчивались на «гейм» или «бах» и имели звучные приставки «фон».
В августе 1914 года началась первая мировая война. Антинемецкие настроения в России и особенно в Петербурге оказались настолько сильными, что сопровождались разгромами немецких магазинов, демонстрациями протеста у здания германского посольства, построенного крупнейшим немецким архитектором П. Беренсом, и даже переименованием Санкт-Петербурга (это название казалось уж очень немецким) в Петроград. Подогреваемая ура-патриотическими лозунгами толпа лавочников сбросила с карниза германского посольства огромные каменные скульптуры коней. С тех пор считается, что эта конная группа безвозвратно утрачена. Однако и сегодня можно услышать легенду о том, что кони, целые и невредимые, до сих пор покоятся на дне то ли Невы, то ли Мойки. И ждут своего часа.
По другой легенде, рухнувшие наземь кони раскололись, и перед изумленными глазами толпы из чрева одного из них выпал шпионский радиопередатчик. Разгоряченные увиденным, люмпены бросились в гостиницу «Астория», где засели, согласно их воспаленному воображению, немецкие шпионы. Но в гостинице, владельцами которой были действительно немцы, их постигло разочарование. Сотрудников и след простыл. По легенде, хитроумные и коварные немцы давно готовились к бегству и потому задолго до августовских событий прорыли подземный ход из гостиницы в германское посольство.
С этого времени немецкое присутствие в Петербурге резко пошло на убыль. После октябрьского переворота одни немцы уехали сами, другие были изгнаны или уничтожены, третьи старались забыть о своем происхождении, четвертых, которые вопреки всему оставались немцами, было так мало, что городской фольклор просто забыл об их существовании.
Наконец, в 1945 году немцы в огромном количестве вновь появились на улицах Ленинграда, но уже в ином качестве. Они были военнопленными. В основном их использовали на строительных и восстановительных работах. Ленинградцы старшего поколения хорошо помнят многочисленные бригады пленных немцев, занятых восстановлением разрушенного войной города. И опять, как и много лет назад, немецкое трудолюбие и аккуратность стали гарантией высокого качества построек и тщательности их отделки. Фольклор вновь заговорил о немцах. До сих пор дома, построенные ими в Кировском районе Ленинграда, в обиходе называются «Немецкими домами», а дома на Черной речке – «Немецкими особнячками».
И еще один дом петербургский фольклор прочно связывает с немецкими военнопленными: дом № 7 в Угловом переулке. Согласно легенде, строившие его немцы, сжигаемые ненавистью и жаждой мести, включили в орнамент фасада свастику. Этот одиозный знак на фасаде ничем не примечательного жилого дома действительно хорошо виден с набережной Обводного канала. Однако известно, что дом этот во время войны вообще не был разрушен, И немцы к его послевоенной истории никакого отношения не имели. Дом был построен в 1875 году по проекту архитектора Г. Б. Пранга в так называемом «кирпичном» стиле. Его центральный фасад выложен серым кирпичом и пестро орнаментирован красно-кирпичными вставками. В этот орнамент действительно включен ярко выраженный, хорошо различимый знак свастики – древнейший символ света и щедрости, зафиксированный в традиционных орнаментах многих народов в различных частях мира. Но это произошло задолго до того, как этот символ был использован немецкими фашистами в качестве эмблемы своего «арийского» начала.
Несмотря на большую численность немцев и степень их влияния на экономическое, общественное и культурное развитие Петербурга, не они были первыми иностранцами в новой русской столице. Ими были голландцы. Хотя они и идут в статистике этнического состава населения Петербурга в графе «прочие». «Herr aus Holland», что буквально значит «человек из Голландии», появился в Петербурге едва ли не в первые недели существования города. Первый торговый корабль, прибывший в новый русский порт, был голландским. Широко известна легенда о том, как капитан никак не мог поверить, что кормчим, который привел его судно в устье Невы, был сам государь Петр I, а простой деревянный домик на берегу реки, где его угощали роскошным обедом, был не чем иным, как дворцом русского царя. Простодушный голландец, ничего не подозревая, одаривал Екатерину заморскими тканями и знаменитым на весь мир голландским сыром, прося ее каждый раз целовать его за это. А «кормчий» подзадоривал и подбадривал его, пока наконец голландец не понял шутки царя и не упал к его ногам, прося прощения. Но Петр, как рассказывает легенда, поднял его, купил все его товары и «пожаловал многие привилегии на будущее время».
Менее известна легенда о другом голландском шкипере, которого Петр однажды спросил, где ему кажется лучше: в Архангельске или в Петербурге. «Всем бы хорошо здесь, – ответил шкипер, – да нет в Петербурге оладьев». И Петр в тот же день угостил заморского моряка оладьями и впредь всем строго-настрого повелел готовить их для голландских шкиперов.
Следы голландского присутствия до сих пор хорошо заметны как в официальной, так и в фольклорной топонимике. Из официальной – это Голландская церковь на Невском проспекте и остров Новая Голландия со старинными складами для просушки корабельного леса по прогрессивной в то время голландской технологии, Голландский сад в Екатерининском парке Царского Села. Из неофициальной, фольклорной микротопонимики можно назвать «Голландскую биржу» – район Васильевского острова у здания Биржи и «Голландский домик» – Монплезир, дворец Петра I в Петергофе. Уже упомянутый Голландский (или Старый) сад в Царском Селе местные жители называют «Голландкой».
Голландцы, появлявшиеся в начале XVIII века в Петербурге, были в основном моряками и потому редко оседали здесь. Однако голландский фразеологизм «Herr aus Holland», попав на русскую почву, прижился, но расцвел уже в новом качестве. Первая часть этой лексической конструкции, созвучная с названием двадцать третьей буквы славянской кириллицы «х», утратила мягкость своего произношения и стала произноситься «хер», а вся лексема в русской транскрипции превратилась в расхожее ругательство. Впрочем, голландцы здесь ни при чем.
Шведская община в Петербурге была малочисленной. По количеству своих членов она опережала только англичан. В начале XX века на два миллиона жителей Петербурга насчитывалось только три тысячи шведов. Но, несмотря на это, вклад их в экономику и культуру Петербурга велик. Достаточно вспомнить архитектора Федора Лидваля и промышленника Альфреда Нобеля. Тем не менее упоминаний в фольклоре о шведах автору долгое время не попадалось. Только совсем недавно, во время работы над этой книгой, пришло письмо из Швеции, из Института славистики Лундского университета. Бывший наш соотечественник, ныне гражданин Швеции, спрашивает, сохранился ли в Петербурге «Шведский тупик»? В самом деле, этот фольклорный топоним, о котором знают в современной Швеции, напоминает о старинном шведском уголке Петербурга. Так называют в быту часть Малой Конюшенной улицы перед фасадом Лютеранской шведской церкви Святой Екатерины, в который упирается короткий Шведский переулок.
Среди первых строителей Петербурга, согнанных сюда из дальних российских губерний, были казанские и астраханские татары. Они были заняты на строительстве земляной тогда Петропавловской крепости. Здесь же, вблизи Кронверкского пролива, они и селились. Их войлочные юрты занимали большой участок, называвшийся в то время Татарской слободой, или Татарским становищем. Позднее здесь был проложен переулок, названный Татарским в память о тех первых петербургских татарах. По сложившейся впоследствии традиции, татары в Петербурге занимались в основном мелкой торговлей. С этим родом деятельности связан и городской фольклор о них. Так, первый в Петербурге толкучий рынок, возникший в 1710 году на Березовом острове, недалеко от Кронверка, в обиходе называли «Татарским табором». «Татарским пассажем» называли в Петербурге крытый Александровский рынок, который занимал огромную территорию от Садовой улицы до Фонтанки вдоль Вознесенского проспекта, а на самом рынке место, где торговали так называемые «татары-халатники», народ окрестил «Татарской площадкой». Эти знаменитые «халатники» были достопримечательностью старого Петербурга. Они регулярно обходили город, заглядывая во дворы и пронзительно выкрикивая: «Халат-халат!» Их ожидали. На крик выходили домработницы, за бесценок продавая вышедшую из моды одежду, сношенную обувь, пришедшую в негодность домашнюю утварь. В Петербурге этих старьевщиков так и называли: «Халат-халат». Упоминаниями о них буквально пестрит петербургская литература.
Национальный татарский обычай употребления в пищу конского мяса оставил в фольклоре свой след. В свое время Крестовский остров был изрезан протоками, прорытыми во второй половине XVIII века для осушения болотистой почвы. Протоки образовывали островки, на одном из которых петербургские татары забивали лошадей. В народе остров называли «Татарским». В XIX–XX веках протоки были засыпаны и «Татарский остров» прекратил свое существование.
В 1910 году на Кронверкском проспекте было начато строительство первой и единственной в Петербурге мусульманской Соборной мечети. Окончательно завершена она была только в 1920 году. Мечеть оставалась действующей вплоть до 1941 года, затем по распоряжению властей ее закрыли. Вновь открыли мечеть в 1956 году. Несмотря на то, что мечеть была молельным домом для верующих мусульман всех национальностей, исповедующих ислам, за ней прочно закрепились два фольклорных названия, и оба они были связаны только с татарами. Мечеть одновременно называют и «Казанским собором» – по Казани, столице Татарстана, и просто – «Татарской мечетью». А весь район вокруг мечети петербуржцы называют «Татарстаном».
Евреи в Петербурге появились рано. Еще при Петре I. Хотя ни о каком землячестве или общине не могло быть и речи. Первый российский император Петр I евреев не любил. Несмотря на то, что в его ближайшем окружении было относительно много крещеных евреев. Польским евреем был вице-канцлер Шафиров, португальским евреем – первый генерал-полицмейстер Девиер, испанским евреем – любимый шут Петра Ян Акоста. Подобными парадоксами национальной политики напичкана вся история России. Даже в периоды наивысшего расцвета антисемитизма в верхних эшелонах власти всегда находились два-три «любимых еврея». По большому счету, евреев в Петербурге не было до 1770-х годов. Это дало повод к легенде о том, что подобная странность определена свыше, чуть ли не Богом, что евреи не жили в Петербурге только потому, что в летние месяцы, в период белых ночей, «ночи нет» и поэтому нет возможности определить время утренней и вечерней молитв. Известно, что ортодоксальные евреи время начала молитв определяют по заходу солнца.
Только после присоединения к России Польши и Литвы, в результате чего евреи, проживавшие на этих территориях, автоматически стали подданными Российской империи, они постепенно начали появляться в столице. Процесс этот сопровождался различными, порою абсурдными ограничениями. Так, например, Сенат почти одновременно издал два указа, взаимоисключавшие друг друга. По одному из них в Петербурге имели право жить фармацевты, но только до тех пор, пока не становились торговцами. По другому – евреи-торговцы могли селиться в столице и жить в ней, пока не поменяют своей профессии. Сохранился старый анекдот. Встречаются в поезде два еврея. Оба Рабиновичи. «Вас за что выслали?» – спрашивает один. «Я дантист, но мне надоело лечить зубы и я стал торговать. А вас?» – «Мне противно стоять за прилавком, поменял профессию, вот меня и выселяют». – «Знаете, есть комбинация». – «Какая?» – «Давайте поменяемся документами. Не все ли равно русскому правительству, какой Рабинович служит, а какой торгует».
Ограниченной для евреев была и служба в царской России. Однако они служили. В Петербурге любили рассказывать не то анекдот, не то легенду о том, как однажды во время Пасхи император после богослужения в кафедральном соборе начал целовать присутствующих, говоря при этом: «Христос воскресе!» Наконец дошел до часового, с теми же словами поцеловал его и к удивлению своему услышал в ответ: «Никак нет. Это неправда». Оказывается, часовой был евреем.
Основным районом расселения евреев в Петербурге была Коломна. Один из участков Коломны позади Мариинского театра в начале XX века, по свидетельству Осипа Мандельштама, в народе называли «Еврейским кварталом». Фольклорная традиция называть районы города по национальности его основных жителей была продолжена и в советское время. Правда, верные ленинцы-интернационалисты подкрашивали подобные микротопонимы сладким сиропом антисемитизма. Так, участок проспекта Тореза в Сосновке на советском жаргоне назывался «Кварталом еврейской бедноты». Как, впрочем, и многие дома, где, по мнению черни (в пушкинском понимании этого слова), процент проживающих инородцев превышал допустимую квоту, назывались «Еврейскими домами», «Домами еврейской бедноты», «Башнями Сиона» и т. д. и т. п.
В 1893 году в Коломне была выстроена Большая Хоральная синагога. Среди евреев города бытует легенда о том, что для строительства этой синагоги – «самой большой и красивой в Европе», место именно на Большой Мастерской улице в Коломне выбрано не случайно, что эта земля принадлежала самому махровому антисемиту и что синагога могла бы выглядеть еще краше и богаче, если бы царь разрешил украсить ее золотом и серебром. Синагога возводилась стараниями барона Горация Гинцбурга – крупного банкира, золотопромышленника и щедрого филантропа. Гинцбург прожил в Петербурге более пятидесяти лет и долгое время был бессменным лидером еврейской общины. Но когда в 1909 году он умер, то похоронили его в Париже согласно воле покойного. Однако, по широко распространенной среди евреев легенде, Гораций Гинцбург покоится на Преображенском кладбище в Петербурге.
Более того, желающие могут увидеть и само захоронение с гранитной плитой, наклонно лежащей на постаменте и украшенной каменными гирляндами. Могила безымянна. Никаких надписей на ней нет. По другой версии, эта плита установлена петербургской еврейской общиной сразу после смерти Гинцбурга в память о знаменитом бароне.
О возникновении первого в Петербурге еврейского Преображенского кладбища сохранилась любопытная легенда. Согласно ветхозаветной традиции еврейского народа, обрекать душу умершего на одиночество в загробном мире запрещалось. Поэтому первое захоронение на любом новом кладбище должно было быть двойным. Случилось так, что зимой 1875 года в лаборатории Охтенского порохового завода при взрыве погибли два лаборанта еврейской национальности. На Преображенском кладбище сохранилась их общая могила, отмеченная стелой. На ней надпись по-русски и по-еврейски: «Берка Бурак, Мошна Фрисна. Лаборатисты Охтенского порохового завода 23 лет от роду. Погибли при взрыве лаборатории 28 февраля 15 адера и погребены на кладбище 2-го марта 1875 года». Будто бы это и есть первая могила первого еврейского кладбища в Петербурге.
В 1970-х годах в петербургском фольклоре появился новый микротопоним. Преображенское еврейское кладбище стали называть «Линией Маннергейма». Здесь нашли свое упокоение те, над кем насмехались и кого ограничивали в правах. На языке идеологов ленинской национальной политики – «окопались». И теперь уже никто не мог лишить их родины.
Антисемитизм, как инструмент политического манипулирования, всегда присутствовал в арсенале русских правительств. С этим связана легенда о древних сфинксах, привезенных в Петербург из Египта в 1832 году. Будто бы давным-давно они закрыли глаза, увидев кровавые кресты, которыми погромщики пометили двери еврейских жилищ, и раскрыли их только на новом месте, в Петербурге. Проснулись от холода и вновь увидели над промерзшей белой рекой блеснувший золотом тот же самый знак креста. Это в день Крещения перед Зимним дворцом проходила церемония водосвятия… И сфинксы вновь, и уже навеки, сомкнули глаза.
Пик советского антисемитизма пришелся на послевоенные годы. Сигналом к нему послужила пресловутая борьба с космополитизмом и сфабрикованное затем «дело врачей». Откровенно антиеврейской политике предшествовали лицемерные иезуитские акции, которые должны были доказать мировому общественному мнению, что в СССР нет и в помине национализма и антисемитизма. Так, в разгар кампании по борьбе с космополитизмом лучший друг всех евреев Иосиф Сталин приказывает издать молитвенник на иврите. В Ленинграде собирают издателей, которые, хоть и были евреями, ни слова не понимали на иврите. Тем не менее, согласно легенде, они достают молитвенник 1913 года и отдают его в типографию. Когда тираж был готов, оказалось, что сборник начинается молитвой за здравие царя Николая II. Тираж пустили под нож. Что было с издателями, догадаться нетрудно.
Цветущее дерево государственного антисемитизма регулярно приносило свои горькие плоды. Смачные анекдоты ненавязчиво напоминали, кто есть кто. Чтобы не забывали.
Трамвай идет по Ленинграду. Кондуктор объявляет остановки:
– Площадь Урицкого.
– Бывшая Дворцовая, – комментирует старый еврей.
– Улица Гоголя.
– Бывшая Малая Морская.
– Проспект 25-го Октября.
– Бывший Невский.
– Замолчите наконец, товарищ еврей, бывшая еврейская морда.
* * *
– А вы знаете, что Ломоносов еврей?
– С чего вы взяли?
– Настоящая его фамилия Ораниенбаум.
Наконец, евреи попробовали огрызнуться.
В отделе кадров:
– Имя? Отчество?
– Аркадий Исаакович.
– Еврей?
– Нет.
– Но ведь Исаакович?!
– По-вашему, если Исаакиевский, то тоже не церковь, а синагога?
Кстати, место встречи у Исаакиевского собора в Питере называют «у Исаака Киевского».
Накануне московских Олимпийских игр 1980 года, в обмен на некоторые уступки Запада, был разрешен выезд евреев из Советского Союза. И тут же «Большой дом» в Ленинграде, где размещалось Управление КГБ по Ленинграду и области, стали называть «КПП» – аббревиатура, означающая «контрольно-пропускной пункт», естественно, за границу. Поток эмиграции оказался таким мощным, что не появиться анекдотам на эту захватывающую тему было просто нельзя. И они появились.
Если эмиграция пойдет такими темпами, то в стране останутся всего два еврея: в Ленинграде Аврора Крейсер и в Москве – Мишка Талисман.
* * *
После такой эмиграции в Ленинграде останутся всего два еврея: Аврора Крейсер и Дора Говизна.
Ситуацию прокомментировал даже далекий Сыктывкар. Вот анекдот из «Обстоятельного собрания современных анекдотов», выпущенного в свет сыктывкарским издательством в 1991 году:
Ленинградский строительный трест соревнуется с гражданами, уезжающими из СССР: кто больше квартир сдаст государству? Евреи обгоняют.
В конце 1980 – начале 1990-х годов, благодаря известным демократическим изменениям в России, положение заметно стабилизировалось. Выезд евреев из страны несколько сократился. Фольклор тут же на это отозвался:
Армянское радио спросили:
– Чем отличается канал Грибоедова от Суэцкого канала?
– Евреи на канале Грибоедова живут по обе его стороны.
* * *
У памятника Суворову в величественной позе стоит высокий генерал. Мимо проходит старый еврей.
– Товарищ генерал, – с сильным еврейским акцентом обращается он к генералу, – это памятник Суворову?
– Суворову, Суворову, – передразнивая и сильно картавя, отвечает генерал.
– Да что же вы мне-то подражаете? Вы ему подражайте.
* * *
Твердыми продолжателями дела Ленина-Сталина остались только настоящие патриоты. Их лозунг был последовательным и недвусмысленным: «Октябрьская революция – это результат жидомасонского заговора… и мы никогда не отступим от ее завоеваний».
Надо сказать, что вся национальная политика коммунистической партии невольно была направлена на выработку стойкого иммунитета против идеологии коммунизма. И прививка оказалась долгосрочной и надежной. В Израиле, среди бывших советских евреев, которых там зовут русскими и которые искренне любят свою бывшую родину и особенно сердечно относятся к Ленинграду, с удовольствием рассказывают анекдот:
– Что будет, если крейсер «Аврора» начнет совершать чартерные рейсы в Израиль?
– Ничего особенного. Нас, евреев, на холостой выстрел не возьмешь.
Евреи были не единственными персонами «non grata» в петровском Петербурге. Ими были еще цыгане. Петр I цыган не жаловал. Их веселые шумные таборы, если верить легенде, стояли на правом берегу Невы к югу от Малой Охты. Гулянки там шли до утра, и поэтому Веселый поселок будто бы так и называется. Согласно той же легенде, Петр I ссылал туда неисправимых пьяниц.
Об отношении Петра к цыганам сохранилось предание. Когда ему доложили, что в Петербург приехали «плясуны, балансеры и другие фокусники, представляющие разные удивительные штуки» и готовы дать веселое представление, то царь будто бы сказал генерал-полицмейстеру Девиеру: «Здесь надобны художники, а не фигляры. Я видел в Париже множество шарлатанов на площадях. Петербург не Париж: пусть чиновные смотрят дурачества такие неделю, только с каждого зеваки брать не больше гривны, а для простого народа выставить сих бродяг безденежно перед моим садом на лугу; потом выслать из города вон. К таким празднествам приучать не должно. У меня и своих фигляров между матросами довольно, которые на корабельных снастях пляшут, головами вниз становятся на мачтовом верхнем месте. Пришельцам-шатунам сорить деньги без пользы – грех».
Так или иначе, но ранее 1763 года в официальных документах постоянного присутствия цыган в столице или Петербургской губернии не зафиксировано. Именно с тех пор цыгане становятся юридически равноправными жителями Санкт-Петербурга. Основным местом обитания их остается район Охты. Во всяком случае, когда в 1930-х годах решено было приучить цыган к оседлой жизни, то именно на Охте для них построили барачного типа деревянные дома. Весь небольшой поселок, состоящий из нескольких таких невзрачных домов, в Ленинграде стали называть «Цыганской слободкой».
Октябрьские события, перевернувшие вверх дном сложившиеся устои петербургской жизни, наложили свой отпечаток и на жизнь городских цыган. В. С. Шефнер, перебирая в памяти воспоминания о своем детстве на Васильевском острове, рассказывает о большом красивом доме на 4-й линии, хозяин которого после революции сбежал за границу, так и не успев его достроить. В пустых неотделанных квартирах поселились цыгане. Милиция туда заходить боялась: в нижнем этаже цыгане держали четырех медведей, с которыми они ходили по дворам и давали представления. Местные жители называли этот дом «Цыганским».
К началу XX века в Петербурге насчитывалось 60 этнических групп. Среди них были традиционно крупные национальные общины, о которых мы уже говорили. Но и многие другие, малочисленные группы столичного населения, оставили в Петербурге значительные меты, свидетельства о которых сохранились в городском фольклоре. Вот некоторые из них.
В царствование императора Павла I в Петербурге было только семь французских «модных магазинов». Согласно одной легенде, император не позволял открывать больше, говоря, что терпит их по числу семи смертных грехов.
В конце XVIII века в доме № 118 по Фонтанке, построенном архитектором Н. А. Львовым для поэта Г. Р. Державина, короткое время располагалась Римско-католическая консистория. С тех пор сквер во дворе этого дома в народе называют «Польским садиком».
В 1835 году в слободе Измайловского полка был освящен белокаменный Троицкий собор, построенный по проекту архитектора В. П. Стасова. По свидетельству современников, строительство собора обошлось казне неправдоподобно дешево. В городе сложилась легенда о том, что деньги на строительство собирали среди болгар, проживавших как в России, так и в самой Болгарии. Это было знаком признательности болгарского народа за участие России в освобождении Болгарии от многовекового турецкого ига. Основания для таких легенд были. В 1886 году в память о русско-турецкой войне 1877–1878 годов, в ходе которой Болгария получила самостоятельность, перед Троицким собором был установлен памятник – увенчанная фигурой Славы чугунная колонна, основой которой служили 140 стволов трофейных пушек, отбитых у турок при освобождении братской славянской страны. Видимо, совсем не случайно Троицкий собор имеет и второе, народное название – «Болгарский собор». В 1930-х годах Колонна Славы была разобрана и отправлена на переплавку. Согласно легендам, это сделали будто бы в знак нерушимой дружбы между советским и турецким народами, накануне посещения Турции наркомом Ворошиловым, о чем мы уже говорили.
На берегу Лиговского канала, в то время еще не засыпанного и доходившего до Мальцевского рынка, в 1866 году по проекту архитектора Р. И. Кузьмина была построена церковь во имя Димитрия Солунского. В народе ее называли «Греческой», или «Посольской». Церковь предназначалась для греков, живших в Петербурге, и принадлежала греческому посольству. Все службы в ней велись на греческом языке. Судьба церкви оказалась типичной для множества культовых зданий, доживших до советской власти. В 1961 году ее снесли. Снесли потому, что Н. С. Хрущев принародно обещал показать «последнего попа» по телевизору, и все власти на местах старались ему в этом помогать. А еще и потому, что, как сказал Иосиф Бродский, «Теперь так мало греков в Ленинграде,/Что мы сломали Греческую церковь, /Чтобы построить на свободном месте/Концертный зал».
Согласно одной ленинградской легенде, дело было так. Пятидесятилетие Октябрьской революции решено было отметить возведением в Ленинграде нового концертного зала. Идея будто бы принадлежала первому секретарю Ленинградского обкома КПСС Г. В. Романову, и он лично курировал проектирование зала. Но когда проект был готов и времени на его реализацию почти не оставалось, вдруг выяснилось, что и место для строительства не определено. Сроки поджимали. Исполнители нервничали. Как утверждает легенда, в очередной раз Григорию Васильевичу об этом осторожно напомнили в машине по дороге с Московского вокзала в Смольный. Романов не выдержал и нетерпеливо махнул рукой в сторону открытого окна машины. «Вот здесь и стройте!» В этот момент проезжали мимо Греческой церкви. Так была решена ее судьба.
В 1915–1916 годах петроградцы стали замечать, что на улицах появились китайцы. Их было много. Родилась легенда. Будто бы китайцев пригласило русское правительство для строительства крепостей против немцев. Строили крепости китайцы или нет, этого никто определенно не знал, но утверждали, что после революции и заключения мира с немцами китайцы остались не у дел. Их побаивались, но в лицо называли палачами и дразнили: «Ходя, ходя, почему у тебя походя руки в крови?» Говорили, что это те «ходи», что по ночам приходят в ЧК за душами замученных и расстрелянных. Потом поползли слухи, что однажды их всех до одного перебили на рынках.
Зинаида Гиппиус в своих воспоминаниях пишет: «Трупы расстрелянных, как известно, „чрезвычайка“ отдавала зверям Зоологического сада. И у нас, и в Москве. Расстреливали же китайцы. И у нас, и в Москве. Но при убивании, как и при отправке трупов зверям, китайцы мародерничают. Не все трупы отдают, а который помоложе – утаивают и продают под видом телятины. И у нас, и в Москве. У нас на Сенном рынке. Доктор N (имя знаю) купил „с косточкой“, – узнал человечью. Пошел в ЧК. Ему там очень внушительно посоветовали не протестовать, чтобы самому не попасть на Сенную».
Петербургская микротопонимика, связанная с китайцами, вряд ли имеет какое-то отношение к героям тех страшных легенд. Скорее всего образование «китайских» фольклорных названий напрямую связано с фактом чудовищной удаленности Китая от Петербурга и его экзотикой. Так, по признаку удаленности от центра города один из первых в Ленинграде жилищных городков для рабочих Кировского завода в районе Тракторной улицы называют «Шанхаем». В Павловске «Шанхаем» окрестили далекую окраину за военным городком. В то же время «Шанхаем» зовут районы обитания бродяг и бомжей у Витебского и Варшавского вокзалов, правда, уже по другим признакам.
Многие дома, длина которых намного превосходит обычную, в фольклоре называют «Китайской стеной». Вот адреса некоторых: дом № 29 на улице Типанова, дом № 51 на Серебристом бульваре, дом № 21 на Придорожной аллее, дом № 51 на Варшавской улице. Булочную в доме № 40 на Невском проспекте местные домохозяйки с давних пор называют «Китайской». Наконец, на лагерно-блатном жаргоне «Китайским банком» называли ленинградский Госстрах – вероятно, в силу его отдаленности от нужд обитателей лагерей и тюрем.
Нетрудно предположить, что многие анекдоты, главным героем которых стал незадачливый и простодушный чукча, как, впрочем, и другие анекдоты подобных сериалов, придумываются в Петербурге. Вместе с тем так же легко допустить, что в многонациональном пятимиллионном городе проживают и чукчи. Так или иначе в богатейшем арсенале петербургского городского фольклора один анекдот о чукче есть.
Стоит чукча, упираясь обеими руками в Казанский собор. Собралась толпа.
– Что ты делаешь, чукча?
– Да вот, однако, собор купил, домой толкаю.
– Ну и далеко уже оттолкал?
– Да вроде далеко, – оглядывается по сторонам, – чемоданов уже не видно.
Определенные изменения в этнический состав Петербурга внесли события, связанные с распадом Советского Союза и переходом стран СНГ на рыночные отношения. Заметно увеличилось количество людей из бывших закавказских республик. Забеспокоились ревнители чистоты национальных рядов. Масло в огонь подлили, как всегда, непродуманные действия федеральных и местных властей. Унизительные проверки документов, бесконечные телевизионные прения на тему, кто должен продавать арбузы и хурму на петербургских рынках: белокурые дети вологодских равнин или чернобровые сыны кавказских гор, наконец, безумная чеченская война, которая моментально свела все национальности кавказского региона к одной, нареченной в лучших традициях дружбы народов СССР – кавказской, – все это не могло не сказаться на микротопонимике Петербурга. Реакция фольклора оказалась вполне предсказуемой. Кузнечный рынок стал называться «Восточным базаром», а Мальцевский и Невский – «Черными рынками». Причем, «черные рынки» были и раньше, еще в Ленинграде. Ими называли места перепродажи с рук дефицитных товаров. «Черный рынок», например, одно время был в сквере магазина подписных изданий на Литейном, затем он перекочевал на тротуар Литейного проспекта вдоль домов № 49–51. К какой-либо национальности этот микротопоним отношения не имел. Национальный привкус появился, как мы уже говорили, позже. «Черным пятаком» стал микрорайон у дома № 1 по Лиговскому проспекту, вблизи Некрасовского рынка. Горой «Арарат» стали называть сортировочную горку Витебской железной дороги, куда приходили цистерны с армянским коньяком для разливочных заводов и где по сходной цене можно было легко приобрести жгучий виноградный напиток. А эшелоны с винными цистернами у разливочного завода на Полевой аллее, 9, охраняемые мощным вооруженным конвоем, в местном фольклоре прозвали «Армянскими бронепоездами».
Дело дошло до того, что на заре пресловутой горбачевской перестройки немереные богатства, финансовая власть и могущество зачастую ассоциировались не с «новыми русскими», а с людьми с Кавказа. Сохранился анекдот.
Стоит грузин на Невском проспекте и, не обращая внимания на снующую толпу, пересчитывает деньги.
– Простите, как пройти к Эрмитажу? – обратился к нему прохожий.
Грузин, не поднимая головы, продолжает считать.
– Простите, ради Бога, вы не знаете, где находится Эрмитаж? – с мольбой повторяет прохожий.
Грузин молча продолжает считать.
– Извините пожалуйста, как пройти?..
– Послушай, – раздражается грузин, – что ты заладил «Эрмитаж, Эрмитаж». Дело делать надо.
Вот тогда-то и вошел в петербургский городской фольклор бредовый по смыслу и алогичный по содержанию топоним «Санкт-Кавказия». В самом деле, «сон разума рождает…»
И все-таки кавказский след в петербургском фольклоре, как нам кажется, не ведет в безысходный тупик «Санкт-Кавказии». Лучшие образцы искрометного и лучезарного кавказского юмора тому свидетельство.
Вокруг Медного всадника бегает, восторженно причмокивая и размахивая руками, армянин.
– Вах, какой армян! Какой армян! Вах! Вах!
– Какой же это армянин? – осторожно спрашивает его удивленный прохожий. – Это русский царь Петр Первый.
– Какой царь?! Какой царь?! Ты что не видишь написано: Га́зон Засея́н?!
Надо сказать, ничего необычного в некоторой, как может показаться, преувеличенной многонациональности Петербурга нет. Все крупные города мира, а тем более столицы, отмечены этой особенностью. Но есть, по меньшей мере, два обстоятельства, которые делают эту ситуацию для Петербурга уникальной. Во-первых, уникальность самого возникновения Петербурга – вдруг, в непригодном для жилья месте; города, длительное существование которого для большинства представлялось сомнительным. Не случайно ведь, согласно одной легенде, чуть ли не полтора столетия купеческая Москва с завидным терпением ожидала «скорейшего потопления Петербурга в своей финской яме». И во-вторых, необычное географическое положение новой столицы на самом краю империи, вдали от людских ресурсов, от природных богатств, от плодородной земли, или, как остроумно заметил один тонкий наблюдатель, «на кончиках пальцев» огромного организма государства. На кончиках пальцев, а не в центре грудной клетки, где, по логике, более уместно быть сердцу страны.
Эти парадоксальные, на первый взгляд, обстоятельства и превратили Петербург в некий уникальный полигон, лабораторию, где предоставлялась редкая возможность реализовать мощный потенциал наиболее пассионарной, по терминологии Льва Гумилева, части народа. Хлынул поток иностранцев из Европы, появилась армия иноязычных из собственных внутренних губерний. Все смешалось на единой и общей рабочей площадке. Но при этом в Петербурге, как нигде, сохранялись национальные особенности всех групп населения, хотя из фольклора известно, что на вопрос о национальности все чаще жители Петербурга отвечают: «Петербуржец».
Имя в фольклоре
Едва ли не важнейшим признаком городского фольклора вообще и петербургского в особенности является его персонификация. Причем, речь идет не столько о превращении тех или иных лиц петербургской истории в героев фольклорных сюжетов, сколько об использовании фольклором имен петербуржцев как строительного материала для создания прочных лексических конструкций петербургского текста. Одни из таких фразеологических образований сохранили свои «фамильные» связи прозрачными и легко читаемыми. Другие лексемы оказались, напротив, так зашифрованы, что требовали определенных усилий для их дешифровки в поисках этимологических корней. Например, широко известная в гастрономических летописях Петербурга «Гурьевская каша» – манная каша, приготовляемая в керамическом горшке на сливочных пенках вместе с грецкими орехами, персиками, ананасами и другими фруктами – носит имя своего изобретателя – известного в александровскую эпоху министра финансов графа Дмитрия Александровича Гурьева (1751–1825). Гурьев прожил славную жизнь и был похоронен внутри Преображенской церкви старинного Фарфоровского кладбища. Но в 1932 году кладбище вместе с церковью, которая якобы мешала строительству Володарского моста, было ликвидировано. Захоронение графа Гурьева погибло. Может быть канула бы в лету сама память о министре финансов той давней поры, если бы не кулинарный шедевр, обессмертивший имя графа, благодаря фольклорному названию ставшему со временем официальным.
В то же время любимое дежурное блюдо недавнего общепита – бефстроганов, благодаря внешнему сходству со словом «строгать», утратило историческую связь со своим создателем графом Александром Сергеевичем Строгановым (1733–1811), президентом Академии художеств и членом Государственного совета, известным меценатом и гостеприимным хозяином, роскошные обеды которого в екатерининское время приводили в изумление видавших виды петербуржцев и напоминали им об изысканных пиршествах древних римлян. Впрочем, в дореволюционные времена происхождение этого замечательного кушанья из мелко нарезанных кусочков мяса, тушенных в сметане, старательно подчеркивалось. В ресторанных меню оно называлось «беф а ля Строганов», то есть «мясо по-строгановски». В отличие от старинного кушанья – «скоблянки», как издавна на Руси называлось строганое мясо.
По сложившейся ресторанной традиции, к бефстроганову подавался гарнир под названием «Картофель а ля Пушкин». Его появление в кулинарных рецептах связано с одной из легенд о пребывании Пушкина в Михайловском. Будто бы вернувшись однажды заполночь из Тригорского, Пушкин застал свою любимую няню давно спящей и, не желая будить ее, решил сам приготовить себе поздний холостяцкий ужин. В доме ничего, кроме холодной картошки в мундире не оказалось. Не мудрствуя лукаво, Пушкин очистил ее и обжарил в масле. Случайно приготовленное блюдо оказалось таким вкусным, что на следующий день он решил угостить им своих друзей. Постепенно слава об этом нехитром ужине дошла до всех знакомых поэта. Такова легенда.
В 1899 году в Михайловском отмечали столетие со дня рождения великого поэта. Столичные рестораны состязались в любви к гению русской поэзии. В многочисленных павильонах предлагался коньяк в бутылках, пробки которых были сделаны в форме шляпы поэта, деревенские салаты под названием «Евгений Онегин», шоколадные плитки с портретами Пушкина и т. д. и т. д. Среди прочего, любовь народа приобрел жареный «Картофель а ля Пушкин». Праздник кончился. Но с тех самых пор «Картофель а ля Пушкин» занял почетное место в ресторанных меню.
Еще одним характерным примером затаенного, завуалированного присутствия имени в городском фольклоре может служить блокадная поговорка «Получить попок», то есть скудный продовольственный паек, выдачей которых распоряжался председатель Ленсовета П. С. Попков (1903–1950). Такая контаминация, или смешение в одном слове двух элементов разных слов, в фольклоре часто приводила к блестящим результатам, и в дальнейшем мы еще встретимся с этим языковым явлением.
Так или иначе, тайно или явно, но петербургское имя в петербургском фольклоре издавна занимает достаточно прочное место. Одним из первых это почетное место занял близкий сподвижник Петра I, государственный и военный деятель Яков Вилимович Брюс (1670–1735). Его именем фольклор назвал первый, так называемый Гражданский, или «Брюсов», календарь, хотя, согласно одной малоизвестной легенде, Брюс не имел к нему никакого отношения.
Брюс был личностью неординарной. В Петербурге он слыл магом и чародеем, чернокнижником и волшебником. До сих пор можно услышать легенды о хитростях, которые во множестве знал Брюс. Говорили, что он даже сумел сотворить человека из живых цветов. Это была женщина необыкновенной красоты. Оставалось только душу в нее вложить. Да на беду увидела ее – свою соперницу – в замочную скважину жена Брюса. Ворвалась она в комнату и разрушила девушку, сделанную из цветов.
Остаться навсегда в фольклоре можно было по любому поводу, но, как правило, основания оказывались и не случайными, и логически объяснимыми. Сохранилась легенда, что император Александр III (1845–1894) был «тайным алкоголиком». Необузданная тяга к выпивке довела его до того, что, уже будучи императором, он заказал специальные сапоги, особые голенища которых позволяли спрятать пол-литровую бутылку коньяка. Так он якобы скрывал свою пагубную страсть от императрицы. Так вот, напиток дореволюционных алкоголиков – смесь одеколонов «Саша» и «Тройного» – называлась: «Александр III».
Иные, более веские причины попасть в фольклор выпали на долю министра внутренних дел, а с 1906 года – председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина (1862–1911), упрямо пытавшегося противопоставить революционному террору всю государственную мощь армии, полиции и суда. В период так называемой столыпинской реакции специальные вагоны для перевозки заключенных стали называть «Столыпинскими», а петли виселиц, во множестве появившихся в России, – «Столыпинскими галстуками».
Нарицательным было в Петербурге и имя некоего палача Кирюшки. Как пишет Вс. Крестовский, он отличался исключительной ловкостью и сноровкой. В конце концов его имя сделалось символом палача, а специальная скамья, на которой наказывали плетьми осужденных, в Петербурге стала называться «Кирюшкиной кобылой».
Если верить свидетельствам современников, в середине 1870-х годов петербургский градоначальник Ф. Ф. Трепов (1812–1889) впервые ввел обычай ранней весной скалывать с мостовых слежавшийся зимний лед. Так это или нет, сказать трудно, но в петербургском фольклоре навсегда остался фразеологизм «Треповская весна». Впрочем, как вспоминает художник М. В. Добужинский, в Петербурге его детства, по времени приблизительно совпадающего с периодом градоначальства Трепова, в ходу была крылатая фраза: «Дворники делают весну в Петербурге». Художник пишет, что «целые полки дворников в белых передниках быстро убирали снег с улиц».
Попасть в городской фольклор, не оставив значительного следа в жизни города, было не просто. Даже не всем венценосным особам это удавалось. У фольклора были свои любимцы. Среди них, конечно же, – Екатерина II (1729–1796). Кроме известных микротопонимов «Катькин садик» (Екатерининский сквер перед Александрийским театром), «Катька» (памятник Екатерине в том же сквере) и замечательной школьной скороговорки «Императрина Екатерица заключила перетурие с мирками», императрица Екатерина оставила свое имя в обиходном названии дореволюционной сторублевой купюры. В народе ее называли: «Катя», «Катюха», «Катька» или «Катенька». Эти же народные названия сохранились и за сторублевыми купюрами советского периода истории.
Бонисты – коллекционеры денежных знаков – хорошо знают и другие банкноты, сохранившие в своем обиходном названии имя еще одного петербуржца. Это так называемые «Чайковки» – бумажные деньги генерала Деникина, подписанные министром финансов его правительства бывшим народником Н. В. Чайковским (1850/51 – 1926). Подробнее о нем мы будем говорить ниже.
Одной из наиболее распространенных разновидностей фольклора была аббревиатура. Это вполне соответствовало творческому духу фольклора, который всегда тяготел либо к созданию новых языковых структур, либо к приданию старым словам нового смысла. Острой и беспощадной пародией на стиль телеграфных переговоров революционной поры остались в петербургском фольклоре превращенные в аббревиатуры фамилии вождей восставшего пролетариата Л. Д. Троцкого (1879–1940), В. И. Ленина (1870–1924) и Г. Е. Зиновьева (1883–1936):
Обмен телеграммами.
Троцкий – Ленину: ТРОЦКИЙ (ТРудное Ограбление Церквей Кончено. Исчезаю. Исчезаю).
Ленин – Троцкому: ЛЕНИН (Лева, Если Награбил Исчезай Немедленно).
Зиновьев – Ленину, копия Троцкому: ЗИНОВЬЕВ (Зачем Исчезать Нужно Ограбить Все Если Возможно).
Ленинградский композитор Василий Павлович Соловьев-Седой (1907–1979), депутат Верховного Совета СССР нескольких созывов, лауреат Ленинской и Сталинских премий, любимец партии и народа, автор знаменитой песни «Подмосковные вечера», которая, если верить легенде, прославила именно подмосковные вечера только после вмешательства «сверху». Первоначальный припев песни был якобы иным: «Если б знали вы, как нам дороги ленинградские вечера…» Среди друзей композитор имел характерное прозвище: «ВПСС».
Имела свое очаровательное прозвище и выдающаяся балерина Театра оперы и балета имени С. М. Кирова Алла Шелест. С любовью и нежностью в Ленинграде ее называли: «ШелестАлла».
Чрезвычайной популярностью пользовался в Петербурге начала XX века загородный ресторан «Вилла Родэ», открытый в 1908 году главным управляющим Крестовского сада Адольфом Родэ. Особенно широкую славу ресторан приобрел после нашумевшего стихотворения Александра Блока «В ресторане», навеянного посещением «Виллы Родэ». В 1918 году ресторан был закрыт. Его владелец А. С. Родэ устроился завхозом Петроградского дома ученых. В те голодные годы Дом ученых стал в буквальном смысле домом для многих петроградских ученых, утративших кров, работу и средства к существованию. В то время этот гостеприимный Дом называли «Родэвспомогательным домом».
Исключительно продуктивным приемом увековечивания в фольклоре какого-либо имени считалось сознательное, доведенное до абсурда, искажение его, придание ему подчеркнуто гротескной, шаржированной, а то и просто карикатурной формы. Небезызвестный государственный деятель первой половины XIX века граф К. В. Нессельроде (1780–1862) остался в петербургском фольклоре не как глава внешнеполитического ведомства, возглавлявший его в течение нескольких десятилетий, а как признанный и почитаемый в светских кругах гастроном. В честь Нессельроде был назван изобретенный его главным поваром пудинг, который готовили из сливок, сахара, яичных желтков, пюре каштанов, цукатов, засахаренных вишен и изюма, вымоченного в молоке. Совсем не случайно прозвищем этого петербургского гурмана было: «Граф Кисель-вроде».
Другой государственный деятель той поры граф П. Н. Игнатьев (1797–1879/80), бывший одно время генерал-губернатором Петербурга, а затем председателем Совета министров, вошел в городской фольклор благодаря изощренному каламбуру: «Гнать, и гнать, ИГНАТЬ ЕГО».
Такой же каламбур, отлитый в пословичную форму, посвящен поставщику соли А. И. Перетцу (1771–1833): «Где соль, там и Перетц».
Кому не знаком прославленный литературный псевдоним Козьма Прутков, под которым в 1850 – 1860-х годах работали поэты А. К. Толстой и братья Жемчужниковы – Алексей, Владимир и Александр. Их коллективному гению принадлежат знаменитые афоризмы и сентенции, вошедшие в золотой фонд русской афористики. Но и Козьма Прутков – личность, как мы знаем, вымышленная – имел свое шуточное фольклорное прозвище: «Кузьма с Прудков» (Прудки – микротопоним, означающий территорию засыпанных в свое время водоемов вблизи Мальцевского рынка).
Старинный род литовских князей Трубецких, выехавших на Русь еще в 1500 году, более четырехсот лет верой и правдой служил своей второй родине. Среди князей Трубецких были философы и военачальники, дипломаты и государственные деятели. Имена многих из них связаны с Петербургом. Трубецкой бастион Петропавловской крепости назван по имени сподвижника Петра I Ю. Ю. Трубецкого. Одним из руководителей восстания декабристов на Сенатской площади был замечательный представитель этого рода С. П. Трубецкой (1790–1860). Приговоренный к вечной каторге, он тридцать лет провел в Нерчинских рудниках и на поселении в Иркутской губернии. Его имя получило неожиданную интерпретацию в детском творчестве:
– Назовите декабристов – друзей Пушкина.
– Друзьями Пушкина были Рылеев, Кюхельбекер и Бастион Трубецкой.
Фольклор никогда не обходился без милого вздора и подкупающей чепухи, украшающих городскую фразеологию, делающих ее соблазнительно пикантной и скандально аппетитной.
В 1885–1886 годах по проекту академика живописи архитектора А. Н. Бенуа (1852–1936) был принципиально изменен фасад Гостиного двора. На нем, к удивлению петербуржцев, появились вычурные лепные украшения, аллегорические фигуры, барочные вазы, пышный купол над центральным входом. Все это мало вязалось с привычным обликом старинного здания. Оценка петербуржцами такого бесцеремонного вмешательства была беспощадной и уничтожающей: «Бенуёвские переделки». Позднее исторический облик Гостиного двора был восстановлен.
В 1935 году подвергся капитальной перестройке и первый постоянный мост через Неву – Благовещенский. К тому времени он назывался мостом Лейтенанта Шмидта. Мост строился в 1842–1850 годах по проекту почетного члена петербургской Академии наук инженера C. B. Кербедза. Рассказывали, что дело это для Петербурга было столь необычным, что Николай I распорядился присваивать Кербедзу очередное воинское звание за возведение каждого нового пролета. Согласно легенде, едва узнав об этом, Кербедз пересмотрел проект в пользу увеличения числа пролетов. Молодой офицер в начале строительства, Кербедз закончил-таки возведение моста в чине генерала.
К 1935 году мост прослужил городу более восьмидесяти лет и уже не отвечал современным требованиям городского хозяйства. Перестройка осуществлялась по проекту академика Г. П. Передерия (1871–1953). Собственно, это была даже не реконструкция, а полная замена всех его конструкций, кроме художественного оформления решетки. В Ленинграде по этому поводу снисходительно-добродушно пошучивали: «Передерий передерил».
Свидетельством славной поры расцвета ленинградского театрального искусства остался в городском фольклоре каламбур: «Достоногов и Товстоевский». В 1970-е годы театральный режиссер Г. А. Товстоногов (1915–1989) работал над сценическим воплощением образов Ф. М. Достоевского (1821–1881) – писателя, имя которого обозначило целый период в общественно-социальной жизни российской столицы, вошедший в историю под названием «Петербург Достоевского».
За очень редким исключением, фольклор не бывает ни агрессивным, ни наступательным. Он ни с кем не борется и никого не побеждает. Совсем не случайно художники известной петербургской группы «Митьки», тяготеющие в своем творчестве к народному искусству, заявляют о себе миролюбивым лозунгом: «Митьки никого не хотят победить». Вместе с тем бывают обстоятельства, когда только фольклор, скандализируя и обостряя ситуацию, способен обнажить всю бессмысленность и нелепость официальной абракадабры.
В январе 1964 года решением Ленгорисполкома ряд улиц Кировского района Ленинграда был назван именами героев Советского Союза – воинов Ленинградского фронта в годы Великой Отечественной войны: А. Д. Гарькавого (1905–1941), А. Г. Корзуна (1911–1943), Н. П. Симоняка (1901–1956), И. И. Тамбасова (1922–1943). Так появились улицы Пограничника Гарькавого, Солдата Корзуна, Генерала Симоняка, Тамбасова. Ничуть не подвергая сомнению право каждого из этих людей быть увековеченными в городской топонимике, надо сказать, что выбор таких непростых фамилий для улиц, близко расположенных друг к другу, оказался не самым удачным. Язык обывателей сопротивлялся такому массированному насилию. Появилось озорное мнемоническое правило, составленное по образцу знаменитой «глокой куздры»: «Гарькавая симоняка тамбаснула корзуна». Виноваты ли достойные носители этих уважаемых фамилий в таком топонимическом ляпсусе?
Незлобивыми фольклорными шутками обернулось появление в том же районе Ленинграда улиц Подводника Кузьмина и Лени Голикова, названных в честь героев обороны Ленинграда П. С. Кузьмина (1914–1943) и юного партизана Л. Голикова (1927–1943). Их тут же прозвали: «Улица Кузьмы Водолазова» и «Улица Лени Голенького».
Есть в Петербурге улица, фольклорное название которой сохранило имена сразу двух петербуржцев, равно великих, но живших в разных исторических эпохах: замечательного архитектора К. И. Росси (1775–1849) и выдающегося писателя-сатирика M. М. Зощенко (1895–1958). Ленинградцы вспоминают, что в 1930-х годах слава Зощенко достигла такой высоты, что имя его было буквально у всех на слуху. В то же время иностранное слово «зодчий» звучало как-то невнятно. Поэтому простодушные кондукторы автобусов объявляли остановку на улице Зодчего Росси своеобразно: «Улица Зощенко Росси». Кстати, видимо по той же причине, эта улица имела и другое фольклорное название: «Улица Заячья Роща».
Искажение названий – в пользу облегчения произношения – не является привилегией нашего времени, как это может показаться на первый взгляд. Подобный опыт давно известен Петербургской топонимике. Причем зачастую искаженное название вытесняло правильное и становилось в конце концов официальным.
Значительное место в микротопонимике Петербурга занимают обиходные названия продовольственных магазинов, лечебных и учебных заведений, доходных домов, театров и других городских объектов. Многие из этих названий образованы от фамилий городских жителей всех периодов истории Петербурга. Адреса «Филипповских булочных» разбросаны по всему Петербургу: Гороховая, 29; Невский, 45 и 172; Садовая, 45; Вознесенский, 43, и т. д. На углу Невского и Владимирского проспектов до сих пор расположен магазин, который в быту называют «Соловьевским». В городе и сейчас знают старые доходные дома, принадлежавшие когда-то гласному Городской думы В. П. Лихачеву и издателю газеты «Свет» В. В. Комарову. В старом Петербурге их называли соответственно – «Лихачевки» и «Комаровки». Родильный дом № 6 имени профессора В. Ф. Снегирева, что на улице Маяковского, в просторечии известен как «Снегиревка». А одна из старейших в городе поликлиника № 81 – бывшая Максимилиановская лечебница, основанная почетным членом Общества попечения бедных герцогом Максимилианом Лейхтенбергским, запросто называют «Максимилиановкой».
С 1975 года Театром драмы имени А. С. Пушкина руководил И. О. Горбачев, актер, игравший на сцене этого театра с 1954 года. Между тем престиж знаменитого в прошлом театрального коллектива с приходом к руководству Горбачева резко упал, не поднимаясь затем выше уровня заштатного провинциального театра. Именно в это время прославленному ранее театру ленинградцы присвоили обидное прозвище: «Корыто Горбачева».
Фольклорные названия многих учебных заведений чаще всего своими корнями уходят в шумные студенческие тусовки. Меткое и беспощадное слово молодых остроумцев, случайно брошенное и на лету подхваченное стоустой молвой, навсегда становилось вторым, параллельным названием института. Ленинградский университет имени А. А. Жданова превратился в «Университет имени Мариуполя» – по городу Мариуполю, переименованному в свое время в город Жданов в честь секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) А. А. Жданова (1896–1948); Институт культуры имени Н. К. Крупской (1869–1939) среди студенческой молодежи был известен как «Бордель пани Крупской»; Академия художеств слывет «Угаровкой» – по имени ее президента Б. С. Угарова (1922–1991); студенты и преподаватели Горного института включили в обиходное название своего вуза имя его ректора H. М. Проскурякова, и теперь институт известен как «Проскурятник».
К этому же ряду относится дореволюционный топоним «Майская школа», сохранивший имя замечательного педагога К. И. Мая (1824–1895), основавшего в 1856 году на Васильевском острове старейшую петербургскую частную гимназию. В официальных документах она называлась просто гимназия К. И. Мая. Ее выпускники оставили значительный след в русской культуре. Среди них было много крупных архитекторов и художников: А. Н. Бенуа, Н. К. Рерих, М. В. Добужинский, И. А. Фомин и многие другие.
За двести с лишним лет существования Петербурга, с 1703 по 1917 год, в пределах его современных границ было выстроено более 800 молитвенных домов различных конфессий, в том числе приходские и домовые церкви, кафедральные соборы и одинокие часовни, монастырские храмы и другие культовые сооружения. Многие из них были разрушены временем, многие – людьми, некоторые перестроены для хозяйственных и производственных нужд и стали при этом совершенно неузнаваемы. Но в строительной летописи города все они сохранили свои официальные названия во имя тех святых или в память тех событий религиозной жизни, которым в свое время были посвящены. Среди этого множества церковных построек есть немало таких, что возводились стараниями частных лиц, на их средства и под их неусыпным попечительским наблюдением. Такие храмы, как правило, кроме официальных названий имеют и другие, просторечные, в которых благодарные прихожане старались сохранить имя благотворителя, или, как говорили в старину, жертвователя. Вот только некоторые из таких церквей.
В 1850–1852 годах на Волковском кладбище по проекту архитектора Ф. И. Руска была возведена церковь во имя Всех Святых. Церковь строилась на средства богатейшего купца того времени П. И. Пономарева (1774–1853) и потому в народе она получила название «Пономаревской». Там же на Волковском кладбище над могилой почившего И. М. Крюкова стараниями потомственной почетной гражданки П. М. Крюковой архитектор И. А. Аристархов построил церковь, прозванную в народе «Крюковской». Ее официальное название – церковь во имя Святого Иова Многострадального – менее употребительно, чем обиходное прозвище. Старинное Волковское кладбище богато молитвенными домами. Некоторые из них не дожили до наших дней. Так, в 1929 году была разобрана церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Она была возведена на пожертвования семьи богатых табачных фабрикантов Колобовых. В народе ее называли «Колобовской».
Летом 1825 года в Петербурге произошла дуэль между флигель-адъютантом Владимиром Дмитриевичем Новосильцевым и членом тайного общества поручиком Константином Черновым. Событие, взволновавшее многих и получившее мощный общественный отклик. Оба дуэлянта были смертельно ранены. Через десять лет в память о сыне Е. В. Новосильцева возвела в Лесном церковь во имя Святого Равноапостольного Владимира. Церковь в Петербурге называли «Новосильцевской». В 1932 году эту церковь, построенную крупным петербургским зодчим И. И. Шарлеманем, взорвали.
В 1960-х годах была уничтожена церковь Покрова Пресвятой Богородицы в бывшей Троице-Сергиевой пустыни вблизи Стрельны. Строилась она по проекту Р. И. Кузьмина и Ю. А. Боссе в 1859–1863 годах на деньги князя М. В. Кочубея. В просторечии ее так и называли – «Кочубеевской».
Не сохранилась и широко известная в свое время в народе под названием «Кикинская» церковь Сошествия Святого Духа на Митрофаниевском кладбище. Она строилась на средства петербургского купца Кикина. Церковь разрушили в 1929 году.
В то «богоборческое» время была уничтожена церковь во имя иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость на Новодевичьем кладбище. Она была возведена усилиями известной петербургской красавицы Авроры Карамзиной над могилой ее мужа полковника Андрея Николаевича Карамзина, убитого в Крыму в 1854 году. В Петербурге иначе как «Карамзинской» церковь не называли.
Кроме имен жертвователей фольклорные названия петербургских культовых сооружений сохранили имена и других славных петербуржцев. Так, одну из старейших в Петербурге церковь во имя Святого Пророка Илии при Пороховых заводах, выстроенную в 1781–1785 годах предположительно по проекту И. Е. Старова и до сих пор украшающую панораму шоссе Революции, называют «Суворовской». Согласно легендам, в ней венчался великий полководец. А Конюшенную церковь, где в феврале 1837 года отпевали А. С. Пушкина и откуда гроб с его телом был увезен для захоронения в Святогорский монастырь, в обиходе петербуржцы зовут «Пушкинской».
Сложилась определенная закономерность. Чем сложнее были периоды городской истории, тем чаще руководители города становились героями городского фольклора. В послевоенном Ленинграде – Петербурге таких периодов два: пресловутый период застоя, олицетворением которого стал первый секретарь Ленинградского обкома КПСС с 1970 года Григорий Васильевич Романов (р. 1923) и годы наиболее бурного развития российской демократии, на который приходится деятельность первого мэра Петербурга – Анатолия Александровича Собчака. О Романове сложено достаточно большое количество легенд и анекдотов, о которых мы, в силу того, что это выходит за рамки книги, говорить не будем. Напомним только о фольклоре, связанном непосредственно с его именем.
Чванливого и напыщенного Григория Васильевича ленинградцы с ядовитым сарказмом называли: «ГэВэ», а дом на улице Куйбышева, № 1/5, где он проживал, – «Домом Гришки Романова». По аналогии с «Домом Гришки Распутина», что на Гороховой улице. Но одно из самых ярких народных названий заслужила так называемая Дамба – комплекс защитных сооружений нашего города от наводнений. Идейным организатором строительства Дамбы был Романов. В народе она так и называлась: «Дамба Романовна».
Легенд о Собчаке сложить не успели. Слишком короткое время руководил он городом. А, главное, вся его общественная деятельность, благодаря изменившейся политической обстановке в России, была на виду. Тайн, традиционно провоцирующих возникновение легенд, было мало, да и те тут же с помощью средств массовой информации становились явью. Легенд не осталось. Но ехидных насмешек, добродушных острот, веселых каламбуров и откровенно циничного зубоскальства было достаточно. В том числе благодаря его неординарной фамилии, так легко поддающейся трансформации.
Все понимали, что Собчак олицетворял власть. Поэтому лозунг: «Собчачья власть – собачья жизнь», несмотря на неимоверные усилия левых радикалов, был адресован не столько лично ему, сколько власти вообще, власти как таковой. Так же как и формула жизни большинства выбитых из привычной колеи партрабочих и совслужащих: «Собчачья жизнь». Правда, в пылу полемики, разгоревшейся в 1991 году вокруг предполагаемого объявления Петербурга зоной свободного предпринимательства (ЗСП), особенно непримиримые в споре и неразборчивые в словах оппоненты расшифровывали аббревиатуру ЗСП: «Зона Собчаковского Произвола». Но это были всего лишь малые эпизоды в большой борьбе, и вряд ли запомнились кому-либо в Петербурге. Но вот микротопоним «Собчачьи выселки», как стали называть наиболее удаленные от центра районы массового жилищного строительства, остался, надо полагать, надолго в фольклорной летописи города.
Как мы уже говорили, были и веселые безобидные каламбуры. Пародируя намечавшиеся уже тогда, но еще неуклюжие хозяйственные связи между Петербургом как самостоятельным субъектом Российской Федерации и независимой Украиной, президентом которой в то время был Л. М. Кравчук, петербургские острословы предложили актуальный лозунг: «Бизнесмены Киева и Петербурга, создадим новую фирму „Собчук и Кравчак!“».
До того как стать мэром, Собчак работал председателем Ленинградского совета народных депутатов. Председателем исполкома Ленсовета в то время был А. А. Щелканов – общественный деятель, порядком подзабытый современными петербуржцами. Обратимся к городскому фольклору. Вспомним, как бесславно закончилась великая партийная битва с «зеленым змием», как на безбрежном пустынном поле этой исторической брани, словно грибы после дождя, выросли ларьки и ларечки, лотки и прилавки, где услужливые коробейники предлагали винно-водочные изделия неправдоподобно широкого ассортимента. Но самым любимым кушаньем петербургских алкоголиков и тогда оставалась родная русская водочка привычного разлива: пол-литра и маленькая, которые на языке освободившихся от политической опеки обывателей назывались: «Собчак и щелканчик».
12 июня 1991 года в ходе проведенного в Ленинграде референдума 54 % горожан решительно высказались за возвращение городу его исторического названия. Город вновь стал Санкт-Петербургом. Более полугода, предшествовавшие этому событию, были ознаменованы острейшей борьбой мнений, непримиримым противостоянием сторон и небывалой творческой энергией всех без исключения ленинградцев. Фонтаны народного творчества, что называется, били ключом. Диапазон вариантов и предложений названия города варьировался от Петербурга, предлагавшегося воинственными атеистами, кажется, единственно ради отрицания ненавистной приставки Санкт, до примирительного Невограда. Конечно, такой всплеск мифотворчества был спровоцирован предстоящим референдумом. Но и на протяжении всей истории Петербурга название его в фольклоре всегда претерпевало изменения – то ли просто в угоду тем или иным социальным условиям, то ли для более яркой, более выразительной характеристики этих условий. Причем, чаще всего для этого использовались имена власть имущих.
Уже в XVIII веке официальное название Санкт-Петербург уживалось с более демократическим Петроград – названием, в котором горожане хотели видеть имя основателя своего великого города. И даже обиходное Петербург, без официальной приставки Санкт, было гораздо ближе и понятней простому человеку. Надо заметить, что каждое из приведенных вариантов названий несло в себе ярко выраженные сословные признаки, о которых с тонкой иронией писал ленинградский писатель Леонид Борисов в повести «Волшебник из Гель-Гью»: «Был поздний холодный вечер… Питеряне в этот час ужинали, петербуржцы сидели в театрах, жители Санкт-Петербурга собирались на балы и рауты».
Уже в то время наряду с просторечным Питером появился величественный грекоязычный Петрополь, и славяноподобный Петрослав, и частушечный Питер-град, и просто град Питер. Но во всех случаях эти названия первоисточником имели имя Петра, только Петра, и никого больше, кроме Петра. Такая беспрецедентная монополизация одного имени продолжалась вплоть до 1917 года. Только с победой марксистско-ленинской идеологии были внесены существенные коррективы в стихийные процессы образования фольклорных топонимов. Появились и другие имена. Во-первых: «Ленинбург» – вероятно, в память о возвращении Владимира Ильича в Петроград в запломбированном немецком вагоне и о его финансовой поддержке кайзеровской Германией.
Из руководителей государства претендентом на увековечение имени в ленинградском фольклоре оказался Леонид Ильич Брежнев, неравнодушный, как это хорошо известно, к любым знакам общественного внимания – от государственных наград до упоминания в студенческом фольклоре. С изощренной издевательской учтивостью, оценивая Ленинград эпохи Григория Васильевича Романова, ленинградские острословы не очень осторожно шутили: «Лёнинград».
Последним первым секретарем обкома КПСС в Ленинграде был Б. В. Гидаспов. Его начальственный апломб не уступал пресловутому романовскому чванству. Сохранилась легенда о том, как при вступлении в высокую должность на вопрос журналиста: «Почему именно он?», Борис Вениаминович, ничуть не смутившись, ответил: «Если не я, то кто же?» Неудивительно, что немедленно появились разговоры о «Гидаспов-бурге».
И, наконец, «Собчакбург». Думается, что появление этого фольклорного топонима более связано с общим процессом мифотворчества накануне референдума, о чем мы уже говорили, и менее с личностью самого Анатолия Александровича. Хотя, Бог его знает, симпатии горожан далеко не всегда были на его стороне. Радикалов, пытавшихся его смертельно укусить, подвергнуть остракизму или хотя бы мимоходом лягнуть, было достаточно.
В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что сам факт введения в словообразовательный процесс такого количества имен следует считать бесспорной заслугой петербургского городского фольклора. Не обо всем мы сказали. Далеко не всех перечислили. Но, перефразируя известную библейскую притчу, легко вывести формулу петербургской общности, хорошо известную далеко за пределами северной столицы: «Как твое имя, петербуржец?» – «Имя мое легион».
Альтернативная топонимика в устном и народном творчестве Петербурга
После опустошительных пожаров 1736 и 1737 годов, в результате которых выгорела значительная часть Петербурга, указом императрицы Анны Иоанновны была учреждена «Комиссия о Санкт-Петербургском строении». В задачу Комиссии входили вопросы планировки и застройки города. В 1738 году по ее предложению улицам и площадям Петербурга впервые были присвоены наименования. Их писали на специальных табличках, укрепленных на высоких деревянных столбах. С известной долей условности можно считать, что тогда-то и родилась официальная петербургская топонимика. До этого обыватели сами называли улицы по каким-либо ярко выраженным внешним признакам, либо по именам домовладельцев. Одни и те же улицы при этом могли иметь несколько названий. Таким образом возможностей для выбора единственного имени у Комиссии было достаточно. Этот принцип определения официального названия сохранялся очень долго, чуть ли не до середины XIX века. Официальная топонимика старательно следовала за народной, письменно закрепляя на городской карте названия, издавна бытовавшие в просторечии.
Исключительно благодаря такому подходу в Петербурге сложилась небогатая по объему, но уникальная в своем роде коллекция топонимических курьезов – официально зарегистрированных названий, являющихся на самом деле искаженным вариантом просторечного имени. Так, одна из старейших петербургских улиц – Большая Зеленина – в первой четверти XIX века была всего лишь безлюдной дорогой к Зелейному, то есть пороховому (от слова «зелье» – порох), заводу, переведенному сюда, на далекую окраину Петербурга, из Москвы. Дорога, а затем и улица так и назывались Зелейной. В просторечии это название вскоре трансформировалось в Зеленину улицу. Со временем фольклорный вариант прижился.
Такое же искаженное название носит и современная Моховая улица. В начале XVIII века Петр I перевел из Москвы в Петербург Хамовный двор (от старинного русского слова «хамовник» – ткач). Первоначально московские ткачи селились вблизи Адмиралтейства, но затем им определили постоянное место проживания на левом берегу Фонтанки. Образовалась слобода, одну из улиц которой стали называть Хамовой, или Хамовской. Но устаревшее слово не прижилось на новом месте и постепенно улицу стали называть Моховой.
Такая же судьба выпала на долю переулка, пробитого от Фонтанки к даче лейб-медика Ж. А. Лестока. Как только не называли этот, вначале вообще безымянный проезд – и Лестоковым, и Лештоковым, и Лещуковым. Только в 1851 году ему официально было присвоено название Лештуков.
Подверглась искажению в фольклоре и фамилия корабельного мастера иностранца Аладчанина, который жил в собственном доме на берегу Екатерининского канала. Когда в конце XVIII века недалеко от его дома через канал перебросили постоянный мост, то назвали его искаженным в просторечии именем петербургского корабела – Аларчин мост.
Еще более любопытна история названия дачного поселка Осиновая Роща. Первые жилые дома появились здесь на месте старинной шведской мызы. В первой половине XIX века в Осиновой Роще была усадьба князей Вяземских. В это время вокруг дворцового комплекса, построенного по проекту архитектора В. И. Беретти, разбили парк. Но даже в обширном перечне парковых деревьев и кустарников, приведенных в статье «Осиновая Роща» в энциклопедическом справочнике «Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград» (М., 1992), лиственное дерево «осина», название которого легло в основу наименования поселка, не упоминается ни разу. И это не случайно.
Если мы обратимся к старинным описаниям Петербурга, в частности к вышедшему в конце XVIII века на русском языке труду И. Г. Георги «Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей оного с планом», то узнаем, что первоначальное название интересующего нас поселка не Осиновая, а Осиная Роща – от ос, во множестве водившихся в тех благодатных местах. Искаженный фольклорный вариант в очередной раз оказался более жизнеспособным и вытеснил в конце концов исторически правильное и этимологически верное название.
Таким образом, топонимическую карту города создавали в полном согласии друг с другом и официальный Петербург, и его низовая культура, то есть фольклор. Это было похоже на попытки некоторых современных градостроителей придать созданию сети внутриквартальных переходов некий осмысленный характер. Сначала населению предоставлялась естественная возможность протаптывать трассы будущих дорожек и только затем им придавался узаконенный вид. При таком подходе все возможные противоречия сами собой исчезали.
В случае с топонимикой, как говорили до 1738 года: «В доме капитана Кошелева в Морской слободе», так и продолжали говорить затем: «В доме капитана Кошелева в Большой Морской улице». Нумерация домов появилась гораздо позже, в самом конце XVIII века. Никаких противоречий, повторимся, не было. Не было и почвы для возникновения альтернативной или параллельной топонимики. Некоторые разночтения в старинных названиях городских реалий просто говорили об их первоначальной многовариантности. Выживали наиболее жизнеспособные, остальные постепенно исчезали, в отличие, скажем, от современной фольклорной топонимики, которая существует одновременно с официальной, порой не уступая ей ни в популярности, ни в частоте бытового употребления. Но об этом позже.
Впрочем, к середине XIX века будущие противоречия уже угадывались. По городу из уст в уста передавались стихи будто бы из какого-то нашумевшего водевиля:
По Садовой по Большой Нет березки ни одной. По Гороховой я шел, А гороху не нашел. Море видеть я хотел И в Морскую полетел, Но и в Малой, и в Большой Капли нет воды морской.Одновременно с созданием вариантов будущих официальных названий прерогативой раннего петербургского фольклора, уже по определению, стало мифотворчество. Для первых петербуржцев, а это в основном были солдаты, пленные шведы, да работные люди, согнанные на строительство новой столицы практически со всех концов тогдашней России, территория невской дельты была в полном смысле слова Terra incognita – таинственной неизвестной землей. Они ее узнавали. И не в последнюю очередь через названия. Вокруг непонятных «чухонских» названий складывались романтические легенды. Они предлагали собственные толкования, чаще всего не имевшие ничего общего с исторической реальностью. Но именно в этом и состояла их прелесть.
Один из самых известных островов в дельте Невы – Елагин – получил свое современное название только после 1777 года, когда владельцем его стал обер-гофмейстер императорского двора Иван Перфильевич Елагин. До этого остров несколько раз менял свои имена. Но первоначально, в 1703 году, он назывался Мишин, или Михайлин. На старинных финских и шведских картах он так и назывался Мистуласаари, что в переводе означает Медвежий остров. Очевидно, название это было дано острову финскими охотниками, по аналогии с другими островами невской дельты: Заячьим, Лосиным (ныне Васильевский), Вороньиным (ныне Аптекарский), Кошачьим (ныне Канонерский) и т. д. Однако вот как объясняет название Медвежий остров петербургская легенда в пересказе Столпянского.
«В одну из светлых майских ночей 1703 года маленький отряд преображенцев делал рекогносцировку на островах дельты Невы. Осторожно шли русские солдаты по небольшому крайнему ко взморью островку, пробираясь с трудом в болотистом лесу. Вдруг послышался какой-то треск. Солдаты остановились, взяли ружья на приклад и стали всматриваться в едва зеленеющие кусты, стараясь разглядеть, где же притаились шведы. И вдруг из-за большого повалившегося дерева, из кучи бурелома с ревом поднялась фигура большого медведя. „Тьфу, ты, пропасть, – вырвалось у одного из русских, – думали шведов увидеть, а на мишку напоролись, значит остров этот не шведский, а Мишкин“».
Подобные легенды имеют многие петербургские острова, в том числе Крестовский, Каменный, Матисов и другие. Все они широко известны и нет надобности повторяться. Напомним только легенды Васильевского острова. Их несколько, и все они связаны с именем Василий, хотя на финских картах допетербургской поры он назывался Хирвисаари, то есть Лосиный, о чем уже вскользь упоминалось. В то же время еще в 1500 году в переписной окладной книге Водской пятины Великого Новгорода крупнейший остров в дельте Невы упоминается под названием Васильев. Одна из легенд связывает это название с именем тогдашнего владельца острова новгородского посадника Василия Селезня, казненного великим князем московским Иваном III. По другой, не менее распространенной легенде, название Васильевский остров ведется от имени некоего рыбака Василия, проживавшего когда-то в незапамятные времена на острове вместе со своей женой Василисой. До сих пор среди петербуржцев существует уверенность, что именно эти легендарные аборигены изображены в скульптурах у подножий Ростральных колонн. В народе их так и называют: Василий и Василиса. Но предания петровского Петербурга утверждают, что остров назван Васильевским в честь Василия Дмитриевича Корчмина, командовавшего артиллерийской батареей на Стрелке острова в первые дни основания Петербурга. Будто бы Петр I посылал ему приказы по адресу: «Василию – на остров».
Среди многочисленных легенд раннего Петербурга, пытавшихся объяснить происхождение того или иного топонима, есть легенда о реке Луппе, которая, как это ни удивительно, имеет два официальных названия. В границах города эта река называется Луппой, а за его пределами, в верхнем своем течении – Лубьей. Именно так, двумя названиями и обозначена на всех городских планах и картах эта впадающая в реку Охту малоизвестная речка. Лубья – название более древнее, и историки возводят его к имени некоего Лубика, чья мельница в очень давние времена находилась в верховьях реки. А вокруг Луппы сложилась весьма оригинальная легенда. При Петре I на Охте были построены большие пороховые заводы, на которых работали крепостные крестьяне. Селились они на берегах Охты и Лубьи. Вблизи Лубьи для них были поставлены деревянные бани. Возле одной из бань устроили место для публичных телесных наказаний. Провинившегося привязывали к особой скамье и били батогами и розгами, да так, что кожа начинала трескаться и лупиться. Именно от слова «лупить», если верить легенде, река Лубья в районе Пороховых заводов и стала называться вторым именем – Луппа.
Загадочное нерусское название Охта, до сих пор с трудом поддающееся этимологическому исследованию, фольклор, не мудрствуя лукаво и не вдаваясь в лингвистические тонкости, объясняет просто и общедоступно. Во время осады Ниеншанца – укрепленной шведской крепости на правом берегу Невы, рассказывает героическая легенда времен Северной войны, Петр I стоял на левом берегу и грозил «ТОЙ» стороне, которую долго не мог одолеть: «ОХ, ТА сторона». По другой легенде, уже после победы над шведами царь Петр перебрался однажды на лодке на правый берег Невы, где жили работные люди Партикулярной верфи, обслуживавшие пильные, гонтовые и другие заводы. Едва вылез из ялика и вышел на одну из появившихся здесь улиц, как провалился в грязь. Когда же вернулся во дворец и рассказывал своим приближенным о случившейся оказии, то шутливо ворчал, скидывая промокшую грязную одежду: «ОХ, ТА сторона». С тех пор, мол, и стали называть эту заречную окраину Петербурга Охтой.
Третью легенду любят рассказывать охтинские старожилы. Один из проспектов на Охте был выложен булыжником, да так, что лучше бы остался немощеным. Весь он был в рытвинах, ухабах, яминах и колдобинах. Пока проедешь на телеге или извозчике, не раз подпрыгнешь, да воскликнешь: «Ох! Ты! Ох! Та!» Вот, оказывается, откуда пошло такое привычное сегодня название – Охта.
Считается, что название поселка Парголово на севере Петербурга происходит от бывшей здесь старинной деревни Паркола, название которой, в свою очередь, родилось от собственного финского имени Парко. Одновременно название Парголово многие выводили из финского слова «пергана» – черт. Старинные легенды утверждают, что местность, занимаемая этим селением, в старину была сплошь покрыта дремучим лесом, наводившим на местных жителей суеверный страх. Между тем петербургская фольклорная традиция связывает его с Северной войной и основателем Петербурга Петром I.
Поселок Парголово, как известно, делился на 1-е, 2-е и 3-е Парголово, так как в свое время он образовался путем естественного слияния трех старинных деревенек. В начале Северной войны, рассказывает петербургская легенда, здесь трижды происходили жестокие сражения со шведами. Бились так, что ПАР из ГОЛОВ воинов шел.
А еще, говорят, во время одного из сражений Петр якобы почувствовал себя плохо. У него закружилась голова так, что он не мог «мыслить и соображать». Петр собрал всех своих военачальников и признался, что у него «пар в голове». В память об этом эпизоде войны Парголово и назвали таким непривычным для русского слуха именем.
Недалеко от лесистого и холмистого Парголова находится возвышенность, с которой хорошо просматривается Петербург. С давних времен место это зовется Поклонной горой. Попытки объяснить это название сводятся к двум допетербургским преданиям, тесно связанным с обычаями, уходящими в глубокую древность. Согласно одному из них, давние обитатели здешних мест – карелы – по традиции предков устраивали на возвышенных местах молельни и в праздничные дни приходили к ним поклоняться языческим богам. Одна такая молельня находилась будто бы здесь, на Поклонной горе. Согласно другому, столь же старинному преданию, название это обязано обычаю русских людей при въезде в город и выезде из него класть земные поклоны. Но есть еще одно, уже петербургское предание, согласно которому именно отсюда, с этой горы побежденные шведы посылали своих послов на поклон к Петру I.
Между тем ни основание Петербурга, ни ряд блистательных побед Петра I окончания Северной войны не приблизили. Война продолжалась. В честь одной из побед над шведами Петр I недалеко от взморья заложил Юлианковскую церковь. В народе это название упростилось, и церковь стали называть Ульянковской, от чего выводили и название селения вокруг нее. На самом деле название Ульянка ученые возводят к названию древней финской деревушки Уляла, которая, согласно «Географическому чертежу Ижорской земли», находилась «в Дудергофском погосте восточнее Стреляной мызы», приблизительно на том месте, где расположена нынешняя Ульянка.
В то же время просторечное название церкви ассоциировалось с некой Ульяной, которая, став с тех пор любимой героиней петербургского фольклора, будоражит и подпитывает неиссякаемую творческую энергию народных масс.
По одной легенде, на обочине старой Петергофской дороги, на краю безымянной деревушки в несколько дворов, при Петре I некая предприимчивая Ульяна завела кабачок, пользовавшийся широкой популярностью у путешественников. От этой легендарной Ульяны будто бы и пошло название известного района Петербурга.
По другой, царь Петр, проезжая однажды этими местами, увидел стоявшую у дороги молодуху, остановил экипаж, вылез из него и спросил, как ее зовут. Она ответила: «Ульянка», и, смутившись, опустила голову. С тех пор и зовется это место Ульянкой.
Удивительна необыкновенная устойчивость фольклорной традиции. В 1930-х годах известную больницу для душевнобольных на Петергофской дороге назвали именем великого швейцарского невропатолога и психиатра Огюста Фореля. И родилась легенда, в которой магическую роль сыграли уже два имени, одно из которых, впрочем, вполне реально. Легенда рассказывает, что в районе современного Кировского жилгородка есть речка, которая издавна славится форелью. Еще петербургская знать ездила туда на рыбалку и останавливалась «на уху» в стоявшем на берегу реки домике, где жила крестьянка Ульяна, варившая из форели замечательную уху. Так и говорили: «Остановимся у Ульяны, отведаем форели».
Далеко не все топонимы, бытовавшие в народе, дожили до наших дней. Одни из них не выдержали испытания временем и в борьбе за официальный статус уступили место более живучим вариантам. Другие исчезли вместе с объектом названия. Немногие сохранились, и ничего на самом деле уже не обозначая, остаются тем не менее уникальными свидетелями далекой петербургской истории. Так, например, заболоченные, богатые сочными травами козьи выпасы в Петербурге назывались «Козьими болотами». Этот старинный топоним был, очевидно, в свое время так распространен, что даже до нас дошли свидетельства о целых трех «Козьих болотах». Одно из них, наиболее известное, находилось в Коломне, в районе реки Пряжки, в самом конце Торговой улицы. Другое «Козье болото» располагалось рядом с Пушкарской слободой, там, где ныне проходят Большая и Малая Пушкарские улицы. Именно это болото вошло в мрачную петербургскую поговорку: «Венчали ту свадьбу на Козьем болоте, дружка да свашка – топорик да плашка». Вблизи этого «Козьего болота» находился первый в Петербурге так называемый Обжорный рынок, посреди которого на дощатом эшафоте вершили скорый царский суд петербургские палачи.
И, наконец, третье, известное из литературы «Козье болото» было вблизи современной улицы Костюшко в Московском районе.
К таким же, в значительной степени утратившим свою коммуникативную функцию топонимам, следует отнести «Мокруши» – постоянно затопляемый при малейших наводнениях район вокруг Князь-Владимирского собора на Петроградской стороне.
В начале XVIII века обочины Боровой и Разъезжей улиц украшали высокие пни, оставшиеся от вырубленного при прокладке улиц леса. С тех пор этот район называли «Пеньками», или «Большими пеньками». А широко известный в современном Петербурге топоним Пески издавна принадлежит наиболее возвышенной, с сухим песчаным грунтом части города вокруг бывших Рождественских, ныне Советских улиц.
На первый взгляд, странное и не очень понятное имя получила в просторечии местность к юго-западу от Большого проспекта Васильевского острова. В старину ее называли «Чекушами». В XVIII веке здесь стояли склады, где хранилась мука. Однако из-за того, что территория эта постоянно подтапливалась даже при незначительных подъемах воды в Неве, мука подмокала и спрессовывалась. Ее разбивали и дробили специальными колотушками, которые называли – чекушами. Это название и перешло на местность.
В 1723 году московский Семеновский полк был передислоцирован в Петербург. Сначала он располагался на Петроградской стороне, но вскоре получил постоянное место пребывания вблизи Загородного проспекта на огромной территории от современного Московского проспекта до Звенигородской улицы. Вся эта местность была разделена на полковые дворы, которые впоследствии образовали улицы, названные по городам Московской губернии: Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская, Бронницкая. Для запоминания такого однообразного ряда названий в Петербурге изобрели первое мнемоническое (от Мнемозины – богини памяти у древних греков) правило: «Разве Можно Верить Пустым Словам Балерины». По первым буквам этой фразы легко вспомнить и название, и место расположения любой из улиц. Так вот, весь обширный район квартирования Семеновского полка петербуржцы окрестили «Семенцами», или «Сименцами». В литературе встречается и то, и другое написание. Нет уже Семеновского полка, Семеновский плац – место проведения солдатских учений и смотров – превратился в Пионерскую площадь с Театром юных зрителей, запершим перспективу Гороховой улицы, офицерские дома давно уже уступили место обывательским постройкам, а старинный фольклорный топоним до сих пор широко бытует среди петербуржцев.
В 1863–1864 годах на засыпанной территории «гаванца», или ковша для захода малых судов с Невы к Таврическому дворцу, петербургское «общество водопроводов» возвело первую в городе водонапорную башню – красно-кирпичный, так называемый «адмиралтейский» образец промышленной петербургской архитектуры. Но очень долгое время в народе эта местность по традиции называлась «Ковшом».
Огромный многонаселенный промышленный Петербург всегда был окружен гигантскими мусорными свалками. Многие из них со временем превращались в строительные площадки, на которых возводились заводские корпуса или многоэтажные жилые здания. Но память об этих постоянно дымящихся и тлевших курганах жила в фольклоре. Такие пустыри, заваленные бытовыми и промышленными отходами, которые постоянно прели и курились, распространяя зловонный густой туман, в народе назывались «Горячими полями». Одно из них было за Невской заставой, другое – напротив Новодевичьего кладбища на Московском проспекте. Были и другие, но в фольклоре память о них, кажется, не сохранилась.
Особенно на слуху у петербуржцев фольклор, связанный с улицами и проспектами города. Количество его велико, а содержание многообразно. Один только Невский проспект в фольклоре представлен такими микротопонимами, как «Невский брод», «Бродвей», «Бродик», «Бродвей-центр»… Одно время Невский проспект официально был переименован в проспект 25-го Октября. Владимир Набоков вспоминал о «проспекте какого-то октября, куда вливается удивленный Герцен». Надо полагать, что «Герцен» – это улица Герцена. В городе в то время рассказывали анекдот: старушка спрашивает у милиционера, как ей пройти в Пассаж. «Пойдите по 3-го Июля, дойдете до 25-го Октября…» – начинает милиционер. «Милый, это мне три месяца топать?!» – перебивает его бабка. Улицей 3-го Июля называлась тогда Садовая.
Даже на отдельные участки Невского фольклор навесил безошибочно точные ярлыки. Еще в XVIII веке перекресток Невского и Владимирского проспектов среди петербуржцев был известен под названием «Вшивая биржа». Услужливые и пронырливые парикмахеры в самое оживленное время выносили на тротуар стулья и тут же предлагали свои услуги гуляющим петербуржцам. Проходили годы… десятилетия… перекресток Невского и Владимирского проспектов оставался таким же популярным. У всех на памяти времена знаменитого и гостеприимного «Сайгона», о котором уже говорилось. Он размещался здесь же, на первом этаже дома № 49 по Невскому проспекту. Среди питерских шестидесятников перекресток назывался: «На углу всех улиц».
«Улицей рынков» называли в XVIII–XIX веках Садовую улицу. Вдоль нее действительно протянулась бесконечная череда рынков и торговых комплексов – от Гостиного двора на пересечении Садовой с Невским проспектом и до Лоцманского рынка в Коломне, в самом устье Фонтанки. А между этими двумя рынками предлагали свои услуги: новый Морской рынок на месте Ассигнационного банка (ныне Университет экономики и финансов), Апраксин двор, на огромной территории которого умещалось несколько рынков, Сенной рынок, гигантский Ново-Александровский рынок, раскинувшийся на территории между Садовой улицей, Вознесенским проспектом и набережной реки Фонтанки, Никольский рынок на пересечении Садовой улицы с Крюковым каналом напротив Никольского Морского собора, Покровский толкучий рынок на нынешней площади Тургенева… И это только главные и широко известные во всем городе рынки. Фольклор не случайно предложил свой, альтернативный вариант названия Садовой улицы.
Не только внешние признаки улиц и проспектов питали творческую фантазию народа. Не были чужды фольклору и простая игра слов ради искрометной шутки или озорства. Проспект Максима Горького в народе называли или «Пешков-стрит», или «Улицей кой-кого». Наличная улица, этимология названия которой не имеет ничего общего с денежными знаками, а означает всего лишь – лицевая, то есть передняя улица, среди современной молодежи называется: «Безнал», или «Наличка». «На улицу Наличную не ходи с наличными» – предостерегает василеостровцев поговорка.
На Петроградской стороне есть незаметный Крестьянский переулок, который в середине XIX века назывался Дункиным – от искаженного имени владельца одного из земельных участков на этой улице шотландца Дункана. Но в петербургском фольклоре он известен как «Дунькин переулок». В Петербурге есть еще один переулок с этим микротопонимом. Проходит он вблизи Балтийского вокзала и, как это ни странно, официального имени вообще не имеет. Горожане называют его «Дунькиным». Подобная языковая трансформация однажды уже произошла на памяти петербуржцев. В 1930-х годах знаменитый Аничков мост, названный так по имени его первого строителя подполковника Михаила Осиповича Аничкова, в народе назывался «Аничкиным» – по имени никому не известной, а скорее всего вымышленной Анички.
Но такие случаи в фольклоре можно считать исключительными. В абсолютном большинстве происхождение того или иного микротопонима объяснимо. Обводный канал, прорытый в первой четверти XIX века вдоль южной границы города восьмикилометровый водоток, уже в конце века назывался «Городским рвом», а когда он превратился в буквальном смысле слова в смрадную сточную канаву для промышленных отходов многочисленных фабрик и заводов, он заслуженно стал называться «Обвонным каналом».
Глухие непроницаемые заборы Каменного острова, за которыми угадывалась таинственная роскошь номенклатурных дач, закрытых баз отдыха и полуофициальных правительственных резиденций, породили адекватный фольклор, терминология которого была заимствована из романов Жюля Верна и опусов Леонида Ильича Брежнева. Каменный остров называли то «Островом сокровищ», то «Островом глухих заборов». А его восточную оконечность, с незапамятных времен недоступную для обыкновенных граждан и занятую закрытым военным санаторием, в народе окрестили «Малой землей».
Каменный остров с севера омывается Большой Невкой, через которую в 1953–1955 годах взамен обветшавшего деревянного был перекинут новый мост, названный Ушаковским. Его пилоны украшены декоративными бронзовыми барельефами с изображением орденов Ушакова и Нахимова. Это дало повод окрестить мост «Дважды орденоносным».
Ушаковский мост – только один из чуть ли не шестисот петербургских мостов. Такого количества, кажется, не знает ни один город в мире. Многие из них овеяны красивыми и романтическими легендами и преданиями. Многим фольклор присвоил свои – альтернативные или параллельные названия.
В свое время четыре моста, переброшенные через Мойку, были выкрашены в разные цвета: в желтый – Певческий мост у Дворцовой площади, в зеленый – Народный мост в створе Невского проспекта, в красный – мост на Гороховой улице и в синий – мост на Исаакиевской площади. Их яркая праздничная раскраска породила собирательный микротопоним – «Цветные мосты». То же самое произошло с цепными мостами, появившимися в середине XIX века на Фонтанке и Екатерининском канале. Петербуржцы их называли «Мостами на ниточках».
Многим поколениям петербуржцев и в особенности гостям города не дает покоя громкая слава одного из самых популярных мостов Петербурга – Поцелуева. Таинственная магия его имени породила десятки легенд. Но чем убедительнее кажется объяснение довольно прозаического происхождения этого имени – от названия трактира «Поцелуй», находившегося тут же, тем больше таких легенд появляется. По одной легенде, мост служил местом прощания в то время, когда граница города проходила по реке Мойке. По другой – Поцелуев мост в старину служил местом свиданий влюбленной молодежи. По третьей – причиной появления такого названия был старый обычай «целоваться с проезжающими и проходящими через мост всякий раз независимо от степени близости и родства». По четвертой – это название объясняется тем, что в старину у влюбленных был обычай: при переходе через мост целоваться, чтобы, как они говорили при этом друг другу, никогда не расставаться. Помните песню: «Все мосты разводятся, а Поцелуев, извините, нет?» Пятая легенда утверждает, что рядом с мостом находилась в свое время тюрьма и что на этом мосту арестованные расставались с родными и близкими. По шестой легенде, мост назван Поцелуевым оттого, что ведет к воротам Флотского экипажа и здесь на мосту моряки якобы прощались со своими подругами. По седьмой… Нет конца мифотворчеству петербуржцев…
Большеохтинский мост (бывш. мост Императора Петра Великого), техническое совершенство которого и сегодня поражает воображение, таит в себе неразгаданную тайну. Среди петербуржцев вот уже почти что век живет легенда о том, что одна из миллионов стальных заклепок, прочно спаявших всю многотонную конструкцию моста, – золотая.
Как это ни удивительно, многие городские объекты, в особенности такие, как уличные скверы, парковые и садовые пруды, искусственные и даже естественные возвышенности, остаются безымянными. Образовавшиеся таким образом лакуны по сложившейся городской традиции заполняет фольклор. Мы уже говорили о топонимической судьбе безымянного переулка, прозванного «Дунькиным». Можно привести и другие примеры. В Московском парке Победы два соединенных узким каналом искусственных пруда окрестные жители зовут «Очками». Искусственный пруд в Шуваловском парке, имеющий необычную форму и чем-то напоминающий знаменитую треуголку Наполеона, издавна называют «Шапкой Наполеона». «Лебединым озером» окрестили петербуржцы пруд с лебедями в Таврическом саду.
Безымянный сквер с памятником изобретателю радио А. С. Попову на Каменноостровском проспекте известен как «Поповский садик». Сад при клубе завода имени Козицкого народ окрестил «Козявкой». «Лесопилкой» называют петербуржцы парк Лесотехнической академии. Издавна известен топоним «Мамкин садик» – скверик при одном из корпусов Педагогического университета имени А. И. Герцена. В XVIII–XIX веках в этом корпусе размещался Воспитательный дом, куда некоторые матери подбрасывали своих нежеланных детей. Сад у Невы вблизи корпусов Смольного монастыря – любимое место прогулок окрестных бабушек с внучатами – местные жители называют «Бабкиным садом». Сквер за оградой дворца графа Шереметева на Фонтанке петербуржцы так и называют: «Графский садик». Список можно продолжать до бесконечности. Тем более, что он постоянно пополняется.
Неизгладимый след в анналах городской альтернативной топонимики оставил ленинградский, а в более широком смысле – советский период истории Петербурга. Чаще всего микротопонимика этого периода демонстрировала остро негативное отношение к власти. И это был даже не пресловутый эзопов язык – язык иносказаний, но просто откровенно антисоветский язык. В 1960-х годах, в радостную пору хрущевской оттепели, в Ленинграде появился анекдот.
Ленгорисполком принимает решение о переименовании линий Васильевского острова. 1-я линия отныне называется Ленинской, 2-я – Сталинской, 3-я – Маленковской, 4-я – Булганинской, 5-я – Хрущевской, Косая – Генеральной.
Переименования, как способ политического самовыражения, использовались фольклором и в дальнейшем. Едва лишь польское движение «Солидарность» развернуло борьбу против коммунистического правительства Ярузельского, ленинградский фольклор тут же заявил о своей поддержке польских демократов и предложил переименовать проспект Солидарности в «Тупик Ярузельского».
И это был не единственный тупик в Ленинграде. В просторечии улица Пролетарской Диктатуры уже давно называлась: «Тупик Коммунизма», площадь Пролетарской Диктатуры «Площадью Круглых Дураков», проспект Суслова – «Проспектом серого Кардинала», район проспектов Наставников, Ударников, Энтузиастов и Передовиков – «Районом четырех дураков» и т. д. и т. п.
Анекдоты о переименованиях в ленинградском городском фольклоре приобретали некий серийный характер. После окончания острого и бескомпромиссного матча-реванша за звание чемпиона мира по шахматам между такими антагонистами, как любимец ЦК КПСС Анатолий Карпов и более или менее – по тем временам – независимый Гарри Каспаров, фольклор предложил переименовать речку Карповку в Каспаровку, определив таким изощренным образом свои шахматные, и не только шахматные, симпатии.
В 1960-х годах, в период невиданного размаха жилищного строительства, когда границы города раздвинулись так, что жизнь в новых районах вполне могла казаться жизнью в другом городе, городской фольклор обратился к довольно редкой своей разновидности – к аббревиатуре. Но и тут он оказался последовательным в своих симпатиях. Все, что имело хоть какие-нибудь негативные признаки – удаленность жилья от центра, транспортные неудобства, отсутствие сферы обслуживания и т. д. и т. п., – называлось аббревиатурами стран народной демократии – «КНР» (Китайская Народная Республика) – «Купчинский Новый Район», «ГДР» (Германская Демократическая Республика) – «Гражданка Дальше Ручья» и «Гораздо Дальше Ручья», «ДРВ» (Демократическая Республика Вьетнам) – «Дальше Ручья Влево». И только «Фешенебельный Район Гражданки» в районе площади Мужества и проспекта Тореза фольклор окрестил аббревиатурой Федеративной Республики Германии – «ФРГ». Впрочем, жилой район вблизи аэропорта Пулково в народе называют «США» и расшифровывают: «Слышу Шум Аэродрома». С одной стороны – грохот авиационных двигателей, раковой опухолью застрявший в разбухших от бессонницы головах обывателей, с другой – туманные ассоциации. Аэропорт – это всегда ворота. Не всегда важно – куда, но всегда важно – откуда.
Очевидно, теми же причинами вызвано желание обозначить дальние спальные районы сладкозвучными лексическими конструкциями с острым ароматом заморского рая, о котором мечтал небезызвестный Остап Бендер. Одно только Купчино имеет несколько таких названий: «Купчингаген», «Нью-Купчино», «Рио-де-Купчино» и т. д. Это о нем в народе снисходительно шутят: «Даже из Купчина можно успеть». Чужедальние названия адекватны немереным расстояниям.
Как мы уже успели увидеть, альтернативная топонимика никогда не представляла для фольклора некую самоцель. За ней всегда стоял образ, характеристика, смысл, чего не всегда хватало топонимике официальной. Этакая постоянная и завидная озабоченность о значении и смысле иногда приводила фольклор к весьма изящным догадкам. И даже если не всегда удавалось приблизиться к историческим реалиям, в своих лучших образцах фольклор становился вровень с высокохудожественным вымыслом, обеспечивая себе тем самым достойное место в культурном пространстве.
В 1927 году в Ленинграде в здании бывшего магазина Гвардейского экономического общества был открыт знаменитый впоследствии далеко за пределами города торговый комплекс, известный по аббревиатуре ДЛТ – Дом ленинградской торговли. Строго говоря, эта аббревиатура не очень отвечала высоким и изощренным требованиям ревнителей русского языка. В самом деле, почему Дом ленинградской торговли (ДЛТ), а не Ленинградский дом торговли (ЛДТ), что более соответствует и правилам грамматики, и законам логики. И что же вы думаете? В Ленинграде появилась легенда о том, что – да! – при открытии магазина в 1927 году его так и назвали: Ленинградский дом торговли, или ЛДТ. Но едва появились первые сообщения о том, что Лев Давидович Троцкий оказался главным врагом советского народа, как тут же выяснилось, что аббревиатура ЛДТ не только название универмага, но и инициалы Троцкого. Тогда-то, утверждает легенда, ЛДТ мгновенно превратился в ДЛТ.
К альтернативной топонимике можно отнести и шуточные адреса, отмеченные искрометным блеском игры слов, лукавым озорством безобидной шутки.
Шуточные адреса можно было услышать из уст петербургского балагура еще в XVIII веке: «В Сам-Петербурге, в Семеновском полку, дом плесивый, фундамент соломенный, хозяин каменный, номер 9»; «В Семеновском полку, на уголку, в пятой роте, на Козьем болоте»; «Гостиница Эрмитаж, второй этаж, форточка номер первый». О «Козьих болотах» и казармах Семеновского полка мы уже говорили. Исторический адрес гостиницы «Эрмитаж», согласно адресным книгам издательства Суворина, – Невский проспект, 116.
В XIX веке среди «золотой молодежи» возникла мода на шуточные адреса, которые петербургские щеголи в присутствии легкомысленных и смешливых барышень небрежно бросали извозчикам: «Угол Малой Охты и Васильевского острова», «На пересечении 21-й и 22-й линий», «На углу Большой Морской и Тучкова моста».
Складывалась традиция петербургского, понятного только петербуржцу, юмора. Многие пожилые ленинградцы должны помнить бесхитростную речевку – любимую дразнилку послевоенных ленинградских дворов: «Улица Мойка, дом помойка, третий бачок слева». У автора этой книги она отчетливо всплыла в памяти после того, как он услышал ее совсем недавно из уст современного петербургского подростка. Традиции живут.
Но и в советский период истории города фольклор, который, как мы уже видели, носил отчетливо выраженный оппозиционный характер, не был лишен безобидного юмора. Он сохранил свою внутреннюю независимость. Вот образец шуточного адреса исполкома Кировского района, посещение которого всегда связывалось с бюрократической волокитой и чиновничьим чванством: «Проспект Стачек, дом собачек, третья конура справа».
И это тоже топонимика. Но – альтернативная, народная.
Легенды пушкинского века
Повышенный интерес низовой, фольклорной культуры к тому или иному историческому лицу, как правило, возникает при острой недостаточности документальной информации. И хотя Пушкин будучи одним из любимцев истории, не был обделен вниманием официальных летописцев, интерес к нему фольклора огромен. Наряду с документальной создавалась параллельная, фольклорная биография поэта, фрагменты которой дошли до нас в виде легенд и преданий, мифов и анекдотов о любимом национальном поэте. В бескрайнем океане пушкинской мифологии нас интересовала только та часть, которая так или иначе связана с Петербургом, с его архитектурными, географическими или иными городскими реалиями. Мы сознательно опускали фольклор, место действия в котором либо не обозначено, либо носит универсальный, а значит, необязательный характер. Нам кажется, что Пушкин, принадлежа всей России, в первую очередь принадлежит Петербургу. Не случайно целая эпоха в истории Петербурга, включая его культуру, быт и биографии современников – от чиновников Иностранной коллегии, куда поэт был зачислен по окончании Лицея, и до венценосных особ, – носит имя Пушкинский Петербург. Нам хочется взглянуть на этот Петербург не глазами ученых хроникеров, а глазами уличных рассказчиков и салонных острословов, дорожных попутчиков и семейных корреспондентов, глазами доброжелателей и завистников, беззлобных лгунов и милых выдумщиков, то есть глазами простых людей. Все они были его почитателями или хулителями, его друзьями или врагами, его соседями или приятелями. Все они были его современниками, а значит, все они составляли часть его биографии.
Если не брать во внимание пребывание годовалого Пушкина вместе с матерью в северной столице в 1800 году, то его приезд для поступления в Лицей в 1811 году можно считать первым посещением Петербурга. Тем не менее уместно привести две семейные легенды еще более раннего периода, поскольку они относятся к Петербургу.
Известно, что прадед Пушкина по материнской линии был сыном эфиопского князя. Русский посланец в Константинополе прислал ребенка в подарок Петру I. Царь крестил десятилетнего мальчика, дав ему имя Абрам и фамилию Ганнибал в честь карфагенского полководца. Так вот, в семье Пушкиных сохранилась легенда о том, что единокровный брат Ганнибала однажды отправился на поиски Ибрагима, как звали мальчика в Эфиопии до турецкого пленения и отправки в Россию. Не найдя его у турецкого султана, брат нашего Ибрагима будто бы отправился в Петербург, везя дары «в виде ценного оружия и арабских рукописей», удостоверяющих княжеское происхождение Ибрагима. Но православный Абрам Петрович Ганнибал, как рассказывает предание, не захотел вернуться к язычеству, и «брат пустился в обратный путь с большой скорбью с той и другой стороны».
И вторая легенда. Отец Александра Сергеевича – Сергей Львович – в екатерининское время служил в Измайловском полку, но к серьезной деятельности, как говорят, расположен не был, службе предпочитал светские визиты и холостяцкие развлечения. О его беззаботности и легкомыслии ходили легенды. Любимым занятием Сергея Львовича было, сидя у камина, помешивать горящие угли своей офицерской тростью. Как-то раз, согласно легенде, с обгоревшей тростью Сергей Львович явился на учения, за что будто бы и получил выговор от командира: «Уж вы бы, поручик, лучше явились на ученья с кочергой».
В 1811 году юного Пушкина привозят в Петербург для поступления в Лицей. С этого времени вся его жизнь неразрывно связана с городом на Неве. Даже в долгие периоды вынужденного отсутствия.
Царскосельский лицей, как высшее привилегированное учебное заведение для дворянских детей, был учрежден Александром I в 1810 году и открыт 19 октября 1811 года в специально для этого перестроенном архитектором В. П. Стасовым флигеле Екатерининского дворца. Первым директором Лицея был один из прогрессивнейших деятелей раннего периода александровского царствования, публицист и автор одного из проектов отмены крепостного права Василий Федорович Малиновский. Несмотря на короткое пребывание в этой должности, в воспоминаниях лицеистов, особенно первого выпуска, он остался человеком, навсегда определившим и сформировавшим мировоззрение своих воспитанников. Умер Малиновский скоропостижно в 1814 году. Похоронен он на Большеохтинском кладбище рядом со своим тестем А. А. Самборским.
Дача Самборского находилась вблизи Царского Села, недалеко от Лицея по дороге в Павловск. На этой даче часто бывал и Малиновский, причем, имел обыкновение задерживаться на несколько дней и работать в одной из комнат гостеприимного дома. Видимо, поэтому народная традиция связала эту дачу с именем Малиновского. По давней легенде, именно ему, директору Лицея, разгневанный за что-то император отказал однажды в праве на строительство собственной дачи в обеих царских резиденциях – Павловске и Царском Селе. Тогда Малиновский, не решаясь ослушаться и в то же время желая досадить императору, выстроил особняк посреди дороги, на равном расстоянии от обоих царских дворцов. До войны эту дачу, известную в народе под именем Малиновки, хорошо знали ленинградцы. Двухэтажный каменный дом на подвалах действительно стоял посреди дороги, и серая лента шоссе из Пушкина в Павловск, раздваиваясь, обходила его с обеих сторон. Во время Великой Отечественной войны Малиновка была разрушена, и затем долгое время безжизненный остов старинной дачи замыкал перспективы одной и другой половины улицы Маяковского. В 1950-х годах развалины разобрали и на их месте разбили круглый сквер, который, не изменяя давней традиции, отмечает место бывшей дачи все так же посередине дороги.
Первоначальная программа обучения в Лицее, разработанная совместно M. М. Сперанским и В. Ф. Малиновским, предполагала два курса по три года каждый, с окончанием учебы к осени 1817 года. Однако мы знаем, что первый выпускной акт состоялся уже 9 июня 1817 года, а через два дня после этого лицеисты начали покидать Царское Село. Этой необъяснимой спешке, согласно распространенной легенде, способствовало следующее пикантное происшествие. Однажды юный Пушкин, который никогда не отказывал себе в удовольствии поволочиться за хорошенькими служанками, в темноте лицейского перехода наградил торопливым поцелуем вместо юной горничной престарелую фрейлину императрицы. Поднялся переполох. Дело дошло до императора. На следующий день царь лично явился к директору Лицея Энгельгардту с требованием объяснений. Энгельгардту удалось смягчить гнев государя, сказав, что он уже объявил Пушкину строгий выговор. Дело замяли. Однако говорили, что будто бы именно это происшествие ускорило выпуск первых лицеистов: царь решил, что хватит им учиться.
Первый, пушкинский, выпуск лицеистов оставил по себе символическую память: в лицейском садике, около церковной ограды, выпускники устроили из земли и дерна пьедестал, на котором укрепили мраморную доску со словами: «Genio loci», что значит «Гению (духу, покровителю) места». Этот своеобразный знак простоял до 1840 года, пока не осел и не разрушился. Тогда лицеисты, теперь уже одиннадцатого выпуска, решили его возродить. Восстановление пришлось на время, когда слава Пушкина гремела на всю Россию. Тогда-то и родилась легенда о памятнике Пушкину, воздвигнутом будто бы лицеистами первого выпуска.
В 1843 году Лицей перевели из Царского Села в Петербург. Его разместили на Каменноостровском проспекте, в здании, построенном в свое время архитектором Л. И. Шарлеманем для сиротского дома. Лицей сменил и название. Он стал называться Александровским. Оригинальный памятник «Гению места», перевезенный сюда из Царского Села, еще несколько десятилетий украшал сад нового Лицея. Дальнейшая его судьба неизвестна. Но в лицейском садике Царского Села, там, где впервые была установлена мраморная доска «Гению места», в 1900 году по модели скульптора Р. Р. Баха был наконец установлен настоящий памятник поэту – юный Пушкин на чугунной скамье Царскосельского парка.
Говоря языком популярной литературы, по выходе из Лицея Пушкин буквально окунулся в круговорот великосветской жизни блестящей столицы. Посещение модных салонов и званых обедов, литературные встречи и театральные премьеры, серьезные знакомства и случайные влюбленности… Все это оставило более или менее значительные следы в городском фольклоре Петербурга.
В дневнике одного из современников поэта сохранился анекдот, относящийся, правда, к более позднему времени, когда Пушкин был уже женат. Но тем легче представить, как вел он себя в подобных ситуациях, будучи холостяком. «В Санкт-Петербургском театре один старик сенатор, любовник Асенковой, аплодировал ей, тогда как она плохо играла. Пушкин, стоявший близ него, свистал. Сенатор, не узнав его, сказал: „Мальчишка, дурак!“ Пушкин отвечал: „Ошибка, старик! Что я не мальчишка – доказательство жена моя, которая здесь сидит в ложе; что я не дурак, я – Пушкин; а что я тебе не даю пощечины, то для того, чтоб Асенкова не подумала, что я ей аплодирую“».
Популярность пушкинской выходки и его ответа дряхлеющему любовнику в Петербурге была столь велика, что это оставило свой след и в легенде, отнесенной фольклором в более ранний, послелицейский, холостой период жизни поэта. Будто бы после скандала в театре юного поэта вызвал к себе обер-полицмейстер Горголи. «Ты ссоришься, Пушкин, кричишь», – выговаривал поэту обер-полицмейстер. На что Пушкин будто бы ответил: «Я дал бы и пощечину, но поостерегся, чтобы актеры не приняли это за аплодисменты».
Одним из самых модных в художественных и просвещенных кругах Петербурга того времени считался салон Оленина в собственном его доме на набережной реки Фонтанки, 101 (по нумерации пушкинского Петербурга – 125). Желанными гостями здесь постоянно были Пушкин и Крылов, Гнедич и Кипренский, Грибоедов и братья Брюлловы, Батюшков, Стасов, Мартос, Федор Толстой и многие другие. Значение Оленинского кружка очень скоро переросло значение дружеских собраний с танцами, играми и непременными обедами. Здесь рождались идеи, возникали проекты, создавалось общественное мнение. Это был культурный центр, в котором исподволь формирешался наступивший XIX век, названный впоследствии «золотым веком» русской культуры, веком Пушкина и декабристов, «Могучей кучки» и передвижных выставок, веком Достоевского и Льва Толстого.
В то же время о хозяине этого гостеприимного дома президенте Академии художеств, первом директоре Публичной библиотеки, историке, археологе и художнике Алексее Николаевиче Оленине в Петербурге ходили самые невероятные легенды. Будто бы этот «друг наук и искусств» до восемнадцати лет был совершенным невеждой. Будто бы именно с него Фонвизин написал образ знаменитого Митрофанушки, а с его матери – образ Простаковой. И только дядя Оленина сумел якобы заметить у мальчика способности. Он забрал Алексея у матери и дал ему блестящее образование. По другой версии, на Оленина произвела сильное впечатление виденная им в молодости комедия «Недоросль». Именно она будто бы заставила его «бросить голубятничество и страсть к бездельничанью» и приняться за учение.
Между тем известно, что Оленин получил неплохое домашнее образование, которое продолжил в привилегированном Пажеском корпусе. В семнадцатилетнем возрасте за успехи в учебе Оленин был направлен для совершенствования в Германию, где успешно занимался языками, рисованием, гравировальным искусством и литературой.
Во время одного из посещений дома № 125 по Фонтанке, согласно легенде, Пушкин встретился с Анной Керн, поразившей его юное воображение. Современные архивные разыскания утверждают, что встреча эта произошла не в доме № 125, а в соседнем № 123, также принадлежавшем в те времена Оленину. Правда, в нем хозяева проживали только до 1819 года, в то время как встреча молодого Пушкина с красавицей Анной Керн датируется январем – февралем 1819 года. Строго говоря, серьезного, а тем более принципиального значения эта несущественная биографическая путаница не имеет. Однако кружок Оленина приобрел в Петербурге такую известность, что фольклорная традиция только с ним, а значит и с домом, где проходили собрания кружка, связывала все наиболее существенные события биографий своих любимцев. Ведь стихи «Я помню чудное мгновенье», навеянные воспоминаниями об этой мимолетной встрече, были широко известны и любимы.
Надо сказать, что темпераментный, с горячей африканской кровью, юный поэт в своих любовных похождениях не всегда был разборчив. Предание сохранило имена некоторых дам столичного полусвета, около которых увивался Пушкин. Среди них были некие Штейнгель и Ольга Массой. Об одной из них, которую Тургенев в переписке откровенно назвал блядью, тем не менее рассказывали с некоторой долей своеобразной признательности. Она-де однажды отказалась впустить Пушкина к себе, «чтобы не заразить его своей болезнью», отчего молодой Пушкин, дожидаясь в дождь у входных дверей, пока его впустят к этой жрице любви, всего лишь простудился.
Истинных друзей любвеобильного поэта такие истории искренне беспокоили, тем более, что, по мнению многих, они мешали его систематической литературной деятельности. Да и сам он порою тяготился своей «свободой», предпринимая попытки остепениться и создать семью.
Как-то раз, будучи в Москве, он настолько заинтересовался одной тамошней красавицей, умной и насмешливой Екатериной Ушаковой, что московская молва заговорила о том, что «наш знаменитый Пушкин намерен вручить ей судьбу своей жизни». Но молва обманулась в своих ожиданиях. Пушкин, не сделав предложения, уехал в Петербург и там… влюбился в дочь Алексея Николаевича Оленина – Анну. На этот раз не на шутку влюбленный поэт готовился сделать официальное предложение. И, согласно легенде, сделал его, и получил согласие родителей девушки. Оленин созвал к себе на официальный обед всех своих родных и приятелей, чтобы «за шампанским объявить им о помолвке». Но, как рассказывает легенда, разочарованные гости были приглашены к столу, не дождавшись Пушкина, который явился, когда обед давно завершился. Дело кончилось тем, что помолвка расстроилась. Кто был тому виною – оскорбленные родители, обиженная Анна или сам Пушкин, сказать трудно.
Через очень короткое время Пушкин якобы едет в первопрестольную с намерением предложить свою руку и сердце Екатерине Ушаковой. Но к тому времени Екатерина Николаевна оказалась уже помолвленной. «С чем же я-то остался?» – вскрикивает, по легенде, Пушкин. «С оленьими рогами», – будто бы беспощадно ответила ему московская избранница.
Кроме гостеприимного дома Оленина, Пушкин постоянно бывал на ночных собраниях знаменитой Авдотьи Голицыной – «Princesse Nocturne», или «Княгини Полночь», как любили ее величать в великосветском Петербурге. Однажды, согласно преданию, дочери сенатора Измайлова Авдотье какая-то цыганка предсказала смерть ночью, и с тех пор всю свою долгую жизнь, будучи вначале замужем за князем Голицыным, а затем в разводе, княгиня Авдотья играла со смертью, постоянно и виртуозно обманывая ее. Она превратила ночь в день и принимала только после захода солнца. Боясь умереть ночью во сне, она просто не спала по ночам. И она выиграла эту удивительную игру со смертью, дожила чуть ли не до восьмидесяти лет, намного пережив своих современников – постоянных посетителей ее салона. И смерть, как рассказывает легенда, которой с юных лет так боялась «Княгиня Полночь», «переступив порог голицынского дома, сама устрашилась своей добычи. Смерть увидела перед собой разодетую в яркие цвета отвратительную, безобразную старуху».
Не менее известным в пушкинском Петербурге был дом любимой дочери фельдмаршала М. И. Кутузова Элизы Хитрово, которая в отличие от Авдотьи Голицыной принимала днем. «Лиза Голенькая», прозванная так за подкупающую привычку демонстрировать открытые плечи, жила на Моховой, и к позднему ее пробуждению старались успеть представители и литературы, и высшего света. Близких друзей она принимала лежа в постели. И когда гость, поздоровавшись, намеревался сесть в кресло, хозяйка, рассказывают, останавливала его: «Нет, не садитесь в это кресло, это Пушкина; нет, не на этот диван, это место Жуковского; нет, не на этот стул – это стул Гоголя; садитесь ко мне на кровать – это место всех».
В литературной и художественной среде Петербурга был известен граф И. С. Лаваль. В его особняке на Английской набережной, перестроенном архитектором А. Н. Воронихиным, регулярно собирался не только высший свет, но и известные художники, писатели, музыканты. Граф был французским эмигрантом, женатым на богатой купеческой дочке Александре Козицкой. О его романтической петербургской любви и необычной женитьбе рассказывали легенды. Мать юной невесты будто бы наотрез отказала безвестному иностранцу, и тогда дочь обратилась не к кому-нибудь, а к самому императору Павлу I. Царь, как рассказывает легенда, велел выяснить, на каком основании был отвергнут жених. «Француз чужой веры, никто его не знает, и чин у него больно мал», – будто бы заявила мать невесты. И Павел, говорят, ответил: «Во-первых, он христианин, во-вторых, я его знаю, в-третьих, для Козицкой у него чин достаточный, и поэтому обвенчать».
В литературном салоне Екатерины Ивановны Трубецкой, урожденной графини Лаваль, на Английской набережной бывали А. С. Грибоедов, П. А. Вяземский, В. А. Жуковский, И. А. Крылов. Пушкин читал здесь оду «Вольность» и трагедию «Борис Годунов».
Среди петербургских домов, посещаемых Пушкиным, был дворец графа Шереметева на набережной Фонтанки. Здесь, накануне своего последнего отъезда в Италию, жил Орест Кипренский, живописец, автор одного из самых замечательных портретов поэта. По преданию, именно здесь Пушкин позировал Кипренскому.
Недалеко от Фонтанного дома Шереметевых, у Аничкова моста, одно время жил Петр Андреевич Вяземский, у которого несомненно бывал Пушкин. Известно, что этому району города петербургская фольклорная традиция приписывает некоторые мистические, сверхъестественные свойства. Будто бы именно здесь, во дворце, стоявшем на месте Троицкого подворья, Анна Иоанновна незадолго до смерти увидела своего двойника. Не случайно мимо этого дома проводит своего героя Голядкина-младшего Федор Михайлович Достоевский в повести «Двойник».
В подмосковном имении Вяземского Остафьеве хранится загадочный черный ящик, который Петр Андреевич всю свою жизнь оберегал от посторонних. Ящик запечатан его личной печатью и «снабжен ярлыком, на котором рукою Вяземского было написано: „Праздник Преполовения за Невою. Прогулка с Пушкиным 1828 года“». Из письма Вяземского жене выясняется, что в нем хранились пять щепочек, которые друзья подобрали во время прогулки «по крепостным валам и по головам сидящих внизу в казематах». Согласно легенде, эти пять щепочек хранились в память о пяти повешенных декабристах.
Летом 1831 года Пушкин жил в Царском Селе, в домике вдовы придворного камердинера Китаевой. Неизменный распорядок дня поэта предполагал ежеутреннюю ледяную ванну, чай и затем работу. Сочинял Пушкин, лежа на диване среди беспорядочно разбросанных рукописей, книг и обгрызанных перьев. Из одежды на нем практически ничего не было и одному удивленному этим посетителю он, согласно легенде, будто бы заметил: «Жара стоит, как в Африке, а у нас там ходят в таких костюмах».
Говорят, однажды некий немец-ремесленник, наслышанный об искрометном таланте поэта, обратился к Пушкину с просьбой подарить ему четыре слова для рекламы своей продукции. Пушкин был в настроении и немедленно продекламировал: «Яснее дня, чернее ночи». Эти четыре слова стали, говорят, первоклассной рекламой сапожной ваксы, производимой ремесленником.
Верхний этаж дома № 20 по набережной Фонтанки занимали известные в общественных кругах Петербурга братья Александр и Николай Тургеневы. Александр Иванович был почетным членом Академии наук, авторитетным историком и писателем. Его брат Николай был членом литературного кружка «Арзамас», и на его квартире постоянно происходили заседания этого общества. Однажды, по литературному преданию, арзамасцы, поддразнивая Пушкина, предложили ему тут же, не выходя из кабинета, написать стихотворение. Говорят, Пушкин мгновенно вскочил на стол, посмотрел в окно на противоположный берег Фонтанки, где высилось мрачное пустовавшее в то время здание Михайловского замка, затем оглядел окруживших его арзамасцев, лег посреди стола и через несколько минут прочитал восторженной публике:
Глядит задумчивый певец На грозно спящий средь тумана Пустынный памятник тирана, Забвенью брошенный дворец.Рассказывают также, что во время одного из таких дружеских собраний Пушкин услышал легенду о старом смотрителе на Вырской почтовой станции, который жил там в одиноком станционном домике вместе с красавицей дочерью. Однажды проезжий гусар, ненадолго остановившись на станции, влюбился в неопытную девушку и обманом увез ее в столицу. Скучая по дочери, старик вскоре умер с горя. Похоронен он на местном кладбище, «да вот беда, продолжает легенда, могила его затерялась». Впоследствии эта случайно услышанная легенда легла в основу пушкинской повести «Станционный смотритель».
В отличие от «Станционного смотрителя», повести, рожденной, если верить преданию, от легенды, другая повесть Пушкина «Пиковая дама» сама породила легенды. Одну из них Пушкин не отрицал, сам записав 7 апреля 1834 года в своем дневнике широко обсуждавшуюся в свете новость: «При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной». Властная старуха Наталья Петровна Голицына, которой в год написания повести исполнилось 94 года, в молодости слыла красавицей, но с возрастом обросла усами и бородой, за что получила прозвище «Княгиня усатая». Образ этой древней старухи, обладавшей непривлекательной внешностью в сочетании с острым умом и царственной надменностью, возможно, и возникал в воображении читателя, который, едва раскрыв повесть, наталкивался на эпиграф к ней, извлеченный Пушкиным из гадательной книги: «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность».
Старая графиня скончалась в 1837 году, ненамного, но все-таки пережив увековечившего ее Пушкина. Дом ее на Малой Морской, 10 сохранился до настоящего времени, правда в измененном виде. В середине XIX века его перестроил известный петербургский зодчий К. А. Тон. В Петербурге это здание до сих пор называют «Домом Пиковой дамы».
Однако есть еще один дом, приписываемый фольклором Пиковой даме. Это особняк Юсуповой на Литейном проспекте, 42. Фольклор настаивает, что именно графиня Юсупова, звавшаяся в молодости за свою необыкновенную красоту «Московской Венерой», в старости стала прообразом героини пушкинской повести. Неисправимые фантазеры даже уверяют, что если внимательно и долго всматриваться в окна второго, господского этажа особняка на Литейном, то можно разглядеть стройную старуху, которая непременно встретится с вами взглядом, а тем, кто не верит в ее существование, погрозит костлявым пальцем. И верили. Во всяком случае, в эмиграции петербургскому поэту Николаю Агнивцеву, автору «Блистательного Санкт-Петербурга», грезилось:
На Литейном, прямо, прямо, Возле третьего угла, Там, где Пиковая дама По преданию жила!В то же время известно, что особняк Юсуповой на Литейном построен архитектором Л. Бонштедтом в 1858 году, более чем через двадцать лет после смерти Пушкина.
Тремя годами раньше «Пиковой дамы», в 1831 году Пушкин заканчивает, а в марте 1833 года издает отдельной книжкой полный текст «Евгения Онегина». Роман в стихах, ставший, по выражению Белинского, «энциклопедией русской жизни», заведомо дистанцировался от мифа или легенды. Чуть ли не в каждом персонаже пушкинского повествования обнаруживалось сходство с тем или иным реальным современником поэта. Едва ли не буквально точное изображение конкретного быта и невыдуманных событий исключали всякую мифологизацию. И это действительно так. Мы ни разу не столкнемся в «Евгении Онегине», как это происходит в большинстве крупных произведений Пушкина (смотри, например, «Медный всадник», «Пиковая дама», «Руслан и Людмила», «Бахчисарайский фонтан» и многие другие), ни с мифом в качестве источника повествования, ни с описанием как источником мифологии.
И все-таки было бы неверно не упомянуть о двух легендах, связанных с «Евгением Онегиным». Первая из них относится к имени главного героя. По наблюдению Ю. М. Лотмана, фамилия Онегин, как, впрочем, и Ленский, и Печорин, не имела на Руси широкого распространения, хотя вроде бы и образована по всем правилам русской грамматики. В них ощущается некий привкус литературного или театрального псевдонима. Кстати, в качестве псевдонима взял эту фамилию известный собиратель и создатель крупнейшей парижской пушкинской коллекции Александр Федорович Отто. Согласно легенде, Александр Федорович был незаконным сыном некой юной фрейлины и императора Александра II. Царскосельское предание рассказывает, что выброшенный плод монаршей любви был случайно обнаружен в одной из аллей парка, хотя сам Александр Федорович утверждает, что был найден не где-нибудь, а под чугунной скамьей памятника Пушкину в лицейском садике. Будто бы именно поэтому он взял себе столь необычный псевдоним и всю свою жизнь посвятил Пушкину.
Так вот, Ю. М. Лотман в своих известнейших комментариях к «Евгению Онегину» приводит легенду о том, что в начале XIX века в Торжке в самом деле проживал некий булочник Евгений Онегин, хотя вряд ли Пушкин мог о нем слышать и уж тем более вряд ли, как предполагает Лотман, мог им воспользоваться для имени своего героя. Скорее всего это совпадение. Имя же своего персонажа Пушкин просто придумал по хорошо известному стереотипу.
Другая легенда восходит к имени Марии Николаевны Раевской, «утаенной», согласно легендам, любви Пушкина, в замужестве княгини Волконской, последовавшей за мужем, декабристом Сергеем Волконским, в Сибирь. Многие пушкинисты всерьез считают, что именно Мария Николаевна была реальным прототипом Татьяны Лариной. Согласно легенде, образцом для письма Татьяны к Онегину явилось письмо, якобы на самом деле полученное Пушкиным от юной Марии, безумно влюбленной в поэта. И действительно придумать такое было, кажется, невозможно. В России XIX века сам факт переписки, затеянной молодой барышней, противоречил дворянской этике.
Городская мифология легла в основу и другого гениального произведения Пушкина – поэмы «Медный всадник». По преданию, историю об ожившей статуе Петра рассказал Пушкину его старый приятель, весельчак и острослов, склонный к мистике и загадочности Михаил Виельгорский. Кроме того, в столице был распространен рассказ, который Пушкин, отсутствовавший во время трагического наводнения 1824 года в Петербурге, услышал от друзей – очевидцев наводнения. Говорили о каком-то Яковлеве, который накануне наводнения гулял по городу. Когда вода начала прибывать, Яковлев поспешил домой, но, дойдя до дома Лобанова-Ростовского, с ужасом увидел, что идти дальше нет никакой возможности. Яковлев будто бы забрался на одного из львов, которые «с подъятой лапой, как живые», поигрывая каменными шарами, взирали на разыгравшуюся стихию. На этом-то льве Яковлев и «просидел все время наводнения».
Одной из самых загадочных строк «Медного всадника» вот уже полтора столетия считается мятежный шепот несчастного Евгения в адрес «державца полумира»: «Добро строитель чудотворный/Ужо тебе!» И более ничего. Известно, что «Медный всадник» был впервые напечатан не в том виде, как он написан Пушкиным. Это дало повод к легенде. Будто в уста мятежного Евгения Пушкин вложил какой-то монолог, изъятый цензурой при печати. Будто бы при чтении поэмы самим Пушкиным «потрясающее впечатление производил монолог обезумевшего чиновника перед памятником Петра». Говорили даже о количестве стихов этого монолога, запрещенных к публикации. Якобы их было около тридцати. Однако, как пишет Валерий Брюсов, «в рукописях Пушкина нигде не сохранилось ничего, кроме тех слов, которые читаются теперь в тексте повести».
«Медный всадник» был написан в 1833 году. Пушкин был на вершине своей литературной славы. И примерно в это же время, по одному из преданий, вскоре после рождения старшей дочери Пушкин будто бы сказал жене: «Вот тебе мой зарок: если когда-нибудь нашей Маше придет фантазия хоть один стих написать, первым делом выпори ее хорошенько, чтоб от этой дури и следа не осталось».
Основания для таких слов были. В первую свою ссылку Пушкин отправился уже в 1820 году за вольнолюбивые стихи и резкие эпиграммы. Этому предшествовала ловко раскрученная интрига против молодого поэта. Был пущен слух, будто его высекли на конюшне. Затем заговорили о том, что слух о конюшне был распущен небезызвестным Федором Толстым, щеголем и дуэлянтом по кличке «Американец». Затем родилась легенда о том, что поэта спасла, кто бы мог подумать, ссылка на юг! Если бы не эта спасительная ссылка, неминуемо состоялась бы дуэль между Пушкиным и Федором Толстым, и Пушкин был бы, оказывается, «убит на семнадцать лет раньше, так как Федор Толстой стрелял без промаха», – утверждает легенда, рождение которой в недрах Третьего отделения ни у кого, кажется, не вызывало сомнений.
Имя Федора Толстого-Американца было хорошо известно светскому Петербургу. Оголтелый распутник и необузданный картежник, «картежный вор», по выражению Пушкина, Федор Толстой был наказанием и проклятием древнего и почтенного рода Толстых. Только убитых им на дуэлях насчитывалось одиннадцать человек. Имена убитых Толстой-Американец тщательно записывал «в свой синодик». Так же старательно в тот же «синодик» он записывал имена нажитых им в течение жизни детей. Их у него было двенадцать. По странному стечению обстоятельств одиннадцать из них умерли в младенчестве. После смерти очередного ребенка он вычеркивал из списка имя одного из убитых им на дуэлях человека и сбоку ставил слово «квит». После смерти одиннадцатого ребенка Толстой будто бы воскликнул: «Ну, слава Богу, хоть мой курчавый цыганеночек будет жив». Речь шла о сыне «невенчанной жены» Федора Толстого цыганки Авдотьи Тураевой.
Пушкин не зря в одной из своих эпиграмм назвал Федора Толстого карточным вором. Федор был не просто нечист на руку. Он откровенно гордился этим. Известно, что Грибоедов изобразил «Американца» в своей знаменитой комедии «Горе от ума». Так вот, рассказывают, что на одном из рукописных списков ходившей по рукам комедии Федор собственноручно против грибоедовской строчки – «и крепко на руку нечист» пометил: «В картишки на руку нечист», и приписал: «для верности портрета сия поправка необходима, чтобы не подумали, что ворует табакерки со стола». А на замечание Грибоедова при случайной встрече с ним: «Ты же играешь нечисто» с искренним удивлением развел руками: «Только-то. Ну так ты так бы и написал».
Видимо, неписаный картежный кодекс того времени допускал известную браваду, молодеческое позерство и лихачество. Во всяком случае, в среде «золотой молодежи», в которой вращался холостой Пушкин.
Николай I, лицемерно взявший на себя «отеческую» роль по отношению к поэту, не раз советовал Пушкину бросить картежную игру, говоря при этом: «Она тебя портит». – «Напротив, ваше величество, – будто бы однажды ответил Пушкин, – карты меня спасают от хандры». – «Но что же после этого твоя поэзия?» – «Она служит мне средством к уплате моих карточных долгов, ваше величество».
Так или иначе, ссылка, по мнению салонной молвы, вырвала поэта из порочного круга растленных холостяков и спасла его от карт, куртизанок и даже от смерти.
Иначе думали о причинах ссылки поэта в народе. Вот как об этом рассказывали в 1930-х годах старики, деды которых были современниками Пушкина. Приводим в записях О. В. Ломан.
Шестидесятилетняя старушка из села Петровского Аксинья Андреева:
«Царя Пушкин не любил. Еще учился он, и вот на экзамене, или на балу где, или на смотре где, уж я точно не знаю, – подошел к нему царь, да и погладил по голове: „Молодец, – говорит, – Пушкин, хорошо стихи сочиняешь“. А Пушкин скосился так и говорит: „Я не пес, гладь свою собаку“».
Семидесятилетний старик из деревни Дорохово Григорий Ефимович Кононов:
«Дед мой был ровесник Пушкина и знал его хорошо. Вот перескажу вам его слово, за что Пушкина к нам сослали. Ходили они раз с государем. Шли по коридору. Лектричества тогда не было, один фонарь висит. Царь и говорит Пушкину, – а придворных много вокруг: „Пушкин, скажи не думавши слово!“ А Пушкин не побоялся, что царь, и говорит: „Нашего царя повесил бы вместо фонаря“. Вот царь рассердился и выслал его за это».
Ермолай Васильевич Васильев, 78 лет, из деревни Заворово:
«На всяком господском собрании осмеивал Пушкин господ. Сердились они на него за это. Стали ему последнее место отводить за столом, а он все равно всех осмеет. И уж крадком стали от него господа собрания делать. А он придет незваный, сядет на свое последнее место и всех-то всех в стихах высмеет! Вот и решили от него избавиться – в ссылку сослать».
После ссылки Пушкин впервые приехал в Петербург в 1827 году. До трагической развязки, приведшей поэта к гибели в январе 1837 года, судьба милостиво отпустила ему десять лет. Существует давняя и устойчивая легенда о том, что первое звено в катастрофической цепи событий, окончившихся дуэлью и смертью Пушкина, положил Николай I, который как главный помещик страны использовал право первой ночи по отношению к Наталье Николаевне, молодой красавице-провинциалке, ставшей женой поэта.
Следует оговориться, что современное отечественное пушкиноведение решительно отрицает факт, легший в основу легенды. К такому выводу литературоведческая наука пришла в результате многих десятилетий трудных поисков и счастливых находок, отчаянных схваток между оппонентами и логических умозаключений. С трудом удалось преодолеть многолетнюю инерцию общественного мнения, заклеймившего Наталью Николаевну на всех этапах всеобуча – от школьных учебников до научных монографий. Было. И это «было» пересмотру не подлежало. Науке с юридической скрупулезностью пришлось анализировать свидетельские показания давно умерших современников Пушкина, оставивших тысячи дневниковых страниц и писем, устраивать свидетелям «очные ставки» и перекрестные допросы, чтобы выявить противоречия в их показаниях, извлекать из небытия улики и факты, чтобы на Суде Истории был наконец вынесен справедливый и окончательный приговор: НЕ БЫЛО.
Между тем не следует забывать, что великосветская сплетня, выношенная в феодально-крепостническом чреве аристократических салонов, стала достоянием Петербурга и в один прекрасный момент превратилась в живучую легенду, претендующую на истину. Почва для этого оказалась благодатной.
В 1836 году до отмены крепостного права оставалась еще целая четверть века. Крепостническая Россия во главе с главным помещиком – царем, поигрывая в просвещенность и демократию в великосветских дворцах и особняках знати. цепко держалась средневековых правил в отношениях с низшими подданными. Одним из таких атавизмов было пресловутое право первой ночи, довольно широко распространенное в дворянско-помещичьей практике. Не брезговали этим и высшие сановники. Феодальная мораль позволяла чуть ли не бравировать этим. При необходимости это становилось орудием против неугодных.
Именно так и случилось в преддверии трагического 1837 года. В злосчастном пасквиле, полученном Пушкиным, значился «великий магистр ордена рогоносцев». Весь Петербург знал, что им слыл Д. Л. Нарышкин, чья жена в свое время чуть ли не официально считалась любовницей Александра I. Таким простым и откровенным способом намекалось на связь Николая I и Натальи Николаевны. В это верили. Ужас пушкинской трагедии в том и состоял, что верили даже лучшие друзья. Вероятно, как предполагает С. Абрамович, в основе этой веры лежали какие-то реальные факты. П. В. Нащокин рассказывал о том, что царь «как офицеришка ухаживал за его (Пушкина) женой. По утрам проезжал несколько раз мимо ее окон…» М. А. Корф в своем дневнике записывает, что Пушкина «принадлежит к числу тех привилегированных молодых женщин, которых государь удостаивает иногда посещением». Сама Наталья Николаевна в письме к своему дяде Афанасию Николаевичу пишет, что не может спокойно гулять в Царскосельском парке. «Я узнала от одной из фрейлин, что их величество желали узнать час, в который я гуляю, чтобы меня встретить. Поэтому я выбираю самые уединенные места», – пишет жена Пушкина. Ей вторит распространенная в то время легенда, что именно в Царскосельском парке царь обещал Пушкину жалованье и предложил ему написать «Историю Петра» и что к этому его будто бы побудила заинтересованность юной красавицей. Царские милости, рожденные благодаря особому отношению императора к Наталье Николаевне, коснутся впоследствии и второго мужа несчастной женщины, через много лет после гибели Пушкина. В 1844 году генерал Ланской станет командиром Кавалергардского полка, и молва припишет это не личным заслугам генерала, а некоей царской благодарности его жене Наталье Николаевне.
Попытки гальванизировать историю взаимоотношений Натальи Николаевны с императором предпринимались и после смерти героев этой русской драмы. Все они имели целью опорочить образ Натальи Николаевны, взвалив на нее всю вину за происходившее, тем самым упростив до уровня мелодрамы глубочайшую суть трагедии. Кому-то постоянно хотелось, чтобы все герои из государственных и общественных деятелей вдруг превратились в частных лиц, в той же степени достойных жалости и сочувствия, что и Пушкин.
В этой связи любопытным отголоском преддуэльных событий выглядит легенда о часах с портретом Натальи Николаевны. Однажды в московский Исторический музей пришел какой-то немолодой человек и предложил приобрести у него золотые часы с вензелем Николая I. Запросил он за эти часы две тысячи рублей. На вопрос, почему он так дорого их ценит, когда такие часы не редкость, незнакомец сказал, что эти часы особенные. Он открыл заднюю крышку, на внутренней стороне которой был миниатюрный портрет Натальи Николаевны Пушкиной. По словам этого человека, его дед служил камердинером при Николае I. Эти часы постоянно находились на письменном столе императора. Дед знал их секрет, и когда Николай Павлович умер, взял эти часы, «чтобы не было неловкости в семье». Часы почему-то не были приобретены Историческим музеем. И так и ушел этот человек с часами, и имя его осталось неизвестным, заканчивает эта удивительная легенда.
Любопытство разгоряченного интригами Петербурга подогревалось слухами о неладах в семье поэта. Говорили, что «Пушкин в припадке ревности брал жену к себе на руки и с кинжалом допрашивал, верна ли она ему». Общественное мнение, не отличающееся благосклонностью вообще, оказалось особенно жестоким к Наталье Николаевне. Ядовитая формула: «Безобразный муж прекрасной жены» уязвляла не столько Пушкина, с лицейских времен без комплексов воспринимавшего свою «обезьянью» внешность, сколько Наталью Николаевну, которая понимала, что этой формулой светские сплетницы старались намекнуть на ее якобы безразличие к творчеству мужа, равнодушие к самому поэту, ее умственную ограниченность и нравственную распущенность. В столице из уст в уста передавали анекдот о некоем молодом человеке, который решил узнать, о чем же говорит в обществе жена первого поэта России. Однажды он целый час простоял у нее за спиной на великосветском балу, и за весь час не услышал ничего, кроме однозначных «да» и «нет».
Этот шлейф сплетен и пересудов надолго пережил Наталью Николаевну, хотя хорошо известно, что она, вопреки всему, всю свою жизнь сохраняла исключительно добрую память о великом муже. Чуть ли не через два десятилетия после смерти Пушкина Наталья Николаевна Ланская лично добилась освобождения из ссылки M. Е. Салтыкова-Щедрина «как говорят, в память о покойном своем муже, некогда бывшем в положении подобном Салтыкову».
С другой стороны, совместная жизнь сестер Гончаровых в доме Пушкина порождала сплетни о его связи с Александрой Николаевной – Александриной, как ее называли близкие. Сохранилась интригующая легенда о шейном крестике Александрины, найденном будто бы камердинером в постели Пушкина. Это удивительным образом совпадает с преданием о некой цепочке, которую умирающий Пушкин отдал княгине Вяземской с просьбой передать ее от его имени Александре Николаевне. Княгиня будто бы исполнила просьбу умирающего и была «очень изумлена тем, что Александра Николаевна, принимая этот загробный подарок, вся вспыхнула».
Скандальный интерес к семейным делам Пушкина с новой силой разразился в связи с неожиданным предложением, сделанным Дантесом второй сестре Натальи Николаевны Екатерине. Пушкин был уверен, что это сватовство затеяно старым интриганом Геккерном, чтобы спасти жизнь и честь Дантеса. Он даже не единожды предлагал пари, что свадьба эта не более чем уловка и никогда не состоится. Правда, светские провидцы поговаривали, что нет никаких сомнений в благополучном исходе этого странного сватовства потому будто бы, что предпринято оно по приказанию самого императора Николая Павловича.
Если фольклор петербургских гостиных, чиновничьих кабинетов и гвардейских застолий не щадил никого из главных действующих лиц трагедии 1837 года, то простой народ был еще более категоричен в оценках и пристрастиях: Пушкина убили «обманом, хитростью» и не без участия жены. Вот запись одного такого предания.
«Вот Пушкин играл в карты и постучал кто-то. Пушкин говорит: „Я открою“, а она: „Нет, постой, я открою“. А это пришел другой, которого она любила. Пока она собиралась, Пушкин губы намазал сажей и ее поцеловал. Как она дверь открыла и того поцеловала своими губами. Вот тогда-то тайна и открылась – смотрит: губы и у него и у того черные. Открылась тайна, что любит, а поименно было неизвестно. Вот Пушкин его на дуэль и вызвал. А на дуэль выходили и подманули Пушкина. У того был заряжен пистолет, а Пушкину подсыпали одного пороха. Вот тот и убил. Первый тот стрелял».
Роковую роль в биографии Пушкина сыграла внебрачная дочь графа Григория Александровича Строганова, троюродная сестра Натальи Николаевны Идалия Полетика. Именно у нее дома произошло устроенное ею роковое свидание Дантеса с Натальей Николаевной, о котором тут же, не без ее участия, стало известно Пушкину. Многие пытаются объяснить поведение Полетики ее необъяснимой ненавистью к Пушкину, которая началась при жизни поэта и продолжалась всю долгую жизнь Идалии, странным образом распространяясь на пушкинское творчество, на памятники ему, буквально на все, что с ним связано. Загадка этой ненависти становится предметом специальных исследований, в то время как фольклор предлагает свои варианты ответов.
Согласно одному преданию, Пушкин как-то смертельно обидел Идалию, когда они втроем – он, она и Наталья Николаевна – ехали в карете на великосветский бал. Согласно другой легенде, Пушкин будто бы написал однажды в альбом Идалии любовное стихотворение, но пометил его первым апреля. Об этом стало известно в свете, и Полетика никогда не смогла простить Пушкину такой насмешки. Организованная ею встреча Натальи Николаевны и Дантеса была якобы ее местью за обиду.
На таком раскаленном фоне непрекращающихся слухов и сплетен, домыслов и мифов становится неудивительной легенда о том, что в последние годы жизни Пушкин не просто готовился к смерти, но искал ее всюду, где только можно, и «бросался на всякого встречного и поперечного. Для души поэта не оставалось ничего кроме смерти».
На чем основана эта расхожая в свое время легенда? С одной стороны, еще в 1834 году Пушкин восклицает: «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит», что при желании легко расценить как жизненную программу, тем более, что есть будто бы и доказательство: за пять месяцев до страшного конца был написан «Памятник». И не просто написан, а написан и убран в стол, спрятан, как завещание оставшимся в живых. Да и за пять ли месяцев? Анонимное письмо Пушкин получил 4 ноября и в тот же день послал вызов Дантесу. Значит, «Памятник» написан буквально перед смертью, в возможность которой Пушкин не мог не верить. Просто судьбе было угодно продлить муки поэта еще на три месяца.
Если к этому присовокупить унизительное общественное положение поэта в качестве камер-юнкера – положение, которое болезненно тяготило Пушкина, и семейную драму, из которой он, снедаемый любовью и ревностью, не находил выхода, то все действительно говорит в пользу популярной в свое время легенды.
В этом запутаннейшем клубке пушкинской биографии есть одна тонкая, но не рвущаяся ниточка, которая тянется еще с середины 1810-х годов. Тогда, будучи лицеистом, Пушкин тайно посетил известную гадалку немку Шарлотту Кирхгоф – модистку, промышлявшую между делом ворожбой и гаданием. Ее популярность была настолько велика, что накануне войны с Наполеоном к ней обращался Александр I. Позднее эта прорицательница предсказала декабристу М. И. Пущину, младшему брату пушкинского друга, разжалование в солдаты, а за две недели до восстания предрекла смерть генерала Милорадовича. Так вот, эта гадалка еще тогда будто бы обозначила все основные вехи жизни Пушкина: «Во-первых, он скоро получит деньги; во-вторых, ему будет сделано неожиданное предложение; в-третьих, он прославится и будет кумиром соотечественников; в-четвертых, он дважды подвергнется ссылке; наконец, в-пятых, он проживет долго… если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, белой головы или белого человека, которых и должен он опасаться».
Интересно, что в 1827 году, когда Пушкин написал чрезвычайно злую эпиграмму на белокурого красавца А. Н. Муравьева, он вспомнил давнее предсказание и всерьез остерегался возмездия. «Я имею предсказание, что должен умереть от белого человека», – сказал он М. П. Погодину, опубликовавшему эту эпиграмму в «Московском вестнике».
Не удивительно, что зимой 1836/37 года его так беспокоил единственный, пятый, не исполнившийся пункт этого предсказания. Как-то раз, незадолго до преддуэльных событий, встретившись случайно с Дантесом, Пушкин шутя будто бы сказал ему: «Я видел недавно на разводе ваши кавалерийские эволюции, Дантес. Вы прекрасный всадник. Но знаете ли? Ваш эскадрон весь белоконный, и, глядя на ваш белоснежный мундир, белокурые волосы и белую лошадь, я вспомнил об одном страшном предсказании. Одна гадалка наказывала мне в старину остерегаться белого человека на белом коне. Уж не собираетесь ли вы убить меня?»
Может быть, легенда права, и Пушкин в самом деле искал смерти?
Но в том же 1834 году, когда, как может показаться, был подведен итог и сделан вывод: «Пора, мой друг, пора!..», Пушкин пишет своей жене: «Хорошо, когда проживу я лет еще 25, а коли свернусь прежде десяти, так не знаю, что будешь делать и что скажешь Машке, а в особенности Сашке». Он не собирался умирать. Любящий муж, многодетный отец, человек с обостренным чувством долга, полный творческих планов и замыслов не мог так легко и просто рассчитаться с жизнью. Еще «Современник» не стал властителем дум, еще не написана «История Петра Великого», не закончена подготовка критического издания «Слова о полку Игореве», еще не выросли дети, не улажены денежные дела. Работы на земле было много.
Да и сама дуэль не обязательно предполагала смертельный исход, хотя, как уже говорилось, Пушкин не исключал его. На дуэль он шел покарать того, кто дерзнул посягнуть на честь его жены, на его честь как Поэта и Человека.
Мрачные предчувствия неизбежной катастрофы не покидали немногих истинных и близких друзей Пушкина все последние месяцы жизни поэта. Жуковский, Вяземский и другие предпринимали неоднократные попытки предотвратить дуэль. Но все было тщетно. 27 января 1837 года Пушкин в санях отправился в свой последний путь на Черную речку, где должна была состояться роковая дуэль. С ним был Константин Данзас, старый лицейский товарищ, которого Пушкин, встретив как бы случайно на улице, попросил быть его секундантом. Петербургская молва утверждала, что по дороге на Черную речку Данзас будто бы ронял пули в надежде, что кто-нибудь увидит их и догадается, куда и зачем они едут и, может быть, сумеют предотвратить несчастье.
Знала о месте и времени дуэли и полиция. Во всяком случае весь Петербург был уверен в этом. Как и в том, что жандармов, обязанных помешать поединку, будто бы специально послали «не туда». Сохранилась легенда о разговоре, состоявшемся у шефа жандармов Бенкендорфа с княгиней Белосельской-Белозерской, после того как полиции стало известно о предстоящей дуэли. «Что же теперь делать?» – будто бы спросил он у княгини. «А вы пошлите жандармов в другую сторону», – ответила ненавидевшая Пушкина княгиня.
Послать «не туда» оказалось довольно просто. В то время в Петербурге было целых четыре речки с официальным названием «Черная», в том числе – одна в Екатерингофе, излюбленном месте петербургских дуэлянтов. Туда-то и были будто бы направлены жандармы.
А в это время на заснеженном берегу другой Черной речки, на противоположном конце города, за Петербургской стороной, разыгрывался последний акт пушкинской трагедии. Дантес стрелял первым. Смертельно раненный Пушкин, пользуясь своим правом выстрела, приподнялся, прицелился и выстрелил в противника. Но, как об этом рассказывает легенда, пуля отскочила, не причинив никакого вреда Дантесу, потому что на нем под мундиром была якобы надета кольчуга либо еще какое-то защитное приспособление, которое и спасло ему жизнь.
Легенда эта сошла со страниц сравнительно недавней публикации специалиста по судебной медицине В. Сафонова, который пытался доказать, что, так как пуговицы на кавалергардском мундире располагались в один ряд и не могли находиться там, куда попала пуля, то отрикошетить она могла только от некоего защитного приспособления, находившегося под мундиром. Добавим, что этим якобы была обусловлена и просьба Геккерна об отсрочке дуэли на две недели. Ему, видимо, нужно было «выиграть время, чтобы успеть заказать и получить для Дантеса панцирь». Более того, в Архангельске будто бы раскопали старинную книгу для приезжающих с записью о некоем человеке, прибывшем из Петербурга от Геккерна незадолго до дуэли. Человек этот, рассказывает легенда, «поселился на улице, где жили оружейники».
Уже после того как легенда, попав на благодатную почву всеобщей заинтересованности, широко и повсеместно распространилась, ее решительно отвергли пушкинисты. Они утверждали, что «нет никаких оснований полагать, что на Дантесе было надето какое-то пулезащитное устройство». Ко времени описываемых событий прошло уже два века, как кольчуги вышли из употребления, никаких пуленепробиваемых жилетов в России не существовало, да и надеть его под плотно пригнанный гвардейский мундир было бы просто невозможно. Что же касается пуговиц, то они на зимнем кавалергардском мундире располагались оказывается не в один, как полагал Сафонов, а в два ряда, и та, что спасла жизнь убийце Пушкина, была на соответствующем месте.
И, наконец, самое главное. Обычаи и нравы первой половины XIX века, кодекс офицерской чести, дворянский этикет, позор разоблачения, страх быть подвергнутым остракизму и изгнанным из общества исключал всякое мошенничество и плутовство в дуэльных делах. Правила дуэли соблюдались исключительно добросовестно и честно. На предсказуемость или непредсказуемость рокового исхода в условиях XIX века более влияли преддуэльные, нежели дуэльные обстоятельства. В деле Пушкина именно так и случилось.
Уже на следующий день в Петербурге родился миф о том, что Пушкина убили в результате хорошо организованного заговора иностранцев: один иноземец смертельно ранил поэта, другим поручили лечить его. Придворный лейб-медик Николай Федорович Арендт, согласно другому мифу, выполняя якобы тайное поручение Николая I, «заведомо неправильно лечил раненого поэта, чтобы излечение никогда не наступило». Такая знакомая российская ситуация – во всем виноваты иностранцы. Дантес, у которого было аж три отечества: Франция – по рождению, Голландия – по приемному отцу и Россия – по месту службы, голландский посланник Геккерен, и, наконец, личный медик императора немец Арендт. Даже фамилия секунданта Пушкина Данзаса могла вызывать подозрение патриотов. Доктор Станислав Моравский вспоминает, что «все население Петербурга, а в особенности чернь и мужичье, волнуясь, как в конвульсиях, страстно жаждали отомстить Дантесу, расправиться даже с хирургами, которые лечили Пушкина».
Пушкина не стало 29 января 1837 года в 2 часа 45 минут. По малоизвестному преданию, год, день, число и час смерти Вяземский и Нащокин написали на найденных в бумажнике поэта двадцатирублевых купюрах, которые они разделили между собой.
Узнав о смерти Пушкина, живший в то время в Париже Мицкевич, по известному в ту пору преданию, послал Дантесу вызов на дуэль, считая себя обязанным драться с убийцей своего друга. Если Дантес не трус, – писал будто бы Мицкевич, – то явится к нему в Париж. Мицкевич впервые приехал в Россию в 1824 году. В Петербурге Мицкевичу, высланному из Польши за принадлежность к тайному молодежному обществу, должны были определить место дальнейшей службы в глубинных районах огромной страны. Здесь он сближается с Пушкиным, которого ценил необыкновенно высоко.
О знакомстве двух великих национальных поэтов остался забавный анекдот.
Пушкин и Мицкевич очень желали познакомиться, но ни тот, ни другой не решались сделать первого шага к этому. Раз им обоим случилось быть на балу в одном доме. Пушкин увидел Мицкевича, идущего ему навстречу под руку с дамой.
– Прочь с дороги, двойка, туз идет! – сказал Пушкин, находясь в нескольких шагах от Мицкевича, который тотчас же ему ответил:
– Козырная двойка простого туза бьет. Оба поэта кинулись друг другу в объятия и с тех пор сделались друзьями.
Вместе с тем отношение Мицкевича к Петербургу было последовательно отрицательным. В Петербурге он видел столицу государства, поработившего его родину и унизившего его народ.
Рим создан человеческой рукою, Венеция богами создана, Но каждый согласился бы со мною, Что Петербург построил сатана.или:
Все скучной поражает прямотой, В самих домах военный виден строй.И хотя Мицкевич хорошо понимал различие между народом и государством, свою неприязнь к Петербургу ему так и не удалось преодолеть. Еще более она углубилась после польского восстания 1830 года и его жестокого подавления в 1831-м. Пушкинское стихотворение «Клеветникам России» Мицкевич расценил как предательство. В это время он уже жил за границей, оставил литературное творчество и занимался политикой. С Пушкиным он больше не встречался. Однако на протяжении всей своей жизни он сохранил восторженное отношение к Пушкину как к великому русскому поэту. Его легендарный вызов Дантесу вполне мог иметь место.
Почти полстолетия после смерти Пушкина памятника поэту в России не было. Ни в столице, ни на его родине – в Москве. Впервые заговорили о памятнике только в 1855 году. Идея родилась в недрах Министерства иностранных дел, чиновники которого не без основания считали себя сослуживцами поэта, так как по окончании Лицея Пушкин короткое время числился на службе по этому ведомству. Еще через полтора десятилетия бывшие лицеисты образовали «Комитет по сооружению памятника Пушкину». Комитет возглавил академик Я. К. Грот. Начался сбор средств.
Наконец высочайшее разрешение на установку памятника было получено. Но не в столице, где принято было сооружать монументы только царствующим особам и полководцам, а на родине поэта, в Москве. Объявленный в 1872 году конкурс выявил победителя. Им стал скульптор А. М. Опекушин. Отлитая по его модели бронзовая статуя поэта в 1880 году была установлена на Тверском бульваре в Москве.
Это побудило петербуржцев еще более настойчиво бороться за создание памятника Пушкину в своем городе. Чтобы ускорить процесс, было предложено использовать один из многочисленных конкурсных вариантов Опекушина.
Первоначально местом установки памятника был избран Александровский сад перед входом в Адмиралтейство. Но судьба распорядилась иначе. Незадолго до того вновь проложенная по территории бывшей Ямской слободы Новая улица была переименована в Пушкинскую. Короткая, тесно застроенная доходными домами, улица имела прямоугольную площадь, будто бы специально предназначенную для установки памятника. В центре сквера, разбитого садовником И. Визе по проекту архитектора В. Некора посреди этой площади, 7 августа 1884 года и был установлен первый в Петербурге памятник Пушкину.
Однако и на этот раз фольклор предложил свою, оригинальную версию появления памятника именно на этом месте. Некая прекрасная дама, рассказывает городское предание, страстно влюбилась в Александра Сергеевича Пушкина. Но он ею пренебрег. И вот, много лет спустя, постаревшая красавица решила установить ему памятник, да так, чтобы отвергнувший ее страстную любовь поэт вечно стоял под окнами ее дома. Этот монумент и сейчас стоит на Пушкинской улице, и взгляд поэта действительно обращен на угловой балкон дома, в котором якобы и проживала та легендарная красавица.
В конце 1930-х годов городскими чиновниками будто бы было принято решение перенести неудачный, как считалось тогда, памятник Пушкину на новое место. На Пушкинскую улицу, рассказывает одна ленинградская легенда, прибыл грузовик с автокраном, и люди в рабочей одежде начали осуществлять чей-то кабинетный замысел. Дело было вечером, и в сквере вокруг памятника играли дети. Вдруг они подняли небывалый крик, и с возгласами: «Это наш Пушкин!» – окружили пьедестал, мешая рабочим. В замешательстве один из прибывших решил позвонить «куда следует». На другом конце провода долго молчали, не понимая, видимо, как оценить ситуацию. Наконец, как утверждает легенда, со словами: «Ах, оставьте им их Пушкина!» – бросили трубку.
Через три года после открытия памятника Пушкину на Пушкинской улице Россия отмечала пятидесятилетие со дня гибели поэта. По этому поводу на Черной речке, на месте трагической дуэли, был установлен бюст поэта и отслужена панихида. В Петербурге произносились речи, читались доклады. Торжества почтил своим присутствием император Александр III. Однажды, рассказывает предание, после доклада академика Грота, император «дивился, как это Пушкин изловчался писать при суровой николаевской цензуре», и прямо с чествования поэта отправился будто бы знакомиться с проектами памятника… Николаю Первому.
Еще через полвека Ленинград широко отмечал столетие со дня злодейского убийства Пушкина. «Торжества», как принято было говорить в то время, предполагали целый ряд мероприятий по увековечению памяти поэта. Среди прочего, Биржевую площадь на Стрелке Васильевского острова переименовали в Пушкинскую. На ней собирались установить памятник поэту, воздвигнутый, кстати, через двадцать лет, но уже на площади Искусств.
Тогда же Евдокимовскую улицу вблизи Большеохтинского кладбища переименовали в Ариновскую. В то время была жива легенда, что няня Пушкина, Арина Родионовна Яковлева, скончавшаяся в 1828 году, была похоронена на этом кладбище. Причем это, кажется, единственный случай, когда фольклор получил официальный статус. На мемориальной доске, установленной на Большеохтинском кладбище в столетнюю годовщину смерти Арины Родионовны, в 1928 году, было высечено: «На этом кладбище, по преданию, похоронена няня поэта А. С. Пушкина Арина Родионовна, скончавшаяся в 1828 году. Могила утрачена».
На самом деле Арина Родионовна похоронена не на Большеохтинском кладбище, а на Смоленском. Но и на Смоленском кладбище, оказывается, место захоронения знаменитой няни поэта не установлено. Мемориальная доска с Большеохтинского кладбища ныне хранится в Литературном музее Пушкинского Дома.
Со смертью Пушкина не прерывается процесс мифологизации поэта, который с нарастающей амплитудой длился всю его активную творческую, светскую и семейную жизнь. Более того, значительная часть преданий, легенд, мифов и анекдотов, с которыми мы уже успели познакомиться, родилась в непосредственной близости к трагическим январским дням 1837 года. Но со временем, казалось, исчерпав пушкинскую тему в качестве объекта мифологизации, фольклор приобрел заметно иные интонационные свойства. Имя Пушкина становится неким знаком, лакмусовой бумажкой, пробным камнем, попасть в сферу воздействия которого было кому-то лестно, а кому-то досадно.
В 1904 году в Берлине была издана на русском языке странная книжица с претенциозным названием «Анекдоты русского двора». Практически все они представляли собой некие микропамфлеты, направленные против русского императора. В них Николай II выглядит глуповатым, недалеким простачком, над которым легко потешаются не только придворные, но и подданные. Это и неудивительно. Россия стояла в преддверии революции 1905 года. Авторство анекдотов легко угадывалось. Вот один из анекдотов этого сборника:
«Однажды, когда Его величество Николай II сидел в театре, он обратил внимание на человека с большой густой шевелюрой, и поинтересовался узнать, кто он.
– Мне кажется, что это известный поэт, – сказал Его величеству сидевший позади министр двора.
– Поэт? Поэт? – заинтересовался Его величество, – может быть это сам Пушкин?»
Эксплуатация такого нехитрого, но универсального и практически беспроигрышного приема продолжалась не одно десятилетие. Анекдот из седьмого номера «Сатирикона» за 1912 год:
«– Да, Пушкин был великий поэт.
– Более того, он был лицеистом».
Через полтора десятилетия этот метод парадоксального противопоставления развивает журнал «Бегемот»:
«– Говорят, Пушкин в жизни был дон-жуаном.
– Ничего подобного! Я сама читала, что он был камер-юнкером».
Более чем через полвека эту тему подхватывает журнал «Нева»:
«Едут два читателя-детективоглотателя мимо памятника Пушкину.
– Ха, написал каких-то „Мертвых душ“, и на тебе – памятник.
– А мне кажется, что их написал Гоголь.
– Тем более».
Современные дети попытались расширить возможности жанра. Они довели ситуацию до абсурда и, похоже, преуспели в этом:
У памятника Пушкину на площади Искусств стоят пионеры и отдают честь. Подходит к ним мальчик:
– Это кому вы честь отдаете?
– Пушкину.
– Это который «Муму» написал.
– Ты что?! «Муму» Тургенев написал. Мальчик отходит. Останавливается. Возвращается.
– Не пойму я вас, ребята. «Муму» Тургенев написал, а вы честь Пушкину отдаете.
Хорошо известно, что Пушкин не считал себя детским поэтом. Более того, специально для детей он не написал ни одного произведения. Даже такие, как «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане» или «Сказка о попе и его работнике балде», детям не предназначались. И в то же время осваивать такой огромный материк, как Пушкин, было поручено детям. Этому способствовало создание в СССР величайшего государственного мифа о Пушкине. В 1937 году страна готовилась отметить столетие со дня гибели поэта. Мы уже коротко говорили о намечавшихся юбилейных торжествах. По этому поводу ленинградцы горько шутили: «Что ж, какая жизнь, такие и праздники» и «Пушкин был первым, кто не пережил 37-го года».
К 1937 году период идеологической размытости и неопределенности по отношению к Пушкину закончился. Дилемма: «Пушкин – защитник самодержавия» – «Пушкин – активный борец с царизмом» уже не существовала. Отныне Пушкин становился нашим, чуть ли не пролетарским поэтом. Вся мощь партийной идеологии была брошена на придание его образу хрестоматийного глянца. В значительной степени это удалось. Пушкин утрачивал естественные черты блестяще одаренного молодого жизнелюба и приобретал атрибуты умудренного опытом, нравственно безупречного хранителя окончательных истин.
Естественной реакцией детского фольклора на такое мощное внешнее давление стало неосознанное абстрагирование от личности поэта. Теперь, уже в школьном фольклоре, имя Пушкина потеряло даже свою недавнюю знаковость. Оно просто стало инструментом для сочинения смешных каламбуров. Вот только несколько курьезных отрывков из школьных сочинений, то ли, действительно написанных нерадивыми учениками, то ли придуманных взрослыми в качестве анекдотов:
«Пушкин любил вращаться в высшем обществе и вращал в нем свою жену».
«Пушкин умер от руки Диатеза».
«Пушкина убил Дантист».
Наконец это вылилось в универсальный расхожий штамп, употребление которого не требовало даже знакомства с творчеством поэта. «Кто платить будет? Пушкин?»; «Кто будет уроки делать? Пушкин?»; «Кто работать будет???» и так далее, и так далее…
Конца этому фольклорному ряду не видно. Но нам кажется, что можно реконструировать его начало. «Дантес бесконечно долго целился и никак не мог выстрелить. „Дантес! – нетерпеливо воскликнул его секундант, – кто за тебя стрелять будет? Пушкин?“».
Так фольклор возвращает нас к своим лучшим образцам. С образа поэта снимается лаковый глянец. Он сходит с пьедестала и становится нашим современником. Наивный плач под гармошку в 1930-х годах: «Александр Сергеевич Пушкин,/Жаль, что с нами не живешь,/Написал бы ты частушку,/Чтобы пела молодежь» сменяется бескомпромиссным утверждением 1980-х: «Какой самый современный ленинградский поэт? – Пушкин».
Думается, что даже и на этой оптимистической ноте цикл легенд о Пушкине не заканчивается. Пушкин продолжает жить в нашем городе. Вместе с нами.
КузНевский мост или Из Петербурга в Москву на крыльях городского фольклора
Уже сам факт неожиданного и мгновенного возникновения Петербурга на исторической карте русского государства явился непростительным вызовом патриархальной стареющей Москве. Нежданное дитя взбалмошного государя заявило о себе так громко, что моментально вывело первопрестольную из полудремотного состояния азиатской невозмутимости. Ожила и засуетилась многодумная боярская оппозиция молодому и непостижимому царю. Вольные или невольные эмиссары Москвы закладывали прочный фундамент трехвекового противостояния двух столиц, осторожная мобилизационная готовность которых продолжается сих пор. То ли в каменном безмолвии староладожского Успенского монастыря, куда была заточена Евдокия Лопухина, в монашестве инокиня Елена, первая, нелюбимая жена Петра, ревнивая охранительница московского старозаветного быта, то ли в царевых застенках Петропавловской крепости, на дыбе, куда был вздернут несчастный царевич Алексей, родилось страшное проклятие, приобретшее законченную пословичную форму: «Быть Петербургу пусту». Эта формула неприязни, если не сказать, враждебности к новой столице стала, кажется, первой фольклорной реакцией на отношения двух городов, на протяжении трех столетий с разной степенью эмоциональности и откровенности выражающих полярно противоположные точки зрения на ход истории.
Случайные попытки примирить или хотя бы сблизить эти полюсы мировоззрения, как правило, начинались с курьезов и заканчивались провалом. Красный хмель, бродивший в неокрепших головах юных строителей нового мира, среди прочих химер XX века породил утопическую идею слияния двух городов. Не мудрствуя лукаво, некий пролетарский поэт предложил строить дома в Петрограде и Москве исключительно вдоль линии Октябрьской железной дороги. Через десять лет оба города должны были соединиться в один с центральной улицей – КузНевским проспектом. От этого «петербургско-московского гибрида» в фольклоре остался неуклюжий топоним, уготованный для нового образования, – «Петросква». Однако и от такого новоязовского кирпичика круги по воде пошли. То вдруг появился простецки незатейливый «Москволенинград», то витиевато-причудливая «Санкт-Московия».
Правда, и в том, и в другом случаях фактическое объединение столиц, как это задумывалось с «Петросквой», не предполагалось. «Москволенинград» должен был представлять из себя новоявленный конгломерат неких «линейных городов», возведенных вдоль идеально прямой железной дороги. Из таких «солнечных городов», по замыслу их авторов, можно было бы на несколько часов «съездить по магистрали в Москву или Ленинград – посмотреть музеи того и другого города». Москве и Ленинграду в этом фантастическом проекте позволялось сохранить свои первородные имена, но в целом их соединение нарекалось «Москволенинградом». Уж очень это напоминает станционное радиообъявление, ставшее анекдотом: «Внимание! Внимание! Поезд Москва – Санкт-Петербург отправляется с Ленинградского вокзала».
Что же касается сказочной «Санкт-Московии», то здесь вообще речь не идет о конкретном городе, ни о Москве, ни о Санкт-Петербурге, даже не о том, что стоит за этими понятиями, что они олицетворяют. Скорее всего «Санкт-Московия» – это не то и не другое. Не Москва, не Петербург. Не Европа, не Азия. Нечто среднее. Размытое и неопределенное. Сродни ленинградско-петербургской формуле неопределенности переходного периода: «Уже не Одесса, но еще не Петербург». Проницательные и прагматичные иностранцы по этому поводу давно заметили, что «По дороге от Петербурга до Москвы переходишь границу Азии».
Таким образом, ни формально, ни фигурально объединить две столицы не удается. Даже в фольклоре, где, казалось бы, уместна и фантастическая реальность, и сказочная быль.
В то же время практически нет ни одной фольклорной записи, где бы при упоминании этих двух городов-антиподов не была бы подчеркнута их полярная противоположность. Купеческое высокомерие Москвы, замешанное на традиционных вековых обычаях и дедовских устоях, столкнулось с аристократическим максимализмом неофита, с легкостью разрушающего привычные стереотипы.
Владимир Даль записывает пословицу: «Москва создана веками, Питер миллионами». Затем эта пословица, передаваясь из уст в уста и совершенствуясь, приобретает два новых варианта. Один из них просто конкретизирует, уточняет ситуацию: «Питер строился рублями, Москва – веками». Ее, простую и недвусмысленную, в 1929 году включают в книгу «Москва в пословицах и поговорках». Второй вариант более замысловат, однако, кажется, именно он наиболее точно отражает суть межстоличных противоречий: «Москва выросла, Петербург выращен». Вот этого-то, как оказалось, и было невозможно простить юному выскочке, посягнувшему на лидерство.
В то же время даже в середине XIX века, через полтора столетия после основания Петербурга, москвичей не покидает тайная надежда, что «Петербургу суждено окончить свои дни, уйдя в болото». Герой повести Н. С. Лескова «Смех и горе» так передает свое впечатление об отношении москвичей к северной столице: «Здесь Петербург не чествуют: там, говорят, все искривлялись: кто с кем согласен и кто о чем спорит – и того не разберешь. Они скоро все провалятся в свою финскую яму. Давно, я помню, в Москве все ждут этого петербургского провала и все еще не теряют надежды, что эта благая радость свершится».
Далее происходит примечательный диалог:
«– А вас, любопытствую, – Бог милует, не боитесь провалиться?
– Ну мы!.. Петербург, брат, – говорит, – строен миллионами, а Москва – веками. Под нами земля прочная. Там, в Петербурге-то, у вас уж, говорят, отцов режут да на матерях женятся, а нас этим не увлечешь: тут у нас и храмы, и мощи – это наша святыня, да и в учености наша молодежь своих светильников имеет… предания…»
После такого принципиального выпада начался, что называется, обмен любезностями, с переменным успехом длящийся до сих пор. Петербург обозвал Москву «Большой деревней», за что петербуржцы тут же были наречены «Аристократами». Один иностранный автор сделал любопытное наблюдение. Оказывается, наша страна была единственной в мире, где слово «пролетарий», по крайней мере в устной речи, имел явственно уничижительный смысл. Так вот, именно «пролетариями» называют петербуржцы москвичей. С издевательской насмешливостью москвичи воскликнули: «Что за петербуржество?» И услышали в ответ из северной столицы: «Отольются Москве невские слезки». При этом петербуржцы оставались в полной уверенности, что «При упоминании о северной столице у членов правительства меняются лица» и «По ком промахнется Москва, по тому попадет Питер».
Однако такого рода перепалка не была самоцелью ни с той, ни с другой стороны. Спор шел не о привилегиях, но о приоритетах. Какой должна быть технология жизни, каким способ существования. Куда идти. Кому верить. На кого молиться. По большому счету, выражаясь метафорически, речь шла о символе веры. Среди сравнительно немногих петербургских пословиц, записанных Владимиром Далем (напомним, что Петербургу тогда было всего лишь чуть более ста лет), значительное место занимают такие, как «Питер – голова, Москва – сердце», «Питер – кормило, Москва – корм» и «Новгород – отец, Киев – мать, Москва – сердце, Петербург – голова». В последнем случае очень важно, что в диалог о приоритетах включаются и другие города. Это напоминает известный современный анекдот об Одессе: «Одессит расставляет приоритеты: „Москва… Санкт-Петербург… Одесса… Конечно, Одесса не первый город, но… и не второй…“».
Во второй половине XIX века, особенно после того, как в разговор о столицах активно включились Добролюбов, Герцен, Белинский, Гоголь, афористичные оценки которых вошли в золотой фонд петербургского фольклора, анатомический ассортимент частей человеческого организма в сравнительном анализе двух столиц заметно расширился: «Москва от сердца, Петербург от головы»; «Москва – голова России, Петербург – ее легкие». Надо полагать, легкие, которыми Россия дышит свежим воздухом мировой цивилизации.
В то же время категоричные и недвусмысленные утверждения одних прерываются осторожными сомнениями других. Маркиз де Кюстин, посетивший Россию в 1839 году по приглашению Николая I, записывает услышанное будто бы от самого императора: «Петербург – русский город, но это не Россия». Французу Кюстину скорее всего слышалось то, что хотелось услышать. Но и неистовый петербуржец Виссарион Белинский утверждает примерно то же: «Москва нужна России, для Петербурга нужна Россия». Правда, в самом конце XIX века в фольклоре появляется несколько иная, исполненная гордой самоиронии, примиряющая формула: «Нет страны более дикой, чем Россия, и Петербург столица ее».
Щеголеватый и деятельный, аристократический, исполненный царственного достоинства, облаченный либо в великолепный фрак, либо в ослепительный мундир Петербург, чье имя мужского рода так подходит к его классическому облику, в фольклоре, скорее всего интуитивно, но все-таки противопоставляется чинной и обстоятельной купеческой Москве. «Москва женского рода, Петербург – мужского». Сразу после 1712 года, когда в Петербурге была официально, в присутствии царского двора и дипломатического корпуса, специально прибывшего из Москвы, торжественно сыграна свадьба Петра и Екатерины, давно уже, впрочем, состоявших в светском браке, пошла по России гулять пословица: «Питер женится, Москву замуж берет».
Через сто лет Владимир Даль уточняет. Причем, уточнение носит принципиальный характер: «Питер женится, Москва – замуж идет».
В XIX веке Петербург был городом преимущественно мужским. Его население составляли чиновники правительственных ведомств, офицеры гвардейских полков, студенты университета и кадеты военных училищ, фабричные и заводские рабочие. Более двух третей жителей Петербурга были мужчины. Но и в 1970-х годах, когда этой разницы уже давно не существовало, в городе бытовала пословица: «В Ленинграде женихи, а в Москве невесты». И это не было данью традиции. Скорее всего речь шла уже не о численности женихов и невест, а о иных, различных свойствах юных претендентов на брачный союз. Высоко ценилась просвещенность и образованность, внутренняя культура и цивилизованность молодых ленинградцев, с одной стороны, и пресловутая домовитость московских красавиц – с другой.
В популярном петербургском анекдоте то же самое выглядит иначе. Анекдот в силу своей формальной раскрепощенности несколько уступает в объективности строго выверенным пословичным формулам. В анекдоте более откровенно расставлены территориальные акценты. В нем острее чувствуется его петербургское происхождение.
В трамвай входит дама. Молодой человек уступает ей место.
– Вы ленинградец? – спрашивает дама.
– Да, но как вы узнали?
– Москвич бы не уступил.
– А вы москвичка?
– Да, но как вы узнали?
– А вы не сказали мне спасибо.
Явные и скрытые признаки мужского и женского начала в столицах отмечены не только в низовой, фольклорной культуре. Вкус к раскрытым в пространство проспектам и прямолинейным улицам, тяготение к прямым углам в зодчестве и к логической завершенности архитектурных пространств заметно отличали Петербург от других городов, в том числе от Москвы с ее лабиринтами переулков, тупичков и проездов, уютными домашними двориками и тихими особнячками чуть ли не в самом центре города. На фоне подчеркнуто ровного, уверенного и достаточно твердого петербургского произношения, которое москвичи язвительно приписывали гнилому воздуху финских болот и дрянной погоде, когда «не хочется и рта раскрыть», выигрышно выделяется мягкость и певучесть московского говора. Роковой юношеский максимализм революционного Петрограда противопоставляется степенной осмотрительности сдержанной и флегматичной матушки Москвы. Наконец, не случайно Москву называют столицей, в то время как Петербург – стольным градом.
При желании можно найти и другие различия на и без того противоположных концах московско-петербургской оси, вращающей общественную и политическую жизнь России последних трех столетий. Можно искать. Но можно просто согласиться с пренебрежительной московской поговоркой: «Наша Москва – не чета Петербургу», или с петербургским заносчивым: «Питер – город, Москва – огород».
Еще в то время, когда Петербург не успел заявить о себе во весь голос, еще тогда, когда он был не более чем идеей, замыслом, мечтой одиночки, уже тогда он стал центром притяжения десятков, сотен и тысяч искателей приключений и авантюристов, мечтателей, рассчитывающих на скорое обогащение, и, наконец, деятельных и предприимчивых профессионалов, мечтающих реализовать свои способности. С Петербургом связывали надежды на достаток и благополучие. Вот детская песенка, записанная в одной из деревень центральной России:
Сорока-белобока, Научи меня летать, Чтоб не низко, не высоко, Чтобы Питер повидать.Желая быть, по возможности, максимально объективным, я старался избегать публикации в этой главе фольклорных текстов, в которых нет противопоставления двух столиц, или хотя бы сравнения их. Допускаю, что в фольклоре есть песни, и даже колыбельные, связанные не только с Питером, но и с Москвой. Но вот пословица, у которой, кажется, нет альтернативных вариантов: «Если Москва ничего не делает, то Петербург делает ничего».
Петербург действительно в короткий срок превращается в один огромный созидательный цех, где все работают или служат, во всяком случае что-то делают, совершают поступки. Деятельность как таковая становится знаком Петербурга, его символом. Возникает неизвестное ранее на Руси явление: появились встречные потоки российского люда. В Петербург – на работу. В Москву – на покой. Сардинский посланник в России граф Жозеф де Местр в одном из своих писем из Петербурга сообщает о том, что в аристократических салонах Москву называют «столицей недовольных». Все, кто попал в немилость, отставлен или изгнан, «почитаются как бы несуществующими… они живут или в своих имениях, или в столице недовольных – Москве».
Правда, на Руси – традиционно ортодоксальной, смиренной и безропотной – такие миграционные процессы не были результатом свободного выбора, чаще всего они носили принудительный, подневольный характер. Достаточно вспомнить поименные сенатские списки, согласно которым многие московские купцы, бояре и просто ремесленный люд должны были переселиться на вечное житье в новую столицу. Один из многочисленных указов Петра гласил: «Беглых солдат бить кнутом и ссылать в новостроящийся город Санкт-Петербург». Но прививка, полученная в первой четверти XVIII века, оказалась такой мощной и долговременной, что очень скоро Россия, как сказано в фольклоре, уже смотрела «Одним глазом в Москву, другим в Питер» и интерес к последнему заметно превалировал и стремительно рос. Причем, теперь уже выбор формировался вполне сознательно, потому что понимание того, что «Питер бока повытер, да и Москва бьет с носка», было полным. Владимир Даль дважды записывает эту пословицу, меняя всего лишь местами названия городов. В первом случае: «Питер бока повытер…» и во втором: «Москва бьет с носка, а Питер бока повытер». Это к вопросу о приоритетах. Да и право выбора на Руси всегда было самым нелегким, едва ли не непосильным правом. Оттого и «Одним глазом в Москву, другим в Питер».
Чаще всего предпочтение отдавалось все-таки Петербургу, где градус кипения общественной жизни был значительно выше московского. Набор развлечений, предлагаемых северной столицей, оказывался шире, разнообразнее и предпочтительнее унылой росписи знаменитых старосветских обедов и обязательных воскресных семейных слушаний церковных проповедей под неусыпным приглядом московских тетушек. В Вологодской, Архангелогородской и других северных губерниях бытовала недвусмысленная пословица: «В Питер – по ветер, в Москву – по тоску».
В Питере было вольготней и проще. В арсенале петербургской городской фразеологии есть пословица: «Москва живет домами, Петербург площадями» и более поздний ее вариант: «Москвичи живут в своих квартирах, петербуржцы – в своем городе».
В одном ряду с традиционными московскими реалиями, набор которых в фольклоре весьма ограничен, в пословицах и поговорках появляются новые ценности уже петербургского периода русской истории. Доходчивые и понятные простому люду, в устах которого фольклор появляется и совершенствуется, а в коллективной памяти – сохраняется, эти ценности должны были зафиксировать не только отличия двух столиц – старой и новой, но и разное к ним отношение. «Славна Москва калачами, Петербург – усачами», «Славна Москва калачами, Петербург – сигами», «Славна Москва калачами, Петербург – пиджаками».
Однообразие «калачей» в пословицах, записанных в разное время и разными исследователями, очевидно, адекватно пословичной «тоске», упоминавшейся выше. И напротив, многочисленность аргументов в пользу Петербурга – от сигов, напоминающих о невском просторе, до пиджаков (или сюртуков?) европейского покроя и усов, исключительную привилегию носить которые имели только блистательные императорские гвардейцы («Видно птицу по полету, а гвардейца – по усам»), свидетельствует о бесспорном преимуществе Питера в глазах российского обывателя.
Жизненный ритм новой столицы напрочь опрокидывал привычные представления о бытовавшем на Руси традиционном укладе. В Петербурге, как, впрочем, и в Москве, рано вставали. Но ни сам факт раннего подъема, ни следствие этого факта в обеих столицах не были тождественны. Москва шла к заутрене, Петербург – на службу. И это безошибочно сформулировано в фольклоре: «В Москве живут как принято, в Петербурге как должно»; «Петербург будит барабан, Москву – колокол». И это не значит, что в Петербурге отсутствовали церкви. К началу XX века их насчитывалось ни много ни мало более шестисот. Но, как верно отмечено в фольклоре, не они определяли биение общественного пульса столицы.
Всё в Петербурге не так, как в Москве. И уж, конечно, как считают петербуржцы, лучше, чем в Москве. Даже язык нового Петербурга в значительной степени отличался от старомосковского. Мы уже говорили о его интонационных различиях. Но, оказывается, оба города имели свои, только им присущие слова. Белый хлеб в Москве и булка – в Петербурге, московские пончики и петербургские пышки, вставочки у ленинградских школьников и ручки – у московских, проездной – в Москве и карточка – в Ленинграде. Курьезная история произошла с французским словом «тротуар», которое было безоговорочно принято в Москве. В Петербурге предпочли французскому «тротуару» его голландский аналог «панель». Предпочли… но с определенной оговоркой. К тому времени петербуржцам был хорошо знаком незатейливый эвфемизм «выйти на панель». Поэтому дорожки для пешеходов на всех петербургских улицах назывались панелями, и только на Невском проспекте – тротуарами.
Впрочем, это не уберегло петербуржцев от двусмысленного «Пойти на Невский» в значении «заняться проституцией».
И только в двух случаях, отмеченных в фольклоре, Петербург не противопоставил себя белокаменной столице. В первом – он пошел на известный компромисс, согласившись на некоторое равенство. В 1829–1830 годах по проекту архитектора А. Е. Штауберга в Петербурге, на территории Новой Голландии была выстроена военная тюрьма. Круглая в плане, она отдаленно напоминала гигантскую бутылку. Так ее и прозвали в народе. Согласно одной петербургской легенде, именно поэтому и родилось известное выражение: «Не лезь в бутылку», то есть не веди себя буйно – попадешь в кутузку. Так вот, едва появилась эта нравоучительная сентенция, как Питер тут же протянул Москве миролюбивую руку: «В Москве Бутырка, в Питере – Бутылка». Во втором случае Питер просто уступил своей старшей сестре: «В Москве климат дрянь, в Петербурге еще хуже».
Впрочем, не исключено, что все, о чем здесь сказано, имеет прямое и непосредственное отношение к поговорке, придуманной, надо полагать, москвичами: «Москву любят, о Петербурге рассуждают».
В самом деле, если внимательно вглядываться в лексически точные конструкции фольклорных текстов и чутко вслушиваться в их интонационные особенности, то разговор, начатый между Петербургом и Москвой три столетия назад, никак не покажется ни спором, ни, тем более, руганью. В нем не услышишь ни уничижительных нот, ни оскорбительных выражений. Редкие исключения лишь подтверждают правило: взаимоотношения старшей и младшей столиц всегда оставались сдержанно-ровные, почтительные и подчеркнуто миролюбивые.
В 1918 году Петроград становится центром так называемой «Северной коммуны» – искусственного административного образования во главе с председателем Петроградского совета личным другом и политическим соратником Ленина Зиновьевым. Центральные законы на территории Петрограда стали действовать исключительно в интерпретации местного руководства. Из недр чиновничьего аппарата Петросовета вылетела на свет Божий и была восторженно подхвачена толпой крылатая фраза: «Нам Москва не указ», которая затем превратилась в амбициозно-спесивую поговорку: «Не из Москвы воля, а из Питера». Питера начали побаиваться. Вспомните пережившую десятилетия и не утратившую актуальности пословицу: «При упоминании о северной столице у членов правительства меняются лица». Затем последовал разгром так называемой зиновьевской оппозиции, убийство Кирова и невиданный в истории жесточайший террор, пресловутое «Ленинградское дело». Мирный диалог между столицами превратился в свою противоположность. Слово перестало быть аргументом в споре.
В фольклоре сохранился анекдот, блестящая микроновелла о заседании Президиума ЦК ВКП(б) на следующий день после убийства Кирова: «Вошел Сталин и с сильным грузинским акцентом невнятно пробормотал: „Вчера в Ленинграде убили Кирова“. Вздрогнув от неожиданности и ничего не поняв, Буденный переспросил: „Кого убили?“ – „Кирова“, – так же едва слышно повторил Сталин. „Кого, кого, Иосиф Виссарионович?“ – „Кого-кого, – передразнил вождь. – Кого надо, того и убили“». Фольклор уловил носившуюся в воздухе иезуитскую идею персонификации Москвы и Петербурга. Появившаяся вскоре частушка: «Ах, огурчики да помидорчики/Сталин Кирова убил в коридорчике» не допускала двух мнений на этот счет. Противопоставление «Киров – Сталин» было слишком очевидным. Последовавшие затем волны чудовищных репрессий против ленинградцев этот факт лишь подтвердили.
Москва мрачно торжествовала очередную победу над вольнолюбивым и независимым Питером. В какой-то степени дух ленинградцев был надломлен. Изменился менталитет. В летопись взаимоотношений двух городов фольклор вписывает одну из самых горьких и унизительных пословиц: «В Москве чихнут, в Ленинграде аспирин принимают».
В который раз стали, казалось, сбываться давние предсказания и старинные пророчества. На этот раз городу не угрожали природные катаклизмы. Более того, в Москве специально рассматривался вопрос о защите Ленинграда от наводнений. По инициативе С. М. Кирова в Институте коммунального хозяйства была составлена подробная записка в поддержку проекта гигантской дамбы поперек Финского залива. Согласно одной малоизвестной легенде, мудрый вождь и любимый друг всех ленинградцев поинтересовался, часто ли в Ленинграде бывают крупные наводнения. «Один раз в сто лет? – будто бы удивился Сталин. – Ну, у нас еще много времени».
Нет, стихийные бедствия социалистическому Ленинграду не угрожали. На этот раз ему была просто уготована судьба заштатного провинциального города.
Однако, как это часто бывает в истории, сказался мощный потенциал, заложенный в 1703 году. В этой связи уместно напомнить о примечательной акции, предпринятой Петром Великим в начале петербургской эпохи. На высоком шпиле Троицкого собора, превращенном в колокольню, укрепили единственные в России того времени куранты, снятые с Сухаревой башни в Москве. Это было глубоко символично. Время в стране отсчитывалось уже не по-московски.
В начале 1990-х годов забрезжила надежда. Петербургские газеты обратили внимание на то, что «едва ли не от каждой посещавшей нас зарубежной делегации» можно было услышать тезис, выраженный в подчеркнуто пословичной форме: «Петербург – еще не первый, но все-таки не второй в России». В радио- и телевизионных передачах все чаще озвучивалась формула: «Обе столицы». И наконец появился анекдот с очевидными признаками былого достоинства и самоуважения: «Внимание! Внимание! Передаем прогноз погоды. Завтра в Москве ожидается один градус, в Петербурге – совершенно другой».
Вместе с тем социологический опрос, результаты которого недавно были опубликованы в журнале «Мир Петербурга», выявил неожиданный результат. На вопрос «Хотели бы Вы или нет, чтобы Петербург стал столицей России?» абсолютное большинство петербуржцев ответило категоричным «нет». Причем, в очередной раз была предпринята вольная или невольная попытка реанимировать давний диалог «обеих столиц». В той же анкете был задан вопрос подросткам. Специфическая лексическая конструкция вопроса провоцировала адекватный ответ: «Считаете ли Вы, что Санкт-Петербург – это самый крутой город России?» – «Йес!!! – ответили подрастающие петербуржцы. – Ясно дело – Питер круче. И клёвее. И кайфовее. Москва – ботва».
Ну что ж. Москвичи, вероятно, думают иначе…
Мистические сюжеты в петербургском городском фольклоре
Традиционно сложившееся устойчивое представление о Петербурге как о городе прагматичном и рациональном, целесообразность каждого элемента которого заранее продумана и «исчислена», странным образом уживается с представлением о Петербурге как о мистическом и ирреальном городе, порожденном болезненным воображением одинокого фантазера. Этакое осознанное воплощение дуализма, в равной степени признающего и дух, и материю. С одной стороны, все в этом городе олицетворяет разумное начало, с другой – жизненная среда в Петербурге, по утверждению специалистов, является критической для существования человека. Крайнее напряжение человеческой психики способствует появлению так называемого «шаманского комплекса». Рубежные границы существования размываются настолько, что понять разницу между сном и бессонницей, бредом и сознанием, покоем и лихорадкой чаще всего столь же невозможно, как отличить оригинал от его двойника, отраженного в зеркальной глубине петербургских каналов.
Отсюда существование петербургских призраков и привидений, которых даже в конце рационального XIX века насчитывалось несколько. В Михайловском замке видели призрак несчастного императора Павла I, играющего на флажолете – старинном музыкальном инструменте, похожем на современную флейту. До сих пор обитатели Михайловского замка в ответ на случайный скрип паркета, неожиданный стук двери или внезапный шорох ветра суеверно произносят: «Добрый день, Ваше Величество». В первом кадетском корпусе, что на Васильевском острове, нет-нет, да является солдат в николаевском мундире и аршинном кивере. А на противоположном берегу Невы, напротив Николаевского, ныне Лейтенанта Шмидта, моста жил призрак женского пола, некая тощенькая Шишига в прюнелевых башмаках и черной пелеринке.
Среди студентов и преподавателей Академии художеств до сих пор бытует легенда об архитекторе Кокоринове, знаменитом строителе здания Академии и ее первом директоре, который был так издерган и затравлен, что однажды будто бы покончил жизнь самоубийством на чердаке Академии. По вечерам, когда сумерки заполняют гулкие коридоры и смолкают привычные дневные шумы, в чуткой тишине раздаются редкие и непонятные звуки. Легенда утверждает, что это призрак измученного архитектора бродит по пыльным чердакам и запутанным лестничным переходам. Еще один призрак, согласно другой распространенной легенде, является по ночам, во время подъема воды в Неве, к главным воротам Академии. На испуганный окрик швейцара: «Кто стучит?» слышится в ответ то ли грохот ветра, то ли рокот воды, то ли голос человеческий. Но если внимательно вслушаться, то можно различить по ту сторону ворот: «Я стучу, я – скульптор Козловский, со Смоленского кладбища, весь в могиле измок и обледенел… отвори».
Старые люди утверждают, что с тех самых пор, когда в 1777 году была будто бы «затоплена» наводнением таинственная и загадочная княжна Тараканова, в Петербурге начал появляться ее печальный призрак, а многие говорят, что и не «затоплена» она вовсе, а спаслась и ходит по городу и плачет будто бы по нерожденному своему ребенку.
3 марта 1881 года на эшафоте Семеновского плаца была казнена организатор и участница покушения на императора Александра II известная террористка Софья Перовская. В Петербурге рассказывали, что, поднимаясь на помост, она вдруг неожиданно выхватила откуда-то белый платочек и взмахнула им перед собравшейся толпой, как тогда, 1 марта, когда подала таким же белым платочком сигнал бомбометателям. Так и повисла в смертных судорогах на веревке с платочком в руке. С того дня живет в Петербурге легенда, что каждый год, в марте, когда город еще темен, а ветер с мокрым снегом бьет по редким прохожим, на крутом мостике Екатерининского канала появляется жуткий призрак одинокой женщины с белым платочком в руке.
Хорошо известна враждебность, существовавшая между единственным наследником престола Павлом Петровичем и его матерью – императрицей Екатериной II. Вначале Екатерина просто не любила сына, Павел платил ей тем же. После смещения с престола и убийства императора Петра III в 1762 году их обоюдная неприязнь обострилась. Павел, не без оснований, считал мать убийцей своего отца. Екатерина, естественно, понимала, что Павел прав. Фигурально выражаясь, зловещая тень убиенного императора Петра III долгие десятилетия стояла между ними. Однако фольклор без усилий трансформировал эту выразительную метафору в фантастическую реальность. На свадьбе Павла, в тот самый момент, когда Екатерина лицемерно поздравляла своего нелюбимого сына, вдруг появляется и садится за стол отец высокородного жениха, свергнутый, убитый и похороненный более десяти лет назад.
Примерно в это же время, согласно легенде, записанной известным историком М. К. Шильдером, Павел Петрович, прогуливаясь однажды с князем Куракиным по улицам Петербурга, повстречался со странным человеком, завернутым в широкий плащ. Причем, как утверждает легенда, если Павел ясно видел этого человека, то Куракин не только ничего не видел, но и пытался убедить в этом цесаревича. Вдруг молчавший до того призрак заговорил: «Павел, бедный Павел! Я тот, кто принимает в тебе участие». На пустынной площади у Сената незнакомец проговорил: «Прощай, Павел. Ты снова увидишь меня здесь». Уходя, он приподнял шляпу, и Павел с ужасом увидел лицо Петра I. Памятник основателю Петербурга установили действительно на месте, якобы указанном призраком самого Петра.
Через несколько десятилетий после открытия памятника бронзовый император вновь оживет в очередной раз став героем еще одной невероятной петербургской легенды. В 1812 году, когда угроза наполеоновского вторжения в Петербург представляла серьезную реальность, Александр I распорядился перевезти памятник Петру I в Вологду. Был разработан план снятия памятника с пьедестала и перевозки его с помощью специальных барж в безопасное место. Статс-секретарю Молчанову были выделены на эти цели несколько тысяч рублей. В это время некоему капитану Батурину снится странный сон, который затем преследует его несколько ночей подряд. Во сне он видит, как Медный всадник съезжает со своей гранитной скалы и по петербургским улицам скачет к Каменному острову, где в то время находился император Александр I. Всадник въезжает во двор Каменноостровского дворца, из которого навстречу ему выходит озабоченный государь. «Молодой человек, до чего ты довел мою Россию? – говорит ему Петр Великий. – Но до тех пор, пока я стою на своем месте, моему городу нечего опасаться». Затем всадник медленно поворачивается назад и, оглашая спящий город «тяжело-звонким скаканьем», возвращается на Сенатскую площадь.
Согласно легенде, сон безвестного капитана доводят до сведения императора, в результате чего статуя Петра Великого остается на своем месте. Как известно, сапог наполеоновского солдата так и не коснулся петербургской земли.
Надо сказать, значение вещего сна в жизни Петербурга было огромным. В городском фольклоре сохранились удивительные легенды о событиях, связанных с ночными видениями. Еще в допетровской истории поспешное бегство из Приневья знаменитого шведского полководца, «вечного победителя русских» Делагарди в народном сознании было связано с поразительным сном, увиденным шведским завоевателем во время короткого отдыха вблизи Шлиссельбурга в 1611 году. Во сне у него на шее выросла сосна. С огромным трудом, не без помощи злого духа, Делагарди освободился от сосны, но, истолковав этот сон как признак близкой смерти, полководец по тревоге поднял войска и в страхе навсегда покинул эти места.
Задолго до этой легендарной истории, в 1240 году, в ночь на 15 июля, перед исторической битвой Александра Невского с немецкими рыцарями, новгородскому воину Пелгусию приснился чудесный сон, в котором святые мученики Борис и Глеб спешили на помощь «своему сроднику» князю Александру Ярославичу. Ставшее известным князю и всей дружине ночное видение Пелгусия, как утверждает легенда, воодушевило воинов и принесло победу Александру Невскому.
С основанием Петербурга таинственный мир снов прочно и надолго становится составной частью городского фольклора. За несколько дней до ареста влюбленного в нее камергера Монса, суеверная Екатерина I видит во сне, как ее постель покрывается змеями. Одна из них, самая большая, бросается на нее, обвивает кольцами ее тело и начинает душить. С большим трудом Екатерине удается задушить огромную змею. Тогда и все остальные мелкие змеи скатываются с ее постели. Екатерина сама попыталась истолковать этот сон: ей будут грозить большие неприятности, но в конце концов она выйдет из них невредимой.
Обстоятельства сложились в пользу такого толкования. Петр простил свою жену, однако с присущей ему жестокостью, как утверждают легенды, нарочно возил впечатлительную Екатерину мимо отрубленной и выставленной на показ головы бедного камергера.
Еще раз с пророческим сном Екатерина I встретилась в конце своего короткого царствования. Накануне своей смерти ей будто бы приснилось, что она, в окружении придворных, сидит за столом. Вдруг появляется тень Петра в древнеримском одеянии и манит к себе жену. Она послушно идет к нему, и они вместе уносятся под облака. Императрица бросает взор на землю и видит там своих детей, окруженных толпою, состоящей из всех наций огромной России. Все они шумно спорят. Согласно ее собственному толкованию, Екатерине предстояло скоро умереть. После ее смерти в государстве начнутся смуты. То ли сон оказался вещим, то ли легенда о ночном видении Екатерины появилась позже, но события последующих лет подтвердили правильность его толкования.
Монаршие сны, ставшие впоследствии достоянием городского фольклора, посещали и Павла I. В ночь с 4 на 5 ноября 1796 года цесаревичу снится, будто бы какая-то сверхъестественная сила возносит его кверху. Он в смятении просыпается, но когда вновь засыпает, то видит опять, как незримая сила подхватывает его и приподнимает над миром. Весь день Павел с подчеркнутой многозначительностью рассказывал окружающим о своих непонятных видениях. Однако, зная неуравновешенный характер Павла, все ограничивались напряженным молчанием. Неожиданная разрядка наступила в три часа дня. Бледный и испуганный, явился граф Зубов и подобострастно доложил, что с Екатериной случился апоплексический удар. Но менее чем через пять лет, уже накануне своей смерти, Павлу снится еще один страшный сон. Он видит, как на него надевают слишком тесную одежду, которая его душит. Впрочем, мы уже говорили, что легенды о снах зачастую появляются уже после случившихся событий.
Сохранился рассказ о пророческом сне, увиденном однажды матерью одного из руководителей восстания декабристов К. Ф. Рылеева, когда мальчику было всего семь лет. Так вот, во сне мать будущего декабриста будто бы увидела всю короткую жизнь своего сына, вплоть до его казни на кронверке Петропавловской крепости.
В городском фольклоре сохранилась удивительная легенда о необыкновенном сне знаменитого петербургского скульптора В. И. Демут-Малиновского. В 1827 году скульптор исполнил две колоссальные бронзовые фигуры быков, которые были установлены по сторонам главного входа Скотопригонного двора, построенного за два года до того на углу Царскосельской дороги и Обводного канала. Монументальные быки, установленные на гранитных постаментах, производили огромное впечатление на петербуржцев. Любил свои произведения и сам скульптор. И вот однажды ему приснилось, что изваянные им быки пришли к нему, своему творцу. Никто из друзей и знакомых скульптора не мог истолковать ему этот загадочный сон. Скульптор скончался в 1846 году, так и не узнав тайну сновидения. Его похоронили в Александро-Невской лавре.
А скульптуры быков продолжали свою самостоятельную жизнь. В 1936 году в Ленинграде, за Средней Рогаткой, был построен новый современный мясокомбинат. И скульптуры быков, перенесенные на новое место, снова украсили собой главный въезд на комбинат. В 1941 году, когда фронт приблизился вплотную к городу, бронзовые быки, представляющие собой огромную художественную ценность, буквально под огнем с помощью трактора были перевезены в Лавру, где по планам руководства города должна была быть закопана в землю вся наиболее ценная городская скульптура. До этого, как говорится, не дошли руки, и быки так и остались стоять у ворот в Лавру. Тогда-то и вспомнилась давняя легенда о загадочном сне Демут-Малиновского. Изваянные им быки пришли-таки наконец к своему создателю, всю войну простояв в нескольких шагах от могилы скульптора. Сразу после войны единственные в своем роде петербургские быки вновь вернулись к воротам Ленинградского мясокомбината.
В богатом арсенале городского фольклора среди средств, с помощью которых можно если не изменить, то хотя бы объяснить те или иные явления петербургской жизни, были не только сны и сновидения. Издавна внимание фольклора привлекала колдовская мистика чисел, их необъяснимая магия, роковые свойств цифровых знаков и таинственные совпадения, связанные с ними. Вот только несколько примеров.
В жизни всесильного фаворита императрицы Анны Иоанновны герцога Курляндского Бирона некое кабалистическое значение имела цифра 2. 22 дня Бирон исполнял обязанности регента при малолетнем императоре Иване Антоновиче. 22 года провел Бирон в ссылке после своего неожиданного ареста. 22 года, вначале в Курляндии, затем – в Петербурге, Бирон верой и правдой служил Анне Иоанновне. И даже возраст, в котором Бирона настигла смерть – 82, – имел эту мифическую цифру.
Роковым числом для Николая II стало 17. 17 октября 1888 года произошло крушение царского поезда, чудесным образом закончившееся для императора благополучно. 17 октября 1905 года Николай II, считавший, что конституционное правление погубит Россию, тем не менее вынужден был подписать знаменитый манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», провозгласивший гражданские свободы и учредивший Государственную думу. Наконец, в 1917 году произошли вначале Февральская, а затем Октябрьская революции.
Фатальные цифры и их мистические совпадения всю жизнь преследовали императора Александра II. Любители каббалистики с помощью хитроумных подсчетов, связанных с крупнейшими петербургскими наводнениями 1777 и 1824 годов, вывели для Александра I таинственную цифру 12. 12 декабря 1777 года император родился, а умер через 12 месяцев и 12 дней после наводнения 1824 года. Но это еще не все. Однажды, отправляясь в путешествие по России, Александр I посетил Александро-Невскую лавру и попросил схимника благословить его на предстоящий путь. Монах благословил, сказав при этом загадочные слова: «И посла мiрови ангела кротости». Долго император и его приближенные пытались найти разгадку этих непонятных слов. Оказалось, что тайна монашеского благословения кроется в особенностях славянского языка. Известно, что древние славяне цифры изображали буквами. Таким образом, если следовать этому правилу и обратить буквы слов схимника в цифры, то сумма этих цифр составит год рождения Александра I – 1777:
И ПОСЛА MIРОВИ АНГЕЛА КРОТОСТИ
8 + 80 + 70 + 200 + 30 + 1 + 40 + 10 + 100 + 70 + 2 + 8 + 1 + 50 + 3 + 5 + 30 + 1 + 20 + 100 + 70 + 300 + 70 + 200 + 300 + 8 = 1777.
Еще более удивительные совпадения выявляются при сложении годов, месяцев и чисел рождения, вступления на престол и кончины Александра I. Если эти цифры расположить вертикально, то итог от сложения годов даст число лет жизни, а итог, полученный при сложении месяцев и чисел, будет равен числу лет царствования императора. Вот как выглядит эта мистическая таблица:
Манипулирование цифрами достигло своего апогея в 1870-х годах в связи с целой серией чудовищных покушений на Александра II, закончившихся в конце концов его убийством террористами «Народной воли» 1 марта 1881 года. Еще при рождении будущего императора, согласно легендам, некий юродивый Федор предсказывал, что новорожденный «будет могуч, славен и силен, но умрет в красных сапогах». Как известно, взрывом бомбы на Екатерининском канале императору оторвало обе ноги. Начало беспрецедентной охоты на Александра II положил Дмитрий Каракозов, чуть ли не в упор выстреливший в царя во время его прогулки в Летнем саду в апреле 1866 года. В июне следующего, 1867 года, во время посещения русским императором Парижа, в него выстрелил польский националист А. Березовский. Не на шутку перепуганный Александр II обратился к знаменитой парижской прорицательнице. Ничего утешительного он не услышал. На него будет совершено в общей сложности восемь покушений и последнее, восьмое, будет роковым.
К тому времени два покушения уже состоялись. Четыре произойдут позже. Наконец, если считать бомбы, брошенные поочередно народовольцами Рысаковым и Гриневицким 1 марта 1881 года за седьмое и восьмое покушение, то парижской ведунье удалось-таки предсказать порядковый номер последнего, закончившегося мученической смертью царя – освободителя крестьян. Но это произойдет позже. До рокового взрыва на Екатерининском канале оставалось еще более десяти лет. Охота на царя продолжалась.
Новых покушений ожидали с постоянным неослабевающим страхом. Столичные мистификаторы манипулировали именами пяти царских детей: Николая, Александра, Владимира, Алексея и Сергея. Если их написать столбиком и прочитать, как читают акростих, то при чтении сверху вниз получится: «на вас», а при чтении снизу вверх – «саван». Вплоть до рокового мартовского взрыва этот зловещий фольклор не сходил с уст петербуржцев.
Не обошла цифровая мистика и Николая I. При восшествии его на престол в 1825 году известный в то время монах Авель прорицал, что «змей будет жить тридцать лет». Под знаком этого пророчества прошли все тридцать лет царствования императора Николая I, скончавшегося в 1855 году.
Если верить фольклору, то именно этот Авель провидел, и, как оказалось, верно, судьбу российского государства вплоть до 1917 года. «Кто будет царствовать после моего сына Александра?» – будто бы спросил Николай I монаха. «Александр», – ответил Авель. «Как Александр?» – изумился царствующий император, так как его старшего внука звали Николаем. В то время мальчик был жив и здоров. Как оказалось впоследствии, монах Авель уже тогда предугадал его неожиданную преждевременную смерть от туберкулезного менингита. «А будет царствовать Александр», – упрямо подтвердил Авель. «А после него?» – не унимался император. «После него Николай». – «А потом?» Монах молчал, не смея вымолвить слово. «Говори, монах», – нетерпеливо повысил голос царь. «Потом будет мужик с топором», – проговорил в наступившей тишине монах.
Среди мистических сюжетов петербургского городского фольклора едва ли не самым интригующим было предсказание смерти императора Павла I. Причем, мистика началась чуть ли не с самого воцарения. Во время благодарственного молебна в дворцовой церкви по случаю восшествия на престол протодиакон провозгласил: «Благочестивейшему, самодержавнейшему, великому государю нашему императору Александру Павловичу…» На этой ужаснейшей ошибке голос его оборвался. Павел подошел к протодиакону и в гробовой тишине произнес: «Сомневаюсь, отец Иван, чтобы ты дожил до того времени, когда на ектинии будет поминаться император Александр». Кое-как, при всеобщем смятении, служба окончилась. Леденящее душу пророчество императора сбылось. Отец Иван от страха заболел и в ту же ночь умер от разрыва сердца.
Однако и Павлу не суждена была долгая жизнь. Накануне 1801 года в Петербурге на старинном Смоленском кладбище, что на Васильевском острове, появилась юродивая. В минуты откровения она предрекала скорую кончину императору Павлу Петровичу, определяя ему количество лет жизни, равное количеству букв в тексте библейского изречения над главными воротами Михайловского замка. Из уст в уста передавалось в Петербурге это мрачное предсказание. С суеверным страхом ожидали наступления 1801 года. А когда утром 12 марта узнали о смерти императора, петербуржцы начали собираться у стен неприветливого Михайловского замка. С тайным ужасом вчитывались в чеканные слова евангельского афоризма над Воскресенскими воротами замка:
«ДОМУ ТВОЕМУ ПОДОБАЕТЪ СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ ВЪ ДОЛГОТУ ДНЕЙ».
Вновь считали и пересчитывали буквы. По странному и необъяснимому совпадению количество их равнялось сорока семи. Убиенному императору шел 47-й год.
Насильственная смерть Павла I и последовавшее затем его торжественное захоронение в Петропавловском соборе позволили фольклору коснуться мистической темы странных загробных сближений петербургской истории. Заговорили о том, что нет в мире другого города, где бок о бок были бы похоронены сыноубийца, мужеубийца и отцеубийца. Только в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга рядом друг с другом лежат в Бозе почившие и в посмертной славе пребывающие Петр Великий – отец Отечества, на дыбе до смерти замучивший своего сына, наследника престола царевича Алексея; Екатерина Великая – матушка-государыня, с чьего молчаливого согласия в Ропше был задушен ее муж император Петр III; Александр I Благословенный, освободитель России от наполеоновского нашествия, участник заговора, приведшего к коварному убийству его отца – императора Павла I.
Говоря о мистических или сверхъестественных сюжетах петербургского фольклора, нельзя не сказать о целом ряде легенд и преданий о знамениях астрального, или, как сказано в фольклоре, божественного характера, якобы имевших место в петербургской истории. Одно из первых таких знамений увидел Петр I во время своего плаванья по Неве в поисках удобного места для закладки крепости. Едва лодки пристали к берегу крохотного Заячьего острова, как над ним появился орел – царственная птица, чрезвычайно редкая в этих краях. «Быть крепости здесь», – воскликнул, согласно легенде, царь и водрузил крест на месте будущего строительства.
С тех пор знамения сопровождали жизнь почти всех русских императоров.
Однажды благочестивая императрица Елизавета Петровна посетила Зеленецкий Свято-Троицкий монастырь. Осмотрев великолепный храм и получив благословение, императрица отправилась в обратный путь. Ан, нет. Едва сделав несколько шагов, кони, запряженные в царский экипаж, встали. Как вкопанные. Оправившись от изумления, скуповатая Елизавета вспомнила, что не пожертвовала на нужды обители ни рубля. Может быть, в этом дело? Она послала монахам сто рублей и велела молиться за ее здоровье. В монастыре началась служба, и кони пошли, но вскоре снова заупрямились. Пришлось послать еще тысячу рублей. Только после этого императрица спокойно добралась до Петербурга.
Приблизительно те же знаки Божьего неудовольствия испытали на себе суеверные прихожане охтинской Покровской церкви, когда они отправились на озеро Ильмень за иконами, предназначенными их храму после закрытия ильменской церкви. Охтяне сняли все образа, за исключением иконы Бога Саваофа, которая висела слишком высоко. Как только охтяне, намереваясь отправиться в обратный путь, оттолкнули лодки от берега, поднялся такой сильный туман, что ни о каком плавании не могло быть и речи. Приняв это за знак Божьего гнева, они вернулись и забрали икону Саваофа. Как утверждает легенда, туман тотчас рассеялся.
За несколько дней до смерти императрицы Анны Иоанновны в дворцовых покоях было знамение, повергшее всех в ужас и смятение. Далеко заполночь, когда императрица уже удалилась во внутренние покои и дежурный офицер решил, что можно несколько минут отдохнуть, солдаты караула увидели, как императрица ходит по тронной зале, склонив задумчиво голову и не обращая ни на кого внимания. Дежурный офицер, встревоженный непонятным поведением императрицы, доложил об этом Бирону. Тот попытался успокоить офицера: «Я только что от императрицы. Она в спальне». – «Но посмотрите сами», – настаивает офицер. Бирон идет в тронную залу и тоже видит императрицу. «Это не иначе, как заговор», – восклицает он и бежит к Анне Иоанновне, уговаривая ее выйти к караулу и разоблачить самозванку. Императрица соглашается. Она входит в тронную залу и видит женщину, поразительно похожую на нее. «Кто ты? Зачем ты пришла?» – вскрикнула Анна Иоанновна. Ни говоря ни слова, привидение пятится к трону, всходит на него и на его ступенях, глядя в глаза императрицы, исчезает. «Это моя смерть», – произносит Анна Иоанновна и уходит к себе.
Анна Иоанновна умерла в 1740 году. Через двадцать лет, в 1761 году, если верить преданиям, императрица Елизавета Петровна незадолго до смерти увидела падение звезды, которое истолковала как знамение своей скорой кончины.
Как это ни удивительно, но и смерть Екатерины II произошла почти сразу после необыкновенных знамений. Согласно одной из легенд, за несколько месяцев до кончины Екатерина, войдя в тронную залу, увидела свою тень, сидящую на престоле. По другой легенде, государыня, садясь в экипаж, увидела, как яркий метеор упал за ее каретой. «Такой случай падения звезды был перед смертью императрицы Елизаветы. И мне это то же предвещает», – задумчиво говорила на следующий день Екатерина своим приближенным.
Попытки проникнуть в тайну смерти городским фольклором предпринимались не однажды. Долгое время жила в народе таинственная легенда о Якове Брюсе – одном из ближайших соратников Петра I, «маге, чародее и чернокнижнике», как его называли в петровском Петербурге. Брюс умер через десять лет после смерти своего великого государя. Однако фольклор, пренебрегая этим историческим фактом, утверждает, что перед кончиной Брюс вручил Петру склянку с чудотворной водой. Если царь, сказал Брюс, пожелает его оживить, пусть вспрыснет его труп этой водой. Прошло несколько лет, и Петр вспомнил о завещанной склянке. Он велел вскрыть могилу Брюса. Присутствовавшие при вскрытии с ужасом увидели, что покойник лежит как живой, и у него даже выросли длинные волосы на голове и борода. Согласно легенде, царь был так поражен, что велел скорее зарыть могилу, а склянку с живой водой тут же разбил.
Еще более невероятная история произошла с известным поэтом Дельвигом. Дельвиг, по рассказам современников, любил порассуждать о загробной жизни и об обещаниях, данных при жизни и исполненных по смерти. Однажды он предложил своему приятелю Н. В. Левашеву пообещать друг другу явиться после смерти одного из них тому, кто останется в живых. Разговор происходил задолго до смерти Дельвига и был в конце концов забыт его участниками. Через несколько лет Дельвиг скончался. А ровно через год, в 12 часов ночи, Левашев увидел, как Дельвиг молча явился в его кабинет, удобно расположился в кресле и спустя некоторое время так же, не говоря ни слова, исчез.
Странное и необъяснимое происшествие произошло и с Петром Андреевичем Вяземским, человеком, по утверждению многих, весьма трезвым и рассудительным. Однажды, вернувшись домой, он застал в своем кабинете «самого себя, сидящего за столом и что-то пишущего». Он попытался заглянуть двойнику через плечо., и никогда никому не рассказывал, что там увидел. Только, говорят, что с тех пор Вяземский стал верующим христианином.
Нередко мистическими метами в судьбе отдельного человека становились целые архитектурные сооружения. Чаще всего это относилось к судьбам известных зодчих и строителей. Так, например, некий заезжий звездочет и ясновидец предсказал, что архитектор Монферран умрет, как только закончит строительство Исаакиевского собора. На протяжении сорока лет, пока продолжалось строительство, тень гигантского Исаакия нависала над судьбой выдающегося зодчего. В Петербурге ядовито посмеивались: «Потому-то он так долго и строит». Собор, заложенный в 1818 году, торжественно освятили в 1858-м. На церемонию прибыла царская семья. И тут Александр II сделал замечание Монферрану за «ношение усов», что в то время разрешалось только военным. Архитектор всерьез расстроился, почувствовал себя плохо и, не дожидаясь окончания праздничной церемонии, ушел домой. Спустя месяц Монферран скончался.
В начале XX века мистицизм в столице достиг своего апогея. Гадание на картах. Столоверчение. Физиогномика и графология. Звездочеты. Ясновидцы. Черные и белые маги. Однако было заметно, что мистицизм, еще недавно претендовавший на высшую власть над душами и умами петербуржцев, заметно терял свою астральную значительность и приобретал обыкновенные черты мирского анекдота. Так, крупный православный мистик начала века С. А. Нилус считал товарный знак петербургской фабрики «Скороход» на калошах – два скрещенных красных треугольника – признаком того, что дьявол уже явился на землю. Знак треугольника был главным символом масонов, он заменял им крест. Поэтому красный треугольник, по Нилусу, – знак Антихриста.
Еще более курьезный случай произошел с другим мистиком – Сар-Даноилом. В марте 1917 года жители Петрограда были встревожены тем, что на дверях многих квартир появились загадочные кресты в сочетании с другими таинственными знаками. Сар-Даноил дал этим знакам мистическое толкование. В городе говорили о конце света, о гибели тех, чьи двери помечены жуткими крестами. И только через некоторое время выяснилось, что этими загадочными знаками метили двери своих жилищ дворники-китайцы. В то время в Петрограде их было очень много. Говорили, что правительство пригласило китайцев для строительства оборонительных сооружений. После Февральской революции они оказались без дела, и многие из них стали дворниками. Арабских цифр китайцы не знали и потому отмечали свои квартиры иероглифами, в которых восклицательный знак изображал единицу, а удлиненный крест – десятку.
Мистические настроения ленинградцев, заглушенные праздничным оптимизмом великих строек, с неожиданной силой проявились накануне Великой Отечественной войны. О них мы расскажем в главе о блокадном фольклоре.
На протяжении всей истории Петербурга, наряду с известными историческими лицами и простыми обывателями, активным героем мифов, легенд и преданий был сам город с его архитектурными памятниками, рядовыми домами и городской скульптурой. Такое непосредственное участие архитектурных реалий в тех или иных историях стало отличительной чертой именно городского фольклора. Особенно ярко это проявилось в фольклоре с мистическими сюжетами.
В Петербурге достаточно хорошо известны места, обладающие некими чудодейственными, магическими свойствами. На Смоленском кладбище – это знаменитая могила Ксении Петербургской, давно уже ставшая своеобразной Меккой всего верующего Петербурга. На Новодевичьем кладбище таким местом паломничества петербуржцев стала фигура Христа. В Петропавловском соборе необыкновенными магнетическими свойствами, по утверждению молвы, обладает надгробие императора Павла I, на котором чаще, чем на других могилах, горят зажженные петербуржцами свечи.
Говорят, что в конце XIX – начале XX века петербургской полиции были известны более двадцати домов, в которых происходили таинственные мистические события. Объяснить их земной логикой было невозможно. Одним из таких домов считался особняк на Песках, слывший среди местных жителей «клубом самоубийц». По ночам, к ужасу запоздавших прохожих, из окон этого двухэтажного дома доносились стоны и похоронная музыка. Среди обывателей Петроградской стороны дурной славой пользовался каменный дом на Большой Дворянской улице. Двери и окна его были всегда наглухо закрыты. Говорили, что там, при свете черепов, глазницы которых горят неземным огнем, играют в карты «замаскированные покойники». На Каменном острове был известен дом, куда взор обывателя не мог проникнуть. Говорили, что над ним постоянно витали таинственные духи. Был в Петербурге и так называемый «Чертов дом», получивший такое имя после того, как несколько жильцов его одновременно покончили жизнь самоубийством.
Как и отдельным домам, магические свойства издавна приписывались и петербургским памятникам. Наиболее часто необъяснимые явления происходили с памятником Петру – знаменитым Медным всадником. Еще при открытии монумента, как утверждают предания, «впечатление было такое, что он прямо на глазах собравшихся въехал на поверхность огромного камня». Несколько позже одна заезжая иностранка писала, что едва не умерла от страха, когда увидела «скачущего по крутой скале великана на громадном коне». К. А. Тимирязев вспоминал, как, проезжая мимо фальконетова монумента, услышал от извозчика: «Ночью даже жутко живой».
То же самое происходит и с другими петербургскими памятниками.
Существует поверье, что если подойти к памятнику Петру I у Михайловского замка белой ночью, то легко заметить, как ровно в три часа он начинает странным образом шевелиться.
Время от времени кадетам Пажеского корпуса, что на Садовой, мерещилось, что Екатерина II сходит со своего пьедестала в сквере перед Александринским театром и отправляется на поиск вдруг исчезнувших в снежном вихре верных своих сподвижников, еще минуту назад верноподданно окружавших ее постамент.
Странные оптические игры происходят с памятником Победы – стелой, установленной на площади Восстания и получившей в народе завидное количество названий, от традиционного «Штыря» до изысканного: «Мечта импотента». Многие петербуржцы утверждают, что при определенном освещении этот гранитный обелиск с пятиконечной звездой на вершине образует на асфальте тень с четкими очертаниями двуглавого орла.
Удивительный оптический эффект присущ Смольному собору. По наблюдениям петербуржцев, при приближении к собору храм постепенно «уходит» в землю.
И, наконец, особенно поразительным мистическим свойством издавна обладает знаменитая Адмиралтейская игла. Согласно городскому преданию, ранней весной ласточки, возвращаясь из дальних стран в Петербург, сначала направляются к Адмиралтейству – посмотреть цела ли игла. Эта озабоченность фольклора сохранностью Адмиралтейской иглы не случайна. Адмиралтейство, впервые возведенное в 1704 году по собственноручным чертежам Петра I, за всю жизнь претерпело несколько капитальных перестроек. Но ни Герман ван Болес в 1719 году, ни Иван Коробов в 1733-м, ни Андреян Захаров в проекте перестройки, окончательно реализованном уже после его смерти, не посягнули на главное украшение Адмиралтейской башни – его шпиль. Золоченый Адмиралтейский шпиль, увенчанный корабликом, давно уже стал узнаваемым во всем мире символом Петербурга, его олицетворением. Что же еще может более надежно свидетельствовать о существовании города, тем более для обитателей неба – ласточек? Вспомним еще раз финскую легенду о том, что богатырь-Петр построил Петербург целиком на небе, и только затем опустил его на землю… Оказывается, связь с небом остается. И каждый раз ласточки это подтверждают.
Фольклор народных гуляний и светских развлечений
Говоря фигурально, окно в Европу Петр I начал пробивать еще задолго до Петербурга, в Москве. 1 января 1700 года Россия впервые отмечала Новый год по европейскому календарю. В этот знаменательный день на Руси исполнялось не 7207 лет и четыре месяца от сотворения мира, а 1699 лет от рождества Христова. Праздновалось начало 1700 года. На Красной площади у Кремля, на берегах Москвы-реки и Яузы в течение шести дней гремели сотни пушек и в небо взлетали фейерверки, поразившие красотой своей не на шутку перепуганных, ничего подобного раньше не видевших москвичей. Избыточный энтузиазм неукротимого 27-летнего царя ничего хорошего не сулил. На покалеченных и обожженных брызжущим и шипящим огнем внимания не обращали. Богатым купцам и боярам велено было стрелять из пушек и мушкетов даже со своих дворов. Неистощимый на выдумку царь приучал россиян к новым развлечениям и забавам.
Фейерверки среди них были не самые страшные и опасные. Были и такие, от которых богобоязненные московские мещане вздрагивали и шарахались. Новой царской постоянной потехой стал созданный им пресловутый «Сумасброднейший, всешутейший и всепьянейший собор», одно название которого приводило в дрожь и изумление. Этот «собор», состав которого иногда доходил до двухсот человек ближайших приближенных во главе с самим царем, если не «заседал» в беспробудном пьянстве в так называемой резиденции «собора» вблизи села Преображенского, то носился по улицам Москвы в санях, запряженных свиньями, собаками и медведями, оглашая окрестности пьяными криками и воплями.
Вот уже триста лет некоторым исследователям очень хочется видеть в этом пресловутом «соборе» чуть ли не глубоко продуманную акцию – убийственную сатиру на папство, хотя, кажется, ничего кроме дикого азиатского разгула и животной необузданности в этом петровском детище нет.
С таким небогатым багажом новых народных и светских развлечений Петр покидает старую столицу. И то ли сыграла свою благотворную роль близость новой столицы к Европе, то ли ослабло влияние континентального, полуазиатского климата Москвы, но, несмотря на то, что его московские выдумки еще долго пугали пьяными разгулами петербуржцев, Петр учреждает новые праздники. Специальным указом устанавливаются так называемые «викториальные дни» – праздники с торжественными молебнами, народными гуляньями и иллюминациями в память о самых значительных победах русского оружия.
А 27 ноября 1718 года в Петербурге состоялась первая петровская ассамблея, которая в отличие от «всешутейшего собора», где ничего, кроме пьянства, обжорства и беспутства, не происходило, предполагала наряду с умеренными развлечениями деловое общение. Впервые в России на такого рода собрания допускались женщины. На ассамблеях учились танцевать и вести светские беседы, играть в застольные игры и демонстрировать друг перед другом праздничные одежды.
Но все-таки даже присутствие дам не избавляло эти собрания от привычных стародавних казарменных шуток, инициатором и исполнителем которых зачастую был сам император. Так, например, было принято опоздавшему или провинившемуся, независимо от его пола и положения, подносить огромный штрафной кубок вина – так называемый «кубок большого орла», на крышке которого было выгравировано: «Пей до дна». Многие, выпив такую смертельную дозу, тут же под громкий хохот собравшихся валились с ног. Эта раннепетербургская формула щедрости и неумеренности была подхвачена фольклором, пронесена через века и давно уже превратилась в пословицу. Ритмическая хоровая мелодекламация этих безобидных трех слов до сих пор входит в обязательный ритуал русского гостеприимства.
Подобная простота нравов великосветской знати, переходящая в обыкновенную распущенность, легко уживалась с показной церемонностью официальных дворцовых приемов. Уже после смерти Петра при императрице Анне Иоанновне по городу разнесся слух, будто бы во дворце справили пышную свадьбу шута Педрилло с козой. Скандальные ритуальные подробности этой легендарной свадьбы вот уже более двухсот лет со смаком пережевывает литература определенного рода. Однако на самом деле такой свадьбы скорее всего не было. Во всяком случае, известна легенда, приоткрывающая секрет появления слуха.
Фаворит Анны Иоанновны Бирон, желая посмеяться над шутом императрицы Педрилло, однажды спросил его: «Правда ли, что ты женат на козе?» А надо сказать, женой Педрилло была довольно скучная и невзрачная особа. «Не только правда, – отвечал ловкий шут, – но она еще и беременна и вот-вот должна родить. Надеюсь, ваше высочество, вы не откажетесь посетить родильницу и по русскому обычаю положить что-нибудь на зубок младенцу». Через несколько дней Педрилло объявил Бирону, что его коза благополучно разрешилась от бремени и напомнил ему о просьбе. Об этом узнала императрица, и ей очень понравилась выходка пронырливого шута. Она велела Педрилло лечь в постель вместе с настоящей козой и пригласила весь двор навестить его и поздравить с семейной радостью. И каждый был вынужден положить под подушку шута подарок. Так, согласно легенде, хитроумный Педрилло в одно утро приобрел несколько тысяч рублей.
Веселиться при дворе умели. Об этом либо знали, либо догадывались подданные. Очевидно, уже тогда на Руси начал формироваться тезис, получивший впоследствии широкое распространение и превратившийся в поговорку, которую мы уже знаем: «В Питер – по ветер, в Москву – по тоску».
После смерти Петра ассамблеи как форма делового общения свое значение начали утрачивать. Постепенно они превратились в танцевальные балы, которые преследовали в первую очередь чисто развлекательные цели.
В XVIII веке широкую известность в Петербурге приобрел немецкий мещанский клуб, располагавшийся на набережной Мойки, 64. Здесь обучали танцам и проводили общедоступные танцевальные вечера. В народе он назывался: «Шустер-клуб». Любопытно его происхождение. Богатый петербургский немец Шустер, живший в этом доме, однажды разорился. И спасло его от нищеты только то, что немецкая колония в Петербурге отличалась исключительно развитым корпоративным сознанием. Немцы решили спасти своего соотечественника. Они устроили в квартире Шустера клуб, а разорившегося владельца сделали его распорядителем по хозяйственной части. Предоставленный Шустеру шанс оказался счастливым. Шустер-клуб приобрел известность, а через некоторое время его название стало нарицательным «для всякого клуба с мещанским уклоном».
Популярность танцевальных балов была велика. В городском фольклоре сохранились такие названия, как «Ситцевые балы», на которых дамам предписывалось быть только в ситцевых платьях, «Минеральные балы» – скромные полуофициальные приемы на водах, устраиваемые женой Николая I императрицей Александрой Федоровной.
Среди прочего, на балы возлагали огромные надежды беспокойные родители юных дочерей. На балах происходили нужные знакомства, составлялись выгодные партии. Это стало обычаем, не утратившим своего значения до сих пор. Разве что, надежды на балы или, как сейчас говорят, танцы возлагают уже не родители, а сами дети. Дом работников искусств имени К. С. Станиславского на Невском проспекте еще недавно в просторечии был известен как «Дворец бракосочетания». А Дворец работников просвещения, который в 1970-х годах официально назывался Домом учителя, в быту имел другое имя. Его называли «Островом погибших кораблей». Туда на танцевальные вечера приходили те, кому было далеко за тридцать, но кто еще не потерял надежду найти свою вторую половину.
Сложившийся обычай превращать танцевальные вечера и великосветские балы в демонстрацию красоты и богатства юных невест ведет свое начало от провинциальной традиции – в Троицын день выводить румяных и застенчивых дочерей в церковь в сопровождении празднично одетых родителей. В Петербурге это приобрело иную, несколько неожиданную форму. Ежегодно, на второй день Троицы, в Духов день, в Летнем саду собирался, что называется, весь город. Купцы с женами и дочерьми, разодетыми и украшенными семейными драгоценностями, занимали места вдоль аллей. Мимо них степенно, с показным безразличием, расхаживали молодые купцы и ремесленники в щегольской одежде, с тросточками. В петербургском фольклоре это называлось «Смотром невест».
Одной из наиболее распространенных форм дружеского общения и непринужденного отдыха петербургской знати стали званые обеды. Множество легендарных эпизодов этих, как правило, многолюдных застолий сохранилось в городском фольклоре. В екатерининское время изысканной кухней с диковинными блюдами славились обеды князя Григория Александровича Потемкина. Одних только главных поваров у него было до десяти, причем разных национальностей, начиная от француза и кончая молдаванином. По преданиям стародавних времен, у Потемкина вся кухонная посуда была из чистого серебра, а кастрюли такого размера, что в них входило до двадцати ведер жидкости. За столом у хлебосольного князя Таврического собиралось такое количество приглашенных, что многие из них не были даже знакомы друг с другом.
Обязательным ритуалом тогдашних пиров было так называемое угощение «по чинам». Разносили блюда, начиная с «верхнего» конца стола, не успевая порою к концу пиршества дойти до «нижнего». В городе рассказывали байку о том, как однажды Потемкин позвал к себе на обед какого-то мелкого чиновника и после обеда милостиво спросил его: «Ну как, братец, доволен?» Сидевший на «нижнем» конце стола гость кротко ответил: «Премного благодарствую, ваше сиятельство, все видал-с».
Не уступал в количестве мест за обеденным столом и знаменитый владелец уральских заводов, богатей и хлебосол Александр Сергеевич Строганов. Один из крупнейших в России миллионеров, Строганов устраивал ежедневные открытые обеды на воздухе во внутреннем дворике своего роскошного дворца на Невском проспекте. Садясь во главе стола, он приглашал отобедать с ним каждого прилично одетого человека. Любой прохожий мог войти с улицы и принять его щедрое угощение. Рассказывают, что один человек обедал таким образом ежедневно в течение двадцати лет. А когда перестал появляться, потому что, как полагали обедавшие у графа, умер, никто не мог назвать его имени.
Многие посетители таких обедов отличались чудачествами и странностями. О них в народе рассказывали анекдоты и сочиняли легенды. Одна знатная дама не любила обедать дома. Ежедневно, кроме субботы, она ходила в гости. Там старушка выбирала какое-нибудь понравившееся ей блюдо и обращалась к гостеприимной хозяйке: «Это должно быть очень вкусно, позвольте мне его взять». И передавала блюдо стоявшему наготове своему лакею: «Возьми его и отнеси в нашу карету». Все знали эту странность знатной старушки и сами предлагали ей выбрать что-нибудь из блюд. Так проходила неделя, а в субботу старушка приглашала всех отобедать у нее и потчевала гостей их же блюдами.
Подобные странности не были редкими. В пушкинские времена в Коломне, в собственном деревянном домике на Фонтанке возле Египетского моста, проживал некий капитан с итальянской фамилией Мерлини. Никто не знал, откуда был родом этот неунывающий капитан и был ли он вообще законный носитель итальянской фамилии, но слава о нем дошла до наших дней. В течение двух десятков лет капитан аккуратно, согласно своему расписанию, посещал завтраки, обеды и ужины во всех знакомых ему петербургских домах. Его осыпали бранью и демонстративно отказывались подать руку в ответ на протянутую капитаном, иногда его просто пытались вытолкнуть за дверь. Но ничто не могло нарушить железного расписания капитана, погасить приятную улыбку и испортить отличный аппетит. Но раз в году Мерлини давал званый обед всем своим кормильцам. В такие дни, говорят, Фонтанка вплоть до Египетского моста была запружена экипажами. В искренней надежде, что обед этот прощальный, и все наконец избавятся от назойливого визитера, приглашенные чествовали капитана. А наутро он вновь отправлялся в свой обычный путь.
Во все времена и все без исключения петербуржцы любили отдыхать в близких окрестностях и пригородах Петербурга.
Среди гвардейской молодежи широко известен был «Красный кабачок» на Петергофской дороге. На Васильевском острове такой же славой пользовался трактир «Уланская яблоня». Особенно благоволили к нему уланы. По преданию, название этого трактира связано со старинной петербургской легендой о том, как однажды подвыпившие уланы изнасиловали юную дочь трактирщика. Обезумевшая от стыда и позора девушка выбежала в сад и повесилась там на одной из цветущих яблонь. Так и стали в народе называть этот трактир. Название со временем прижилось.
С хмельным весельем связывают городские легенды и название старинного Веселого поселка. Известно, что Петр I цыган недолюбливал, и когда они приходили в столицу, то разбивали свои шатры в дальних ее окрестностях. Туда, по преданию, Петр ссылал неисправимых пьяниц и неугомонных дебоширов. Шумные гулянки длились в цыганском поселке ночи напролет, а веселье не утихало ни на минуту. Поселок так и называли – Веселый.
В XIX веке все без исключения петербургские сословия от нищих и бездомных до гвардейских офицеров и высших государственных сановников любили первомайские народные гулянья в Екатерингофе – старинном парке, ведущем свое происхождение от загородной усадьбы, подаренной Петром I своей жене Екатерине. В фольклоре эти веселые общегородские праздники так и остались под названием «Екатерингофские гулянья». Каждый год 1 мая весь Петербург устремлялся в Екатерингоф. Вереницы экипажей, карет и колясок, двигаясь медленной скоростью среди густой толпы простого народа, направлялись от Калинкинского моста в сторону Нарвских ворот, к входу в парк. В парке все сословия смешивались, и гулянье продолжалось среди множества торговых палаток и балаганов.
В 1880-х годах видный общественный деятель, сын известного фабриканта А. И. Варгунина Николай Александрович Варгунин организовал народные гулянья для рабочих в селении петербургского фарфорового завода. В просторечии их называли «Варгунинскими».
По воспоминаниям современников, в первой четверти XIX века с наступлением лета город пустел. Все устремлялись в пригороды, на Черную речку и Острова. Письма, дневники и воспоминания петербуржцев пушкинской поры буквально пестрят упоминаниями об этих благодатных местах. Об этом коротком и насыщенном периоде летней петербургской жизни сохранилась пословица: «Житье-бытье на Черной речке очень весело́е» (или весёлое –? – Н. С.).
В собрании петербургского городского фольклора есть одна удивительная легенда о происхождении возникшего в середине XIX века обычая – ежевечерних проводах солнца на стрелке Елагина острова. В то время в Петербурге жила женщина, которую прозвали царицей салонов. Это была молодая красавица, обладательница незаурядного ума и значительного состояния Юлия Павловна Самойлова. Многие годы она прожила в Италии. Среди ее близких друзей были такие незаурядные люди, как Джоаккино Россини, Орест Кипренский, Александр Тургенев, Карл Брюллов, Ференц Лист и многие другие. Графиню Самойлову отличали любовь к искусству, самостоятельность мышления и независимость в отношениях с сильными мира сего.
На приемы, которые она регулярно устраивала в своем родовом имении Графская Славянка, съезжался весь Петербург. В такие дни заметно пустело Царское Село, что естественно раздражало Николая I. Император решил пойти на хитрость и попросил графиню продать ему Графскую Славянку. Предложение царя выглядело приказанием, и Самойловой пришлось согласиться. Но при этом, как рассказывает легенда, она просила передать императору, что «ездили не в Графскую Славянку, а к ней, и где бы она ни была, будут приезжать к ней». На следующий день к вечеру, в сопровождении узкого круга близких поклонников и друзей Юлия Павловна поехала на стрелку безлюдного в то время Елагина острова. «Вот сюда будут приезжать к графине Самойловой», – будто бы сказала она. И действительно, сначала знакомые и приятели, затем романтики и влюбленные, а вскоре и весь город стал съезжаться на некогда пустынную западную оконечность Елагина острова на проводы заходящего солнца. В конце концов эта стрелка превратилась в одно из самых популярных мест вечерних гуляний столичной знати.
Возможностей для загородных поездок у петербуржцев было много. Крылатые слова и устойчивые фразеологизмы городского фольклора помогают восстановить географию таких прогулок. «Подышать сырым воздухом Финского залива» ездили в Стрельну и Петергоф. «На музыку» спешили в Павловский курзал и на популярные среди петербуржцев музыкальные концерты в Озерки. В короткий период осеннего листопада петербуржцы выезжали в прославленные парки Царского Села и Павловска, чтобы побродить по тихим аллеям, полюбоваться многоцветной палитрой природы, ненадолго уйти мыслями в прошлое, подумать о будущем или просто, как говорили в старом Петербурге, «Пошуршать листвой».
Среди самых разнообразных развлечений петербуржцев далеко не последнее место принадлежало картам. Мода на азартные карточные игры была так велика, что наиболее крупные выигрыши и катастрофические проигрыши вошли в городской фольклор. Так, слободу Пеллу известный в то время меломан Мартынов купил будто бы на деньги, выигранные за полчаса в Английском клубе.
Другой случай произошел вблизи Петербурга, в Осиновой Роще, в старинном родовом имении князя Вяземского, слывшего в XIX веке богатым и гостеприимным. Осиновую Рощу иначе как усадьбой Вяземских и не называли. И вот однажды, как рассказывает давнее петербургское предание, над усадьбой нависла угроза потери этого славного имени. Во время затянувшейся игры в карты со своим соседом Левашевым князь вдребезги проигрался. Дело дошло до усадьбы, и она была брошена на кон. Но везение окончательно покинуло князя. Он проиграл и усадьбу, и служебные корпуса, и хозяйственные постройки, и сад, и все, что было вокруг. Когда князь оглянулся, то уже ничего, что теперь принадлежало ему, не увидел… кроме трех дочерей, красивых и незамужних. И тут, как рассказывает легенда, Вяземского осенило. Он предложил Левашеву взять в жены любую из его дочерей, вместо проигранной усадьбы. Сделка состоялась, и злополучная усадьба вновь перешла к Вяземскому.
Неповторимы были нравы и люди XIX века. Однажды во время игры в карты к богатому и видному купцу Злобину подошел обер-полицмейстер: «Василий Алексеевич, у вас в доме пожар!» и Злобин, как утверждает легенда, спокойно ответил: «На пожаре должно быть вам, а не мне», – и продолжал игру. Дом сгорел, и купец разорился.
Любимец Екатерины II небезызвестный Безбородко выпросил однажды у императрицы разрешение стрелять из пушки на своей даче, которая находилась на правом берегу Невы. Не увидев в этом никакого подвоха, удивленная Екатерина разрешила. А вскоре во время игры в карты с лейб-медиком Роджерсоном Безбородко приказал каждый раз, как только дворцовый лекарь делал в игре ошибку, извещать об этом пушечным выстрелом. Шутка эта так раздражала Роджерсона, что едва не закончилась крупной ссорой между игроками.
В то же время официально азартные игры строго преследовались и жестоко наказывались. Игроков арестовывали и «содержали под крепким караулом». Их имена публиковались в газетах, чтобы «всякий мог их остерегаться, зная ремесло их». Существует предание, что даже появление в столице такого явления, как общественные клубы, связано с азартными играми. Будто бы таким способом правительство предполагало осуществлять надзор за наиболее азартными игроками.
Если верить преданию, выражение «Убить время» также связано с карточной игрой. Вот как это якобы произошло. Однажды композитор Алябьев, некто Шатилов и некий господин Времев играли в карты. Во время игры они, пользуясь картежной терминологией, «убили карту в 60 000 рублей и понт господина Времева». Игра, по мнению картежников, считалась «верной». То есть честной, но за такую крупную сумму Алябьев и Шатилов все-таки попали под стражу. Через какое-то время их встретил известный балагур и острослов Федор Толстой-Американец. «Хорошо ли убили время?» – каламбуря, спросил он. С тех пор и живет эта крылатая фраза.
Когда представители столичной золотой молодежи не танцевали на балах, не пили в трактирах и не играли в карты, они изощрялись друг перед другом в изобретении хитроумных шуток и причудливых розыгрышей. Особенно неистощимым на выдумки проказником в середине XIX века слыл Александр Жемчужников, один из авторов знаменитых сентенций и афоризмов Козьмы Пруткова. В одном из многочисленных анекдотов о проделках Жемчужникова рассказывается, как однажды ночью, переодевшись в мундир флигель-адъютанта, он объехал всех наиболее видных архитекторов Петербурга с приказанием наутро явиться во дворец ввиду того, что провалился Исаакиевский собор.
Долгие петербургские зимы вносили в многоцветную гамму народных развлечений особенно яркие цвета. На искусственных прудах Таврического сада устраивались ежедневные катания на коньках, которые в народе так и называли: «Таврические катания». На запорошенном льду промерзшей Невы перед Адмиралтейством возводились гигантские ледяные горы, известные в просторечии под названием «Невские горы». Такие же горы для развлечения простого народа поднимались посреди Невы напротив Смольного собора. В отличие от «Невских» их называли «Охтинскими».
Но все меркло перед праздничным половодьем народных гуляний на масленичной и пасхальной неделях. Накануне этих православных календарных праздников на Марсовом поле и Адмиралтейской площади с фантастической скоростью вырастали пестрые волшебные городки с балаганами, американскими горами, русскими качелями и каруселями. Шумные толпы простого люда с раннего утра тянулись туда со всех концов города. Кареты и экипажи высшей и средней знати, обгоняя пеших горожан, спешили к началу гуляний. Отказаться от посещения этих ежегодных гуляний в Петербурге считалось дурным тоном. В запасе петербургского городского фольклора имелся бесконечный синонимический ряд крылатых фраз и выражений на одну тему: «Побывать на балаганах», «Побывать на горах», «Под горами», «На горах», «Под качелями» и т. д. На бытовом языке петербуржцев это означало посетить пасхальные или масленичные гулянья.
Богатые на коварную выдумку и щедрые на беззлобную шутку владельцы балаганов наперебой изощрялись друг перед другом. Доверчивые счастливчики, опережая один другого, протискиваются внутрь ярко освещенной пустой палатки, вход в которую объявлен бесплатным. Оглядываются вокруг, обшаривают глазами стены и, ничего не обнаружив, злые и раздраженные идут к выходу. И тут они натыкаются на ухмыляющегося хозяина, над головой которого прибита едва заметная дощечка с надписью: «Выход 10 копеек». Смущенно улыбаясь удачливому розыгрышу, платят, но признаться нетерпеливо ожидающим своей очереди в балаган в том, что они так легко были обмануты, не решаются. И потому очередь не убывает.
Яркая и броская реклама другого парусинового балаганчика весело зазывает публику всего за алтын увидеть Зимний дворец в натуральную величину. А внутри балагана хитро улыбающийся хозяин откидывает пеструю тряпичную занавеску и показывает застывшей от изумления публике стоящий напротив Зимний дворец. Подсознательное желание разгоряченной всеобщим весельем публики быть обманутой было так велико, что подобные стереотипные розыгрыши устраивались порою в нескольких балаганах, стоявших рядом друг с другом, одновременно. «Ах, обмануть меня не трудно,/Я сам обманываться рад». При особом желании за весьма умеренную плату можно было увидеть и Александровскую колонну в натуральную величину, и панораму Петербурга, и многое другое.
Народные гулянья вызвали к жизни невиданный прилив устного народного творчества. Балаганные деды – зазывалы, выполняя роль живой рекламы, виртуозно нанизывали одни рифмованные строки на другие, собирая огромные толпы завороженных слушателей:
А вот, ребята, это Параша, Только моя, а не ваша. Хотел было на ней жениться, Да вспомнил: при живой жене это не годится. Всем бы Параша хороша, да только щеки натирает, То-то в Питере кирпичу не хватает.* * *
У вас, господа, есть часы? У меня часы есть. Два вершка пятнадцатого. Позвольте, господа, у вас проверить Или мне аршином померить. Если мне мои часы заводить, Так надо за Нарвскую заставу выходить…* * *
А еще, ребята, что я вам скажу: Гулял я по Невскому пришпекту И ругнулся по русскому диалекту. Ан тут передо мной хожалый: В фортал, говорит, пожалуй.* * *
За что, я говорю?.. А не ругайся! – Вот за то и в часть отправляйся! Хорошо еще, что у меня в кармане рупь-целковый случился, Так я по дороге в фортал откупился. Так-то вот, ребята, на Невском проспекте Не растабаривайте на русском диалекте.* * *
Жена у меня красавица – Позади ноги таскаются. Теперича у нее нос С Николаевский мост. Но я хочу пустить ее в моду, Чтобы, значит, кому угодно.* * *
Жена моя солидна, За три версты видно. Стройная, высокая, С неделю ростом и два дни загнувши. Уж признаться сказать, Как бывало в красный сарафан нарядится, Да на Невский проспект покажется, Даже извозчики ругаются: Очень лошади пугаются. Как наклонится, Так три фунта грязи отломится.Балаганные деды обычно громко, стараясь перекричать друг друга, зазывали на представления с балконов дощатых павильонов-балаганов. Другое дело, раешники (от слова раёк – райское действо) со своими загадочными потешными панорамами, которые представляли собой небольшие деревянные ящики с двумя отверстиями, снабженными увеличительными стеклами и несложным устройством внутри. При помощи рукоятки раешник неторопливо перематывал бумажную ленту с изображениями разных городов, событий или известных людей, сопровождая показ веселыми рифмованными шутками и присказками. Понятно, что Петербург в этом представлении занимал далеко не последнее место:
А вот и я, развеселый грешник, Великопостный потешник – Петербургский раешник Со своей потешной панорамою. Верчу, поворачиваю, Публику обморачиваю, А себе пятачки заколачиваю.* * *
А вот андерманир штук другой вид: Петр первый стоит. Государь был славный, Да притом же и православный. На болоте выстроил столицу…* * *
Вот смотри и гляди – Город Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, На крепости пушки палят, А в казематах преступники сидят и пищат, А корабли к Питеру летят.* * *
А вот город Питер, Что барам бока вытер. Там живут немцы И всякие разные иноземцы. Русский хлеб едят И косо на нас глядят, Набивают свои карманы И нас же бранят за обманы.* * *
А вот позвольте посмотреть: С птичьего полета, а может и выше – С золоченой адмиралтейской крыши, Как на ладони – весь город Питер, Что многим бока повытер.* * *
А вот пожар Апраксина рынка! Пожарники скачут. В бочки полуштофы прячут – Воды не хватает, Так они водкой заливают, Чтобы поярче горело.* * *
А это город Питер, …………………… Воды в нем тьма-тьмущая, Река течет пребольшущая, А мелкие реки не мерены, Все счета им потеряны.* * *
А это извольте смотреть-рассматривать, Глядеть и разглядывать, Лександровский сад. Там девушки гуляют в шубках, В юбках и тряпках, Зеленых подкладках. Пукли фальшивы, А головы плешивы.* * *
А вот петербургская дама, Только не из Амстердама, Приехала из Риги Продавать фиги. Купеческих сынков обставлять Да сети им расставлять. Карьеру начали с прачки, Да давали им много потачки.Такие же веселые и нехитрые прибаутки веселили публику вокруг дешевых распродаж и розыгрышей всевозможных лотерей:
А вот, господа, разыгрывается мое именье – На Смоленском кладбище каменья.* * *
А еще, господа, киса старого брадобрея В Апраксином рынке в галерее.* * *
А еще, господа, подсвечник аплике И тот заложен в Полтарацком кабаке. А ты, рыжий, свечку погаси, А подсвечник в Апраксин продать снеси.* * *
Еще, господа, кольцо золотое, Даже заказное, У Берта отлитое, Полтора пуда весом.* * *
Серьги золотые У Берта на заводе из меди литые, Безо всякого подмесу Девять пудов весу.Славный век праздничных балаганов, вместившись в календарные рамки XIX века и оставив по себе завидную славу в городском фольклоре, уходил в прошлое. Поиски новых форм общественных городских развлечений привели к созданию такого феномена, как народный дом. Прообразы будущих домов и дворцов культуры представляли из себя прекрасно исполненные лучшими петербургскими зодчими здания, где под одной крышей располагались театральные залы и библиотеки, кафе и дешевые буфеты, помещения для художественной самодеятельности и кинотеатры. Вокруг зданий, как правило, разбивали сады с американскими горами, каруселями и детскими площадками. Крупнейшим и самым популярным в Петербурге был Народный дом имени императора Николая II, выстроенный на Петербургской стороне в непосредственной близости к городскому зоопарку – любимому месту воскресных прогулок петербургских детей. Ныне в здании Народного дома расположены Планетарий, Стереокино и Мюзик-холл.
Салонные остряки этот Народный дом окрестили «Публичным домом императора Николая II». Говорят, скандальное прозвище восходит к безобидному курьезу, имевшему довольно отдаленное отношение и к Николаю II, и к самому Народному дому его имени.
Среди петербургских филокартистов бытует легенда о том, как однажды из Швеции, где Россия в то время заказывала почтовые открытки, прибыла партия открыток с изображением Народного дома имени императора Николая II. Когда в Кронштадте этот груз начали принимать заказчики, то к своему ужасу увидели, что вместо слова «народный» в названии стояло слово «публичный». Очевидно, иностранцам при переводе нетрудно было спутать слова «народ» и «публика», а то, что «публичный» в сочетании с «домом», да еще рядом с именем императора в русском языке приобретает особенно пикантный оттенок, им и в голову не пришло. Вся партия открыток была забракована и тут же уничтожена. Но фольклор, к счастью, сохранил этот яркий и такой выразительный штрих общественной жизни Петербурга предреволюционной поры.
Несмотря на огромное количество революционных праздников и их массовый характер, в советский период петербургской истории свидетельств о них в фольклоре не осталось. Бог знает почему. То ли праздники были изначально рассчитаны на внешний эффект. Их разглядывали и оценивали с недосягаемых высот руководящих трибун. То ли в них никакой объединяющей идеи на самом деле не было и, едва дождавшись разрешения, многолюдные потоки демонстраций мгновенно превращались в исчезающие в подъездах домов ручейки усталых и проголодавшихся людей.
Довольно яркая вспышка интереса ленинградского городского фольклора к развлечениям местной знати была отмечена только однажды, в связи со скандально нашумевшей свадьбой дочери партийного хозяина Ленинграда Григория Васильевича Романова, устроенной им будто бы в Таврическом дворце, среди великолепных интерьеров блестящего екатерининского вельможи Григория Александровича Потемкина. Мало того, для свадьбы первый секретарь Ленинградского обкома КПСС будто бы приказал взять из эрмитажной коллекции царский сервиз на сто сорок четыре персоны. Сервиз в прошлом являлся фамильной собственностью дома Романовых и потому в Ленинграде появилась пословица, недвусмысленно сформулировавшая образ жизни партийного вождя ленинградских коммунистов: «Живет Романов по-романовски».
И хотя сам директор Эрмитажа Борис Пиотровский не раз опровергал эту, как он выражался, выдумку, легенда о свадьбе любимой дочери Романова пережила и коммунистическую партию, и советскую власть, и самого директора Эрмитажа. Более того, от камня, брошенного в Ленинграде, пошли, что называется, круги по воде. Эхом на скандальную ленинградскую легенду мгновенно откликнулась московская байка. Она будто бы утверждает, что с судьбой этого злосчастного сервиза связана внезапная отставка Григория Васильевича Романова. Романов якобы оказался первой жертвой возглавлявшего в то время КГБ Ю. В. Андропова, который методично и последовательно расчищал для себя ступени к высшей власти. Пострадал Романов, согласно московской легенде, из-за того, что на свадьбе дочери подвыпившие гости, среди которых, впрочем, было немало тайных и явных сотрудников КГБ, разбили тот знаменитый эрмитажный сервиз.
В советскую индустрию отдыха и развлечений простого народа не последней строкой входили футбольные соревнования. Отношение ленинградцев к своей любимой футбольной команде «Зенит» отличалось исключительным постоянством. Изредка ею восхищались, то и дело ее поругивали, но в том и другом случае ее по-своему любили и на нее всегда надеялись. Ленинградский футбол в высшей лиге «Зенит» представлял с 1931 года. Первый успех к команде пришел в 1944 году, когда «Зенит» стал обладателем кубка страны по футболу. Но затем наступила долгая и устойчивая полоса неудач. Болельщики огорчались, досадовали, раздражались. Про «Зенит» пели частушку:
Ленинградский наш «Зенит» Был когда-то знаменит, А теперь игра в «Зените» Не игра, а… извините.Только через сорок лет, в 1984 году, «Зениту» удалось победить в чемпионате страны. С тех пор надежды фанатов на свою команду ни на миг не исчезают. Подтверждением тому служат многочисленные речевки, родившиеся в последние годы на стадионах в поддержку своих любимцев – игроков команды «Зенит»:
«Зенит» – это я, «Зенит» – это ты, «Зенит» – это лучшие люди страны.* * *
«Зенит» – команда экстра-класса, Остальные – педерасты.* * *
Кто болеет за «Зенит», У того жена родит Не какого-то ребенка. А Володю Казаченка.* * *
«Факел» больше не горит – Обмочил его «Зенит».Несколько лет назад в Петербурге прошли широко разрекламированные Игры доброй воли, которые с известной натяжкой тоже можно отнести к сфере отдыха. Хотя трудно сказать, чего в этом мероприятии было больше – отдыха, развлечений, спорта или политики. Игры были организованы по инициативе первого мэра нашего города Анатолия Александровича Собчака. Насмешничая и каламбуря, Игры доброй воли горожане окрестили «Играми доброго Толи».
Говоря о фольклоре народных гуляний и светских развлечений, нельзя не вспомнить о традиционном фольклоре курсантов высших военных заведений Петербурга. Их давние обычаи отмечать ночь перед выпуском какой-нибудь экстравагантной веселой шалостью занимают достойное место в арсенале петербургского городского фольклора. Вот некоторые из них.
Выпускники Нахимовского училища до блеска начищают пастой ГОИ нос на бюсте основателю города перед Домиком Петра I.
В ночь перед выпуском курсанты Пушкинского военно-морского училища, прихватив с собой суконки, щетки и пасты, идут в Екатерининский парк и начищают ягодицы Гераклу, стоящему у нижних ступеней лестницы в Камеронову галерею. Затем они направляются к знаменитой «молочнице», грустно сидящей с разбитым кувшином, и начищают грудь бронзовой скульптуры.
Выпускники Военно-медицинской академии, начистив до блеска ботинки Боткина, повернувшегося спиной к главному входу в Академию, совершают традиционный обряд чистки бронзовых грудей Гигиеи в центре фонтана через дорогу, на углу Большого Сампсониевского проспекта и улицы Академика Лебедева. В настоящее время фонтан перенесен на новое место. Он украшает сквер перед главным входом в Академию со стороны улицы Лебедева.
Новоиспеченные инженеры Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского, озираясь по сторонам и выставив на всякий случай дежурных, натирают пастой ГОИ интимные места коню Медного всадника.
Не отстают в изощренности от военных курсантов и их гражданские коллеги. Едва получив новенькие дипломы, выпускники Высшего морского училища имени адмирала С. О. Макарова ночью сообща подтаскивают к дверям в училище многокилограммовый якорь-«монумент», сняв его предварительно с пьедестала. Наутро, когда начальство заставляет троих дежурных отнести якорь на место, весь выпуск, корчась от смеха, радостно следит за этой традиционной процедурой.
В Высшем военно-морском училище имени М. В. Фрунзе есть традиция, ведущая свое начало еще с дореволюционных времен. Задолго до торжественного выпуска курсанты последнего курса в глубокой тайне от начальства шьют гигантскую тельняшку, которую в ночь перед выпуском натягивают на памятник первому директору Морского корпуса, великому мореплавателю И. Ф. Крузенштерну, стоящему на набережной Невы, напротив центрального входа в прославленное училище.
Воистину, как утверждает граффити, увиденное однажды автором в стенах Университета экономики и финансов: «У балтийской молодежи развлечения свои».
Обыкновенный фольклор с острой приправой ненормативной лексики
Городской петербургский фольклор, являясь в абсолютном большинстве своем продуктом подлинно народного творчества, никогда не был лишен таких замечательных качеств, как подчеркнутая откровенность и пикантное озорство, весьма далекие от вульгарной матерщины и пошлой двусмысленности. Семьдесят лет идеологического гнета вытеснили за пределы русского словаря целый пласт языковой культуры, который в последние годы назвали ненормативной лексикой. Уже по определению эта часть языка оказалась табуированной. Уйдя, что называется, в подполье, она, тем не менее, постоянно напоминала о себе в печати – то совершенно прозрачными, тщательно подобранными эвфемизмами, то игривыми, равными количеству букв запретного слова точками, то бесцеремонными пропусками в тексте, а то и просто беспардонной заменой неугодных слов другими, весьма отдаленно напоминающими первоисточник.
Ханжеская мораль диктовала правила игры. Право на использование ненормативной лексики в быту признавалось за всеми социальными слоями общества в возрастном диапазоне от школьников до пенсионеров, однако, поскольку легализация ее оставалась невозможной, формально считалось, что она, эта лексика, является собственностью исключительно низовой культуры, то есть фольклора. К печатному станку ее не допускали. Причем, не только при советской власти. Еще Пушкин мечтал о том, что когда-нибудь наступит время, когда можно будет не в рукописных списках, а в легально изданной книге прочитать всего Баркова.
Между тем выпавшие из словаря вульгарные или грубые слова, как правило, более древние, чем те, которыми пользуется для определения тех же понятий легальная литература. И уже поэтому они более точны и выразительны. Они самобытны и национальны. Многовековой запрет на их законное употребление наложил на эти слова клеймо отверженности, которое, в свою очередь, окрасило их в агрессивные тона боевой раскраски и превратило в ругательства. Но, став бранью, они тут же утратили свои понятийные свойства. Они уже ничего не определяли и не называли. Они просто становились знаком вражды, нападения или обороны.
Свои исконные функции ненормативная лексика сохранила только в фольклоре. В том числе и в городском. Хотя, конечно, влияние городской культуры на фольклор было огромным. Сглаживались острые углы, потаенные слова употреблялись с некоторой оглядкой, сдерживалась экспрессия. Тем не менее основные свои признаки фольклор с ненормативной лексикой сохранил. Традиция эта была заложена еще при Петре I.
Простота и свобода нравов, царившие в ближайшем окружении Петра, хорошо известны. Заседания «Всешутейшего собора», сопровождавшиеся непристойными выходками, которые повергали в изумление видавших виды иностранных посланников, считались едва ли не нормой нового быта российского дворянства. Слов не выбирали. Выражений не стеснялись. Немногие сохранившиеся с тех времен легенды, в которых использовалась непристойная или, как говорят в просторечии, похабная, лексика, иллюстрируют именно такую легкость и непосредственность в общении.
Все в Петербурге знали нетерпимость Петра к суевериям. Однажды, во время его отсутствия, по городу разнесся слух, что в одной из церквей на Петербургской стороне большой образ Богородицы проливает слезы. В церковь начало сбегаться множество народа. Говорили, что Матерь Божия слезами своими возвещает «великие несчастья» Петербургу, а может быть, и всему государству. Петр, едва узнав о случившемся «чуде», отправился в ту злополучную церковь. Встал против иконы и стал внимательно рассматривать ее. И тут он заметил в зрачках Богородицы едва видимые невооруженным глазом отверстия. А когда он отодрал оклад и посмотрел на обратную сторону доски, то тут же понял злостный обман. В доске против глаз Богородицы были выдолблены ямки, наполненные деревянным маслом. «Вот источник „чудесных“ слез!» – воскликнул государь. Гнев его, рассказывает легенда, был ужасен. Петр размахивал иконой Богородицы перед носом перепуганного не на шутку монаха и приговаривал:
«Если иконы еще раз заплачут маслом, жопы попов заплачут кровью».
Стесненный в средствах для ведения изнурительной Северной войны, постоянно изобретая способы добывания денег, Петр не брезговал ничем, что способствовало скорейшей победе над шведами. Так, он приказал снимать с православных церквей колокола для переплавки их на пушечные стволы. Говорят, что при этом указал: обещать попам возмещение ущерба по окончании войны. По одному из преданий, как только многолетняя Северная война закончилась миром со Швецией, к Петру явились представители духовенства с петицией, в которой нижайше просили императора вернуть им металл для восстановления утраченных колоколов. И не было предела удивлению святой братии, когда, выйдя от царя и раскрыв петицию, они прочитали: «Получите хуй!» Характерное продолжение эта легенда получила уже после смерти Петра. Неугомонное духовенство решило попытать счастья у его вдовы – императрицы Екатерины I. Государыня прочитала резолюцию Петра Великого и, мило улыбнувшись, вернула петицию: «Я и этого дать не могу», – кокетливо проговорила она.
Скорый и решительный на расправу, Петр I среди прочих мер борьбы с непослушными и строптивыми, охотно применял и такое наказание, как ссылка. Ссылали, как правило, в дремучие карельские леса. На месте выросшего таким образом поселения ссыльных впоследствии образовался город с коротким и выразительным названием Кемь. И хотя на самом деле этот город в устье одноименной реки известен с XV века, существует устойчивая легенда, будто его название не что иное, как аббревиатура, и расшифровывается она очень просто: «К Ебеней Матери». Так якобы писал на полях соответствующих указов сам Петр, отправляя неугодных петербуржцев в далекую ссылку.
Нетрудно заметить, что две последние легенды утратили бы всякий смысл, будь их весьма специфичная лексика заменена на более благозвучную, не оскорбляющую слух ревнителей чистоты русского языка.
Фольклор, дошедший до нас из первой четверти XVIII века, чередуется с более поздним фольклором о том же времени.
Находясь вдали от Петербурга и беспокоясь о судьбе своего любимого детища – военного флота, Петр посылает Меншикову деньги с короткой запиской:
Высылаю сто рублев На постройку кораблев.Через некоторое время государь получает от своего любимца ответ:
Девяносто три рубли Пропили и проебли. Высылай скорей ответ: Строить дальше али нет.Другой вариант этих фривольных стихов на болезненную финансовую тему появился в петербургском фольклоре после открытия в 1782 году памятника Петру Великому на Сенатской площади. Памятник этот более известен в народе как «Медный всадник». Согласно одному народному преданию, знаменитую надпись для памятника «Петру Первому Екатерина Вторая» по просьбе Екатерины II придумал замечательный поэт и величайший похабник Иван Семенович Барков, за что, говорят, получил от милостивой императрицы аж сто целковых серебром. Деньги по тому времени немалые. Через несколько дней друзья этого записного гуляки поинтересовались, во что вложил он такие громадные деньги, на что Барков будто бы продекламировал:
Девяносто три рубли Мы на водку впотребли. Остальные семь рублей Впотребли мы на блядей.Между тем флот строился невиданными темпами. Петр лично заботился не только о новых кораблях, но и принимал участие в формировании экипажей, в разработке формы одежды моряков. Даже изобретение специфического покроя флотских брюк с клапаном вместо ширинки фольклор приписывает царю-реформатору. Вот как рассказывается в легенде об этом событии. А это было действительно событие, если принять во внимание, что покрой флотских брюк с тех самых пор никогда не менялся. Так вот. Гуляя однажды по Летнему саду, Петр увидел в кустах неприлично торчащую голую задницу. Подойдя ближе, он обнаружил молодого матроса со спущенными штанами, лежавшего на девке. «Сия голая жопа позорит российский флот», – проворчал император и, задумавшись, пошел дальше. Вскоре по его указанию во флоте ввели форменные брюки с клапаном, что позволяло матросам развлекаться с бабами, не обнажая при этом зады.
Не потому ли современную аббревиатуру «БФ» (Балтийский флот) на флотских погонах расшифровывают: «Блядский флот»? Другая причина могла бы показаться оскорбительной. Служба на флоте во все времена в народе считалась почетной, а к морякам всюду относились с любовью. Традиционно уважительное отношение к ним подтверждает и современный матросский фольклор. Несмотря на длительность, по сравнению с другими родами вооруженных сил, службы, несмотря на продолжительность пребывания вдали от берега и тяжесть жизни в замкнутом металлическом пространстве корабля, моряки могут променять службу на корабле разве что на службу в морском десанте. «Жопа в мыле, хуй в тавоте, но зато в Балтийском флоте», – с гордостью утверждают они при каждом удобном случае.
Имя Петра I вошло и в расхожую среди петербургских младших школьников скороговорку. Попытка освоить таинственный мир запретной лексики здесь еще выглядит легкой и безобидной: «Петр Первый первый пёрнул на Петроград».
Время неприкрытой мужицкой грубости начала XVIII века постепенно уходило, уступая место времени изощренного фаворитизма с его безграничной распущенностью во взаимоотношениях полов и доведенной до совершенства внешней пристойностью. Правда, куртуазные приключения великосветских дам екатерининского Петербурга оставались привилегией литературы. Дань нецензурной поэзии отдали Барков, Полежаев, Лермонтов, Пушкин и многие другие поэты. Большинство из них были лейб-гвардейскими офицерами, либо светскими львами, и чаще всего сами становились героями и свидетелями событий. Многие их запретные стихи и поэмы считались анонимными и потому числились за фольклором, хотя единственный отклик собственно фольклора прозвучал гораздо позже. В 1862 году по случаю столетия восшествия Екатерины II на престол в сквере перед Александринским театром был заложен памятник великой императрице. Работа над ним продолжалась одиннадцать лет. Открытие состоялось только 24 ноября 1873 года. Памятник выполнен по проекту скульптора М. О. Микешина. Бронзовые фигуры государственных деятелей той славной эпохи, расположенные на скамье вокруг пьедестала, отлиты по моделям А. М. Опекушина. Мощная, более 4 метров высотой, фигура императрицы в парадной одежде и со скипетром в руке торжественно возвышается над головами сподвижников и друзей.
Сразу после открытия памятника в народе родилась пикантная байка. Фавориты и соратники любвеобильной матушки государыни, соревнуясь между собой, демонстрируют при помощи недвусмысленных жестов размеры своих фаллосов, а над ними, полная государственного достоинства и женской привлекательности стоит любимая императрица с эталоном в руках. И только Гаврила Романович Державин сокрушенно разводит руками.
Монументальные памятники и вообще городская скульптура, в чем мы не однажды уже убеждались, всегда оставались любимыми героями петербургского городского фольклора. С 1909 по 1937 год на Знаменской площади у Московского вокзала стоял памятник одному из самых загадочных русских императоров Александру III. Памятнику была уготована трудная судьба. Им восхищались и над ним потешались, его называли «Пугалом» и одновременно считали высочайшим образцом политической сатиры в скульптуре. Впрочем, сам Паоло Трубецкой – создатель памятника – говорил, что он политикой не занимается, что он просто изваял одно животное на другом. Сохранился анекдот об одном князе, который, взглянув на памятник Александру, сказал: «Я знаю, что Саса зопа, но зацем же это так подцеркивать?» В 1937 году памятник, якобы мешавший трамвайному движению по Невскому проспекту, сняли, и долгое время он находился за оградой во дворе Русского музея. Тогда его окрестили «Узником Русского музея». Однажды на его пьедестале появилась надпись: «Свободу узнику Русского музея!» Наконец, в 1995 году он обрел временное, как тогда было заявлено, пристанище во дворе Мраморного дворца, перед его центральным входом.
На месте снятого памятника Александру III в центре площади Восстания, бывшей Знаменской, в 1985 году поднялся гранитный обелиск в честь города-героя Ленинграда. Авторы обелиска – архитекторы А. И. Алымов и В. М. Иванов. То ли место это для памятников оказалось несчастливым, то ли установленный в исторически сложившейся части Ленинграда, он не отвечал требованиям ленинградцев к монументальным обелискам, но памятник тут же начал подвергаться невиданному остракизму. Как только его ни называли. Это и «Мечта импотента», и «Памятник импотенту», и «Фаллос в лифчике» и многое другое, правда, более благопристойное и потому выпадающее за рамки этой главы. Но всех превзошел автор статьи об установке обелиска в одной из ленинградских газет. Статья называлась двусмысленно: «Встал на века». Не это ли название предопределило весь дальнейший эротический фольклор о памятнике.
В нескольких кварталах от площади Восстания Невский проспект украшает известный далеко за пределами Петербурга Аничков мост. На пилонах моста установлены четыре скульптурные группы: обнаженные юноши, укрощающие коней, исполненные одним из крупнейших ваятелей старого Петербурга П. К. Клодтом. Ироничные пересмешки петербургских салонов, что называется, выпустили джинна из бутылки:
На удивленье всей Европы Поставлены четыре жопы.И началось мифотворчество. Мост в старые времена называли: «Мост восемнадцати яиц» и старательно пересчитывали все восемнадцать: восемь у четырех юношей, восемь у четырех коней и два – у городового, непременного атрибута дореволюционной жизни моста. После Октябрьской революции городовой, как символ ненавистного режима, исчез, и мост стали называть: «Мост шестнадцати яиц».
Легендам о тяжелых бронзовых ядрах прекрасных клодтовских коней «несть числа». Одни говорят, что яйца одного из коней расписаны непристойностями, другие утверждают, что на каком-то из конских яиц изображен портрет Наполеона. Но самая удивительная легенда отсылает нас в мир замысловатых человеческих взаимоотношений. Работая над одной из скульптур, рассказывает эта легенда, Петр Карлович Клодт решается наконец отомстить какому-то своему высокородному врагу. Он искусно изображает лицо обидчика под хвостом вздыбленного скакуна. Говорят, узкий круг современников легко узнавал образ несчастного, отлитый в бронзе.
Тема изощренной мести – один из неумирающих сюжетов петербургского городского фольклора. До сих пор жива давняя легенда о мести скульптора Орловского полководцу Барклаю-де-Толли, который якобы соблазнил жену скульптора. Месть состояла в том, что, работая над памятником Барклая-де-Толли, Орловский изобразил его маршальский жезл таким образом, что, если смотреть с определенного места, то жезл легко принять за возбужденный член. Памятник М. Б. Барклаю-де-Толли был открыт на площади перед Казанским собором в 1837 году.
Еще раз к интригующей теме мести петербуржцы вернулись через полвека, когда в 1873 году перед главным входом в Морской кадетский корпус был установлен памятник выдающемуся мореплавателю И. Ф. Крузенштерну. Была в этом замечательном монументе одна курьезная особенность. Если смотреть на памятник, медленно обходя его вокруг, то в какой-то момент щеголеватый морской офицер приобретает сходство с античным сатиром во время разнузданных сатурналий. Это устойчивое ощущение эротичности возникает в связи с неприлично торчащей рукоятью офицерского кортика, укрепленного под определенным углом к бедру адмирала. Бытует легенда с хорошо знакомым сюжетом. Будто бы этот амурный образ скульптор И. Н. Шредер создал в отместку за то, что Крузенштерн наставил ему рога. На самом деле Шредеру было всего 11 лет, когда великий мореплаватель ушел из жизни. Но легенда оказалась настолько живучей, что через сто лет после установки памятника городские власти не удержались и в рамках борьбы с сексом, которого, как известно, в стране победившего социализма просто быть не могло, изменили положение злосчастного кортика и теперь он расположен строго вдоль бедра морехода, не вызывая никаких дурных ассоциаций у молодого поколения моряков и не оскорбляя зрения старшего. Блюстители социалистической нравственности попытались таким высокоморальным актом убить и второго зайца. Прервалась давняя традиция – в ночь перед выпуском будущие офицеры из Высшего военно-морского училища имени M. В. Фрунзе перестали до блеска начищать пастой ГОИ личное оружие адмирала. Это утратило всякий смысл.
В 1816 году ступени Конногвардейского манежа украшаются исполненными в Италии скульптором Паоло Трискорни мраморными копиями античных статуй Диоскуров. Однако судьба близнецов, сыновей Зевса и Леды, олицетворяющих братскую любовь и преданность и потому часто изображающихся вместе, зеркально отраженными, сложилась в северной столице драматически. Высшее духовенство сочло кощунственным присутствие обнаженных языческих богов в непосредственной близости к христианскому храму. В 1840 году скульптуры Диоскуров снимают с пьедесталов и устанавливают на задворках Манежа, на пилонах ворот Конногвардейских казарм в Конногвардейском переулке. Только в 1954 году мраморные фигуры обнаженных юношей, удерживающих вздыбленных коней, вновь заняли свое место по обеим сторонам центрального фасада Манежа. В просторечии их называют «Мужики с хуями».
С обнаженной античной скульптурой Петербург познакомился давно. Еще при Петре I для украшения Летнего сада из Италии были доставлены мраморные статуи, среди которых находилась знаменитая Венера. «Белая дьяволица», как ее называли в народе, еще тогда порождала неподдельный ужас и первобытный стыд у целомудренных маменек и хмель любовного возбуждения у застенчивых недорослей. У беломраморной богини пришлось поставить часового. От греха подальше. Впоследствии безрукая красавица оказалась в Эрмитаже. В 1920-х годах родилась странная традиция: некоторые посетители Эрмитажа целовали «Венус в тохис». Это считалось хорошим тоном. При этом вульгарное слово «жопа» заменялось эквивалентом на идиш. Правила игры были соблюдены.
Шаловливая игра слов светских пересмешников не однажды обогащала петербургский фольклор блестящими находками. С некоторыми из них, такими как «Бенуёвские переделки» – о неудачном изменении фасада Гостиного двора, предпринятом архитектором А. Н. Бенуа в 1885–1886 годах, мы уже знакомы. К этому же фривольному ряду можно отнести и такие фразеологические конструкции, как «С бодуна на трахалку» (дорога со станции Дибуны на станцию Тарховка); «Через саки на майнаки» (проезд через Исаакиевскую площадь на проспект Майорова); «Остоюбелеело» (по поводу красных дат советского календаря); «ГИОП твою мать» (распространенное в определенных кругах ругательство. ГИОП – Государственная инспекция охраны памятников); «Писдом» (Дом писателей – произносится с чередованием согласной «С» на «3»); «ЛВХПУ-1» (неуклюжая аббревиатура Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной); «Институт Кебенематики» (Институт кибернетики).
Такие изысканные каламбуры рафинированных умников фольклор уравновешивает простодушным казарменным юмором небезызвестного поручика Ржевского:
Гвардия его величества на балу в Смольном институте. Юная смоляночка подбегает к одному из столиков:
– Господа офицеры, посоветуйте, что мне делать. Мне сегодня исполнилось шестнадцать лет, а в торте, который мне подарили, семнадцать свечек, господа. Что мне делать с лишней, господа?
Поручик Ржевский стремительно вскакивает с места:
– Господа офицеры! Молчать! Всем молчать!
* * *
Поручик Ржевский едет в поезде на верхней полке. Внизу беседуют дамы.
– Бологое расположено как раз между Москвой и Петербургом.
– О да, я всегда, когда поезд останавливается там, ощущаю, будто я одной ногой стою в Москве, другой – в Петербурге. Поручик свешивается с верхней полки:
– Бывал-с, бывал-с, и такая, доложу, грязная дыра…
* * *
Поручик Ржевский гуляет с Наташей Ростовой в Летнем саду.
– Поручик, а вы хотели бы стать лебедем?
– Голой жопой и в мокрую воду!? Нет уж, увольте.
Серия микроновелл о поручике Ржевском в роли главного героя появилась не на пустом месте. Подобных анекдотов в старом Петербурге было достаточно.
Купчиха Семижопова написала на высочайшее имя прошение об изменении неблагозвучной фамилии. Император наложил резолюцию: «Хватит и пяти».
* * *
Государь Александр Павлович прогуливался однажды по саду в Царском Селе. Шел дождик, однако это не помешало толпе дам собраться посмотреть на обожаемого царя. Когда он поравнялся с ними, то многие в знак почтения опустили вниз зонтики. «Пожалуйста, – проговорил государь, – поднимите зонтики, медамез, не мочитесь». «Для вашего императорского величества мы готовы и помочиться», – отвечали дамы.
* * *
По академическому музею прогуливается маменька с дочкой-институткой.
– Посмотри, Аннет, какие огромные яйца у страуса, – проговорила маменька.
– Ах, маменька, это у того самого Страуса, что играет так мило вальсы в Павловском вокзале?
* * *
Император Николай Павлович просматривал проект железной дороги Москва – Петербург. Предстояло решить один вопрос, остававшийся до сих пор нерешенным: какой должна быть ширина железнодорожной колеи – узкой, как в Германии, или шире, как предлагали инженеры. Император с утра был не в духе и потому раздраженно наложил резолюцию: «На хуй шире?» С тех пор на всей территории России колея железной дороги на несколько сантиметров шире, чем в Европе.
Эволюция анекдота от короткой невыдуманной, казалось бы, невероятной, но все-таки реальной истории до злободневного вымысла с остроумным концом практически вывела его из области литературного бытования в область устного народного творчества. Анекдот ушел из жанра новеллы и приблизился к частушке. Краткость стала едва ли не доминирующим качеством анекдота.
– Давайте выпьем, Владимир Ильич.
– Нет, батенька, больше не пью. Помню, как-то в апгеле нализались. Занесло на Финляндский вокзал, взобгался я на бгоневичок и такую хуйню нес, до сих пог газобгаться не могут.
* * *
К столетию со дня рождения Ленина ленинградская фабрика резинотехнических изделий «Красный треугольник» выпустила юбилейные презервативы в честь верной подруги Ленина Надежды Константиновны Крупской. Презервативы называли: «Надень-ка».
* * *
Тетя Надя шутки ради Ильичу давала сзади. Так и вышел тот трактат: «Шаг вперед и два назад».Надо полагать, что широко распространенное мнение о преимущественном интересе анекдота к политической жизни общества не всегда справедливо. Петербургский бытовой анекдот не менее остер и опасен, чем политический. Подтверждение тому легко найти в недавней истории нашей советской жизни. Главное, анекдот всегда выполнял общественную функцию, либо указывая на что-то, либо что-то обличая. В отличие, скажем, от частушки, которая, как мы увидим позже, не более чем озорство, шалость, дурачество.
Старушка входит в переполненный автобус. Никто ей не уступает место.
– Неужели в Ленинграде не осталось интеллигенции? – горестно вопрошает она.
– Интеллигенции, бабуля, дохуя. Автобусов мало.
* * *
– Алло! Это прачечная?
– Срачечная!! Институт культуры.
* * *
На Большом проспекте Васильевского острова роняет старушка платочек. Подбегает милиционер, поднимает платок и подает старушке.
– Вы уронили, бабуля.
– Спасибо, сынок. До революции жандарм матом бы обругал.
– Что ты, бабуля, нас за это ебут.
* * *
Лицом к Казанскому собору стоит мужик и мочится на колонну. Сзади подходит интеллигентного вида мужчина и робко дотрагивается до плеча мужика:
– Простите, пожалуйста, как пройти к Исаакиевскому собору?
– Зачем тебе Исаакиевский? Ссы здесь.
Прогремевшая однажды на весь мир с телевизионных экранов пресловутая формула: «В Советском Союзе секса нет» завершила целый период ханжеской морали, замешанной на беззастенчивой лжи и невероятном лицемерии. Двойная мораль сводилась к некой негласной договоренности «верхов» и «низов»: «мы делаем вид, что говорим правду, вы делаете вид, что верите нам». Все жанры и виды советского искусства в один голос, как хорошо отрепетированный хор фабричной самодеятельности, доказывали, что никаких отрицательных явлений, в том числе проституции, в Ленинграде нет, и только один фольклор с завидным упорством обреченного утверждал обратное.
Московское радио задало своим провинциальным коллегам один вопрос:
– Правда ли, что у всех блядей блестят глаза?
Армянское радио отвечать отказалось. Одесское радио сообщило, что если бы это было правдой, то в Одессе были бы белые ночи.
Петербургское радио обиделось:
– Просим без намеков.
* * *
Армянское радио спросили:
– Что будет, если у всех блядей в стране будут светиться глаза?
– Везде будут белые ночи, как в Ленинграде.
* * *
Заспорили грузин и ленинградец, где эхо лучше – в Грузии или в Ленинграде. Поехали в Грузию. Пошли в горы. Крикнули:
– Бляди-и-и-и-и…
И в ответ услышали многократное:
– Бляди… Бляди… Бляди… Вернулись в Ленинград. Встали посреди Исаакиевской площади и крикнули:
– Бляди-и-и-и-и…
И через мгновение услышали со стороны Московского вокзала:
– Идем…
Район Московского вокзала и Лиговский проспект в целом в 1920-е годы стал средоточием дешевой в нетребовательной проституции. Именно в те годы родилось бытующее до сих пор выразительное ругательство: «Блядь лиговская». Не уступал Лиговскому проспекту и Невский. Судя по бытописательской и публицистической литературе дореволюционной России, проституция на Невском носила пугающе будничный характер. Эта особенность и сейчас подчеркивается в фольклоре. Все то же вездесущее армянское радио отвечает на вопрос своего любопытного слушателя:
– Можно ли совершить половой акт посреди Невского проспекта?
– Нет, помешают многочисленные советчики.
Но, перефразируя название известного фильма Никиты Михалкова, территория секса стремительно расширялась.
В Ленинград пришел состав С красными вагонами. Будут девки разгружать Ящики с гондонами.* * *
Я зарежу милого На улице Вавилова За сынка, зачатого На улице Курчатова.* * *
Едем, телка, в Комарово, Поебу и будь здорова.* * *
У Петровского причала, Там, где сфинксов парапет, На общественных началах Девки делают минет.* * *
В сто раз лучше отдаваться Этим усачам, Чем лентяям ленинградцам Или москвичам.* * *
Папа едет в Ленинград, Мамин ёбарь очень рад. Ладушки-ладушки, Буду жить у бабушки.Беспрецедентные возможности использования не ограниченного условностями синонимического ряда в первую очередь сказались на частушке. Малая форма этого народного жанра требовала особенной выразительности, которая достигалась предельно возможной точностью лексического выбора. В свою очередь достигнутая таким образом точность не была результатом первоначального отбора. Лексика частушки выкристаллизовывалась в процессе многократного употребления при передаче из уст в уста. И даже будучи зафиксированной в печатном источнике, частушка допускала многовариантность, что, кстати, всегда говорило в пользу ее фольклорного происхождения. Литературный текст канонизирован и не допускает никаких разночтений. Но даже предельно специфическую яркость и образность запретного слова в фольклоре вряд ли стоит рассматривать как непристойность, поскольку оно интонационно нейтрально, в отличие от того же слова, использованного для ругани. У исполнителей подлинно народных частушек нет и любования собственной смелостью, что, к сожалению, присуще авторам так называемой художественной литературы, с избытком нашпигованной ненормативной лексикой. Самобытной частушке, повторимся, несвойственны ни агрессивность, ни эпатаж.
В парикмахерской на Невском Раздаются голоса: «Кто последний? Я за вами, Брить на жопе волоса».* * *
Как на Кировском заводе Запороли конуса. Мастер бегает по цеху, Рвет на жопе волоса.* * *
Я иду по Невскому, Хуяк меня железкою. Ну и мать твою ети, Нельзя по Невскому пройти.* * *
Как на станции Ланской меня ёбнули доской. Я лежу и охаю. Стало мне всё по хую.* * *
Мы по Питеру катались На кобыле без узды. На такую блядь нарвались: Восемь сисек, три пизды.* * *
Если Вологда не город, То Фонтанка не река. Как старуха удавилась На хую у старика.* * *
Как на речке на Фонтанке Хуй на щепочке плывет. А по берегу крутому Пизда в тапочках идет.* * *
Ебай, братко, по баяну, По баяновой доске, Чтобы знали вологодских В Ленинграде и Москве.Граница между лексикой нормативной и ненормативной весьма расплывчата. Радужный спектр фольклорной лексики безбрежен – от интеллигентно-витиеватого: «Лучше один член Босха, чем сто членов ЛОСХа» (в недавнем прошлом – Ленинградское отделение Союза художников) до бескомпромиссно-казарменного: «Пиздит, как Троцкий». Порубежье осваивается студенческим фольклором. Чаще всего любимой мишенью жизнерадостных студиозусов становились их альма матер. Названия институтов, их неуклюжие аббревиатуры предоставляли широчайшую возможность для творчества: «Пользы ни хрена от института Герцена», «Пользы хер цена от института Герцена»; «Ленинградский Государственный Педерастический Институт» (ЛГПИ – Ленинградский государственный педагогический институт, ныне Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена); «Ленинградский Экспериментальный Институт Секса» (ЛЭИС – Ленинградский электротехнический институт связи, ныне – Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича); «Ленинградский Институт Сексуальных Извращений» (ЛИСИ – Ленинградский инженерно-строительный институт, ныне – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет); «Ленинградский Институт Изучения Женского Тела при Министерстве Половых Сношений» (ЛИИЖТ при МПС – Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта при Министерстве путей сообщения, ныне – Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения).
В ближайшем соседстве со студенческим юмором уживаются бесхитростные речевки петербургских футбольных фанатов:
Кто болеет за «Зенит», У того всегда стоит. Кто болеет за «Спартак», У того стоит не так. Кто болеет за «Динамо», У того стоит не прямо.Юношеский максимализм в выборе слов и подростковый задор в манере декламации не столько результат распущенности, сколько следствие корпоративного мужского братства в обстановке огромного стадиона, где одни мужчины демонстрируют настоящую мужскую игру, а другие – настоящую мужскую солидарность. Можно, конечно, думать, что реакция болельщиков должна быть другой, но другой от этого она не становится.
Закончить обзор петербургского городского фольклора с ненормативной лексикой хочется одним житейским примером. В свое время для более удобного запоминания однообразно названных шести улиц в районе квартирования Семеновского полка: Рузовской, Можайской, Верейской, Подольской, Серпуховской и Бронницкой кем-то было придумано мнемоническое правило. Достаточно было запомнить несложную фразу: «Разве Можно Верить Пустым Словам Балерины», как сразу – по первым буквам – в памяти всплывали и названия улиц, и порядок их следования друг за другом. Об этом уже говорилось. Но вот в 1990-х годах, следуя всеобщей моде поругивать проигравших коммунистов, народ предложил иной вариант этого правила: «Разве Можно Верить Пустым Словам Большевиков». Сути это не меняло, хотя при чем здесь большевики, как, впрочем, и балерины, было непонятно. Но мнемоническое правило, как таковое, смысла и не требовало. Лишь бы запоминалось. Но вот что любопытно. Наряду с первым, историческим, вариантом и вторым, современным, параллельно с ними, бытовал еще один, просторечный: «Разве Можно Верить Пустым Словам Бляди». И в этой одной «бляди» логики и смысла оказалось больше, чем в балерине и большевиках вместе взятых.
Городской фольклор и «питейное дело» в Петербурге, или Mens sana in «Quisisana»
В очередной раз приходится констатировать, что многим петербургским традициям, в том числе и печально знаменитым, положил начало царь Петр I. Например, нельзя безоговорочно утверждать, что именно он виновен в пагубном распространении «питейного дела» в Петербурге, но, если верить фольклору, именно он открыл первый петербургский трактир на Троицкой площади и назвал его «Австерия четырех ветров». А кабак вблизи Морского рынка в начале будущего Невского проспекта вообще носил его монаршее имя: «Петровское кружало». В нем за незначительную плату или даже под залог можно было общим черпаком зачерпнуть из стоявшего посреди помещения огромного чана густого пива, развлечься нехитрой беседой или ввязаться в драку, без которой не обходился ни один день.
Даже в своих постоянных заботах о просвещении и распространении знаний в России Петр не забывал о приманке, которою, по выражению историка Петербурга П. Н. Столпянского, «можно было заманить русского человека». В 1715 году в царскую казну отошли только что построенные палаты Алексея Васильевича Кикина, высланного из Петербурга за казнокрадство, а затем и казненного, как одного из главных участников «заговора» царевича Алексея. В обширных Кикиных палатах Петр разместил свою знаменитую коллекцию раритетов – Кунсткамеру. Вход в Кунсткамеру – этот первый общедоступный русский музей – был бесплатным и посещать ее можно было «без всякого опасения».
Но история русского просвещения – это трудная история преодоления косности, невежества, консерватизма. В Кунсткамеру ходить опасались. Тогда, согласно одной расхожей легенде, «придумано было, чтобы каждый получал при смотрении Кунсткамеры свой интерес: кто туда заходил, того угощали либо чашкой кофе, либо рюмкой водки и венгерского вина. А на закуску давали цукерброд».
Еще задолго до основания Петербурга, в 1700 году, для надзора за строительством кораблей Петр учредил Адмиралтейский приказ, переименованный после того, как он был переведен в Петербург, в Адмиралтейскую канцелярию. Вместе со своими адмиралами Петр лично присутствовал на заседаниях канцелярии, вникая во все подробности организации военного флота в России. Ежедневно в 11 часов заседания прерывались, и Петр с наслаждением «подкреплял себя анисовкой». Примеру царя охотно следовали адмиралы. С тех пор в Петербурге 11 часов стали называть «Адмиральским часом», или «Адмиральским полднем», а на Руси сложилась поговорка, записанная еще Владимиром Далем: «Адмиральский час пробил, пора водку пить».
Огромный двухлитровый кубок вина с надписью на крышке: «Пей до дна», который при жизни царя-реформатора едва ли не насильно вливался в глотку провинившегося или опоздавшего на ассамблею и от которого пошло гулять по стране понятие «Штрафная», со временем трансформировался в легендарную именную чарку. По преданию, такую чарку получил в подарок от Николая I мастеровой человек Петр Телушкин. Во время сильного урагана 1829 года накренился Ангел на шпиле Петропавловского собора. Для его ремонта требовались дорогостоящие строительные леса. Телушкин предложил выполнить всю работу вообще без лесов. Ему это блестяще удалось с помощью веревочной лестницы, которую он закрепил в основании Ангела. В течение шести недель ежедневно взбирался Телушкин по этой лестнице, а когда вся работа была успешно окончена, то за проявленную смекалку и мужество император будто бы лично вручил ему именную чарку, которая давала Телушкину пожизненное право получать бесплатную водку во всех казенных кабаках.
По другой малоправдоподобной легенде, право на бесплатную выпивку давало Телушкину несмываемое клеймо, поставленное ему на правую сторону подбородка. Входя в кабак, он громко щелкал пальцем по клейму, давая знать трактирщику о своем неотъемлемом праве. Если верить этой легенде, то именно тогда и родился характерный и столь понятный всякому жест, приглашающий к выпивке.
В петербургской истории известны случаи, когда водка становилась общей наградой, а наказанию подвергались как раз те, кто так или иначе этому противодействовал. В честь своего восшествия на престол Екатерина II повелела отпускать народу водку бесплатно. По одному из преданий, крупнейший петербургский богач купец Савва Яковлев воспротивился этому. Народ тут же «произвел буйство на улицах», о чем немедленно доложили императрице. Екатерина выразила свое неудовольствие и пожаловала Яковлеву чугунную медаль в пуд весом, с приказанием носить ее по праздникам на шее.
В 1916 году справочная книга «Весь Петроград» сообщала всем желающим названия, адреса и фамилии владельцев более полутора тысяч трактиров. Было чем вскружить головы заезжим провинциалам, которые затем разносили по всей России молву о доступности и легкости роскошной и безбедной жизни в столице. В Ярославской губернии распевали частушку:
С малолетства сбаловались: Водку пить, табак курить; Водку пить, табак курить – Из Питера пешком ходить.Интересно, что в это же время подобную частушку фольклористы записали и в Тверской губернии:
Четвертная – мать родная, Полуштоф – отец родной, Сороковочка – сестрица Научила водку пить, Научила водку пить, Из Питера пешком лупить.Надо сказать, героями петербургского городского фольклора на тему выпивки были не только простолюдины или провинциалы. В равной степени ими становились представители всех социальных слоев. Другое дело, не все удостаивались осуждения или даже простого неодобрения. К кому-то фольклор был более снисходителен, к кому-то – терпим. С солдатской прямотой и откровенностью рубили императорские лейб-гвардейцы: «Кирасиры Ее Величества не страшатся вин количества». Богатые ветреники, тяготившиеся домашними обязанностями, с открытием в Петербурге общедоступной Публичной библиотеки получили неожиданную возможность, уходя из дома, философически изрекать своим женам, что спешат «Пропустить стопку, другую книг».
Широкой известностью пользовались застолья в литературных кругах Петербурга первой половины XIX века. По одной из легенд, писатель Нестор Кукольник отмечал однажды свой день рождения на загородной даче Безбородко в Полюстрове. Молва приписывает Кукольнику четверостишье, которое он произнес, когда в разгар веселья вдруг оказалось, что все питье кончилось и достать его невозможно:
Дача Безбородко – Скверная земля! Ни вина, ни водки В ней достать нельзя.До революции на острове Котлин среди кронштадтских моряков широкой славой пользовался трактир с романтическим названием «Мыс Доброй Надежды». Трактирные нравы строгостью не отличались, и очень часто моряки возвращались из увольнения весьма потрепанные и с синяками под глазами. В фольклоре сохранилась крылатая фраза, с помощью которой оправдывались очередные жертвы кронштадтского «зеленого змия»: «Потерпел аварию у мыса Доброй Надежды».
Чуть ли не гимном петербургской учащейся молодежи – кадетов, курсантов и студентов всех рангов – стали знаменитые четыре строчки «Чижика-пыжика». «Чижиками-пыжиками» из-за форменных мундиров желто-зеленого цвета называли в Петербурге курсантов Училища правоведения, которое находилось на Фонтанке напротив Летнего сада. Весь Петербург вместе с подвыпившими правоведами голосил заветные строчки:
– Чижик-пыжик, где ты был? – На Фонтанке водку пил. Выпил рюмку, выпил две, Закружилось в голове.Песня была так популярна, что ее, несколько видоизменив, вкладывали в уста главного героя любимой народной комедии «Петрушка» далеко за пределами Петербурга. Во всяком случае, известны записи комедии, в которой звучала эта песенка, в Чернигове в 1898 году и на Кубани – в 1902 году. Любопытно, что малопонятное словосочетание «на Фонтанке» в одном случае заменено выражением «на рыночке», в другом – «за горою».
Но наиболее массовый характер пьянство приобретало на петербургских окраинах, в рабочих поселках и слободках в календарные дни выдачи заработной платы. В такие дни пьянство проявлялось в таких уродливых формах, что зачастую не обходилось без вмешательства полиции. Некоторые районы Петербурга так и остались в истории помеченными, или, если быть еще более точным, заклейменными бескомпромиссным фольклором: «Рыбацкое-кабацкое», «Закрывайте лавки, Пороховые гуляют».
К концу XIX века петербуржцы шутили: «В Петербурге только четыре человека не пьют. На Аничковом мосту. И то у них руки заняты».
Борьбу с этим вековым злом возглавило Всероссийское Александро-Невское братство трезвости, основанное протоиереем А. В. Рождественским. Только петербургское отделение этого общества насчитывало около 70 тысяч человек. Главным храмом общества в Петербурге стала церковь Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Церковь была выстроена на пожертвования Братства по проекту петербургского зодчего Г. Д. Гримма в 1908 году. В народе ее прозвали «Церковь с бутылочкой». До сих пор жива легенда о том, что одна из колоколен храма, удивительным образом напоминающая бутылку, выстроена в таком виде специально по просьбе членов Братства. Среди икон в церкви находилась одна, наиболее чтимая прихожанами: «Неупиваемая чаша». Перед ней пьяницы давали бесчисленные обеты и молились о Божьей помощи в исцелении своего недуга.
Революция, идеалы которой, может быть, и были замешаны на кристально чистой дистиллированной воде утренних грез о «светлом будущем человечества», совершалась руками тех же фабрично-заводских парней, программа maximum которых сводилась к нехитрым лозунгам типа: «Грабь награбленное», «Мир хижинам, война дворцам», «Кто не с нами, тот против нас» и т. д. До сих пор живы легенды о винных лужах, образовавшихся возле подвальных окон Зимнего дворца после того, как были разграблены и разбиты огромные запасы коллекционных вин императорского двора.
Может быть поэтому в фольклоре о тех исторических днях нет сомнений насчет истинных побудительных мотивов октябрьских событий. Вот как выглядит в анекдоте эпохальный акт перехода страны из одной политической формации в другую:
Хмурое октябрьское утро 1917 года. 26 октября. Ленин тяжело открывает глаза, поднимает голову и тут же опускает ее на валик дивана. Голова трещит. Гадко во рту. Подводит память. Над ним склоняется верный Дзержинский.
– Феликс Эдмундович, где же мы вчера были?
– У девочек, Владимир Ильич, – шепчет Дзержинский, – у девочек.
– И что же?
– Пили, Владимир Ильич, много выпили.
– И что же?
– Спорили и кричали.
– А потом?
– Взяли Зимний, Владимир Ильич.
– Потогопились, Феликс Эдмундович, потогопились.
Под знаком этого мутного похмелья, на фоне стремительного снижения условий для цивилизованного отдыха деградирует и все ресторанное дело социалистического Ленинграда. Если в упомянутой уже справочной книге «Весь Петроград» на 1916 год количество ресторанов в дореволюционном Петрограде приближалось к двумстам, то в подобной же адресной книге «Весь Ленинград» на 1926 год ресторанов всего сорок. Примерно столько ресторанов насчитывалось в Ленинграде и к концу 1970-х годов. Причем надо иметь в виду, что даже такое количество ресторанов появилось только в связи с подготовкой к Олимпийским играм 1980 года в Москве. В Ленинграде готовились к наплыву зарубежных гостей. О своих никто не думал.
В то же время продолжалась чуть ли не вооруженная борьба с пьянством. В очередной раз пытаясь легализовать освященные традициями товарищеские встречи «на троих», извлечь их из дворовых подворотен, лестничных клеток и общественных туалетов на свет Божий для более удобного пригляда, городские власти покрыли Ленинград огромной сетью легких дощатых павильонов, выкрашенных в голубой цвет, в которых открылись пивные, распивочные и закусочные. В городе их окрестили «Голубыми Дунаями». Со временем они сменились «Автопоилками» – полуподвальными залами с автоматическим разливом разбавленного пива и грошового вина. Самое знаменитое в то время кафе-автомат на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна в городском фольклоре осталось под названием «Гастрит», или «Пулемет». Надо ли искать более удачную характеристику отпускаемых в нем блюд.
Не менее известной в Ленинграде была распивочная на углу улиц Садовой и Ракова. В разное время, в зависимости от окраски стен, которая эволюционировала от нежно-голубой до ядовито-синей, эту безымянную распивочную в просторечии называли: «Голубая гостиная», «Синий зал», «Синяк» и, наконец, «Чернильница».
Были в Ленинграде свой «Гадючник» (бар «Корвет», Разъезжая улица, 10), «Аппендицит» (буфет от Литературного кафе), «Затон» (пивной бар, Невский проспект, 94), «Болото» (пивной бар, Купчинская улица, 1), «Тошниловка» (закусочная, Гончарная улица, 2), «Травиловка» (шашлычная, улица Танкистов, 3-а), «Палатка Папанина» (распивочная на улице Марата, напротив Музея Арктики и Антарктики), «Ларек Ленина» (водочный ларь на улице Олеко Дундича), «Ленин в Разливе» (пивной бар, улица Трефолева, 22/25) и так далее…
Пик опасной тенденции наступил, когда разговоры о выпивке по своему значению в жизни простого советского человека стали настолько постоянными, что оставили далеко позади разговоры о зарплате, карьере или женщинах. Все клином сходилось на этой теме. Близкими и понятными становились замысловатые аббревиатуры производственных объединений, проектных организаций и учебных институтов после их соответствующих расшифровок:
Союзное проектно-монтажное бюро «Малахит» (СПМБМ) – «Союз Пьяных Мужиков – Бывших Моряков»; Ленинградское Адмиралтейское объединение (ЛАО) – «Ленинградское Алкогольное Объединение»; Ленинградский институт авиационного приборостроения (ЛИАП) – «Ленинградский Институт Алкоголиков-Профессионалов» и «Лепят Инженеров – Алкоголики Получаются».
Студенты всех без исключения институтов пели старинную студенческую песню, придавая ей в новых условиях особый смысл и делая интонационные акценты в нужных местах:
Там, где Крюков канал И Фонтанка река, Словно брат и сестра, обнимаются, От зари до зари Там горят фонари, Вереницей студенты шатаются. Они горькую пьют, Они песни поют, И еще кое-чем занимаются. Через тумбу, тумбу раз, Через тумбу, тумбу два… и т. д.Родилась новая советская традиция. На Стрелке Васильевского острова под радостные возгласы родных и друзей: «Счастливого плавания» юные молодожены разбивают бутылку шампанского. И если даже признать бесспорность смысловой глубины этого акта, то одновременно надо согласиться с тем, что появился этот обычай не на пустом месте. Во всяком случае, толстый слой битого зеленого стекла на старинном классическом спуске Стрелки явно это подтверждает.
При этом надо напомнить, что в последние годы советской власти даже ритуальную бутылку шампанского можно было либо достать по блату, либо приобрести по специальному талону, выдаваемому накануне торжественного дня бракосочетания в счастливые руки жениха и невесты. Магазины были пусты. В редкие минуты завоза товара у прилавков начинался «Штурм Зимнего». Настойчиво повторявшиеся попытки поднимать цены на спиртное, чтобы снизить спрос на него, успеха не имели. Ленинградцы трезво и со знанием дела оценивали свои возможности: «Если будет двадцать пять, снова Зимний будем брать». В то время инфляции еще не было. Просто водка дорожала и дорожала. Двадцать пять рублей – это та цена, которая, по мнению ленинградцев, была запредельной и даже опасной. Кроме приведенной пословицы, появилась частушка на ту же дежурную тему, обращенная к Леониду Ильичу Брежневу:
Водка стала пять и восемь, Все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу, Нам и десять по плечу. Если станет двадцать пять – Снова будем Зимний брать.Да, бросать пить не собирались.
Пьяный на улице:
– Где я?
– На Невском.
– К черту подробности. В каком я городе?
* * *
Горбачев в сопровождении председателя Ленгорисполкома Зайкова проезжает мимо Московского вокзала. На тротуаре валяется пьяный. Горбачев:
– Смотри, что у тебя делается.
– Это не наш, Михаил Сергеевич, – отвечает руководитель Ленинграда, – это москвич.
– А ты откуда знаешь?
– Наши в таком виде еще работают.
Ситуация оказалась тупиковой. Было очевидно, что ни запреты, ни повышение цен, ни меры общественного, как тогда говорили, воздействия (народные дружины, товарищеские суды и пр.) не помогут.
Между тем, как мы уже говорили, в Петербурге к 1917 году был накоплен богатый опыт предоставления горожанам цивилизованных способов проведения времени, не исключавших, а, напротив, предполагавших обязательную выпивку. Целая индустрия ресторанов и кафе исправно функционировала, удовлетворяя самым разнообразным потребностям – от весьма неприхотливых до изысканно-изощренных.
Конечно, за семьдесят лет советской власти этот опыт в значительной мере был утрачен. Однако обнадеживает та стремительность, с которой возрождается ресторанное дело. Хочется надеяться, что городской фольклор, который, несмотря ни на что, сумел сохраниться в коллективной памяти Петербурга, будет только способствовать этому ренессансу.
В начале XX века, благодаря стечению ряда обстоятельств, петербургскому городскому фольклору удалось сформулировать принципиально новое отношение теперь уже не к «питейному», но к «ресторанному» делу Санкт-Петербурга. Если, как вы помните, ранний петербургский фольклор, не мудрствуя лукаво, декларировал: «Адмиральский час пробил, пора водку пить», то по прошествии двух столетий подобная прямолинейность могла просто шокировать «блистательный Санкт-Петербург». На вооружении серебряного века петербургской культуры появились совсем другие языковые конструкции, вызывавшие иные ассоциации. Петербург начала XX века мог себе позволить заговорить на языке античного Рима.
Mens sana in corpore sano.
Именно так говорили древние римляне, формулируя свое отношение к гармоническому развитию духовных и физических сил гражданина и воина. Mens sana in corpore sano – в здоровом теле – здоровый дух. Видимо, не случайно петербургские острословы вспомнили эту крылатую фразу в связи с появлением в начале XX века модного ресторана «Квисисана». Ресторан открылся в доме № 46 по Невскому проспекту, перестроенном архитектором Л. Н. Бенуа для Московского купеческого банка. То ли безупречная ресторанная кухня отвечала высоким гастрономическим требованиям избалованной петербургской публики, то ли звучная ритмика заморского названия вызвала сложные ассоциации, но в петербургском салонном фольклоре появилась поговорка, которую щеголи той поры любили произносить по-латыни: «Mens sana in Quisisana!» – «Здоровый дух в Квисисане!»
К сожалению, век «Квисисаны» оказался недолгим. Через несколько лет ресторан исчез так же неожиданно, как и появился. Октябрьский переворот не способствовал развитию ресторанного дела. И если бы не след, оставленный в фольклоре, то память о «Квисисане», пожалуй, исчезла бы навсегда.
Первыми петербургскими ресторанами следует считать трактиры, представлявшие собой удачное сочетание казенных комнат для жилья с собственно ресторанами. В одном из них, так называемом Демутовом трактире на Мойке, останавливался Пушкин. В Петербурге того времени таких трактиров насчитывалось девять. Через сто лет справочная книга «Весь Петроград» на 1916 год приглашала петербуржцев и гостей города посетить, как мы знаем, 191 ресторан, не считая более полутора тысяч трактиров.
Наряду с ресторанами для имущих и питейными заведениями для работного люда в огромном количестве открывались кафе для интеллигенции и студентов. Привлекательность Петербурга в этом смысле была столь велика, что приезжим провинциалам он казался раем с молочными реками и кисельными берегами. Про Питер распевали частушки.
А в Питере вино По три денежки ведро. Хошь лей, хошь пей, хошь окачивайся, Да живи и поворачивайся.На кабачки и распивочные можно было наткнуться буквально на каждом углу. Купцу 1-й гильдии Василию Эдуардовичу Шитту удалось получить право на открытие винных погребков в угловых помещениях доходных домов. Остряки говорили, что «В Питере все углы сШиты» и «Шитт на углу пришит». Широко процветала в Петербурге торговля пивом. Особой популярностью пользовалась продукция пивоваренного завода «Бавария». Вместе с тем городской фольклор начала XX века настоятельно предупреждал: «От „Баварии“ до аварии один шаг».
В начале 1840-х годов в Петербурге появляется принципиально новое торговое заведение – кафе, понятие, которое современные словари русского языка толкуют как «маленький ресторан». Первый такой «маленький ресторан» открылся в доме № 24 на Невском проспекте. По имени своего владельца Доминика Риц-а-Порто он назывался «Доминик». Широко распространенные по всей Европе заведения подобного рода отличались от «больших» ресторанов своим более демократическим характером. Здесь можно было быстро и недорого поесть, встретиться с другом, почитать свежую газету, сыграть в шахматы или домино. Постоянными посетителями кафе были студенты и журналисты, небогатые чиновники и инженеры – все те, кого петербургские газеты называли «столичными интеллигентами среднего достатка». В городском фольклоре эти посетители известны под именем «Доминиканцы». Кафе «Доминик» прекратило свое существование в 1917 году. Затем в его помещениях располагались различные магазины, а в 1950-х годах здесь вновь открылось кафе-мороженое. Официального названия оно не имело, но в народе было широко известно как «Лягушатник», скорее всего из-за болотного цвета мебельной обивки.
В 1880-х годах на углу Невского и Владимирского проспектов, в доме, перестроенном выдающимся петербургским архитектором П. Ю. Сюзором, была открыта гостиница «Москва». При гостинице, как и положено, был ресторан. Позже гостиницу закрыли, перепланировав всю ее площадь под ресторан. На первом этаже под рестораном «Москва» открылось кафе, не имевшее официального названия. Пустоту тут же заполнил фольклор, наделивший кафе безошибочно точным именем «Подмосковье». В 1960-х годах это кафе, о чем мы уже говорили, получило широчайшую известность под новым фольклорным названием «Сайгон». Ныне «Сайгон», давно уже ставший своеобразным памятником шестидесятникам, не существует. В его помещениях расположился модный магазин иностранной бытовой техники. Попытки реанимировать «Сайгон» на других территориях серьезного успеха не имели. На Большой Мещанской улице недавно появилось кафе с таким названием, но оно официальное и к легендарному «Сайгону» имеет довольно отдаленное отношение.
Однако след, оставленный «Сайгоном» в генетической памяти петербуржцев оказался столь значительным, что даже сегодняшние двадцатилетние ребята, которые о «Сайгоне» знают разве что по воспоминаниям взрослых, да по студенческому сленгу, клянутся в верности данному слову старой сайгоновской поговоркой: «Век Сайгона не видать!» А формулой братской общности и нерушимого товарищества давно уже стала пословица: «На одном подоконнике в Сайге сидели». Почти как: «В одном полку служили».
Демократический характер «маленьких ресторанов» в значительной степени определил их социальную функцию. Кафе объединяли людей по интересам, по их формальному или неформальному социальному статусу. У всех на памяти кафе литературные и театральные, студенческие или поэтические. Такую же объединяющую функцию играли и многие рестораны. Например, ресторан «Крыша» в гостинице «Европейская» долгое время был постоянным местом встреч актеров после окончания вечерних спектаклей. По аналогии с Большим и Малым залами Филармонии ресторан «Крыша» в театральных кругах назывался «Средним залом Филармонии». Такое же название в городском фольклоре 1960-х годов получил ресторан «Восточный» на Невском проспекте.
Магнетическая сила ресторанов была так велика, что склонные а аналогиям петербуржцы XIX века прозвали два стоявших друг против друга ресторана Бореля и Дюссо «Сциллой и Харибдой». Воистину надо было обладать недюжинным мужеством, чтобы, не привязав себя к фонарному столбу, словно легендарные греческие мореплаватели к корабельной мачте, не поддаться соблазну и не отдаться во власть ресторанных кулинаров.
В кругах рафинированных гурманов рестораны славились своими петербургскими традиционными яствами. В отличие от купеческой Москвы, славившейся, скажем, выпечными изделиями, Петербург не без основания гордился морскими продуктами. «На Фонтанке треснул лед, в гости корюшка плывет»; «Рыбацкий куркуль, вместо корюшки – омуль»; «Славна Москва калачами, Петербург – сигами». Мы уже знаем, что в названиях многих изысканных кушаний навсегда сохранились имена известных петербуржцев. Так, блюдо из мелко нарезанных кусочков мяса, тушенных в сметане, носит имя его создателя графа Строганова – бефстроганов. Имя министра финансов в александровскую эпоху Д. А. Гурьева осталось в названии «Гурьевской каши».
Традиционно любимым в петербургских ресторанах всегда был чай. Этот замечательный напиток издавна занимал достойное место в петербургском городском фольклоре. В XIX веке были широко известны фразеологизмы «Кронштадт виден» и «Чай такой, что чрез него Кронштадт виден». Так говорили о совершенно жидком, прозрачном чае, сквозь который был виден рисунок на дне блюдечка. В одной петербургской газете рассказывалось о появлении этих расхожих в свое время выражений. Будто бы еще в те времена, когда первые пароходные путешествия из Петербурга в Кронштадт продолжались чуть ли не два часа, владельцы пароходов предлагали пассажирам корабельный чай, заваренный, однако, один раз, еще на столичной пристани, до отплытия. По мере приближения к острову в чай добавляли кипяток и он становился все бледнее и бледнее, и когда перед глазами путешественников представал Кронштадт, превращался в слабоподкрашенную тепловатую водичку, сквозь которую действительно можно было видеть город.
Находя удивительным, что в России мужчины пьют чай из стаканов, а женщины из чашек, Александр Дюма записывает любопытную легенду: «Первая чашка была сделана в Кронштадте, на дне чашки был вид Кронштадта. Теперь часто случается, что в кафе из экономии в чашки наливают меньше заварки, чем должно быть. И потому, если чай слишком жидкий, посетитель может вызвать хозяина, показать ему на дно и сказать: „вы можете видеть Кронштадт“. В связи с этим появилась идея подавать чай в стеклянных стаканах, вместо чашек, в которых можно видеть Кронштадт».
В наступивший после революции 1905 года период жесточайшей политической реакции появился характерный анекдот:
В ресторане. Лакей: «Какой крепости чай прикажете?» – Посетитель: «Только не Петропавловской… и не Шлиссельбургской».
В те же годы родились и другие анекдоты:
– Чем отличаются заседания в ресторане «Вена» от заседаний Венского конгресса?
– Тем, что из заседаний в ресторане «Вена» всегда уходят сытыми.
* * *
– Вчера обедал у Карамышева, на Невском, очень прилично, даже ложки подают серебряные.
– Да что ты?! А ну покажи!
* * *
– Городовой! Не можете ли указать поблизости недорогой ресторан?
– А вот, барышня, идите прямо по Невскому до Аничкова моста… Потом поверните обратно, до Конюшенной… От Конюшенной поверните опять обратно до Аничкова моста, пока к вам не пристанет какой-нибудь господин. Вот тут вам недорогой ресторан будет совсем близко.
* * *
У входа в бар гостиницы «Европейская» стоят двое мужчин и рассуждают:
– Гм, «бар». А если прочесть наоборот, получится «раб»? Уж лучше бы «кабак» написали. С обеих сторон одинаково получается.
* * *
На углу стоит «Олень», Заходи кому не лень. Выпьем рюмочку винца, Ламца-дрица, гоп-ца-ца!Такую частушку в 1920-х годах распевали василеостровцы о ресторане «Олень», что находился на углу Большого проспекта и 7-й линии.
В 1904 году Россию потрясла гибель флагмана 1-й Тихоокеанской флотилии броненосца «Петропавловск». Среди погибших были адмирал С. О. Макаров и художник В. В. Верещагин. Однако находившийся на корабле великий князь Кирилл Владимирович спасся, бросившись, как гласит легенда, в воду при первом же взрыве на броненосце. Едва великий князь вернулся в Петербург, как по городу прокатилась острота: «Как же было утонуть Кириллу в море, когда он воспитание получил в „Аквариуме“». В то время «Аквариум» – знаменитый ресторан на Каменноостровском проспекте, 10 – славился своими высокородными посетителями.
Сохранилась легенда о неожиданной смерти П. И. Чайковского, наступившей будто бы через несколько дней после посещения композитором ресторана Лейнера на углу Невского и Мойки, там, где ныне находится литературное кафе. Согласно легенде, Чайковский, после премьеры оперы, прошедшей с небывалым успехом, зашел в ресторан и попросил стакан воды. Сделав один глоток, он поблагодарил официанта и вернул стакан. Глоток воды оказался роковым. С тех самых пор, вот уже целое столетие, умы соотечественников будоражит легенда о том, что вода была отравлена – не то злодеем, не то завистником.
На рубеже столетий широкой известностью пользовался ресторан Федорова на Малой Садовой, 8. Он славился своей стойкой, где, не раздеваясь, всего за 10 копеек можно было получить рюмку водки и бутерброд с бужениной. Посетители сами набирали бутерброды, а затем расплачивались. Никто не мог уследить, кто сколько съедал и кто за сколько заплатил. Цену называл сам посетитель. А официант получал деньги, одновременно наливая водку из двух бутылок в две рюмки. Говорят, что кое-кто из недоплативших по стесненным обстоятельствам, когда выходил из кризисного положения, посылал на имя Федорова деньги с благодарственным письмом.
В 1912 году на Исаакиевской площади по проекту архитектора Ф. И. Лидваля было возведено здание гостиницы «Астория». Несмотря на свою респектабельность, одноименный ресторан при гостинице породил довольно странный фольклор. В Петербурге говорили: «Не ходи в „Асторию“ – попадешь в историю». А на популярном жаргоне питерских художников – так называемых митьков – фразеологизм «В „Астории“ поужинал» ассоциировался с безобразным внешним видом или неважным утренним самочувствием кого-нибудь из «братков».
С «Асторией» связана легенда военных лет. Будто бы гитлеровцы собирались сразу же после взятия Ленинграда устроить торжественный банкет именно в «Астории». Была уже установлена точная дата банкета – 21 июля 1941 года и были будто бы отпечатаны именные пригласительные билеты. На самом деле историками до сих пор не найдены документальные подтверждения этого бредового замысла. Не сохранились ни приглашения, ни билеты, ни меню банкета, хотя, например, особые разрешения на въезд в Ленинград немецких автомашин известны, и образцы их можно увидеть в музеях.
Петербуржцы должны хорошо помнить плавучие рестораны на Неве – «Парус» и «Корюшка». В народе их называли «Поплавками». Об одном из них сохранилась вполне детективная легенда. Однажды вечером простой советский человек гулял по набережной Невы, и захотелось ему зайти в ресторан. Однако в ресторан его не пустили и даже слегка оттолкнули, что простого советского человека искренне оскорбило. Он бросился в ближайший райком. И грандиозное возмездие незамедлительно наступило. К ресторану подошли милицейские катера и портовые буксиры, ресторан вместе с посетителями и администрацией вывели в залив, оттащили к Лахте и выбросили на мелководье. Несчастные посетители по пояс в воде брели к топкому берегу. Наутро нагрянуло ОБХСС, проверило документацию и посадило всю администрацию ресторана. Легенда утверждает, что простым советским человеком был Григорий Васильевич Романов, имевший привычку вот так запросто, без личной охраны и бронированного автомобиля, прогуливаться по городу.
Сегодняшнее возрождение ресторанного дела в Петербурге, заметное увеличение его роли в общественной жизни города вселяет надежду на появление новых легенд и мифов, пословиц и поговорок, частушек и анекдотов, связанных с жизнью петербургских кафе и ресторанов. Главное, с одной стороны, «Выйти на орбиту», как говорили жители Петроградской стороны, направляясь в кафе «Орбита» на Большом проспекте; с другой – «Не лезть в бутылку», то есть не буянить, не безобразничать и не скандалить, чтобы ненароком не попасть в тюрьму. О происхождении этой поговорки уже говорилось.
Впрочем, к нашим петербургским ресторанам это уже, надо полагать, не имеет никакого отношения…
Октябрьская революция в зеркале петербургского городского фольклора
Известно, что отечественная историография всегда страдала двумя неизлечимыми пороками – лживостью и лицемерием. Рецидивы лицемерия приводили к недосказанности, исполненной в лучших традициях ханжеской морали: «говорить правду, только правду, но не всю правду»; обострение же лжи вело просто к искажению или извращению фактов. Особенно это коснулось одного из самых трагических периодов российской истории – 1917 года. Пройдя сквозь такие драматические испытания, как крушение освященного вековыми традициями государственного строя, раскол общества на два непримиримых лагеря и утрату религиозно-нравственных ориентиров, большевистская Россия приступила к созданию новой идеологии – квазиевангелия, смысл которого сводился к простейшим формулам: «Кто не с нами, тот против нас» и «Мир хижинам, война дворцам». Основной задачей советской историографии стала максимально возможная героизация и романтизация известных событий. В такой интерпретации дикий бунт легко превращался в цивилизованную революцию, бессудные расправы возводились в степень революционного правосудия, грабежи назывались экспроприацией и т. д. и т. д. Понятно, что для выполнения такой сверхзадачи обойтись без так называемой «фигуры умолчания» и откровенной лжи было просто невозможно. В итоге появился пресловутый «Краткий курс», который, несмотря на его изучение на всех этапах всеобуча от начальной школы до политкружков, не мог удовлетворить пытливого интереса слушателей к октябрьскому перевороту.
Между тем альтернатива «Краткому курсу» всегда существовала. Из уст в уста передавались интригующие легенды, рассказывались рискованные анекдоты, сочинялись хлесткие частушки. Фольклор создавал свою параллельную историю, которая, вовсе не претендуя на истину в последней инстанции, в одном случае просто заполняла вакуум в информационном поле, в другом – пыталась выправить искривленное пространство этого поля. В любом случае – и сегодня это стало особенно очевидным – официальная история должна быть признательна фольклору за такую неблагодарную работу.
С началом Первой мировой войны в фольклоре появляются штрихи, не известные ранее. Он фиксирует отрицательное отношение российской провинции к столице. Еще совсем недавно такой притягательный и желанный, Петербург становится пугающе опасным и немилосердно жестоким. Это и понятно. Война отняла у крестьянских наделов хозяина и работника, у крестьянской семьи – кормильца, у невест – женихов. Все это в массовом сознании ассоциировалось со столицей.
Распроклятая машина Дружка в Питер утащила. Она свистнула, пошла, Расцеловаться не дала.* * *
Машина – черные вагоны, Супротивница моя. Приятку в Питер утащила, Мне проститься не дала.* * *
Помолись милашка Богу На Исаковский собор. Не возьмут меня в солдаты – Мы поженимся с тобой.* * *
Петроградская машинушка Идет некрытая Замиленочка с позиции Везут убитого.О Питере, который в трудные времена всегда давал крестьянам работу и на протяжении двухсот лет был испытанным и надежным рынком сбыта крестьянской продукции, заговорили как о нахлебнике и иждивенце: «Стоит Питер на болоте, ржи никто в нем не молотит». Обидные и несправедливые обвинения сыпались как из рога изобилия: «На болоте, где хлеба не молотят, а белее нашего едят».
Действительно, стихийные массовые уличные беспорядки в февральские дни 1917 года начались с бесконечных очередей у булочных. Правда, острие стихийного гнева питерского пролетариата не было направлено в сторону деревни, кровная связь с которой была в то время еще достаточно прочной. Фольклор не сохранил свидетельств ненависти города к деревне. Счеты сводили с истинными виновниками народных бедствий:
Царь Николашка Вином торговал, Гришка Распутин С царицей гулял.* * *
Царь посеял пашеницу, А царица – виноград. Царь пропил всею Россию, А царица – Петроград.* * *
Николай любил калину, А Распутин – виноград. Николай проел Россию, А Распутин – Петроград.В ночь на 17 декабря 1916 года в результате заговора, в котором участвовали великий князь Дмитрий Павлович, князь Феликс Юсупов и один из лидеров «Союза русского народа» В. М. Пуришкевич, Распутин был убит. Согласно одной из версий, Распутин был сначала отравлен пирожными, пропитанными сильнодействующим ядом, и только затем, для большей уверенности, добит выстрелами из револьвера. Труп ненавистного «старца», как называли Григория Распутина в Петрограде, был спущен под лед Малой Невки у Петровского моста. Однако, как оказалось при вскрытии, во внутренних органах Распутина никаких следов яда обнаружено не было. Остается только догадываться, как случилось, что пирожные оказались безвредными и знали ли об этом высокородные заговорщики.
21 декабря 1916 года в присутствии бесконечно скорбящей императорской семьи Распутин был похоронен в Царскосельском парке. Еще через два месяца произошла Февральская революция, результатом которой стало падение монархического строя в России.
В марте того же года взбунтовавшейся России вдруг показалось, что надо поставить наконец последнюю точку в позорной многовековой истории царизма. Лютая ненависть к монархии обрушилась на останки царского фаворита Григория Распутина. Уже давно обезвреженного. Уже похороненного. В Царском Селе вскрыли его могилу. В открытом гробу под свист и улюлюканье толпы забальзамированный труп этого дьявола во плоти провезли через весь город и сожгли в огромном костре возле Поклонной горы. Как зачарованная смотрела многотысячная толпа на взметнувшиеся языки пламени. Вдруг, как рассказывает предание, очевидно под воздействием огня, труп зашевелился, Распутин сел в гробу, махнул рукой толпе и исчез в пламени костра. Место это у подножия Поклонной горы до сих пор считается в народе нечистым.
Той же весной 1917 года, когда стало окончательно ясно, что царский строй пал и возврата к прошлому не будет, революционеры всех мастей начали планомерно уничтожать секретные архивы охранных отделений, демонстрируя, как им казалось, всему миру классовую ненависть к символам государственного сыска и полицейской расправы. Так, на Литейном проспекте было разгромлено и затем сожжено здание Окружного суда, в Коломне той же участи подвергся старинный Литовский замок, служивший следственной тюрьмой. Между тем сохранилась легенда, что такое демонстративное проявление классовой нетерпимости было вовсе неслучайно, а погромы полицейских участков связаны с тем, что значительная часть революционеров будто бы числилась секретными сотрудниками царской охранки, за что регулярно получала свои сребреники, исправно расписываясь в платежных ведомостях.
Бесспорным лидером необыкновенной весны 1917 года был блестящий представитель средней буржуазии, ее любимец и баловень Александр Федорович Керенский. Но роль его в событиях 1917 года впоследствии оказалась искаженной до неузнаваемости. Исторически сложилось так, что класс, который он представлял, либо покинул Россию в «окаянные дни» ее истории, либо был уничтожен как чуждый и опасный элемент новыми хозяевами страны – большевиками. Оценки советской историографии по отношению к Керенскому однозначно отрицательны. Это не могло не сказаться и на фольклоре, автором которого был победивший пролетариат. Поговорка тех лет: «Керенский плут, моряков впрягал в хомут, в Питере бывал, во дворце спал, как бы не упал» и частушка: «Я на бочке сижу,/А под бочкой виноград./Николай пропил Россию,/А Керенский Петроград» не оставляют сомнений в симпатиях победителей. Даже кавеэновская шутка-анекдот 1980-х годов: «Прораб Керенский сдал Зимний дворец досрочно к ноябрьским праздникам» отдает кисловатым идеологическим привкусом истории КПСС.
Мирное развитие революции продолжалось недолго. Известные июльские события в Петрограде, когда большевики выступили против Временного правительства под лозунгом: «Вся власть Советам» закончилась расстрелом демонстрации и массовыми арестами. Ленин вынужден был уйти в подполье. Скрывался он «от преследований Временного правительства», как писали во всех энциклопедиях и учебниках, в 30 километрах от Петрограда вблизи дачного поселка Разлив. Разлив надолго становится местом действия бесконечного количества анекдотов.
После свадьбы Надежда Константиновна спрашивает у Ленина:
– И где мы, Володя, проведем медовый месяц?
– В Разливе, Наденька, в шалаше. Только для конспирации со мной поедешь не ты, а товарищ Зиновьев.
* * *
На выставке. Картина «Ленин в Польше». На картине изображен шалаш, из которого торчат две пары ног – мужские и женские.
– Это шалаш в Разливе, – объясняет экскурсовод, – ноги принадлежат Дзержинскому и Крупской.
– А где же Ленин?
– А Ленин, товарищи, в Польше.
* * *
В винный магазин заходит невысокий мужчина в кепочке и, слегка картавя, обращается к продавщице:
– Мне портвейн, пожалуйста, триста грамм.
– Мы в розлив не продаем.
– А мне не в Разлив, а в Шушенское.
Ленин возвращается в Петроград в начале октября. Нелегально. Начинается деятельная подготовка к вооруженному восстанию. В городском фольклоре отмечены некоторые колебания, связанные, очевидно, с серьезными межпартийными и внутрипартийными разногласиями.
Троцкий:
– Товарищи! Революция отменяется. Феликс Эдмундович уехал на рыбалку.
– Так что же мы без Феликса Эдмундовича не справимся?
– Без Феликса Эдмундовича справимся, без «Авроры» не получится.
* * *
– Товарищи, – заявил Владимир Ильич на одном из митингов в Петрограде, – революция отменяется!
– ?!?!
– Мы с Феликсом Эдмундовичем броневичок пропили.
– А где же Феликс Эдмундович?
– В броневичке остался.
* * *
– Товарищи! Революция, намеченная на октябрь месяц, отменяется. Вчера левые эсэры спи… тырили мой любимый галстук в горошинку и броневичок. А с бочки и в кис-кисе руководить революцией я не могу.
К концу октября разброд и шатания среди заговорщиков прекращаются. Категоричное ленинское: «Вчера было рано, завтра будет поздно» фольклор интерпретирует по-своему: «Некоторые большевики хотели сделать Октябрьскую революцию летом, под предлогом того, что летом юнкера всегда уходили в отпуск. Но Ленин с ними не согласился. Он сказал: „Раз Октябрьская – значит осенью. Вот возьмем власть, тогда и календарь переделаем“».
Из квартиры Фофановой, согласно анекдоту, Ленин шлет отчаянную записку в ЦК: «Товарищи цэкисты, передайте питерскому пролетариату, что пьянка пьянкой, но чтоб в ночь на 26 на революцию вышли все поголовно, за два отгула, конечно».
В штабе революции – Смольном решали конкретные вопросы предстоящей акции: «Товарищ Троцкий, – берет под козырек матрос, – каким снарядом „Авроре“ по Зимнему стрелять?» – «Холостым, братец, холостым… Шрапнельку еще и для гражданской войны сэкономим».
Радостное возбуждение переполняло улицы осеннего Петрограда. То тут, то там голосили частушки:
Ходят волны по реке Белыми барашками. Переполнен Петроград Матросскими тельняшками.* * *
Не за Ленина, Не за Троцкого. За матросика Краснофлотского.Шли последние приготовления к штурму:
Телефонный звонок:
– Алло, Смольный?
– Да.
– У вас пиво есть?
– Нет.
– А где есть?
– В Зимнем.
– Ур-а-а-а!!!
И, наконец, последний акт разыгравшейся на подмостках Петрограда русской драмы. Телеграмма из Зимнего на «Аврору»: «Узнав, что на „Авроре“ одни холостые, женский батальон сдается без боя».
Несколько позже появились две пословицы, весьма близкие, как по форме, так и по содержанию. Однако их внутренний смысл, в 1920-х годах не вызывавший сомнений в диалектической однозначности, сегодня приобретает противоположный оттенок: «Февраль Октябрю не товарищ» и «Февралем встречают, Октябрем провожают». Впрочем, кому как слышится. Хотя вот как звучит та же тема двусмысленности, более широко развернутая в анекдоте:
Внучка декабриста слышит шум на улице и посылает прислугу узнать, в чем дело.
Вскоре прислуга возвращается:
– Там революция, барыня.
– О революция! Это великолепно! Мой дед тоже был революционером! И что же они хотят?
– Они хотят, чтобы не было богатых.
– Странно… А мой дед хотел, чтобы не было бедных.
Большой идеологической ложью советской власти стала впоследствии легенда о том, что председатель Временного правительства Александр Федорович Керенский в ночь перед штурмом Зимнего дворца бежал из Петрограда, переодевшись якобы в женское платье. На самом деле, как, впрочем, пишет об этом и сам Керенский, он «решил прорваться через все большевистские заставы и лично встретить подходившие, как казалось, войска». И далее: «Вся привычная внешность моих ежедневных выездов была соблюдена до мелочей. Сел я, как всегда, на свое место – на правой стороне заднего сиденья в своем полувоенном костюме, к которому так привычно население и войска». Тем не менее легенда сохранилась. Скорее всего причиной ее появления стали два обстоятельства, в народном сознании слившиеся в одно. Во-первых, в охране Зимнего дворца действительно участвовал женский батальон и, во-вторых, из Гатчины, куда Керенский прибыл из Петрограда, он на самом деле вынужден был бежать, переодевшись в матросскую форму.
По другой легенде, Керенский покинул Зимний дворец, воспользовавшись одним из подземных ходов, который вел в дом Военного ведомства на Адмиралтейском проспекте. Там его ожидал управляющий делами Временного правительства В. Д. Набоков. Оттуда будто бы Керенский и уехал из взбунтовавшегося Петрограда в Гатчину, надеясь привести верные ему войска для усмирения бунта.
Еще одним таинственным подземным ходом будто бы предложил воспользоваться членам Временного правительства некий пожилой чиновник дворцового ведомства. Эта странная легенда родилась, пожалуй, в узких кругах юристов и законников. Она утверждает, что заседавшим в Зимнем дворце членам правительства вначале показалось заманчивым воспользоваться неожиданным предложением. Но в этот напряженный момент кто-то напомнил коллегам, что в случае бегства законного правительства революция будет считаться юридически правомерной. Только арест всего состава Кабинета, да еще во время его заседания, сделает ее, то есть революцию, в глазах всего мира незаконной. С этим согласились даже самые робкие из членов правительства. Через несколько минут все они были арестованы.
Сразу после октябрьского переворота родилась легенда о том историческим выстреле крейсера «Аврора», который возвестил всему миру о начале новой эры в истории человечества. Будто бы на крейсер, в сопровождении отряда красных моряков, «взошла женщина невероятной, нечеловеческой красоты, огромного роста, с косами вокруг головы. Лицо бледное. Ни кровинки. Словно ожившая статуя». Говорили, что это знаменитая Лариса Михайловна Рейснер. Она-де и распорядилась дать залп из корабельной пушки. Моряки крейсера молча переглянулись: женщина на корабле – плохая примета, но команде подчинились и выстрел произвели.
Пожалуй, именно с этой поры в городском петербургском фольклоре начал формироваться образ некоего партийного чиновника, человека изворотливого, умеющего в любых, даже самых невероятных ситуациях удержаться на плаву. Впоследствии о таких людях говорили: «Непотопляемый, как „Аврора“».
Стреляли в ту осеннюю ночь и пушки Петропавловской крепости. Говорят, революционные матросы ворвались в крепость в поисках пушек для штурма Зимнего. Старый пушкарь пытался убедить нетерпеливых революционеров, что все орудия в Петропавловской крепости изношены, что их стволы просто не выдержат стрельбы и вдребезги разлетятся. Да и тавота для смазки стволов в крепости не оказалось. Матросы нервничали. Времени оставалось мало, и они потребовали, чтобы старик приготовился стрелять. Когда старый солдат понял, что отвертеться не удастся, он бросился в солдатский гальюн, зачерпнул ведро нечистот, смазал им ствол пушки и, таясь от матросов, заложил холостой заряд. Последовала команда и, как рассказывает легенда, прогремел… сраный залп революции.
Так или иначе, революция состоялась. На следующий день, рассказывается в одном анекдоте, Ленин взбирается на броневик:
– Товарищи! Революция, о которой так долго мечтали большевики, свершилась!
Теперь, товарищи, вы будете работать восемь часов в день и иметь два выходных дня в неделю.
Дворцовая площадь потонула в криках «Ура!»
– В дальнейшем вы, товарищи, будете работать семь часов в день и иметь три выходных дня в неделю.
– Ура-а-а-а!!!
– Придет время и вы будете работать один час и иметь шесть выходных в неделю.
– Ура-а-а-а-а-а-а!!!!
Ленин поворачивается к Дзержинскому:
– Я же говорил вам, Феликс Эдмундович, работать они не будут.
Кроме официальных пропагандистских тезисов, была в то время известна и оригинальная фольклорная версия случившейся революции. Ленин якобы задумал и осуществил ее как месть Романовым за казненного брата. Довольно последовательная и стройная легенда представляет собой сентиментальную историю о том, как мать Ленина, Мария Бланк, приняв христианство, стала фрейлиной великой княгини, жены будущего императора Александра III. Хорошенькая фрейлина завела роман с наследником престола и вскоре забеременела. Во избежание скандала ее срочно отправили к родителям и «сразу выдали замуж за скромного учителя Илью Ульянова, пообещав ему рост по службе». Мария благополучно родила сына, назвав его Александром – в честь отца.
Далее события, как и положено в легенде, развиваются с легендарной скоростью. Александр, уже будучи студентом, узнает семейную тайну и клянется отомстить за поруганную честь матери. Он примыкает к студенческой террористической организации и берется бросить бомбу в царя, которым к тому времени стал его отец. В качестве участника подготовки этого покушения Александр Ульянов был судим и приговорен к смерти. Накануне казни к нему приезжает мать. Но перед посещением сына, согласно легенде, она встречается с императором, который будто бы соглашается простить своего сына, если тот покается. Как мы знаем, Александр Ульянов покаяться отказался и был казнен. После этого Ленину будто бы ничего не оставалось, как мстить не только за мать, но и за брата.
После революции Петроград в глазах населения оставался столицей и «самым святым городом во всей России». Эти вещие слова молва приписывает оптинскому старцу Нектарию. Сказал он будто бы их в последние дни Оптиной пустыни.
В октябре 1919 года пролетариат Красного Питера, как называли в те времена Петроград, встал на защиту своих завоеваний от наступавших войск генерала Юденича. Фольклор того времени отличается героическим пафосом, основания для которого безусловно были: «Шел Юденич полным ходом, да разгромлен был народом»; «Красный Питер бока Юденичу вытер»; «Бежал Юденич ужасом объят, забыв про Петроград». Даже Зинаида Гиппиус, отличавшаяся, как известно, крайне отрицательным отношением к Октябрьской революции и ее победителям, уже будучи в эмиграции, вспоминает гордую петроградскую пословицу 1918–1920 годов: «Пока у нас наш Красный Петроград, мы есть и мы непобедимы».
Сохранился удивительно редкий образец совершенно исчезнувшего к тому времени жанра народной поэзии – раешного стиха. Широко распространенный в русской поэзии XVII–XVIII веков, возрожденный в XIX веке «балаганными дедами» во время гуляний на Марсовом поле и Адмиралтейском лугу, он вдруг на мгновение всплыл на привалах гражданской войны. Нетрудно представить, как во время короткого отдыха перед боем полковой балагур и затейник, потомок петербургских балаганных дедов раскручивал перед полуграмотными восторженными красноармейцами лубочные картинки, сопровождая их неторопливыми рифмованными строчками:
Вот вам фронт Петербург, город красный, Фронт у Питера самый опасный Был, Сплыл. А Юденич Антанте письмо писал, Что двадцатого он Петербург, мол, взял, – Пропустил слово «чуть», Захотел спекульнуть, Да не вышло.Надвигался красный террор. Из Петрограда уезжали те, кто это понимал и мог уехать. В первую очередь город покидали иностранцы. Мы уже упоминали легенду о некоем «знатном американце», случайно оказавшемся в Петрограде в эти трагические «окаянные дни». Перед тем как отбыть, он запальчиво обратился к провожавшим: «Зачем вам, большевикам, такой прекрасный город, что вы с ним будете делать?»
В 1919 году был арестован шестидесятилетний великий князь Николай Михайлович, известный историк, председатель Русского географического общества. Он был в оппозиции к Николаю II и называл его не иначе как «наш дурачок Ники». Николай Михайлович был расстрелян 28 января того же года. По преданию, перед расстрелом князь снял сапоги и бросил их солдатам: «Носите, ребята, все-таки царские…»
Бытовала легенда о вскрытии большевиками захоронений великокняжеской усыпальницы Петропавловского собора. Будто бы они извлекли останки всех тринадцати погребенных там великих князей, свалили их в кучу и сожгли в общем костре, причем, как утверждает легенда, сожгли не где-нибудь, а на паперти собора, в чем рассказчики видели особую иезуитскую изощренность новых хозяев России. Эта зловещая легенда жила в народе более семидесяти лет, и только совсем недавно, в ходе плановых реставрационных работ, к счастью, не подтвердилась.
По революционному городу ходили слухи, будто на улицах «орудуют ночные разбойники, которые прыгают выше домов при помощи особых пружин, прикрепленных у них к сапогам». Говорили также, что одеты они в саваны.
На Васильевском острове действовала неуловимая банда грабителей под предводительством знаменитого в 20-х годах Моти Беспалого, который, как говорили, отличался исключительным рыцарским благородством по отношению к бедным. Грабил только буржуев, разжиревших за счет обездоленных пролетариев. Однажды специально обчистил ювелирный магазин ради безвестной старушки, сыновья которой погибли во время германской войны. Все награбленные золотые изделия Мотя нанизал на веревочку и подбросил их в форточку старушки. К веревочке была якобы привязана еще и бумажка в десять червонцев, на полях которой было собственноручно Мотей написано: «Где Бог не может – Мотя поможет». С необыкновенной скоростью эта крылатая фраза облетела Петроград и навсегда осела в арсенале петербургского городского фольклора.
Неожиданно в голодном Петрограде появились дикие утки. Плавая по Неве, они все время прижимались к набережной у Зимнего дворца. В городе говорили, что это защитницы Зимнего. И в Летнем саду появились какие-то дикие птицы. Молва считала их душами умерших – тех, что «на полигоне недавно рыли себе могилу».
Красный террор приобретал все больший размах. Ни на один день не прекращались обыски. Часто приходили к Шаляпину. Искали золото, бриллианты. Конфисковали серебряные ложки и вилки. Забрали двести бутылок французского вина. Сохранилось предание, что однажды Шаляпин не выдержал и пошел к Зиновьеву. «Я не против обысков, но нельзя ли обыскивать меня в удобное для меня время, с восьми до девятнадцати, например», – сказал он Зиновьеву.
Как-то раз Федор Иванович пришел к художнику Коровину. «Мне сегодня выступать перед конными матросами. Скажи мне, ради Бога, что такое конные матросы?» – «Не знаю, что такое конные матросы, но знаю, что уезжать надо!» – ответил Коровин.
Собрался уезжать за границу и писатель Федор Сологуб. Оформил документы, получил разрешение, собрал вещи и, как гласит предание, именно в это время его жена А. Н. Чеботаревская бросилась с Тучкова моста в Неву. Почему именно тогда, когда была уже оформлена виза на выезд, никто не понимал. Говорили, будто вмешалась ЧК. Другие считали, что родная земля не отпустила. Федор Сологуб остался один, в смерть Чеботаревской не верил и, как утверждает легенда, до конца дней поджидал жену. «Был уверен, что она вернется домой. Несколько лет прислушивался к звонку в передней. Жена его погибла в пасмурные декабрьские дни, и с тех пор Сологуб повторял: „Я умру от декабрита“. Сологуб умер в одиночестве в 1927 году.
Как-то раз в дом князей Салтыковых пришел с обыском отряд красноармейцев. Солдат встретила глубокая, полувыжившая из ума старуха, плохо говорившая по-русски. Командир отряда обратился к престарелой княгине: „Мадам, именем революции все принадлежащие вам ценности конфискуются и отныне являются народным достоянием“. Старуха не возражала, помогая красноармейцам собирать драгоценности и произведения искусства. Напоследок потребовала: „Если вы собираете народное достояние, извольте сохранить для народа также и эту птицу“, – и подала клетку с облезлым попугаем. „Мадам, народ не нуждается в этом… попугае“, – возразил командир. „Но это не просто попугай, а птица, принадлежавшая самой Екатерине II. Это птица историческая“. – Она щелкнула пальцами и, если верить легенде, попугай хриплым голосом запел: „Славься сим Екатерина“, – помолчал и снова завопил: – Платош-ш-ш-а!!» Видимо, речь шла о Платоне Зубове, известном фаворите императрицы. Говорят, отряд сдал-таки попугая куда следует. Но куда он затем делся – умер от голода или от старости – неизвестно.
Впрочем, смерть в то время не была явлением необыкновенным. Умирали не только птицы. По воспоминаниям современников, очень многим помог выжить Максим Горький. Рассказывают, что в умирающем Петрограде он выдавал справки «самым разным дамам – знакомым и незнакомым». По преданию, справки были приблизительно одинакового содержания: «Сим удостоверяю, что предъявительница сего нуждается в продовольственном пайке, особливо же в молочном питании, поскольку беременна лично от меня, от буревестника революции». Срабатывало будто бы безотказно. Во всяком случае, в выдаче пайков власти не отказывали.
При поддержке Горького в конце 1919 года в Петрограде организуется знаменитый Дом искусств, вошедший в литературную историю под аббревиатурой «Диск». Дом искусств разместился в здании, построенном в свое время для обер-полицмейстера Петербурга Н. И. Чичерина. В середине XIX века здание переходит в собственность купцов Елисеевых, которые, по расхожей легенде, сразу после большевистского переворота замуровали в стены пресловутое елисеевское серебро. По воспоминаниям очевидцев, обитатели Дома искусств – писатели и художники, сценаристы и режиссеры – после получения очередного «особо экзотического пайка, состоявшего из лаврового листа и душистого перца, с голодным блеском в глазах бросались выстукивать коридоры».
Призрак голода с каждым днем становился все более и более отчетливым. В «Горестных заметах», изданных в 1922 году в Берлине, А. Амфитеатров вспоминал, как, «набивая овсом пустое брюхо», питерцы острили: «Отчего прежде люди по тротуарам ходили, а теперь средь улицы „прут“»? – «Оттого, что на конский корм перешли: нажремся лошадиной еды – вот нас на лошадиную дорогу и тянет».
Сочиняли частушки. На ту же гастрономическую тему:
Ленин Троцкому сказал: – Пойдем, Лева, на базар, Купим лошадь карию, Накормим пролетарию.Частушек подобного рода было много, и все они так или иначе вертелись вокруг одной, заветной темы. Особенно ярко тема еды, полностью завладевшая умами и душами петроградцев, проявилась в знаменитой песне «Цыпленок жареный». К сожалению, мы не располагаем полным, что называется, каноническим текстом этой песни. В нашем распоряжении находится пять вариантов ее (или одна единственная песня с пятью куплетами?). Приведем весь имеющийся текст, опуская повторяющиеся шесть первых строк первого куплета:
Цыпленок жареный, Цыпленок пареный Пошел по Невскому гулять. Его поймали, Арестовали, Велели паспорт показать. Он паспорт вынул, По морде двинул И приготовился бежать. За ним погоня, Четыре коня И полицейский бегемот. ………… «Паспорта нету, Гони монету. Монеты нету – Расстрелять». ………… Он испугался, Он обосрался И стал «товарищей» просить: «Ах, не стреляйте, Не убивайте, Цыпленок тоже хочет жить!» ………… «Я не советский, Я не кадетский, Меня не трудно раздавить. Ах, не стреляйте, Не убивайте – Цыпленки тоже хочут жить». ………… Он не показывал, А все рассказывал. Его не слушали, Взяли да скушали.Такого страшного голода Россия еще не знала. В те годы родилась поговорка: «В белом Петрограде ночи белые, люди бедные, тени их бледные». Что же до героизации революции, то из петербургского городского фольклора она исчезла почти сразу. Сохранился рассказ о том, как однажды поздней осенью 1917 года два великих поэта – Александр Блок и Владимир Маяковский – гуляли по Петрограду. Остановились у костра. «Хорошо», – сказал Маяковский. «Хорошо, – ответил Блок, – но у меня сожгли библиотеку». Героизация революции становилась уделом официального искусства, ее тяжким бременем и дьявольским проклятием.
Среди «пипловских фенек», собранных в 1970-е годы в среде ленинградских хиппи на их подпольных тусовках, есть знаменитый анекдот. Пусть не смущает читателей «героин». Он легко заменяется на «мясо», «хлеб» и т. д. Во всяком случае, для любого хиппи героин больше, чем хлеб. Так вот, анекдот:
Ленин влезает на трибуну и кричит:
– Нет, товарищи американцы! Двадцать тонн героина нам не надо! Нам бы броневичков!
В Кунсткамере из поколения в поколение передается детективная легенда об утраченной в то бурное революционное время голове казненной при Петре I леди Гамильтон. Голова хранилась заспиртованной в стеклянной колбе. Будто бы спирт вскоре после революции был использован неким неразборчивым комиссаром по прямому назначению. А голова исчезла. Перепуганные хранители обратились к матросам стоявшего у причала напротив Кунсткамеры корабля с просьбой найти голову «английской шпионки». Матросы пообещали. Как и следовало ожидать, из этого ничего не вышло. Корабль ушел, а матросы надолго пропали. Чуть ли не через год, как рассказывает легенда, они неожиданно появились в музее и предложили изумленным смотрителям взамен одной головы английской леди целых три головы… басмачей. Говорят, эти головы до сих пор находятся в экспозиции музея.
В 1918 году в Петрограде был открыт один из первых послереволюционных музеев – Музей академических театров. Ныне это Музей театрального и музыкального искусства. Идея его создания владела умами петербургских актеров в давние, еще дореволюционные времена. В основу его предполагалось положить экспозицию Первой выставки театральной старины, собранной театральными деятелями в 1908 году. Но не было постоянного помещения. Сохранилось предание о том, как однажды делегация театральных работников пришла с этим к директору императорских театров Теляковскому. Владимир Аркадьевич вежливо выслушал, проявил явную заинтересованность, но сослался на отсутствие специального помещения. Провожая актеров, он будто бы сказал: «Не в моей же квартире музей устраивать…»
Прошло время. После революции все театры были национализированы, квартиры влиятельных особ реквизированы, а Музей академических театров по иронии судьбы разместился в квартире бывшего директора императорских театров.
Одна из легенд послереволюционного Петрограда повествует о том, как в 1918 году Петроградский губисполком получил срочную телеграмму из Царского Села. После бегства белогвардейцев, говорилось в ней, в одном из прудов Екатерининского парка нашли сброшенный с пьедестала обезображенный бюст Карла Маркса. В Царское Село спешно была направлена комиссия во главе со скульптором Синайским, автором памятника основателю марксизма, созданного в рамках ленинского плана монументальной пропаганды. К приезду высокой комиссии бюст был уже установлен на пьедестале и укрыт белоснежным покрывалом. Предстояло его вторичное торжественное открытие. Под звуки революционного марша покрывало упало, и Синайский в ужасе отшатнулся. Перед ним хитро и сладострастно улыбался, склонив едва заметные мраморные рожки, эллинский сатир – одна из парковых скульптур Царского Села. Синайский, рассказывает легенда, осторожно оглянулся вокруг, но ничего, кроме неподдельного революционного восторга на лицах присутствовавших, не заметил. Какое-либо вмешательство было бессмысленным. «Памятник великому основателю» был открыт.
Одновременно с изготовлением и установкой новых памятников, согласно ленинскому плану монументальной пропаганды, предполагалось убрать с улиц и площадей города ряд монументов, не отвечавших художественным вкусам новых хозяев. В первую очередь это касалось памятников особам царской крови. Среди прочего Петроград лишился нескольких памятников основателю города Петру Великому. Были уничтожены монументы «Царь-плотник» и «Петр I, спасающий моряков», стоявшие на набережной Невы, напротив боковых корпусов Адмиралтейства. Одна из легенд того времени утверждает, что один из этих памятников чудом сохранился: его будто бы спрятали, утопив в Неве, на глубине трех метров.
Чудесным образом эта легенда получила реальное продолжение в наши дни. Известно, что в свое время копия памятника «Царь-плотник» была подарена голландскому городу Саардаму. Совсем недавно в Петербурге проходил фестиваль искусств «Дни Голландии». В рамках фестиваля голландцы подарили петербуржцам бронзовую копию с копии подаренного им памятника. Таким удивительным образом утраченная семьдесят лет назад скульптурная композиция, ожидавшая, согласно легенде, своего часа, вновь обрела исторический адрес на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
Между тем все более явственно ощущался нарастающий кризис советской власти. Политика «военного коммунизма», голод и хозяйственная разруха в городах, неурожай на селе вызвали брожение среди рабочих. Неспокойно было среди моряков – наиболее образованной части вооруженных сил молодого государства. В феврале 1921 года начался так называемый Кронштадтский мятеж, якобы, согласно официальной пропаганде, организованный эсерами, монархистами и меньшевиками. Восстание кронштадтского гарнизона было жестоко подавлено. Более тысячи человек были убиты, две с половиной тысячи пленных, взятых с оружием в руках, – приговорены к расстрелу. Тысячи были репрессированы после того, как, поверив в амнистию, объявленную советской властью, вернулись на родину из Финляндии, куда они бежали по льду Финского залива. Поэтизации такой бесчеловечной расправы с политическими противниками, немедленно предпринятой большевиками («Нас водила молодость в сабельный поход,/Нас бросала молодость на кронштадтский лед…») фольклор противопоставил частушки, которые тут же были запрещены и знание которых могло стоить жизни:
Мы на речку шли, Баловалися, А кронштадтские матросы Взбунтовалися.* * *
Ах, клешики, Что вы сделали: Были красными, Стали белыми.Симпатии народного искусства были заметно иными, нежели симпатии официальной поэзии, даже если она обладала безусловными художественными достоинствами.
С приходом к власти большевиков Петроград буквально охватила лихорадка переименований – идеологическая болезнь, метастазы которой с поразительной скоростью распространились на все сферы городского хозяйства. Эпидемия началась в 1918 году, достигла своего пика в начале 1950-х и, похоже, продолжается до сих пор. Так велика была заданная скорость. Все, что по тем или иным причинам не могло быть разрушено, переименовывалось.
В 1923 году Петроградский губисполком упразднил старые названия трех параллельно идущих улиц: Захарьевской, Фурштатской и Шпалерной, присвоив им имена революционеров Ивана Каляева, Петра Лаврова и Ивана Воинова. Этим же постановлением Сергиевская улица переименовывалась в улицу Чайковского, в память о композиторе Петре Ильиче Чайковском, который учился в Училище правоведения, находившемся вблизи этой улицы на набережной Фонтанки. Тем не менее появилась легенда о том, что Сергиевская улица названа в честь известного в свое время народника Николая Васильевича Чайковского, однофамильца композитора. Легенда приобрела настолько широкое распространение и популярность, что редколлегии справочника «Весь Ленинград» за 1926 год пришлось рядом с топонимом «Улица Чайковского» в скобках дать разъяснение: «комп.», чтобы доверчивый обыватель не спутал великого композитора с бывшим народником, затем откровенным врагом советской власти Н. В. Чайковским.
Политическая биография Николая Чайковского началась в середине 1860-х годов, когда он вступил в основанную М. А. Натансоном революционную организацию студентов-медиков. В истории революционного движения имя Чайковского увековечено в названии этого кружка – «чайковцы». Но Октябрьскую революцию Чайковский не принял и после 1917 года вошел в так называемый Всероссийский комитет спасения Родины и революции, который активно готовил восстание против советской власти. В 1918 году Чайковский становится участником «Союза возрождения», а после высадки союзного десанта в Архангельске возглавляет Верховное управление Северной области. В 1920 году Чайковский становится членом южно-русского правительства при генерале Деникине. Как уже говорилось, коллекционеры хорошо знают подписанные им денежные знаки, известные под названием «чайковки». Ясно, что в 1923 году его именем улицу назвать не могли. Однако легенда существует до сих пор. Возникновение и необыкновенная живучесть ее, вероятно, связана с тем, что параллельные улицы названы именами революционеров, в ряду которых более уместным кажется имя Чайковского-революционера, пусть даже бывшего, чем имя композитора.
Бытует в Петербурге легенда и о переименовании Калинкинского пивоваренного завода. Согласно ей, в перерыве заседаний Третьего всероссийского съезда советов рабочих и солдатских депутатов, который проходил в Петрограде в 1918 году, рабочие старейшего пивоваренного завода выставили для делегатов съезда бесплатное угощение. Дорвавшись до любимого напитка пролетариата, делегаты затянули перерыв допоздна, пьяно стучали кружками о мраморные подоконники Таврического дворца, смачно сдували пену на яркие дубовые паркеты и прокуренными голосами орали песню любимого героя революционной толпы Стеньки Разина «Из-за острова на стрежень…» Если верить легенде, то именно после этого затянувшегося перерыва на очередном заседании по просьбе делегатов съезда Калинкинскому пивоваренному заводу было присвоено имя легендарного Стеньки Разина.
В 1920 году новое имя присвоили госпитальному судну «Рига». Оно стало называться «Народоволец». Случилось это незадолго до катастрофы, которую матросы как бы предчувствовали и с суеверным страхом ожидали. По старой морской традиции, корабль всю жизнь должен носить первоначальное имя. Переименование всегда ведет к несчастью. Однажды судно, стоявшее у причальной стенки Васильевского острова, вдруг дало крен, легло на борт и мгновенно затонуло. Говорили, что оно было построено с изъяном: у него якобы был постоянный крен на правый борт. Для предотвращения несчастья и придания кораблю равновесия на левом борту имелась специальная цистерна, постоянно заполненная водой. Согласно расхожей легенде, один матрос привел на борт девушку. Они спустились в трюм. Случайно девица открыла кингстон, который матрос не успел закрыть. Судно потеряло остойчивость и перевернулось.
В Петрограде распевали частушку на мотив «Яблочка»:
Эх, клешики, Да, что наделали – «Народовольца» потопили, С бабам бегали!Еще говорили, что за сутки до аварии с корабля ушли крысы, о чем вахтенный будто бы доложил капитану, но тот не придал этому никакого значения. А крысы тем временем организованно покидали тонущий корабль: они шли по трапу, рассказывали «очевидцы», «гроссами, то есть подразделениями по сто четыре штуки в каждом, и сразу устремлялись к церкви Киевского подворья, что на углу набережной и 15-й линии». Здесь крысы ринулись в подвал, «сожрали все восковые свечи и муку для просфорок», а потом распространились по всему Васильевскому острову.
Наконец, в 1924 году эпидемия переименований коснулась и самого названия города. В траурные январские дни в числе мероприятий по увековечению памяти В. И. Ленина II Съезд советов поддержал предложение петроградских рабочих и своим постановлением переименовал Петроград в Ленинград. Таким образом, произошла полная и окончательная, как тогда казалось, большевизация северной столицы. Революция, начатая выстрелом «Авроры» 25 октября 1917 года, завершилась.
По удивительно неправдоподобному преданию, в 1924 году восемнадцатилетний Дмитрий Шостакович, узнав о переименовании города, будто бы сказал: «Неужели, если когда-нибудь я стану великим, как Ленин, город после моей смерти назовут Шостаковичградом!»
Между тем осмысление городским фольклором такого и в самом деле яркого исторического явления, как Октябрьская революция, продолжалось все последующие годы и продолжается в наши дни. Со временем непосредственная реакция сменилась на опосредованную. Революцию стали воспринимать либо через сомнительные достижения советской власти, либо через ее пропагандистские символы. В первую очередь остракизму подвергались монументальные памятники, поскольку они были, что называется, у всех на глазах.
Это что за большевик Лезет там на броневик? Он большую кепку носит, Букву «р» не произносит, Он великий и простой. Угадайте, кто такой? Тот, кто первый даст ответ, Тот получит десять лет.В словаре лагерно-блатного жаргона произнести патриотическую речь в красном уголке называлось: «Трекнуть с броневичка».
Ставшее уже давно хрестоматийным, традиционное в советском искусстве изображение Ленина с кепкой в руке породило анекдот.
Однажды во время выступления вождя революции перед путиловскими рабочими у него украли головной убор. С тех пор у Ильича якобы и появилось обыкновение на всякий случай кепку крепко держать в руке. Эта милая привычка, увековеченная в бронзе и граните ваятелями страны победившего социализма, стала до боли знакомой народам всего мира.
Простертая в пространство указующая ленинская рука, которая казалась то часовой стрелкой, то указательным знаком и показывала одним на 11 часов – время открытия винно-водочных магазинов в период острой борьбы с пьянством, другим – у вокзалов и аэропортов – направление на вожделенный запад, третьим – путь в коммунистическое будущее, на самом деле, как утверждает фольклор, не указывает никуда. Памятники, изображающие Ленина в такой величественной позе, в народе называли: «Сам не видит, а нам кажет».
На одном из таких памятников вождю за неимением в Петербурге монументальных памятников Крупской, если судить по известному анекдоту, была даже укреплена мемориальная доска с текстом: «Надежде Константиновне Крупской, не оставившей наследства. Благодарная Россия».
Такие вот парадоксы истории.
Кстати, о благодарности:
Луначарский обратился к одному из литераторов:
– Мы решили поставить памятник Достоевскому. Чтобы вы посоветовали написать на пьедестале?
– Достоевскому от благодарных бесов.
Безжалостное и беспощадное время оставляет среди нас все меньше и меньше участников и очевидцев той революционной поры. Их воспоминания становятся бесценным материалом для создания фольклорной истории революции.
Старый горец встречает своего друга:
– Послушай, помнишь, ты мне в 17-м году рассказывал о какой-то заварушке в Питере? Так чем все это тогда кончилось?
* * *
Два старика встретились в трамвае.
– Слушай, а я тебя помню!
– Чего ты помнишь?
– Да мы вместе Зимний брали, ты еще на ступеньке упал, за пальто зацепился, и винтовка в сторону полетела. Было такое?
– Да вроде было. А как ты меня узнал-то?
– Да как же – по пальто и узнал!
* * *
Рабочий Путиловского завода пришел в баню. В одной шайке моется, в другой – ноги парит. Тут подходит к нему какой-то гнилой интеллигент:
– Това'ищ, уступите шаечку!
– Пошел ты на…
Тот отошел, побродил, шайки не нашел, снова подходит:
– Това'ищ, это не по-коммунистически – у вас две шайки, а у меня ни одной!
– Пошел ты на…, а то е… шайкой по лысине! – И обращается к банщику:
– Кто это тут у тебя рабочему человеку мыться мешает?
– Да Ленин это…
Через пятьдесят лет. Председатель собрания:
– А сейчас перед нами выступит с воспоминаниями старый рабочий, который два раза беседовал с Лениным.
* * *
Под аркой Главного штаба стоят два глубоких старика и, глядя на Дворцовую площадь, вспоминают:
– А помнишь, вон там мы залегли с пулеметом…
– А помнишь, вон там стояли наши с Путиловского…
– А помнишь…
– А помнишь…
– Да, поторопились… поторопились…
Ветераны уходили, унося с собой тяжкое бремя ответственности за случившееся. На смену им приходили новые поколения. К счастью, души детей не были отягощены комплексами. Их случайные и потому неожиданные взгляды на историю, их блестящие оговорки при устных ответах и гениальные ошибки в письменных сочинениях давно вошли в золотой фонд петербургского городского фольклора. Приводим только некоторые образцы, предоставленные петербургским художником и писателем Леонидом Каминским из своего собрания.
Рабочие оберегали жизнь Ильича и, чтобы его обезопасить, решили послать его подальше.
* * *
– Почему так быстро взяли Зимний дворец?
– Потому что лестницы там были очень широкие.
* * *
– Кого свергли в 1917 году?
– Зимнее правительство.
* * *
Табун солдат ворвался в Зимний дворец, вытащил из-под стола Временное правительство и посадил в Брестскую крепость.
* * *
– Что по плану Ленина нужно было захватить в первую очередь?
– Телеграфные столбы.
* * *
Каждый год 7 ноября в нашей стране совершается революция.
И, наконец, следуя недавней партийной методологии изучения истории КПСС, подведем итоги. Без комментариев. Так, как они сформулированы в фольклоре.
1. Лозунг патриотов: «Октябрьская революция – это результат жидомасонского заговора и… мы никогда не отступим от ее завоеваний».
2. Лозунг демократов: «Ленин и теперь лживее всех лживых».
3. Мнение армянского радио:
– Каковы итоги Великой октябрьской социалистической революции?
– Дров наломали, а топить нечем.
И выводы:
1. Ленинград колыбель трех революций, но нельзя же вечно жить в колыбели.
2. На экскурсии по крейсеру «Аврора»:
– А почему около пушки стоит часовой?
– Чтобы какой-нибудь мудак опять не выстрелил.
Героический фольклор войны и блокады
С началом Великой Отечественной войны ленинградский городской фольклор, отличавшийся до того традиционной оппозиционностью, вдруг приобретает уникальные черты подчеркнутой, демонстративной патриотичности, сближающие его с официальной публицистикой, а в отдельных случаях и с художественной литературой. Особенно это коснулось таких малых форм фольклора, как пословицы, поговорки и частушки. Сегодня не так легко отличить поговорку, услышанную из уст солдата во время короткого привала, от идеологического тезиса, рожденного в тыловых кабинетах и отлитого в пословичную форму в армейских многотиражках. Однако равно бесценны все документы той героической поры – как продукты коллективного творчества голодных блокадников и полуголодных солдат Ленинградского фронта, так и плоды умственных упражнений политработников пропагандистских отделов ЦК ВКП(б). Тем более, что в большинстве своем такой фольклор извлечен из изданий военных лет. Это значит, что, будучи опубликованными, такие пословицы, поговорки и частушки становились достоянием всех ленинградцев и тут же начинали функционировать в тылу и на фронте уже в качестве фольклора.
Вместе с тем еще весной 1941 года подлинный городской фольклор оставался, пожалуй, единственным общественным барометром, который показывал состояние тревожной предгрозовой атмосферы накануне войны. Постоянно рождались и носились по городу невероятные слухи, от которых мороз пробегал по коже и кровь леденела в жилах.
В отличие от ликующих мелодий, бравурных эстрадных куплетов и жизнеутверждающих газетных передовиц, фольклор кануна войны не заблуждался насчет грядущей трагедии.
Верующие старушки рассказывали, что на кладбищах Александро-Невской лавры появился старичок с крыльями. «Ходит между могилами, сам собой светится, а слова не говорит». Как только появилась милиция, старичок взлетел на склеп и оттуда произнес: «Руками не возьмете, пулей не собьете, когда схочу – сам слечу. Делаю вам последнее предупреждение: идет к вам черный с черным крестом, десять недель вам сидеть постом, как станет у врат – начнется глад, доедайте бобы – запасайте гробы. Аминь!» Сказал так старичок с крыльями и улетел, только его и видели.
По воспоминаниям Натальи Петровны Бехтеревой, в небе над Театром драмы имени А. С. Пушкина несколько дней подряд был отчетливо виден светящийся крест. Его будто бы видели и хорошо запомнили многие ленинградцы. Люди по-разному объясняли его происхождение, но абсолютно все сходились на том, что это еще один знак беды, предупреждение ленинградцам о предстоящих страшных испытаниях.
Неожиданно среди ленинградцев появился интерес к Тамерлану, особенно после того, как в Самарканд выехала научная экспедиция сотрудников Эрмитажа для изучения усыпальницы Гур Эмир, где похоронен знаменитый завоеватель XIV века. «Ленинградская правда» публиковала ежедневные отчеты о ходе работ. В одной корреспонденции из Самарканда рассказывалось о том, как с гробницы Тамерлана снимали тяжелую плиту из зеленого нефрита. «Народная легенда, сохранившаяся до наших дней, – писал корреспондент ТАСС, – гласит, что под этим камнем – источник ужасной войны». Многих читателей это рассмешило. Какое фантастическое суеверие думать, что, сдвинув древний камень с места, можно развязать войну!
А на Смоленском кладбище видели святую Ксению Блаженную. Легенда утверждает, что святая не шла, а как бы плыла по воздуху. Подплыла этак к какой-то вдове, что пришла на могилку недавно похороненного мужа, и говорит: «Не по мужу плачь, по себе плачь. Готовь себе смертное к осени, к наводнению великому. Вода до купола на Исаакии дойдет, семь дней стоять будет».
Были и менее сказочные приметы надвигающейся катастрофы. Сохранилось предание о том, что в самом конце 30-х годов сотрудники НКВД изо дня в день ходили по ленинградским квартирам и, как рассказывают старожилы, с завидным служебным рвением выискивали старые адресные книги и вырывали из них страницы с картами и планами Кронштадта. Только с началом войны стало более или менее понятно, зачем это делалось, хотя все догадывались, что немцам эти карты и планы были известны лучше, чем ленинградцам.
8 сентября 1941 года с падением Шлиссельбурга и прекращением сухопутного сообщения с Ленинградом, началась блокада – самая страшная и наиболее героическая страница в истории Великой Отечественной войны. В тот же день был предпринят первый массированный налет фашистской авиации на Ленинград. Вместе с бомбами на город посыпались пропагандистские фашистские листовки. Подбирать их опасались. За их хранение можно было поплатиться жизнью. Власти побаивались немецкой пропаганды, и листовки уничтожались. Но их тексты – яркие и лаконичные – запоминались. Как рассказывают блокадники, они превращались в пословицы и поговорки, которые бытовали в блокадном городе: «Доедайте бобы – готовьте гробы», «Чечевицу съедите – Ленинград сдадите». В конце октября на город посыпались предупреждения: «До седьмого спите, седьмого – ждите». Авторство некоторых подобных агиток приписывалось лично фюреру.
Мощные артобстрелы начались еще 4 сентября. В городе возникли многочисленные пожары. Несколько дней подряд горели Бадаевские склады, на которых в то время были сосредоточены значительные запасы продовольствия Ленинграда. Страшный по своим масштабам и последствиям пожар Бадаевских складов породил первые образцы блокадного фольклора. В речи ленинградцев появились невиданные ранее и недоступные человеческому пониманию фразеологизмы:
«Сладкая земля» или «Бадаевская земля» – земля, пропитанная расплавленным в чудовищном огне сахаром. Наравне с другими продуктами ее, эту обгоревшую черную землю, за огромные деньги или в обмен на фамильные драгоценности можно было купить на рынке. Там она имела вполне будничное название «Бадаевский продукт».
На город надвигался голод. К 20 ноября 1941 года норма выдачи хлеба, постоянно и стремительно сокращаясь, достигла своего минимума – 125 грамм. Это те граммы, или «Граммики», как их называли в Ленинграде, о которых Ольга Берггольц сказала: «Сто двадцать пять блокадных грамм/С огнем и кровью пополам». Затем этот хлеб стали называть «Ладожским», то есть испеченным из муки, доставленной в Ленинград по Дороге жизни.
Села птичка на окошко, Мне известье принесла, Через Ладогу дорожка В город хлеба привезла.Еда становилась главным героем фольклора тех драматических дней. Удивительно, но несмотря на трагизм, фольклор блокадного города сохранил неистребимый вкус к жизни, который особенно ощутим в нем сейчас, по прошествии десятилетий: «Нет ли корочки на полочке, не с чем соль доесть?»; «Каша павалиха» – каша, приготовляемая из отрубей; «Сыр Пер Гюнт»; «В сорок первом падали на ходу, в сорок втором жевали лебеду, в сорок третьем поедим лепешки на меду».
Выдачей продовольственных пайков в блокадном Ленинграде распоряжался председатель Ленгорисполкома П. С. Попков. О таких пайках говорили: «Получить попо́к». Но и их становилось все меньше и меньше. Раз в десять дней с разъяснением норм выдачи продуктов по ленинградскому радио выступал начальник управления торговли продовольственными товарами Андриенко. Каждое его выступление, которого с нетерпением ожидали, ничего, кроме разочарования, не приносило. Очередная, как тогда говорили, «Симфония Андриенко» только раздражала голодных людей.
На глазах менялся смысл давних, освященных народными традициями, привычных понятий. Писатель И. Меттер вспоминает, что произнести зимой 1941 года: «Сто грамм» и ожидать, что тебя «правильно» поймут, было по меньшей мере глупо. На языке блокадников «Сто грамм» давно уже означало не водку, а хлеб.
Ненамного легче было с питанием и на Ленинградском фронте. В 1942 году на 20 солдат выдавалось 4 банки шпрот и горсть ржаной муки, из которых готовилась так называемая «Балтийская баланда».
С едой связаны и немногие сохранившиеся в памяти блокадников анекдоты. Чаще всего это образцы спасительной самоиронии.
В холодной ленинградской квартире сидят, тесно прижавшись друг к другу, двое влюбленных. Молодой человек поглаживает колено подруги: «Хороша ты, душенька, но к мясу».
В то время на всех фронтах Отечественной войны была хорошо известна армейская аббревиатура: «ППЖ». Все знали, что это: «Походно-полевая жена». И только в блокадном Ленинграде «ППЖ» называли суп в военторговской столовой. И расшифровывали аббревиатуру по-своему: «Прощай, Половая Жизнь».
Наряду с едой, исключительно важным элементом блокадной жизни стало курево. Табака катастрофически не хватало. Изготовление различных суррогатов стало делом чуть ли не стратегической важности. Поиск заменителей табачных листьев велся в государственных лабораториях. Появились различные эрзацы, каждому из которых фольклор присваивал свое особое прозвище. Фантазия блокадных остряков была неистощима. Папиросы, изготовленные из сухих древесных листьев, назывались: «Золотая осень». Махорка, приготовленная из мелко истолченной древесной коры, в зависимости от степени крепости называлась: «Стенолаз», «Вырви глаз», «Память Летнего сада», «Смерть немецким фашистам», «Матрас моей бабушки», «Сено, пропущенное через лошадь» и т. д. и т. п.
Традиционно неистощимым был городской фольклор и на аббревиатуры. Табак из березово-кленовых листьев назывался «Беркленом», а эрзацтабак наиболее низкого качества – «БТЩ», то есть бревна – тряпки – щепки.
Блокадники искренне утверждали, что курение создавало кратковременное ощущение сытости, но в то же время обостряло постоянные мысли о еде, которые не давали ни спать, ни бодрствовать, парализуя иссякающие силы.
В город неслышно вошла, как шутили блокадники, «Великомученица Дистрофея». В первую очередь от нее страдали старики и дети. Старики от нестерпимого голода впадали в детство и становились совершенно беспомощными, а скрюченные от истощения младенцы делались похожими на маленьких старичков. В городе такие дети имели характерное прозвище: «Крючки». Но пока силы оставались, дети в эту проклятую дистрофию играли. Как пишет американский публицист Г. Солсбери, посетивший Ленинград уже в 1944 году, дети во время блокады играли в игру: «Доктор» лечил «больную». Он положил «пациентку» и всерьез обсуждал вопрос, эвакуировать ее или лечить специальной диетой.
Журналист Лазарь Маграчев вспоминал, что некоторым категориям детей в самые голодные дни выдавали так называемое «УДП» – Усиленное Дополнительное Питание. Но и это не всегда помогало. С характерным блокадным сарказмом эту аббревиатуру расшифровали: «Умрем Днем Позже» – в ответ на «УДР» (Умрем Днем Раньше) тех, кто был лишен даже такого ничтожно маленького дополнительного пайка.
Смерть стала явлением столь будничным, что вызывало удивление не столько то, что люди перестали бояться покойников, сколько то, что совсем недавно, в мирное время, они холодели от страха в темных подъездах, боялись безлюдных улиц, вздрагивали от неожиданного скрипа дверей. Умершие зачастую продолжали свое существование среди живых. Трупы не успевали выносить из квартир, убирать с заледенелых тротуаров, хоронить на кладбищах. В иные дни число трупов переваливало за чудовищную отметку в 11 тысяч. Обернутые в простыни окаменевшие тела умерших от голода, которых в просторечии называли «Пеленашками», складывали на краю общих могил или траншей. «Смотри, угодишь в траншею» – стало всеобщей формулой угрозы быть захороненным не в индивидуальной могиле, а в общей яме.
В таких поистине нечеловеческих условиях подвигом считалось не только выстоять, но и просто выжить. Имеем ли мы моральное право с «высоты» нашей сытости осуждать истощенных и вконец ослабленных людей за то, что на улицах Ленинграда стало обыкновением обшаривать негнущимися пальцами карманы мертвецов в поисках спасительных и уже ненужных владельцу продовольственных карточек: «Умирать-то умирай, только карточки отдай».
Но и в этой обстановке нет-нет, да и вспыхивала яркая выразительная шутка – убедительное свидетельство внутренней устойчивости ленинградцев.
– Как поживаешь? – спрашивает при встрече один блокадник другого.
– Как трамвай четвертого маршрута: ПоГолодаю, ПоГолодаю – и на Волково.
Один из немногих трамвайных маршрутов блокадного времени – № 4 – начинался на острове Голодай, проходил по Васильевскому острову, пересекал Неву по Дворцовому мосту, продолжался по Невскому проспекту, поворачивал на Лиговку и заканчивался вблизи Волковского кладбища. Это был один из самых протяженных трамвайных маршрутов. Его хорошо знали и им пользовались практически все ленинградцы. Другим, таким же продолжительным путем следовал трамвай маршрута № 6. Он начинал свое движение там же, на острове Голодай, и завершал у ворот Красненького кладбища. В фольклорной летописи блокады сохранился и этот маршрут. «ПоГолодаю, ПоГолодаю – и на Красненькое», – состязались в остроумии ленинградские шутники.
Впрочем, блокадный юмор не исчерпывался темой смерти. Хотя если пристально вглядеться в блокадные шутки, то легко заметить присутствие этой привычной гостьи с косой буквально во всем. «Меняю фугасную бомбу на две зажигательные в разных кварталах». Зажигательные были значительно безопаснее. Их можно было успеть потушить: «Уходя из гостиной, не забудьте потушить зажигательную бомбу». «Завернул козью ножку – получай „зажигалку“». Козья ножка – залихватски загнутая под прямым углом самодельная папироска, свернутая из газетного обрывка.
С зажигалками боролся буквально весь город: дружинники, пожарники, милиция, полки местной противовоздушной обороны (МПВО). «Пожарники и милиция – одна коалиция» – говорили в Ленинграде. Аббревиатура же МПВО в фольклоре расшифровывалась: «Мы Пока Воевать Обождем» или «Милый, Помоги Вырваться Отсюда».
Город продолжал подвергаться ожесточенным артобстрелам и бомбежкам. Около 150 тысяч снарядов было выпущено гитлеровцами по Ленинграду. В авианалетах только в сентябре 1941 года принимали участие 2712 фашистских самолетов. Только северные районы города не подвергались таким массированным бомбардировкам. Так, например, Аптекарский остров в просторечии называли «Глубоким тылом». При этом к обстрелам и бомбежкам привыкали, а бомбоубежищ избегали. «Превратим каждую колыбель в бомбоубежище», – мрачно острили блокадники. «Хорош блиндаж, да жаль, что седьмой этаж» – вздыхали работники Ленинградского радиокомитета, размещавшегося на седьмом этаже Дома радио на улице Ракова (ныне Итальянская).
В то героическое время в легендарном Ленинградском радиокомитете работали такие замечательные люди, как поэтесса Ольга Федоровна Берггольц, артистка Мария Григорьевна Петрова, певица Галина Владимировна Скопа-Родионова. Их имена навечно остались в ленинградском городском фольклоре. «Блокадная муза» Берггольц, «Блокадный соловей» Скопа-Родионова, «Блокадная артистка» Петрова – такие народные имена присвоили им ленинградцы.
Культурная жизнь блокадного Ленинграда до сих пор вызывает восхищение. Практически все дни блокады в городе работали кинотеатры. Только в 1942 году их насчитывалось более двадцати. Кроме того, фильмы демонстрировались в клубах и домах культуры. 18 октября 1942 года на Невском проспекте, 78 открылся знаменитый Театр комедии, который работал всю блокаду. В 1944 году театр был переведен в новое помещение на улицу Ракова, 19. Теперь это Драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской. Однако с тех самых пор и до настоящего времени в народе его называют «Блокадным».
«Залпом по рейхстагу» и «Днем победы среди войны» назвали ленинградцы исполнение 9 августа 1942 года в Большом зале Филармонии осажденного города 7-й (Ленинградской) симфонии Д. Д. Шостаковича.
В залах ленинградского отделения Союза художников постоянно устраивались художественные выставки. На одной из них появилась фотография пятнадцатилетней девочки Веры Тиховой. Она, как и многие ее сверстники, работала на заводе и на своем токарном станке выполняла полторы взрослые нормы. Фотограф запечатлел ее загадочно улыбающейся в объектив фотоаппарата. Ее улыбка вдруг стала известной всему городу. Верочку тут же окрестили «Блокадной Джокондой». В 1990 году, как сообщали ленинградские газеты, журналисты разыскали «Блокадную Джоконду» – ныне Веру Андреевну Кривцову, и сегодня живущую в нашем городе.
Несмотря на то что уже к сентябрю 1941 года из Ленинграда были эвакуированы более 350 заводов и фабрик, в блокадном городе около 70 предприятий продолжали работать. В общей сложности они производили более ста видов только военной продукции, в том числе танки, бронепоезда, пушки, снаряды. Частушки, появившиеся в Ленинграде в 1943 году, случайными не были:
Мил на фронте боевом, Я на фронте трудовом. Нам обоим нынче дали Ленинградские медали.* * *
Я точу, точу снаряды, Пусть на немцев полетят За досаду, за блокаду, За родимый Ленинград.На заводе полиграфического оборудования имени Карла Гельца (ныне это завод «Полиграфмаш») во время войны выпускали пулеметы. Из-за катастрофического недостатка металла заводские умельцы заменили металлические колеса пулеметов деревянными. На фронте такой пулемет называли: «Максим Ленинградский».
Жизнь, несмотря ни на что, брала свое. После могильного холода зимы 1942 года с трудом верилось, что вновь можно услышать давно забытые трамвайные звонки, что снова распахнутся двери промтоварных магазинов, что в кассах кинотеатров будут стоять очереди, что среди войны вдруг будут изданы книги о великой архитектуре Ленинграда. Как пословицы повторяли ленинградцы тексты плакатов, появившихся на стенах обледенелых домов: «Городу-бойцу грязь не к лицу», «Грязь беда, борись с бедой, бей лопатой, смывай водой»; «Везде на заводе, в квартире, в быту – борись за чистоту». А когда летом того же 1942 года открылись первые с начала блокады парикмахерские с очередями на горячую завивку «со своим керосином», появилась ликующая ленинградская поговорка: «Заходите с керосинками, выходите блондинками» – с ударением в словах «заходите» и «выходите» как на втором, так и на третьем слоге, поскольку смысла это никак не меняло.
Между тем война была в полном разгаре. Массированные налеты авиации и прицельные артобстрелы продолжались. Стреляли в часы наиболее оживленного движения и по самым многолюдным местам. Били по трамвайным остановкам. 3 августа 1943 года на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы у Гостиного двора артиллерийским снарядом было убито 43 человека. С тех пор этот перекресток в народе называли «Кровавым».
Особенно интенсивному и методичному обстрелу подвергался район Финляндского вокзала, откуда фактически начиналась знаменитая «Дорога жизни», как окрестили в народе весь путь от Ленинграда до «Большой земли», включая железнодорожную магистраль до Ладожского озера и водную (летом) и ледовую (зимой) через озеро до Кобоны и Новой Ладоги. «Коридорами смерти» и «Дорогами победы» называл ленинградский фольклор отдельные участки этого героического пути. Гитлеровское командование прилагало огромные усилия, чтобы парализовать движение на этой дороге. Систематические удары авиации и тяжелой артиллерии давали о себе знать уже в начале этого жизненно важного для Ленинграда пути. Постоянно обстреливались площадь у Финляндского вокзала, которую блокадники прозвали «Долиной смерти», и Литейный мост. В блокадном фольклоре он известен как «Чертов мост».
Сохранилось любопытное предание, каким образом остался целым и невредимым Исаакиевский собор, купол которого прекрасно виден издали. В начале войны, когда угроза фашистской оккупации Ленинграда казалась реальной, началась спешная эвакуация художественных ценностей из дворцов Павловска, Пушкина, Петродворца, Гатчины и Ломоносова в глубь страны. Однако все вывезти не успели, да и не было возможностей. В исполкоме Ленгорсовета собралось экстренное совещание по вопросу создания надежного хранилища для скульптуры, мебели, фарфора, книг и многочисленных музейных архивов. Выдвигалось одно предложение за другим и одно за другим, по разным причинам, отклонялось. Наконец, рассказывает легенда, поднялся пожилой человек, бывший артиллерийский офицер, и предложил создать центральное хранилище в подвалах Исаакиевского собора. Немцы, аргументировал он свое предложение, начав обстрел Ленинграда, обязательно воспользуются куполом собора как ориентиром и постараются сохранить эту наиболее заметную точку города для пристрелки. С предложением старого артиллериста согласились. Все девятьсот дней блокады музейные сокровища пролежали в этом, как оказалось, надежном убежище и ни разу не подвергались прямому артобстрелу.
В блокадном Ленинграде существовала суеверная примета: город не будет сдан до тех пор, пока в незащищенные монументы великих русских полководцев Суворова, Кутузова и Барклая-де-Толли не попадет хотя бы один снаряд. Памятники действительно стояли не укрытые на протяжении всей войны и даже во время самых страшных артобстрелов города они оставались невредимыми. Хотя, конечно, дело не в народном поверье. Спрятать их, скорее всего, не было ни сил, ни времени, ни достаточных средств. Например, памятнику Суворову было определено место в подвале соседнего дома, но оказалось, что проем подвального окна узок и его необходимо расширить. Однако зимой это было невозможно, а затем переносить статую в укрытие «было уже не по плечу ослабевшим ленинградцам». Говорят, что фашистский снаряд, едва не задев голову стоящего на пьедестале полководца, влетел в соседний дом и разорвался именно в том подвале, куда в самом начале блокады собирались спрятать памятник.
В сентябре 1941 года командующим войсками Ленинградского фронта был назначен К. Е. Ворошилов. Направляя Ворошилова в Ленинград, Сталин, скорее всего, рассчитывал на вдохновляющий ореол революционного прошлого командарма. Однако романтические легенды о Ворошилове не выдержали испытания в экстремальных условиях. На фронте они вызывали ядовитые насмешки и снисходительные улыбки. Рассказывают, что однажды Ворошилов лично попытался поднять в атаку полк, которому давно не подвозили боеприпасов. После этого случая среди солдат поговаривали: «На кой нам эта атака и этот вояка!»
В связи со смещением Ворошилова в Ленинграде распространялись самые нелепые слухи. Говорили, что «Сталин лично приезжал в Ленинград и приказал Ворошилову сдать город, но тот в гневе ударил Сталина по лицу». Особая пикантность ситуации объяснялась двусмысленностью слова «сдать». Так или иначе, но может быть поэтому в секретном постановлении ЦК ВКП(б), подписанном, вероятно, самим Сталиным, безжалостно отмечалось, что «товарищ Ворошилов не справился с порученным делом и не сумел организовать оборону Ленинграда».
В самом Ленинграде оборонительное строительство началось буквально через несколько дней после начала войны и продолжалось чуть ли не до конца 1943 года. Город был окружен линиями обороны, одна из которых – наиболее мощная – проходила вдоль Обводного канала. В народе ее называли «Линией Сталина». В общую систему оборонительных сооружений входили огромные цементные глыбы, загораживавшие проход немецким танкам. Эти «Зубы дракона», как их окрестили в фольклоре, буквально усеяли весь город. В окрестностях Ленинграда их можно было увидеть еще долго после окончания войны. Как, впрочем, и ДОСы – долговременные огневые сооружения, в которых устанавливали противотанковые и артиллерийские орудия. Ленинградцам они памятны своим фольклорным названием: «Ворошиловские гостиницы». Со стороны Финского залива подходы к городу были надежно заминированы. «Суп с клецками» – так во время блокады ленинградские моряки называли густо начиненное минами Балтийское море.
В героическом фольклоре ленинградской блокады моряки Балтийского флота и Ладожской военной флотилии занимали особенное место:
Глянь вперед, глянь назад – Над Невой две радуги. Бьет фашистов русский флот В море и на Ладоге.* * *
Ты куда, немецкий пес, Свою голову понес? Вспомни, Ладога, бывало, Вас не раз уже бивала.* * *
С кораблей, с фортов Кронштадта Пушки очень крепко бьют. Это флотские ребята Фрицам жару поддают.Среди жителей осажденного города была хорошо известна легенда про немецкую подводную лодку, пробравшуюся однажды в самое устье Невы. «Залегла на грунте и стала поджидать, когда пойдет по реке линкор „Октябрьская революция“ или крейсер „Киров“. В Ленинграде хорошо знали, как немцы охотились за этими мощными кораблями со славными боевыми традициями. Их неоднократно пытались уничтожить с воздуха, а теперь вот из глубины». Согласно легенде, фашистскую подлодку наши моряки не просто засекли, «но и захватили в плен вместе с экипажем».
Охотились немцы и за другими символами «Города трех революций», понимая, какое огромное значение для стойкости осажденного Ленинграда они имели. Среди защитников города жила легенда о пушке с «Авроры», той самой, «которая в семнадцатом по Зимнему огонь вела». Но на самом деле та пушка не воевала. Еще в 1918 году четырнадцать 152-миллиметровых орудий системы «Канэ», одно из которых действительно холостым выстрелом дало сигнал к штурму Зимнего, были сняты с «Авроры» и переданы на вооружение Волжской флотилии. «Аврора» в то время находилась в резерве. Только в 1922 году на крейсере вновь поставили вооружение. Это были 130-миллиметровые пушки, к революционным событиям в Петрограде никакого отношения не имевшие. Именно эти орудия в июле 1941 года были сняты с «Авроры» и установлены на Дудергофских высотах. Одним орудием оснастили бронепоезд «Балтиец». Но солдаты Ленинградского фронта были убеждены, что как раз это и есть легенда, которую специально распространяют, «чтобы до фрицев не дошло, какой у нас тут ценный трофей есть. Они бы как черти сюда полезли такое орудие захватить. А наши матросики узнали стороной: точно, то самое орудие!»
В то время все героическое, выдающееся и прекрасное из того, что происходило на флоте, определялось выражением «Балтийский почерк». Это и работа катеров и подводных лодок в море. Это и умение краснофлотцев сражаться на суше. Это и способность моряков находить силы для безудержного веселья во время отдыха.
В то же время отношение фольклора к некоторым сухопутным частям армии не было ни лестным, ни сочувственным. Бойцы Ленинградского фронта помнят, какая поговорка сложилась в 1941 году о бездействующей 23-й армии под командованием генерал-лейтенанта M. Н. Герасимова: «Есть три нейтральные армии: шведская, турецкая и 23-я советская». В 1942 году среди ленинградцев упорно ходили слухи о скорой победе над фашистами. Будто бы Сибирская армия под командованием Г. И. Кулика взяла гитлеровцев в кольцо и вот-вот повергнет их в прах. Однако не только победы над фашистской армией, но даже предполагаемого прорыва блокады не произошло. «Этот Кулик оказался уткой», – острили блокадники. А всю неудачную операцию по деблокированию Ленинграда свели к обидному анекдоту: «Кулик немцев жмет, немцы нас жмут. В конце концов Кулик так на немцев нажмет, что они в панике ворвутся в Ленинград».
Одно из воинских формирований под Ленинградом в основном состояло из раскулаченных в свое время и осужденных на разные сроки заключения крестьян. Эту дивизию среди солдат прозвали «Кулацкой».
Исключительно важную роль в обороне Ленинграда играло народное ополчение, сформированное из гражданских лиц, не подлежавших призыву в армию. Так, на протяжении всей блокады «Хозяйкой Пулковских высот» называли Пятую дивизию ополченцев Выборгского и Василеостровского районов.
Наиболее ожесточенные в истории обороны Ленинграда бои происходили в районе поселка Невская Дубровка. Около 400 дней удерживали воины узкую полоску земли протяженностью два километра по фронту, отражая в отдельные дни до 16 атак противника. В фольклорной летописи обороны Ленинграда этот знаменитый плацдарм остался под названием «Невский пятачок».
О героях битвы за Ленинград слагались частушки:
Воробей перелетает С веточки на виноград. Ягодиночка на фронте Защищает Ленинград.* * *
Ленинград обороняли, Ясноглазый пал в бою. Там сложил он буйну голову За родину свою.* * *
Дорогие девушки, Любите раненых солдат – Они не в драке пострадали, А за город Ленинград.* * *
Раньше здесь, под Ленинградом, Немец был ползучим гадом, А теперь мы пулей учим Немца гадом быть ползучим.* * *
За рекою за Невою Всполошился вражий стан – Бьет фашистов смертным боем Снайпер Вежливцев Иван.Имя Героя Советского Союза ефрейтора Ивана Дмитриевича Вежливцева не случайно попало в фольклор. Оно было хорошо известно бойцам Ленинградского фронта.
В рядах защитников Ленинграда, конечно же, были не только жители славного города. Далеко от города на Неве невесты, прощаясь со своими любимыми, пели частушку:
Далеко под небесами Белая снежиночка. Далеко под Ленинградом Служит ягодиночка.Но все они в ту жестокую годину считали себя ленинградцами. Рассказывали, что в одной из воинских частей, располагавшейся вне границ Ленинграда, в его дальнем пригороде, среди сельских огородов и скотных дворов, командир накануне боя выстроил красноармейцев и сказал: «Приказываю эту землю считать Ленинградом!»
Покажите, ленинградцы, Что достойны вы наград. Вдвое злей давайте драться За родимый Ленинград.Ощущение братского единения со всей страной не покидало ни мирных жителей осажденного города, ни его воинов все девятьсот дней вражеской блокады. Всякая весть о победах Советской армии на всех фронтах Великой Отечественной войны воодушевляла воинов Ленинградского фронта. Успехи под Москвой воспринимались как личные успехи каждого воина, где бы он ни находился: «Полез гад на Ленинград и сам не рад, на Москву зенки пучит, еще крепче получит»; «Не придется Гитлеру из Ленинграда сделать море, а из Москвы – поле».
Фрицы лезли в Ленинград И в Москву, как на парад. Не пробрались их ряды И ни туды, и ни сюды.* * *
На горе стоит «Катюша», Под горою автомат. Не достанутся фашисту Ни Москва, ни Ленинград.Победа под Москвой давала надежду. Разгром немцев под Сталинградом дал уверенность: «Не видать фашисту Сталинграда, как Москвы и Ленинграда»; «Сталинград Ленинграду брат, на одном стоят: ни шагу назад»; «У Невы и Волги здорово побили немецких волков».
Воют-воют немцы-волки, Как им дали возле Волги. Участь им даем одну На Неве и на Дону.* * *
Ноет фрицево сердечко, Не забыть ему Восток – Сталинградское колечко, Шлиссельбургский бережок.Убежденность в том, что: «Бей сатану! Ударишь на Неве – отдастся на Дону» была полной. Эта убежденность материализовывалась в успешных операциях воинов Ленинградского фронта под Лугой, Тихвином, Шлиссельбургом, на реках Ижоре и Тосне. Все эти областные топонимы стали приметной частью ленинградского городского фольклора: «Тихвин город взял немцев за ворот»; «Не их вина, что прогнали немцев из Тихвина, а наша сила немчуру покосила»; «Нет фашистам спасенья ни в Калуге, ни в Луге, ни на Южном Буге»; «При Шполе немцев пришпорили, под Лугой лудили, а от Звенигорода у них в ушах звенит»; «Бойцы-други разбили немцев в Луге»; «Смотрит месяц из-за тучек:/Что, Карлуша, поослаб?/Шлиссельбург, наш славный ключик,/Вылетел из ваших лап»; «Ям-Ижору отстоим, нам Ижору, яму – им»; «На реке Тосне немцам стало тошно».
До сих пор жива героическая легенда о неизвестном водителе. В один из январских дней 1942 года на ледовой Дороге жизни, посреди Ладожского озера заглох насквозь промерзший двигатель военной полуторки. Водитель с трудом оторвал руки от баранки и понял, что они безнадежно отморожены. Тогда он облил их бензином, зажег спичку… и двумя живыми факелами стал отогревать двигатель в надежде довезти несколько мешков муки голодающим ленинградцам. Никто не знает ни имени, ни дальнейшей судьбы этого человека. Но ленинградцы не сомневаются, что именно из той, доставленной тем водителем муки пекли те страшные «сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам». И может быть именно та полуторка, найденная на дне Ладожского озера, где она пролежала более двадцати лет, бережно отреставрированная, поднятая на пьедестал и названная Памятником, стоит в мемориальном ряду Памятников двухсоткилометрового блокадного кольца – Зеленого пояса Славы.
Сокровищницу ленинградской мифологии украшает и другая легенда – о Неизвестном художнике, в промерзшей и безжизненной квартире которого в одном из ленинградских домов была найдена восковая модель медали с текстом на одной стороне: «Жил в блокадном Ленинграде в 1941–1942 годах».
Дошла до нас и солдатская легенда об историческом броневике, с которого Ленин выступал в 1917 году на площади у Финляндского вокзала.
Будто бы «ленинский броневик взят из музея – мобилизован и сражается под Ленинградом». Его видели на разных участках фронта, чаще всего там, «где совсем плохо – там ленинский броневик идет и большая победа с ним».
Неизмеримые потери понесла художественная культура Ленинграда во время варварской оккупации фашистами всемирно известных ленинградских пригородов. Размеры катастрофы были столь велики, что в первые дни после освобождения пригородов человеческое сознание, потрясенное и растерянное, оказалось не в состоянии ни вместить в себя все ужасы увиденного, ни выработать какие-либо оценочные критерии. Не находилось ни опыта, ни аналогий. Особенно пострадали Пушкин, Павловск, Петродворец.
Из Екатерининского дворца, разграбленного и обезображенного, бесследно исчезла уникальная Янтарная комната. В свое время она была исполнена немецким архитектором Андреасом Шлютером для королевского дворца в Берлине. В 1716 году Фридрих Вильгельм I решил подарить Янтарный кабинет Петру I. В 1750-х годах его перевезли в Екатерининский дворец Царского Села. С тех пор Янтарная комната приобретала все большую популярность, пока в глазах знатоков и любителей не стала одним из чудес света. По свидетельству всех, кто ее видел, она производила неизгладимое впечатление, успешно соперничая с позолотой, живописью и драгоценными камнями в интерьерах дворца.
Последний раз Янтарную комнату видели в 1941 году. В 1942-м имперский комитет по музеям Германии принял решение передать ее Кенигсбергу. Из оккупированного Пушкина она была доставлена в резиденцию гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха. В том же году ее экспонировали для высших армейских чинов в королевском замке Кенигсберга, затем вновь упаковали в ящики и спрятали в замковых подземельях. В реальной истории знаменитой Янтарной комнаты это сообщение стало последним, уступив место многочисленным догадкам, предположениям и легендам.
Согласно одной из них, фашисты затопили Янтарную комнату в одном из многочисленных лесных озер. Согласно другой – она была упрятана на подземном авиационном заводе вблизи Кенигсберга, а затем, при наступлении Советской армии, вместе с заводом затоплена. В том и другом случае исполнители и свидетели этой акции были уничтожены, и тайна погребения умерла вместе с ними.
Другая легенда основана на устном, почти сказочном предании о некой гигантской подводной лодке, на которой Адольф Гитлер отправился к берегам Аргентины, захватив с собой, среди прочего, и «янтарное чудо». Впрочем, согласно этой легенде, «перед отплытием команда приняла на борт баллоны, куда вместо кислорода закачали закись азота, что обеспечило таинственной субмарине вечный покой на дне Балтики».
Есть и «морская легенда» о том, что Янтарная комната погребена на глубине пятидесяти метров в двадцати милях от косы Хейль. Фашисты будто бы погрузили ее в трюмы океанского девятипалубного чудо-корабля длиной более двухсот метров – плавучей Атлантиды, потопленной советской подводной лодкой С-13 под командованием Александра Маринеско. По мнению специалистов, подъему корабля со дна моря препятствует то, что «участники Потсдамской конференции поделили между собой только те плавсредства побежденной Германии, которые в момент подписания соглашения находились на плаву, как-то совершенно выпустив из виду, что довольно солидная часть германского флота – около двухсот транспортов – уже начинала обрастать ракушками на дне Балтики».
До сих пор продолжаются споры о причинах гибели Большого Петергофского дворца. Точнее, до какого-то времени считалось бесспорным, что Петергофский дворец подожгли немцы перед самым своим бегством под натиском нашей армии. Между тем сохранилась легенда о том, что его подорвали наши разведчики. Гитлеровцы хорошо знали о стремлении советского командования во чтобы то ни стало сохранить дворец. Поэтому они расположились в нем, как у себя дома, чувствуя себя в полной безопасности. Даже новый 1942 год гитлеровские офицеры решили встретить во дворце. Каким-то образом об этом узнало советское командование и решило будто бы устроить фашистам необыкновенный новогодний «концерт». Под прикрытием непогоды группа разведчиков – недавних жителей Петергофа пробралась ко дворцу и забросала «устроенный в первом этаже банкетный зал и пировавших гитлеровцев противотанковыми гранатами». Вспыхнул пожар – и дворец сгорел. Согласно легенде, никто из разведчиков не вернулся.
По воспоминаниям жителей блокадного и послевоенного Ленинграда, в городе в то жуткое время слагались не менее жуткие легенды. Если верить одной из них, в секретных подвалах Большого дома днем и ночью продолжала работать специальная электрическая мельница по перемалыванию тел расстрелянных и запытанных узников сталинского режима. Ее жернова остановились только тогда, когда электричества не хватало даже на освещение кабинетов Смольного. Но и тогда, утверждает легенда, не прекращалось исполнение расстрельных приговоров. Трупы казненных просто сбрасывали в Неву.
Согласно одной жуткой легенде, услышанной современным петербургским художником Владимиром Яшке на Камчатке, в Ленинграде за бешеные деньги продавались котлеты из человеческого мяса. На Аничковом мосту ежедневно стояла старушка и, увлекая детей ласковыми участливыми разговорами, незаметно подталкивала их к открытому люку, куда они и проваливались. Под мостом, продолжала эта чудовищная легенда, непрерывно работала огромная мясорубка, превращая провалившихся детей в мясной фарш.
Уже говорилось о чудотворном образе Казанской Божией Матери, которая в критические моменты российской истории становилась и заступницей, и защитницей отечества от посягательств на его свободу и независимость. С ней шли на освобождение Москвы от польского нашествия Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. К ней обращались в драматические дни наполеоновского наступления. С 1940 года чудотворная икона хранилась в Князь-Владимирском соборе.
В самые тяжкие дни войны митрополит Гор Ливанских Илия Салиб уединился в подземелье и, постясь, молился о спасении России. Через трое суток ему будто бы было видение. Перед ним стояла Богоматерь, которая трижды повторила: «Успеха в войне не будет, доколь не отворятся все храмы, монастыри и не выпустят из тюрем всех священнослужителей для богослужений. Пусть вынесут икону Казанскую в Ленинграде и обнесут вокруг города». Бытует легенда о том, что в январские дни 1944 года икону вынесли из храма, вывезли на фронт и пронесли по всем воинским частям, готовившимся к историческому прорыву блокады. Верующие убеждены, что без этого он бы не совершился.
Заканчивался самый трагический за всю историю Петербурга-Петрограда-Ленинграда период 900-дневной блокады. То, что они проиграли, гитлеровцы поняли задолго до прорыва. Уже упоминавшийся Солсбери в своей всемирно известной книге «900 дней» приводит поговорку, бытовавшую среди немецких офицеров еще в 1941 году: «Лучше три раза брать Севастополь, чем один раз Ленинград». Советские частушки, воспроизводя настроение фашистских солдат, придавали им остро сатирическую окраску:
«Как дела, моя отрада?» – Пишет Минна. Макс в ответ: «Мы стоим у Ленинграда. Скоро ляжем. Шлю привет».На ту же тему блокадный анекдот:
– Гитлер-то… Слыхал? Шлет сюда эшелон за эшелоном, без передышки. И знаешь что? Венские стулья.
– ?
– Очень уж долго войско фашистское стоит на одном месте. Утомились…
Напомним, значительная часть ленинградского фольклора того времени несет на себе явные признаки агитационно-пропагандистских тезисов политотделов армейских подразделений. Однако, как мы уже не раз убеждались, в большей степени это относится к его форме, рассчитанной на доходчивую листовку или прокламацию. Дух же этих нехитрых пословиц, поговорок или частушек вполне фольклорен. Во всяком случае они достойны того, чтобы и сегодня их знали: «Сунулся фашист в Ленинград – жизни стал не рад»; «Мечтала фашистская мразь в Ленинград попасть, а попала вповалку на свалку»; «Немец, к Ленинграду подойдешь – на тот свет попадешь»; «В большевистском Ленинграде псам фашистским не бывать»; «Близко Ленинград, да не укусишь»; «Будет немцам хуже ада за страданья Ленинграда».
Теми же характерными знаками большевистской политической фразеологии отмечены и частушки того времени:
Немец рад, немец рад, Только зря он чванится. Никогда Ленинград Немцу не достанется.* * *
Перестать бы вам давно, Фрицы, бомбы скидывать. Ленинграда все равно Вам вовек не видывать.* * *
Немцы были очень рады, Что у нас кольцо блокады. Будь хоть пять таких блокад – Не возьмете Ленинград.* * *
Геббельс в музыку играет, Гитлер пляшет гопака; Не бывать вам в Ленинграде, Два фашистских дурака.* * *
Нам за то дают медали, Что фашисты – пьяный сброд – Ленинграда не видали, Не увидят и вперед.* * *
Дайте девочке винтовочку, Ружье и автомат. Не подумайте, германцы, Не возьмете Ленинград.Приметы неминуемой победы видели во всем. Существует занимательное предание об одном из самых известных экспонатов Кунсткамеры – фигуре папуаса с натянутым луком и стрелой в руках. Будто бы во время войны, в один из морозных блокадных дней за стенами Кунсткамеры раздался мощный взрыв авиабомбы. Старинное здание вздрогнуло, и от этого натянутая стрела неожиданно сорвалась с тетивы и врезалась в противоположную стену зала. Замерзшие и голодные работники музея впервые за долгие месяцы улыбнулись. Победа неизбежна, если даже папуасы вступили в войну с фашистами. Выстрел из лука был направлен в сторону Германии.
Весной 1944 года что-то наконец начало меняться и в людях. Это было почти неуловимо, едва заметно. Но было. Рассказывали, что одна учительница, Бог знает в какой школе, да это, отмечали рассказчики, и неважно, чуть ли не вбежала в учительскую, что само по себе повергло всех в изумление, и ликующе воскликнула: «У меня в классе мальчишки подрались!»
В это весеннее время, видимо, и родилась легенда о несостоявшемся торжественном банкете в гостинице «Астория», о котором уже говорилось.
Частушки, которые охотно и в огромном количестве пели самодеятельные артисты с импровизированных эстрад на передовой, в больничных палатах военных госпиталей и просто на привалах под трофейную гармошку хорошо иллюстрируют положение на фронте в этот период войны:
Геббельс криком надрывался: «Мы забрали Ленинград». А на деле он заврался, Так что сам теперь не рад.* * *
Думал Гитлер: «Новым годом Ленинград возьму походом». Просчитался подлый гад: Лоб расшиб о Ленинград.* * *
Фюрер стонет, фюрер плачет, Не поймет, что это значит: Так был близок Ленинград, А теперь танцуй назад.Иным было настроение ленинградских воинов. До окончательной победы под Ленинградом оставался еще целый год. Еще давал знать о себе голод. По узкому коридору, отвоеванному у немцев в январе 1943 года, доставлялись только самые необходимые грузы и в количестве явно недостаточном ни для воинов фронта, ни для жителей Ленинграда. Зима 1943 года была в самом разгаре. Но фольклор с каждым днем становился все более победным:
Эх, яблочко, С боку зелено. Мы горою стоим За город Ленина.* * *
Полетели самолеты Из Москвы на Ленинград. Скоро теплые денечки Попрут Гитлера назад.* * *
Бьем врага под Ленинградом, Все сильней удары… Не уйти фашистским гадам От народной кары.* * *
Семь цветов у радуги, Семь побед у Ладоги. Будет их и двадцать семь, Немцев мы добьем совсем.Частушкам вторили пословицы и поговорки – лаконичные, как формулы, легко запоминающиеся, хлесткие и выразительные: «Бьем гада у стен Ленинграда»; «Бьемся на подступах к Ленинграду, прорываем блокаду»; «Ленинград – город фронтовой, каждый житель воин боевой»; «Ленинградцы умеют сражаться»; «Ленинград смерти не боится – смерть боится Ленинграда». И наконец, очередной вариант старой питерской формулы: «Наш Питер бока немцам вытер». Эта поговорка не раз уже мелькала на страницах петербургской истории. «Наш Питер бока Юденичу вытер» – говорили в ноябре 1919 года. Универсальный характер этой фольклорной фразеологической конструкции безошибочно сработал и в Великую Отечественную войну.
Благоприятные условия для полного и окончательного снятия вражеской блокады Ленинграда сложились только к началу 1944 года. 14 января войска Ленинградского фронта перешли в наступление:
Все морошка, да морошка, Да никак не виноград. Есть для Гитлера дорожка, Да никак не в Ленинград.* * *
В небе тученьки затучили, Темнеет в синеве. Измотали мы, измучили Фашиста на Неве.* * *
Сердце бьется, сердце радо, Репродуктор говорит: «От родного Ленинграда Свора Гитлера бежит».* * *
Удирайте, фрицы, вы. Быть вам всем без головы! Отходили ваши ножки По дорожке у Невы.* * *
Ой вы, невские сиги, Ладожская корюшка! Драпал немец в три ноги, Нахлебавшись горюшка.И как апофеоз 900-дневной героической обороны, фольклор ставит два многозначительных восклицательных знака: «У Ленинграда раздавили гада» и «Поворот… от ленинградских ворот».
В октябре 1945 года в честь победы в Великой Отечественной войне был разбит Московский парк Победы. Ставший одним из любимых мест отдыха жителей Московского района, он, тем не менее, приобрел со временем необычное свойство. В районе парка люди, как правило, чувствуют себя плохо. У кого болит голова, у кого затруднено дыхание, у кого вообще непонятно что. Родилась подтвердившаяся затем легенда о том, что здесь, в печах старого кирпичного завода, сжигали трупы погибших ленинградцев. Кроме того, на территории современного парка производились массовые захоронения. Вопреки тысячелетним общечеловеческим традициям места этих захоронений ничем не были отмечены. Заговорили о миазмах, о душах погибших, которые никогда не исчезают, а, напротив, мстят за неуважение к мертвым. Недавно в Московском парке Победы наконец был установлен памятный знак – деревянный православный крест. Говорят, дышать стало легче.
Праздничный салют в ознаменование окончательного снятия блокады Ленинграда был дан 27 января 1944 года. Для Ленинграда было сделано единственное за всю Великую Отечественную войну исключение. Все салюты в честь освобождения городов от немецких оккупантов производились в Москве. С «высоты» сегодняшнего понимания этот шаг Ставки кажется скорее случайным, совершенным под влиянием какого-то аффекта. Выделять Ленинград из общей массы рядовых городов было опасно. Достаточно вспомнить сформулированную поэтом Георгием Адамовичем убежденность ленинградцев в том, что «На земле была одна столица,/Остальные просто города». Да и последующие события подтвердили это. В 1948 году Ленинграду в очередной раз из Москвы указали на его областное, заштатное место. Но это произойдет потом. А 27 января 1944 года 24 залпами из 324 орудий, установленных на Марсовом поле, у стен Петропавловской крепости, на Стрелке Васильевского острова и на площади Революции, была поставлена последняя точка на самой трагической странице истории города на Неве.
Прошло более полувека. Но раны, нанесенные городу, не зарубцовываются до сих пор. Блокада в городском фольклоре и сегодня остается лакмусовой бумажкой, выявляющей уровень стойкости и героизма, мужества и терпения.
Две старушки, в хвосте огромной очереди за хлебом терпеливо успокаивают друг друга: «Выстояли в блокаду, выстоим и за хлебом».
Ленинградский городской фольклор с готовностью откликается на все наиболее значительные события общественной жизни. В ответ на неправдоподобно щедрые обещания богатой и обеспеченной жизни в недалеком будущем горожане кивали головами: «Блокаду пережили, изобилие переживем». Такой же была реакция на пресловутую программу выхода страны из экономического кризиса «Пятьсот дней»: «Пережили девятьсот дней, переживем и пятьсот». На вооружении противников строительства знаменитой ленинградской дамбы был эффектный лозунг: «Выжили в блокаду – умрем от дамбы?» Короче говоря, несмотря на то, что со времени блокады прошли десятилетия и сменились поколения, городской фольклор остается универсальным. Совсем недавно в выступлении ректора одного из петербургских вузов зарплата ученых названа «Блокадной пайкой». А при упоминании о ленинградцах в современном Петербурге с горечью говорят: «Какие ленинградцы! Все ленинградцы на Пискаревском кладбище лежат».
В братских могилах на Пискаревском кладбище покоятся 470 тысяч ленинградцев, умерших от голода, погибших от артобстрелов и бомбежек, павших в боях при защите города на Ленинградском фронте. В 1960 году на Пискаревском кладбище был сооружен грандиозный мемориальный ансамбль, с бронзовой скульптурой Матери-родины в центре. В ансамбль мемориала органичной частью вошли торжественные памятные тексты, автором которых была Ольга Федоровна Берггольц – «Блокадная муза» Ленинграда. Весь текст производит неизгладимое впечатление. Один из его фрагментов давно уже вошел в золотой фонд ленинградского городского фольклора: «Никто не забыт, и ничто не забыто».
И это действительно так. Иначе мы не хранили бы в памяти такое огромное количество образцов героического фольклора войны и блокады.
Пророчества и кликушества, или Быть ли Петербургу пусту
Кажется, нет в мире города, который испытывал бы на себе силу такого количества проклятий, предсказаний и пророчеств, как Петербург. В семейных преданиях старейшего петербургского рода Толстых сохранился рассказ об одном из ближайших соратников Петра I – Петре Андреевиче Толстом, «Иуде Толстом», как его единодушно называли современники. Один из участников стрелецкого восстания 1698 года Петр Андреевич благополучно избежал казни, был приближен к императору и дослужился до высших государственных должностей. В 1718 году он стал начальником печально знаменитой Тайной канцелярии. В благодарность за это льстивый и беспринципный Толстой готов был оказать Петру любую, даже самую грязную услугу.
Именно ему Петр поручил вернуть в Россию сбежавшего со своей любовницей царевича Алексея. Петр Андреевич буквально обшарил всю Европу и нашел-таки царевича в Италии. Лестью, обманом, шантажом и посулами Толстому удалось уверить Алексея в родительском прощении, после чего царевич согласился вернуться в Россию.
Конец этой авантюры Толстого известен. Алексей по прибытии в Петербург был заточен в Петропавловскую крепость, подвергнут допросам с пристрастием, в результате чего скончался. По некоторым преданиям, он был либо задушен подушкой, либо отравлен ядом.
Так вот, согласно семейным преданиям Толстых, умирая, царевич Алексей проклял обманувшего его Петра Андреевича Толстого и весь род его до 22-го колена. Первым почувствовал на себе неотвратимую силу этого проклятия сам Петр Андреевич. В 1727 году его арестовали, сослали в Соловецкий монастырь и заточили в каменную келью, вырубленную в монастырской стене. Там он через два года скончался.
Затем проклятие царевича Алексея периодически напоминало о себе появлением в роде Толстых либо слабоумного, либо совершенно аморального Толстого. Одним из них в XIX веке был известный «Федор-Американец Толстой» – картежник, шулер и дуэлянт, прославившийся в Петербурге своей безнравственностью и цинизмом.
Но проклятие царевича Алексея легло не только на род Толстых. Умирая мучительной смертью, он будто бы проклял и город, построенный его отцом вопреки древнерусским традициям и обычаям дедов. Будто бы именно царевич Алексей сказал: «Быть Петербургу пусту!» И это страшное проклятие, утверждает предание, время от времени дает о себе знать. С ним связывают и появление именно в нашем городе бесов, описанных Достоевским и захвативших власть в 1917 году; и 900-дневную блокаду, в результате которой Ленинград должен был превратиться в ледяную пустыню.
Действительно, в следственных показаниях, собственноручно данных царевичем Алексеем 8 февраля 1718 года, пророчество о неминуемом исчезновении Петербурга зафиксировано. Однако сказано об этом со слов его тетки царевны Марьи Алексеевны, которая встречалась с матерью Алексея царицей Авдотьей, заточенной Петром в монастырь. По словам царевны, Авдотье было видение. Ей привиделось, что Петр вернулся к ней, своей первой жене, оставив дело по преобразованию России и покинув ненавистный ей Петербург. Будто тогда-то и воскликнула радостно Авдотья Лопухина: «Санкт-Петербургу пустеет будет!»
С тех пор эта пресловутая формула неприятия Петербурга, ставшая одной из первых петербургских пословиц, превратилась в знаменный клич всех сил, противостоящих реформаторской деятельности Петра I и его политических наследников.
Параллельно с легендами, выдвигавшими на первый план политические причины появления этого одиозного проклятия, были легенды и другого свойства. По словам Алексея Николаевича Толстого, происхождение проклятия связано с легендой о неком дьячке Троицкой церкви, что находилась на Троицкой площади вблизи Домика Петра I. Будто бы этот дьячок, спускаясь впотьмах с колокольни, увидел какую-то «кикимору – худую бабу и простоволосую». Перепуганный дьячок затем будто бы кричал в кабаке: «Петербургу быть пусту!», за что «был схвачен, пытан в Тайной канцелярии и бит кнутом нещадно».
А. Н. Толстой, скорее всего, пользовался очерками и рассказами из русской истории М. И. Семевского «Слово и дело!», который, в свою очередь, при написании очерков работал с подлинными документами Тайной розыскных дел канцелярии времен Петра I. Истоки ранней петербургской мифологии, оказывается, следовало искать в архивах. В одном из следственных протоколов зафиксированы гулявшие по городу толки о том, что в трапезной Троицкой церкви «стучал и бегал невидимый дух». Его слышал псаломщик Максимов, и в другой раз – солдат Зиновьев, и потом – часовой Данилов. Вскорости весь соборный причт и «утреню и обедню провели в толках о странном привидении». «Никто другой, как кикимора», – говорил поп Герасим Титов, относясь к дьякону Федосееву. Тот расходился в мнениях по этому предмету: «Не кикимора, – говорил он, – а возится в той трапезе… черт». – «Что ж, с чего возиться-то черту в трапезе?» – «Да вот с чего возиться в ней черту… Санкт-Петербургу пустеть будет».
Слухи о кикиморе были подхвачены стоустой молвой и многократно умножены. Появилась тайная надежда на скорый возврат к старомосковским ветхозаветным традициям и обычаям. Гибель Петербурга становилась сладкой мечтой, привкус которой надолго сохранится в сердцах «истинных патриотов». Хочется еще раз напомнить, что еще в середине XIX века многих москвичей не покидала радостная надежда, что Петербургу в конце концов суждено окончить дни, провалившись «в свою финскую яму». Чуть позже мы увидим, что об этом не переставали мечтать и в конце XIX, и в середине XX столетия.
Одновременно с появлением мифа о скором конце Петербурга довольно успешно формировался миф о Петре-Антихристе и Петербурге – городе Антихриста. Поводов для возникновения такого мифа было достаточно: перенос столицы из Москвы в Петербург, бритье бород и введение нового покроя одежды, приглашение на службу иностранцев и реформа письменности, куртуазные ассамблеи и кощунственные оргии «Всепьянейшего собора», перемена летоисчисления и запрещение крестных ходов. Представление о Петре как об Антихристе усилилось после указа царя о запрещении строительства каменных зданий, в том числе церковных, по всей Руси. Фундаменты уже заложенных церквей разбирались и кирпичи переправлялись в столицу для возведения светских построек. Это, среди прочего, и послужило основанием для именования Петербурга градом Антихриста.
Впрочем, среди староверов Петр давно считался Антихристом. Из чисел, связанных с его царствованием, выводили «звериное число» 666. Не отсюда ли берет свое начало устойчивая легенда, что Петербург назван в честь Петра I, в то время как на самом деле город носит имя апостола Петра, христианского святого, в день поминовения которого 29 июня 1672 года Петр был крещен. Через двести лет после смерти Петра такое же «звериное число» христианские мистики пытались обнаружить на челе Ленина. Эта дьяволиада так глубоко засела в сознание обывателя, что даже в просвещенном 1990 году на одном из митингов в поддержку возвращения городу его исторического имени был провозглашен лозунг: «Меняю город дьявола на город святого!»
Едва затихшая в середине XVIII века борьба «века минувшего с веком нынешним» вновь вспыхнула после открытия на берегу Невы памятника преобразователю России – «Медного всадника». Легенда о «Всаднике Апокалипсиса», установленном на гранитном пьедестале посреди города Антихриста, вероятнее всего, родилась в среде старообрядцев. В своем неприятии петровских преобразований они использовали фантастические видения Иоанна Богослова, получившие удивительное подтверждение в России. Конь бледный перед бездонной пропастью, появившийся после снятия четвертой печати; всадник, «которому имя смерть; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертой частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными».
Все совпало. И конь, сеющий ужас и панику с занесенными над головами народов железными копытами, и всадник с реальными чертами конкретного Антихриста, и бездна – вод ли? земли? – но бездна ада там, куда указует его десница. Все совпадало. Вплоть до четвертой части земли, если верить таинственным слухам о том, что вчетверо сократилось население на Руси во время его царствования.
Странная метаморфоза, произошедшая с памятником Петру, глубоко засела в сознании русского человека. С одной стороны, «Медный всадник», как его, с легкой руки Пушкина, называли в народе, ассоциировался со всадником Апокалипсиса, с другой – конь бледный, сошедший со страниц Апокалипсиса, стал «походить на фальконетовское изображение». Петр Андреевич Вяземский в своих записных книжках приводит анекдот: еще задолго до славянофильства графиня Толстая, остро ненавидевшая Петра I, после наводнения 1824 года не отказала себе в удовольствии проехать мимо памятника Петру и высунуть перед ним язык. А еще совсем недавно в Ленинграде существовала старообрядческая традиция не жить вблизи города, считавшегося навеки проклятым.
Беспрецедентный факт появления разрушительной идеи, направленной на целый город, вызвал естественную защитную реакцию. Появились легенды о некой, заданной свыше предопределенности появления Петербурга, знаки чего были якобы хорошо известны в прошлом. В первую очередь это, конечно, легенда об Андрее Первозванном, о чем мы уже говорили в начале.
Появление Петербурга определено будто бы и пророчеством известного физика и математика Иоанна Латоциния, который в середине XVI столетия писал: «Известно есть, что зело храбрый принц придет от Норда во Европе и в 1700 году начнет войну и по воле Божией глубоким своим умом и поспешностию и ведением получит место, лежащее на зюйд и вест, под власть свою».
Известно, что Северная война за возвращение исконно русских приневских земель, в результате которой был основан Петербург, была начата Петром I действительно в 1700 году.
И, наконец, уже при жизни Петра, за два десятилетия до основания Петербурга, в 1682 году, когда юному Петру еще даже и мысли не могли прийти об основании города на берегах Невы, один из церковных деятелей той поры святитель Иоанн Воронежский пророчествовал: «Ты воздвигнешь великий город в честь святого апостола Петра. Это будет новая столица. Бог благословляет тебя на это. Казанская икона будет покровом города и всего народа твоего. До тех пор, пока икона Казанская будет в столице и перед нею будут народы православные, в город не ступит вражеская нога».
Все три пророческие легенды несут в себе явные признаки официального, государственного происхождения. Это и понятно – государству было необходимо мощное идеологическое оружие. Народ искренне верил в скорый конец Петербурга. Этой мистической вере необходимо было противопоставить уверенность в Божьем промысле при основании города.
В основном гибель Петербурга связывалась в постоянными наводнениями. Многочисленные свидетельства этому сохранились в городском фольклоре. Впервые появившись на Заячьем острове для закладки Петропавловской крепости, Петр I встретил местного рыбака, который будто бы показал царю березу с зарубками, до которых доходила вода. Рыбак предупредил Петра, что здесь строить нельзя. «Березу срубить – крепость строить», – последовал, как всегда категоричный, ответ царя. Впоследствии народ был убежден, что пренебрежение именно этим предупреждением и привело к роковым для Петра последствиям. Согласно легендам, он умер, простудившись во время наводнения 1724 года, хотя на самом деле давно страдал неизлечимыми внутренними болезнями, «вследствие несоблюдения диетических правил и неумеренного употребления горячих напитков». Да и само наводнение 1724 года расценивалось фольклором как послание Богом волны за душой Антихриста.
Вблизи Петропавловской крепости у самого Кронверкского протока стояла в свое время громадная ива, исчезнувшая по старости лет еще в XIX веке. Ива была много старше Петербурга и потому ее жизнь была овеяна старинными преданиями. Согласно одному из них, в первые годы существования города какой-то седобородый, с всклокоченными волосами и босой старик у этой ивы проповедовал первым жителям Петербурга, что «Господь разгневается и потопит столицу Антихриста; разверзнутся воды морские выше этой старой ивы». И старик называл день и час этого наводнения. Далее все происходило, как обычно. Петру донесли про эти пророчества. Он в гневе велел приковать старца железной цепью к той самой иве. А когда наступил час, предсказанный «пророком», и никакого наводнения не произошло, приказал наказать старца батогами и затем изгнать из города.
Еще одну легенду охотно рассказывали финны, издавна жившие в этих местах. На правом берегу Невы, недалеко от построенного затем Домика Петра I, еще до основания Петербурга, в 1701 году, произошло чудо. На сосне, росшей довольно далеко от топкого берега, в сочельник зажглось множество свечей. Пытаясь достать эти волшебные свечи, люди начали рубить дерево. И тогда свечи погасли. Люди отступили. Но на стволе с тех пор остался заметный рубец от топора. Через много лет, в 1720 году, к этому чудесному дереву, утверждает предание, явился некий пророк и стал уверять народ, что с моря скоро нахлынет вода, дойдет до метки, оставленной людьми на старинной сосне, и затопит город. Предание уверяет, что многие суеверные люди всерьез поверили пророку и стали переселяться на более высокие места. Снова вмешался Петр I. Он вывел на берег целую роту гвардейцев Преображенского полка, которые «волшебное» дерево срубили, а незадачливого пророка прилюдно наказали кнутом у оставшегося пня.
Однако ничто не помогало. Мысль о неминуемой гибели города от наводнения в народе прочно удерживалась. Ничего удивительного в этом не было. Слепая, непонятная, пугающая своей непредсказуемостью стихия, бороться с которой было совершенно невозможно, воспринималась обывателями как Божья кара и предупреждение о близком конце Петербурга. Страшную силу взбесившейся Невы почувствовали на себе первые жители Петербурга уже на третий месяц существования города.
«Жди горя с моря, беды – от воды» – такая поговорка издавна считалась петербургской. Причем, бытовал и расширенный вариант этой поговорки, в котором признавалась абсолютная беспомощность человека перед стихией: «Жди горя с моря, беды – от воды; где вода там и беда; и царь воды не уймет». В XVIII веке существовало даже предсказание, в эпически спокойной пословичной форме которого фольклор выразил весь ужас перед необузданной стихией: «И будет великий потоп». Кстати, катастрофическое наводнение 1824 года в петербургском городском фольклоре осталось именно под таким именем: «Петербургский потоп».
Свидетель этого дикого разгула стихии писатель Владимир Соллогуб, человек высокообразованный и просвещенный, вполне серьезно пишет в своих воспоминаниях: «Существует предсказание, что Петербург когда-нибудь погибнет от воды и что море его затопит».
Что же говорить о кликушах и юродивых, «имя которым легион» и пророчества которых сопровождали всю историю Петербурга. В конце 1764 года в Петербурге появился «пророк», предсказывавший, что «накануне или на другой день Рождества Христова в 1764 году произойдет потоп». В самом конце XVIII века на площади перед Зимним дворцом появился какой-то крестьянин, который призывал людей «принять старую веру». Будто бы сам Бог послал его прорекать и «ежели не примется та вера, то город сгорит и потонет». В начале 1992 года по городу ходил «гражданин, называвшийся христианином Юрием Плехановым», с плакатом на груди: «13 апреля – наводнение». Желающим он показывал две исписанные странички, на которых якобы на основе Священного Писания предсказывалось наводнение в Петербурге. Несмотря на то что, как писала в те дни газеты «Смена», «складывающаяся синоптическая ситуация совпадает с расчетами христианина Юрия Плеханова» и повышение уровня воды в Неве действительно ожидалось, наводнения в понедельник 13 апреля 1992 года в Петербурге все-таки не было.
Особенно острые ощущения ожидания чего-то исключительно чрезвычайного и необыкновенного у обывателя чаще всего связываются с рубежными датами календаря. Окончание старого и начало нового года. Переход от одного столетия в другое. Круглые юбилейные даты. Эту особенность человеческой психики всегда широко использовали различные предсказатели и пророки, тем более, что традиционные – на протяжении столетий – ожидания наводнений именно в Петербурге подготовили для этого почву.
На рубеже столетий недостатка в прорицаниях не было. От Москвы до Ла-Манша пророки и пророчицы всех уровней сулили гибель Санкт-Петербургу. Одна безымянная итальянская предсказательница утверждала, что в районе Петербурга и Ладожского озера произойдет сильное землетрясение. Сила подземных газов, вещала она, вспучит дно Ладожского озера с наклоном к Санкт-Петербургу, и вся ладожская вода хлынет на Шлиссельбург, а затем, по долине Невы достигнет Петербурга, все уничтожая на своем пути. Все будет сметено с лица земли в воды Финского залива. Город разрушится. Погибнут все здания и сооружения.
Видения Апокалипсиса на территории Приневья примерно в это же время посетили и знаменитую французскую ворожею Анну-Викторию Совари, более известную среди петербургских аристократов под именем мадам де Тэб. В изысканных петербургских салонах она была так популярна, что к ней в Париж ездили специально, чтобы узнать свою судьбу. Госпожа Тэб не обошла своим пророческим вниманием и сам Петербург. «Бойтесь огня и воды, – восклицала французская „доброжелательница“, – Петербургу грозит стихийная катастрофа». По госпоже Тэб, должно было произойти сильное вулканическое колебание почвы, которое повлекло бы за собой перемещение вод Финского залива и Ладожского озера. В результате Петербург будет смыт чудовищной волной в Финский залив, или, добавляет французская Сивилла, – в Ладожское озеро, смотря с какой стороны хлынет вода.
Надо сказать, тревожные предчувствия хаоса и разрушения не обманывали воспаленное воображение доморощенных ворожей и заморских пифий. К началу XX века невинные ручейки критики господствующего строя начали сливаться в необузданный поток революционной ярости. В 1913 году Россия торжественно отметила трехсотлетие царствующего дома Романовых. Однако трещины в фундаменте этого дома можно было заметить и невооруженным глазом. В связи с этим возникали смутные ассоциации и тревожные предчувствия.
Исаакиевский собор – массивное тяжеловесное здание, возведенное на неустойчивой болотистой почве в непосредственной близости к Неве, никогда не вызывал у петербуржцев чувства устойчивости и равновесия. До сих пор в народе утверждают, что собор ежегодно опускается в землю на… и называют, на сколько то ли миллиметров, то ли сантиметров. В начале XX века поэт Саша Черный в стихотворении «На лыжах» описывал, насколько было привычно в Петербурге слышать, «Как сосед кричит соседу,/Что Исаакий каждый год/Опускается все ниже».
Мы уже рассказывали, как однажды ночью неистощимый на выдумки Александр Жемчужников в мундире флигель-адъютанта объехал всех наиболее значительных архитекторов Петербурга с приказанием наутро явиться во дворец ввиду того, что провалился Исаакиевский собор.
Так вот, Исаакиевский собор, который строился без малого сорок лет, потом столько же, если не больше, ремонтировался и подновлялся. Причем, ремонт производился не на средства собора, а на деньги, особо отпускаемые из царской казны. И денег этих не жалели. Родилось неожиданное пророчество. Крепость российского престола, долговечность монархии И процветание дома Романовых будут столь долгими, сколько простоят строительные леса вокруг Исаакиевского собора. Казалось, что ремонт собора будет продолжаться вечно. Более того, в городе распространились слухи, что состояние постоянного ремонта специально поддерживается царским двором. Но в 1916 году неожиданно для всех ремонт завершился. Строительные леса разобрали. Произошло это чуть ли не накануне Февральской революции и отречения Николая II от престола.
Этот мистический сюжет получил продолжение. В 1970 году, после пятидесяти лет глумления и варварского уничтожения собора Воскресения Христова, или «Спаса-на-Крови», как его называют в народе, вокруг собора на канале Грибоедова установили строительные леса. Началась его реставрация. В то время в соборе предполагалось открыть музей керамики. Как обычно, реставрация затянулась. Сначала на пять лет. Потом – на десять. На пятнадцать. Казалось, реставрация никогда не закончится. К строительным лесам вокруг собора привыкли. Они стали достопримечательностью Ленинграда. Их непременно показывали иностранным туристам. Они попали в стихи и песни. Наконец, как и много лет назад, в городском фольклоре появились пророчества. На этот раз заговорили о прочности советской власти. Будто бы быть ей до тех пор, пока стоят леса вокруг Спаса-на-Крови.
Леса с фасадов храма Воскресения Христова сняли в 1991 году, почти перед самыми августовскими событиями в Москве, когда советская власть рухнула.
Это непостижимым образом совпало с предсказанием знаменитого французского врача и астролога Мишеля Нострадамуса, который еще в середине XVI столетия предсказал, что «в 1917 году придет злая власть и просуществует семьдесят три года и семь месяцев и окончится в полнолуние». Советская власть просуществовала семьдесят три года и девять с половиной месяцев. В ночь с 21 на 22 августа 1991 года над Москвой было полнолуние.
Инерционный импульс, заданный в самом начале XVIII века, действовал и в XX столетии. Несбыточные фантазии о победе под Ленинградом связывали со стихией и немецкие фашисты. Правда, прагматичные гитлеровцы, не полагаясь на природные катаклизмы, надеялись на техногенные причины гибели ненавистного города. Над Ленинградом сбрасывались листовки, текст которых приписывали самому Гитлеру: «Ленинград будет море, Москва будет поле, Горький – граница, Ковров – столица».
И когда наводнениям вообще, как хроническому факту петербургской истории, был назначен, пусть гипотетический, но все же – конец, горожане всерьез заволновались. Что же теперь? Не будет наводнений? Вообще не будет? И, разделившись на «Дамбистов» и «Антидамбистов», с затаенным удовольствием рассказывали друг другу жутковатую легенду о том, что противоестественное перекрытие Невской губы привело к таким экологическим изменениям, что в устье Невы родились некие крокодилообразные мутанты, чудовища, которые легко заплывают в сточные колодцы, передвигаются по фановым трубам и – вот ужас! – могут запросто появиться в унитазах несчастных петербуржцев. Неплохо, предупреждает легенда, легкие пластмассовые крышки унитазов удерживать чем-нибудь тяжелым, скажем, утюгом или чугунной сковородой, а испытывая острую и неожиданную нужду, все-таки найти возможность предусмотрительно заглянуть внутрь сточной трубы.
Строительство дамбы породило фольклор, уникальность которого тождественна разве что уникальности самого сооружения. Но мрачная безнадежность, сформулированная в нем, разбавлена все-таки каплей самоиронии, свойственной петербуржцам последнего времени: «С дамбой ли, без дамбы – все равно нам амба»; «Ленинграду – д'амба». Популярность этих пословиц в конце 1980-х – начале 1990-х годов была так велика, что их поднимали над головами во время многолюдных в те времена демонстраций. На одном транспаранте так и было начертано: «На заливе дамба – Ленинграду амба!»
Между тем Петербург был уже однажды на краю гибели. Это произошло в начале 1920-х годов. К тому времени он утратил свое исконное имя и назывался Петроградом. В этом видели одну из причин, ведущих к несчастьям. Известно народное поверье, согласно которому изменение имени, данного при рождении, ведет к непоправимой беде. «Петрополь превратился в некрополь», – говорили в голодном, холодном и опустевшем Петрограде. Вспоминали недавнее пророчество Григория Распутина. Проходя мимо Петропавловской крепости, он внезапно остановился и бессвязно заговорил: «Вижу много замученных людей, людские толпы, груды тел! Среди них много великих князей и сотни графов! Нева стала совершенно красной от крови!». В городском фольклоре следы этой крови остались навсегда:
По Кронштадту мы палили Прямо с пристани, Рыбку-корюшку кормили Анархистами.Сегодня мы знаем, что анархистами в тогдашних частушках называли кронштадтских моряков, восставших против советской власти, и даже не советской власти как таковой, а против проводимой ею политики. Но даже такой фольклор пугал народную власть. Сборник, из которого извлечена приведенная частушка, долгое время находился в пресловутом спецхране и был недоступен читателю.
А вот следы крови тридцатых и сороковых годов. Одна из ленинградских легенд утверждает, что для удобства энкаведешников из подвалов «Большого дома», что на Литейном, в Неву была проложена специальная сливная труба, по которой стекала кровь казненных и замученных жертв сталинского режима. Цвет воды вблизи «Большого дома», утверждает легенда, именно поэтому всегда имеет красновато-кирпичный оттенок.
Возвращаясь к 1920-м годам, надо сказать, что тогда городу и в самом деле грозило умирание. Он и вправду превращался в город мертвых – некрополь.
Город не умер. Однако привычный статус «блистательного Санкт-Петербурга» решительно терял, незаметно превращаясь в обыкновенный областной центр или в «заштатный город с областной судьбой».
К этому же времени относится появление и другого поверья. Будто бы честь и достоинство Петербурга – Петрограда – Ленинграда оберегалось тремя всадниками – Петром I, Николаем I и Александром III. Ленинградцы убеждены, что стремительный упадок начался с утраты одного из них – Александра III. Убранный с площади Восстания в 1936 году, якобы из-за того, что мешал трамвайному движению, памятник долгие годы простоял во дворе Русского музея. Не случайно одним из лозунгов перестройки в Ленинграде был: «Свободу узнику Русского музея!» Это была реакция фольклора. Но и первым официальным актом по восстановлению утраченных за годы советской власти памятников Ленинграда было возвращение шедевра Паоло Трубецкого в архитектурную среду города. К сожалению, памятник Александру III установлен на новом, будто бы временном, месте – перед входом в Мраморный дворец. Однако не признать символичность этого события было бы неверно.
Петербургский фольклор достаточно богат и предсказаниями парадоксального свойства. Одно из таких неожиданных пророчеств обнаружилось в стихах поэта XVIII века А. П. Сумарокова: «На славный Киров трон восшел Гистаспов сын…» Понятно, что Сумароков не имел в виду вождей ленинградских коммунистов. Просто странное и необъяснимое созвучие имен и фамилий. И все-таки… Б. В. Гидаспов остался в памяти ленинградцев не только как последний коммунистический лидер последних дней существования советской власти. Вместе с коллекционером ужасов и страстным певцом порока тележурналистом А. Невзоровым и победителем детского энуреза врачом-телетерапевтом А. Кашпировским первый секретарь обкома КПСС Б. Гидаспов олицетворял собой те охранительные силы, которые встали на пути Ленинграда к Санкт-Петербургу.
Удивительно точной выглядит фольклорная формула тех пор: «Гестапов, Нервозов и Кошмаровский – три злых демона Ленинграда».
Ленинград наконец снова стал Санкт-Петербургом. Но ощущение опасности, привитое за семьдесят лет советской власти, осталось. Появился анекдот.
О планах на будущее Ильич сказал: «Хочу поднакопить немного денег и попробовать еще раз взять Зимний. В аренду, лет на семьдесят».
В народе сохраняется устойчивое убеждение: до тех пор, пока тело Ленина не погребено, дух его бродит по земле. Он зловеще витает над городом трех революций, пробуждая старые атавистические инстинкты. Фольклор предупреждает: «Если вам снится шалаш, а возле него пень, на котором что-то пишет лысый человек, – быть беде».
В последние годы мистический провиденциализм в петербургском фольклоре приобрел некие оригинальные черты, не свойственные ему раньше. Исчезла неотвратимость гибели города, фатальность его исторической судьбы. Угроза его существованию остается, но тут же степень риска либо заметно снижается, либо исчезает вовсе.
Среди обывателей, напуганных опасностью радиации, появилась невероятная легенда о том, что в самом центре Петербурга, прямо под Адмиралтейством, глубоко под землей устроен учебный класс Военно-морского училища имени Ф. Э. Дзержинского. Класс этот, утверждает легенда, оборудован самым настоящим действующим атомным реактором. В любое мгновение может произойти неконтролируемый выброс атомной энергии, который превратит Петербург в безжизненную пустыню. Однако, осторожно добавляет легенда, залогом того, что этого не произойдет, является то, что между Адмиралтейским шпилем и подземной атомной лабораторией, на одной оси с ними, находится кабинет начальника училища, и он будто бы, как заложник, ежедневно садится на эту пороховую, то бишь, атомную, бочку.
Кстати, в ответ на услышанную легенду один из офицеров училища рассказал автору этой книги, что никаких атомных учебных классов в здании Адмиралтейства, вокруг него или под ним нет, а практика будущих инженеров-атомщиков подводного флота проходит на стендах атомной электростанции в Сосновом Бору.
Петербуржцы могут спать спокойно. Их, как утверждается в другой легенде, хранят древние боги.
В одном из залов Эрмитажа, среди многочисленных памятников искусства Древнего Египта хранится статуя богини Мут-Сехмет. Львиноголовая богиня войны и палящего зноя, согласно древнему египетскому мифу, однажды решила уничтожить все человечество. Вмешались боги и спасли людей от гибели. Они разлили перед спящей Мут-Сехмет подкрашенное в красный цвет пиво. Наутро богиня, приняв пиво за человеческую кровь, выпила его и успокоилась. Прошли тысячелетия. Но, как рассказывает современная эрмитажная легенда, угроза человечеству до сих пор не исчезла. Правда, не исчезли и силы, хранящие человечество. Один раз в году, в полнолуние, на базальтовых коленях львиноподобной богини появляется красноватая лужица… которая бесследно исчезает незадолго до появления в эрмитажных залах первых посетителей одного из прекраснейших музейных хранилищ Санкт-Петербурга.
Вот и неистощимый Павел Глоба с обольстительной улыбкой господина Мефистофеля и сдержанными манерами мистера Воланда пророчил, что в апреле 1997 года Петербургу грозит мощный взрыв некоего склада отравляющих веществ. Нет, нет, никакой категоричности ни по форме, ни по содержанию в пророчестве не было. Просто так звезды предупреждают, терпеливо разъяснял знаменитый звездочет, а уж быть ли, добавим мы, «Петербургу пусту» и увидят ли петербуржцы в очередной раз зловещие круги от давнего проклятия, брошенного царевичем Алексеем в бездонную вечность, зависит вовсе не от истерических кликушеств и философических пророчеств.
Источники
Абрамкин В. Фольклор гражданской войны. Л., 1939.
Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году (Предыстория последней дуэли). Л., 1989.
Азиатский Н. А., Быстров И. Н., Филиппов Г. Г. Кировский район. Л., 1974.
Александр Михайлович, великий князь. Книга воспоминаний // Николай II. Воспоминания. Дневники. СПб., 1994.
Александров А. Примечание // Хармс Д. Полет в небеса. Л., 1991.
Амфитеатров А. Горестные заметы. Берлин, 1922.
Анекдоты. Воронеж, 1991.
Анекдоты русского двора. Берлин, 1904.
Анталов В. Микротопонимика Ленинграда. (Машинопись).
Антология мирового анекдота: К вам попугай не заходил? (Политический анекдот). Киев, 1994.
Антонов П. А. Ямщик, не гони лошадей // Ленинградская панорама, 1986, № 1.
Анциферов Н. П. Быль и миф Петербурга. Пг., 1924.
Анциферов Н. П. Из дум о былом. М., 1992.
Аргументы и факты, 1992, № 20, № 43–44; 1996, № 26, 31.
Архитектурный путеводитель по Ленинграду. Л., 1971.
Астахова А. Н., Колпакова Н. П. Старая и новая Карелия в частушках. Петрозаводск, 1937.
Ахматова А. А. Пушкин и дети // Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1990.
Ахматова А. А. Стихи и проза. Л., 1976.
Бабаев С. Тельняшка для Крузенштерна // Советская культура, 1990, 28 июля.
Балаган, журнал, Иерусалим, 1993, № 7.
Баранов Н. В. Силуэты блокады. Л., 1982.
Басина М. На берегах Невы. Л., 1969.
Бахтиаров А. Брюхо Петербурга. СПб., 1868.
Бахтиаров А. Народные гулянья на Марсовом поле // Язвы Петербурга. Л., 1990.
Бахтиаров А. Пролетариат и уличные типы Петербурга. СПб., 1895.
Бахтиаров А. Татары-халатники // Язвы Петербурга. Л., 1990.
Бахтин B. C. Народ и власть // Нева, 1996, № 1.
Бегемот, журнал, 1926, № 46; 1927, № 8.
Бейзер М. Евреи в Петербурге. Иерусалим, 1989.
Белинский В. Г. Петербург и Москва // Петербург– Петроград – Ленинград в произведениях русских и советских писателей. М., 1986.
Белых Г., Пантелеев Л. Республика Шкид. Л., 1968.
Бианки В. Город, который покинули птицы // Звезда, 1994, № 1.
Бирюков В. Г. Янтарная комната: Мифы и реальность. М., 1992.
Боголюбов П. История корабля. М., 1880.
Божерянов И. Н. Невский проспект. СПб., 1903.
Бондаренко Л. В. Петербурге пили только с приглашения хозяйки // Час пик, 1990, № 2.
Бондаренко П. П. Дети Кирпичного переулка // Невский архив. М., 1993.
Борев Ю. История государства советского в преданиях и анекдотах. М., 1995.
Борев Ю. Сталиниада. М., 1990.
Брюсов В. Я. Медный всадник // Избр. соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1995.
Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века. М., 1979.
Бурцев А. Е. Обзор русского народного быта северного края. СПб., 1902.
Бухштаб Б. Козьма Прутков // Полн. собр. соч. Козьмы Пруткова. М. – Л., 1965.
Бэседер, журнал, Иерусалим, 1992, № 44.
Валишевский К. Роман одной императрицы. М., 1989.
Васильева Л. Кремлевские жены. М., 1992.
Вебер Г. Х. Преображенная Россия // Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991.
Вересаев В. В. Пушкин в жизни: Систематический свод свидетельств современников. Минск, 1986.
Виноградов А. К. Повесть о братьях Тургеневых. Л., 1983.
Военные пословицы русского народа. Л., 1945.
Волков А. Тайна исчезнувшей комнаты // Северный вестник, 1991, № 2.
Волконский С. Васильевский остров // Наше наследие. 1991, № 4.
Вспомним дни походного привала. Саранск, 1990.
Вяземский П. А. Записная книжка. М., 1992.
Вяземский С. Невский проспект // Блокнот агитатора, 1972, № 29.
Георги И. Описание… столичного города Санкт-Петербурга… СПб., 1974.
Героизм русского народа в пословицах и поговорках. Л., 1943.
Геттнер А. Европейская Россия // Русские столицы Москва и Петербург. М., 1993.
Гибель С.-Петербурга. СПб., 1909.
Гиппиус З. Н. Живые лица. В 2 т. Тбилиси, 1991.
Голант В. Я. Укрощение строптивой. Л., 1966.
Голованов К. «Аврора» – крейсер революции. Л., 1987.
Гоппе Г. Б. Твое открытие Петербурга. СПб., 1995.
Горбачевич К. С., Хабло Е. С. Почему так названы? Л., 1975.
Горбовский Г. Я. Остывшие следы. Л., 1991.
Гордин А., Гордин М. Пушкинский век: Панорама столичной жизни. СПб., 1995.
Гордин А., Гордин М. Путешествие в пушкинский Петербург. Л., 1983.
Горелик Л. Из записных книжек // Балаган, Иерусалим, 1993, № 8.
Горнфельд А. Г. Муки слова. Пг., 1927.
Городской месяцеслов. СПб., 1993.
Грабарь И. Э. Петербургская архитектура в XVIII–XIX веках. СПб., 1994.
Градский П. Загадки смерти Чайковского // Вечерний Петербург, 1994, № 174.
Гранин Д. А., Адамович А. Блокадная книга. М., 1982.
Гребельский П. Х., Мирвис А. Б. Дом Романовых. СПб., 1992.
Гребенка Е. П. Петербургская сторона // Физиология Петербурга. М., 1984.
Григорович Д. Петербургские шарманщики // Физиология Петербурга. М., 1984.
Гроссман Л. П. Записки Д'Аршиака. М., 1990.
Губер П. К. Дон-Жуанский список Пушкина. М., 1990.
Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1957.
Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1984.
Дзядок B. C. Частушки. Петрозаводск, 1991.
Дмитриев В. Г. Скрывшие имя свое. М., 1977.
Дмитриев Ю. Цирк в России. М., 1977.
Добринская Л. Б. Там у Невы наш первый сад… СПб., 1992.
Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987.
Долгополов Л. К. На рубеже веков. Л., 1985.
Домбровский Ф. О. Полный путеводитель по Петербургу. СПб., 1896.
Елеонская Е. Н. Сборник великорусских частушек. М., 1914.
Ермолаева Л. К., Лебедева И. М. По берегам Медвежьей речки. СПб., 1992.
Задорина А. «…ночью даже жутко живой» // Привет, Петербург, 1994, № 31.
Засосов Д. А., Пызин В. И. Петербург 1890–1910 годов. Л., 1991.
Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бумаг графа Бассевича – Петр Великий. М., 1993.
Зощенко М. М. Голубая книга. М., 1963.
Захарова Л. Детективные истории об «Астории» // Смена, 1992, № 296.
Иваницкий H. А. Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки, собранные в Вологодской губернии. Вологда, 1960.
Иваницкий Н. И. Воспоминания и дневник // Вересаев В. В. Пушкин в жизни. Минск, 1986.
Иванов Г. Петербургские зимы // Избранное. М., 1989.
Ивин М. Навзрыд о Петербурге // Нева, 1992, № 2.
Иезуитова Р. В., Левкович Я. Л. Пушкин в Петербурге. Л., 1991.
Изгоев А. С. Пять лет в Советской России // Жизнь в ленинской России. Лондон, 1991.
Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Вып. 1-10. СПб., 1896–1878.
История СССР в анекдотах. Рига, 1991.
Кавелина Г. Город и Казанская икона // Вечерний Петербург, 1991, 2 октября.
Канкрин А. В. Мальтийские рыцари. М., 1991.
Канн П. Я. Вдоль Мойки // Вечерний Ленинград, 1987, № 240.
Канн П. Я. Прогулки по Петербургу. СПб., 1994.
Карчик М. Сказка ложь, да в ней намек… // Смена, 1992, № 278.
Кельсиев В. И. Петербургские балаганные прибаутки // Труды этнографического отдела, кн. IX, 1998.
Клодт Г. «Лепил и отливал Петр Клодт…» М., 1989.
Князев В. Жизнь молодой деревни: Частушки-коротушки Петербургской губернии. СПб., 1913.
Князев В. Книга пословиц. Л., 1930.
Князев В. Русь. Сборник избранных пословиц и поговорок. Л., 1929.
Князев В. Современные частушки. 1917–1922. Пг., 1922.
Ковалева Л. Светлый лик Ксении // Невские ведомости, 1990, № 2.
Конечный A. M. Петербургские народные гулянья на масленой и пасхальной неделях // Петербург и губерния. Л., 1989.
Конечный A. M. Раек в системе петербургской городской культуры // Русский фольклор, т. XXV. Л., 1989.
Копанович И. К. Частушки, собранные в Псковской губернии. Псков, 1904.
Коршак Ю. Марсофлот // Смена, 1988, № 195.
Кочубей А. В. Записки // Пушкин А. С. Медный всадник. Л., 1978.
Красный ворон, журнал, 1923, № 41.
Крестовский В. В. Петербургские трущобы. Л., 1990.
Кригер В. А. Актерская громада. М., 1976.
Криничная Н. А. Легенды. Предания. Бывальщина. М., 1989.
Кунин В. В. Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками. М., 1987.
Купанцева Н. Его поймали, арестовали… // Смена, 1991, № 251.
Курбатов В. Я. Петербург. СПб., 1913.
Кюстин А. Николаевская Россия. М., 1990.
Ласкин СБ. Вокруг дуэли. СПб., 1993.
Лацис А. В поисках утраченного смысла // Три века поэзии русского Эроса. М., 1992.
Левин В. История строительства петербургской хоральной синагоги // Народ мой, 1992, № 17.
Левкович Я. Л. Жена поэта // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1994.
Левкович Я. Л. Кольчуга Дантеса // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1994.
Леди Блумфильд удивляется // С.-Петербургская панорама, 1992, № 3.
Лейферт А. Балаганы. Пг., 1992.
Ленинград: путеводитель. Л., 1931; Л., 1933; Л., 1940; Л., 1957; Л., 1970.
Лесков Н. С. Смех и горе // Собр. соч. в. 11 т. Т. 3. М., 1957.
Листов В. С. Миф об «островном пространстве» в творческом сознании Пушкина // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1994.
Литератор, 1991, № 19.
Литературные памятные места Ленинграда. Л., 1958.
Лихачев Д. С. Заметки и наблюдения. Л., 1989.
Ломан О. В. Предания о Пушкине // Литературный критик, 1938, № 3.
Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 1994.
Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995.
Лотман Ю. М. Символы Петербурга и проблемы семиотики города // Тарту, 1984, № 18.
Лотман Ю. М., Пагосян Г. А. Великосветские обеды. Панорама столичной жизни. СПб., 1996.
Лукаш И. Карта Германна. СПб., 1992.
Лукин В. М. Еврейское кладбище // Исторические кладбища Петербурга. СПб., 1993.
Лурье Л. Я. Прощай, «Сайгон» // Вечерний Ленинград, 1990, 13 февраля.
Лурье С. Сказки о буревестнике // Звезда, 1993, № 9.
Лурье Я. Встретимся у «Доминика» // Ленинградская панорама, 1987, № 3.
Маграчев Л. Репортаж из блокады. Л., 1989.
Малые жанры русского народа. М., 1986.
Медерский Л. А. Набережные Фонтанки. Л. – М., 1964.
Мережковский Д. С. Антихрист: Петр и Алексей // Собр. соч. в 4 т. Т. 2. М., 1990.
Местр Ж. де. Петербургские письма. СПб., 1995.
Металлурги с Матисова острова. Л., 1967.
Метлицкий Б. Быль или легенда? // Ленинградская правда, 1990, 13 мая.
Минцлов С. Р. Петербург в 1903–1910 годах. Рига, 1931.
Митьки-газета, 1992, № 3.
Михельсон М. И. Опыт русской фразеологии. СПб., 1902.
Михневич П. О. Петербургские сады и их этнография // Язвы Петербурга. Л., 1990.
Молдавский Д. Легенда о броневике // Нева, 1955, № 8.
Монас С. Воображаемый город // Нева, 1992, № 5.
Моравский Станислав. Воспоминания // Вересаев В. В. Пушкин в жизни. Минск, 1986.
Муравьева О. С. Образ Пушкина: исторические метаморфозы // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1994.
Набоков В. В. Другие берега. Л., 1991.
Набоков В. В. Пушкин и Ганнибал: версия комментатора // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1994.
Назарова Г. Исчезнувший памятник // Ленинградская правда, 1990, 16 июня.
Найман А. Поэзия и неправда // Октябрь, 1994, № 1.
Народный театр. М., 1991.
Народно-поэтическая сатира. Л., 1960.
Наша старина, 1915, № 5.
Нежиховский Р. А. Река Нева. Л., 1973.
Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Л., 1988.
Никитин А. Прогулка по Семенцам // С.-Петербургская панорама, 1992, № 2.
Никитин А. Шувалово – Озерки // С.-Петербургская панорама. 1992, № 10.
Никитина Т. На скачки в Красное Село. // С.-Петербургская панорама, 1991, № 9.
Николаева O. P. Возвращение в мир молвы // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1994.
Нутрихин A. И. Песни русских рабочих. М. – Л., 1962.
Обстоятельное собрание современных анекдотов. Сыктывкар, 1991.
Овсянников Ю. М. Доменико Трезини. Л., 1988.
Одоевский В. Ф. Саламандра. Собр. соч. в 2-х т. Т. 2. М, 1981.
Одоевцева И. На берегах Невы. М., 1989.
О зачатии и здании царствующего града Санкт-Петербурга // Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991.
Озорные частушки. М., 1992.
Орлов В. Н. Поэт и город. Л., 1980.
Осовцов С. С чужого голоса // Нева, 1994, № 9.
Осповат А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальну повесть сохранить». М., 1985.
Отрадин M. В. Главный герой – Петербург (предисловие) // Петербург в русском очерке XIX века. Л., 1984.
Охлябин С. Д. Честь мундира. М., 1994.
Песни и частушки ленинградских партизан. Л., 1943.
Петриченко О. Дамба против демократии // Огонек, 1989, № 7.
Петр I в анекдотах. Черты из жизни и деятельности. СПб., 1901.
Питерский Б. Играли свадьбу // Правда, 1989, № 209.
Подвиг века. Л., 1969.
Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Якобом Штелиным // Петр Великий: Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. М., 1993.
Помяловский И. В. Забавные изречения, смехотворные анекдоты, или домашние остроумцы. Рукопись. РНБ Ф-608, № 4435.
Помяловский Н. Г. Поречане: Рассказ и очерки. СПб., 1865.
Попов И. Энциклопедия весельчака. В 2 т. СПб., 1872–1873.
Попов И. В. Церковь Воскресения Христова у Варшавского вокзала // Балтийский курьер, 1993, № 11.
Порудоминский В. И. Крамской. М., 1974.
Пословицы. Поговорки. Загадки. М., 1986.
Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII–XX веков. М. – Л., 1961.
Постникова Е. 21-й год // Жизнь в ленинской России. Лондон, 1991.
Потешки. Считалки. Небылицы. М., 1989.
Прийма И. «Сайгон»: отцы и дети // Ленинградская панорама, 1989, № 2.
Пунин А. Л. Повесть о ленинградских мостах. Л., 1971.
Путеводитель по С.-Петербургу. СПб., 1903.
Пушка, журнал, 1928, № 32.
Пушкин А. С. Table talk (застольные разговоры) // Поли. собр. соч. Т. 4. М., 1954.
Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. СПб., 1996.
Пыляев М. И. Замечательные чудаки и оригиналы. СПб., 1898.
Пыляев М. И. Старое житье. СПб., 1998.
Пыляев М. И. Старый Петербург. СПб., 1889.
Пукинский Б. К. 1000 вопросов и ответов о Ленинграде. Л., 1974.
Равинский Д. К. Призрачный город // Невское время, 1993, 29 апреля.
Раевский Н. А. Портреты заговорили. Алма-Ата, 1976.
Раешник… в пользу Охтенского детского приюта. СПб., 1887.
Раков Ю. Тройка, семерка, дама: Пушкин и карты. СПб., 1994.
Раскин А. Петродворец. Л., 1975.
Раскин И. Энциклопедия хулиганствующего ортодокса… М., 1994.
Рахманов Л. «Уважаемые читатели» // Воспоминания о Михаиле Зощенко. СПб., 1995.
Русаков А. П. Потомки Пушкина. Л., 1978.
Русская ворожея. СПб., 1882.
Русская старина: Путеводитель по XVIII веку. М. – СПб., 1996.
Русские озорные частушки. Красноярск, 1993.
Русские народные гулянья. М. – Л., 1948.
Русские столицы Москва и Петербург. М., 1993.
Русские частушки. М., 1956.
Русский архив. М., 1990.
Русский фольклор Великой Отечественной войны. М. – Л., 1964.
Русское народное поэтическое творчество. М., 1987.
Рыбникова М. А. Русские пословицы и поговорки. М., 1961.
Сайтанов В. Дополнения и примечания // Вересаев В. В. Пушкин в жизни. Минск, 1986.
Самоцветные частушки. М., 1992.
Санкт-Петербург – столица Российской империи. М. – СПб., 1993.
Санкт-Петербургские ведомости, 1994, № 246.
Сатаров В. А., Гойхман П. В. По следам литературных героев // Ленинградская панорама, 1987, № 10.
Сатирикон, 1908, № 41; 1912, № 7.
Саша Черный. Стихотворения. Л., 1960.
Сборник советских пословиц и поговорок. Горький, 1955.
Свешников M. Петербургские вяземские трущобы и их обитатели. СПб., 1900.
Свиньин П. П. Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей. СПб., 1817–1821.
Семевский М. И. Слово и дело. СПб., 1884.
Симаков В. И. Сборник деревенских частушек. Ярославль, 1913.
Сказки, песни, частушки, присловья Ленинградской области, записанные В. Бахтиным. Л., 1982.
Скальковский К. А. Воспоминания молодости. СПб., 1906.
Слепцов В. А. Балаганы на святой // Народный театр. М., 1991.
Словарь лагерно-тюремно-блатного жаргона. Одинцово, 1992.
Смена, 1992, № 85, 296; 1993, № 197; 1994, № 46, 215.
Снегирев И. М. Русский литературный анекдот конца XVIII – начала XIX века. М., 1990.
Советская молодежь, журнал, Рига, 1990, № 72.
Солженицын А. И. Март семнадцатого // Нева, 1990, № 1.
Соллогуб В. Страницы петербургских воспоминаний. СПб., 1993.
Соловьев Л. Ф. Тайны Петербургской стороны // Сказ о Санкт-Петербурге. Л., 1991.
Соловьева А. За узорной оградой // Ленинградская правда, 1989, № 271.
Солсбери Г. 900 дней: Блокада Ленинграда. СПб., 1994.
Сорокин В. Б. Фольклор Московской области. М., 1979.
Стеклова И. Звучала музыка в садах // Ленинградская панорама, 1989, № 12.
Степанова И. Петербургские сны // Русская мысль, 1995, № 4065.
Стереоскоп. СПб., 1992.
Столпянский П. Н. Дачные окрестности Петрограда. Пг., 1923.
Столпянский П. H. Петербург: Как возник, основался и рос Санкт-Петербург. Пг., 1918.
Столпянский П. H. К истории лейб-гвардии Конногвардейского полка. // Столица и усадьба, 1914, № 19–20.
Столпянский П. Н. Легенды, предания и сказания старого Петербурга // Ленинград (Петроград), 1924, № 2.
Столпянский П. Н. Музыка и музицирование в старом Петербурге. Л., 1989.
Суслов В. Н. 50 рассказов о блокаде. СПб., 1994.
Суходрев В. М. Петербург и его достопримечательности. СПб., 1901.
Сыркин Л. «Я пройду до самого конца…» // Книга живых… Л., 1995.
Тайц Е. Не хлебом единым // Вечерний Ленинград, 1990, № 214.
Теплов И. Расклад легенд по полочкам свершился // Смена, 1995, № 142–143.
Тимофеев Л. В. В кругу друзей и муз: Дом Оленина. Л., 1983.
Титова Л. Пять кусочков сахара // Смена, 1987, № 285.
Толстой А. Н. Хождение по мукам. Л., 1947.
Толстой Д. Что думается о Петре Великом на рубеже XXI века // Литератор, 1992, № 49.
Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифоэпического. М., 1995.
Топоров В. Н. Петербург и петербургский текст русской литературы // Метафизика Петербурга. СПб., 1993.
Трубецкой В. Записки кирасира. М., 1991.
Труд, газета, 1990, 2 августа.
Тульчинский Г. Город-испытание // Метафизика Петербурга. СПб., 1993.
Тур. Васильевский остров // Красная панорама, 1929, № 21.
Турьян Н. А. Гениальнейший дилетант // Петербургские встречи Пушкина. Л., 1987.
Тынянов Ю. Н. Восковая персона // Кюхля. Рассказы. М., 1981.
Успенский Л. В. Записки старого петербуржца. Л., 1970.
Утьков В. На берегу Невы // Ленинградская правда, 1991, № 131–132.
Фадеев А. А. Ленинград в дни блокады. Собр. соч. Т. 4. М., 1970.
Федотов Г. П. Три столицы // Новый мир, 1989, № 4.
Фетышев С. Остров без соблазнов // Смена, 1992, № 216.
Флегон А. За пределами русских словарей. Лондон, 1973.
Фольклорный театр. М., 1988.
Форш О. Д. Михайловский замок. // Собр. соч. Т. 4. М. – Л., 1963.
Форш О. Д. Сумасшедший корабль. Л., 1988.
Фронтовой юмор. М., 1970.
Фюлёп-Миллер Р. Святой дьявол. СПб., 1994.
Храмы Петербурга. СПб., 1992.
Хренков Д. Т. Анна Ахматова в Петербурге – Петрограде – Ленинграде. Л., 1989.
Х. С. (Хрущев-Сокольников Г. А.). Раёшник. СПб., 1889.
Час пик, 1991, № 8, 9.
Частушки. М., 1957.
Частушки. М. – Л., 1966.
Частушки. М., 1987.
Частушки. М., 1990.
Частушки в записях советского времени. М. – Л., 1965.
Частушки Ленинградского фронта. Л., 1943.
Чистова И. С. К статье С. А. Соболевского «Таинственные приметы в жизни Пушкина» // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1994.
Чуковский К. И. От двух до пяти. М., 1957.
Чулков Г. И. Императоры: Психологические портреты. М., 1995.
Цацко Б. Ленинградцы улыбаются // Крокодил, 1957, № 17.
Цветков С. Дамбе – референдум // Ленинградская панорама, 1989, № 4.
Цимбаев Н. Сергей Соловьев. М., 1990.
Цимринг С. Вы их знаете? // Ленинские искры, 1990, 27 января.
Шайжин Н. С. Материалы по народной словесности. Петрозаводск, 1903.
Шаляпин Ф. И. Маска и душа. М., 1990.
Шахнович М. И. Петербургские мистики. СПб., 1996.
Шевелев Э. Встречи на перекрестках // Вечерний Ленинград, 1987, № 82.
Шейдлин Б. Москва в пословицах и поговорках. М., 1929.
Шейн П. В. Великорусс в своих песнях, обрядах, верованиях и т. п. СПб., 1898.
Шемякин М. Открытое письмо… //Литератор, 1991, № 41.
Шерман А. А на кладбище все спокойненько // Народ мой, 1992, № 5.
Шефнер B. C. Имя для птицы. Л., 1977.
Шефнер B. C. Сестра печали. Л., 1980.
Шефнер B. C. Счастливый неудачник // Запоздалый стрелок. Л., 1987.
Шильдер М. К. Император Павел I. СПб., 1901.
Шмитт-Фогелевич Н. П. Записки коллекционера // Невский архив. М. – СПб., 1993.
Шубинский С. Н. Придворный быт и забавы: 1730–1740 // Русская старина, 1873, т. 3.
Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре Великом. Ч. 1. М., 1830.
Шульц С. С. Храмы Санкт-Петербурга (история и современность). СПб., 1994.
Шустов А. На льду Таврического // Ленинградская правда, 1989, № 7.
Эйдельман Н. Я. Мгновенье славы настает… Л., 1989.
Эйдельман Н. Я. Прекрасен наш союз… М., 1991.
Эйдельман Н. Я. Твой 18 век… М., 1991.
Юхнёва Н. В. Петербург – многонациональная столица // Старый Петербург. Л., 1982.
Ямпольский И. Г. Примечания // Поэты «Искры». Т. 2. Л., 1987.
Яцевич А. Г. Пушкинский Петербург. Л., 1930; Л., 1931.
Кроме источников, перечисленных выше, при работе над книгой автор пользовался передачами радио и телевидения, самозаписью и записью фольклора, предоставленного ему близкими друзьями, знакомыми и читателями предыдущих книг о петербургском фольклоре. С искренней благодарностью за помощь в работе автор перечисляет их имена:
Акмен А. И., Андреев А. К., Арсеньев В. Р., Баженов Ю. П., Белинский Ю., Белкин Д. С., Берман C. H., Блинский А., Бородин А. И., Векслер А. Ф., Волков В. П., Гладуш Н. Т., Головачев В. Н., Голубков А. Г., Гуревич Л., Дружинина А. Г., Зданевич Г. Г., Иванов Н. Н., Каминский Л. Д., Кацнельсон Л. И., Келлер Е. Э., Китаев А. А., Ковалев Н. И., Колокольцев А., Кулаков В., Кундина О., Лазо А. С., Лазовский Е. В., Лурье В., Любавин М. А., Невельский В. Ф., Никаноров A. M., Панфилов Е. Д., Петров А., Плаксин Д. М., Плаксин С Д., Позняков В. П., Полыковский С., Путилов Б. Н., Равинский Д. К., Рехин В. Ф., Розанов А. С., Синдаловский А. Н., Синдаловский Л. Н., Сорокина, Степанова И., Суслов В. Н., Тимофеев А. А., Толстов О., Трубников И. С., Успенский М. Н., Фаддеев Б., Файбисович В., Файзуллин Б. Ш., Файнштейн В. З., Флоренский А. О., Фромзель В. М., Фронтинский Ю., Хавин З. Я., Чернов А. Ю., Шмитт-Фогелевич Н. П., Штофф О. И., Щепанская Т. Б., Эзрохи Л. Л., Юсупов Э. С., Яшке В.

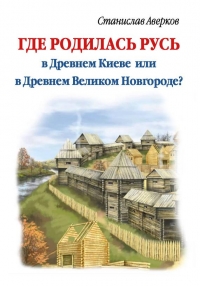


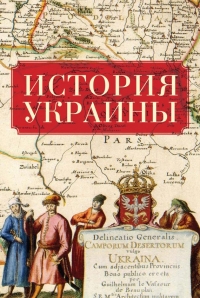
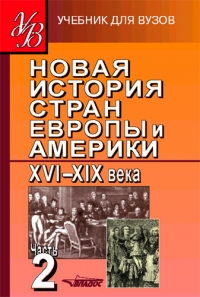

Комментарии к книге «Мифология Петербурга», Наум Александрович Синдаловский
Всего 0 комментариев