Эдмон Поньон Повседневная жизнь Европы в 1000 году
Эдмон Поньон и феномен тысячного года
Помните, какой интерес вызвало появление у нас первого издания книги Марка Блока «Апология истории»? Это произошло в 1973 году. Книга была распродана в несколько дней и стала раритетом. В 1986 году ее пришлось переиздавать[1]. А еще через пять лет то же издательство «Наука» выпустило объемистый том работ Люсьена Февра[2], ближайшего сотрудника Блока, вместе с ним основавшего всемирно известный журнал «Анналы». Эти двое открыли новую страницу историографии – недаром направление, представленное ими, стало называться «Новой исторической наукой» (La Nouvelle Histoire). Они научили по-новому читать старые, давно известные документы и находить в них то, что раньше было скрыто от пытливого взгляда исследователя; они превратили историю в творческую лабораторию, создав как бы диалог современности с прошлым, диалог, позволяющий четко выявить структурные особенности прежних эпох и ментальную неповторимость человека того времени. Ныне это течение доминирует во французской (да и не только во французской) историографии, объединяя десятки видных имен, иные из которых – имена Броделя, Ле Гоффа, Дюби – знакомы и русским читателям[3]. По методологии к нему близок и автор книги, лежащей перед нами, – недаром он часто цитирует Марка Блока и Жоржа Дюби.
Питомец Школы Хартий, давшей Франции плеяду знаменитых медиевистов, сам Эдмон Поньон, впрочем, историк более широкого профиля, не замыкающийся в рамках какой-либо одной эпохи: его увлекают и Античность, и Средневековье, и Новейшее время[4]. Но среди всех его трудов книга «Повседневная жизнь в тысячном году», изданная в Париже восемнадцать лет назад, занимает особое место уже и потому, что к этому сюжету историк обращается не впервые[5].
Хотя книга Поньона в заглавии и приурочена к одному году, на самом деле автор поднимает значительный пласт средневековой истории Западной Европы (преимущественно Франции) за период второй половины X – первой половины XI века, иначе говоря, время на грани раннего Средневековья и развитого феодализма. Сразу следует отметить, что этот период – одна из наиболее «темных» страниц европейской истории. Исследователь, дерзнувший к ней обратиться, сразу обнаруживает, с одной стороны, острый дефицит источников, с другой – крайнюю сумбурность и противоречивость тех событий, которые удается более или менее точно установить. Это особенно относится к «повседневной жизни» – к быту, занятиям, интересам, стремлениям различных общественных групп населения отдаленной от нас эпохи вследствие их полной неадекватности современным понятиям и реалиям. Поньон не убоялся всех этих трудностей и сумел написать книгу, которая, несмотря на серьезность содержания, читается почти как беллетристика. Ибо здесь удачно сочетаются две, как правило, трудносовместимые линии: глубокая эрудиция и легкость изложения, акрибийное знание фактов и умение их ненавязчиво и красиво преподнести (попутно заметим, что переводчику удалось сохранить эту особенность стиля Поньона).
Что же касается самого материала, содержащегося в книге, то он многообразен и подчинен тщательно продуманному плану, в котором каждая глава последовательно раскрывает намеченный комплекс проблем и фактов. Оставив пока за скобками главу первую (к ней мы вернемся позже), отметим основные из числа этих проблем.
Автор прежде всего выявляет ментальные особенности избранного им отрезка истории общества, природные условия, демографическую ситуацию, роль и значение латинского языка и его модификаций, вскрывает представления людей о Вселенной, о времени и пространстве. Главы, посвященные церкви, клиру и монастырям, – Клюнийская реформа, жизнь в обители, ее распорядки, ее отношения со светским обществом – все это занимает (и вполне закономерно – Поньон не скрывает этого, поскольку здесь его источники особенно подробны) центральную и самую весомую часть книги. Когда, вслед за этим, он переходит к социальной структуре и экономике светского общества, положение осложняется вследствие крайней скудости источников. Однако Поньон и здесь успешно преодолевает трудности, то привлекая более поздние материалы, то выстраивая логические конструкции – это дает ему возможность создать общие представления и о производстве, и о торговле, и о материальном положении общества. Не остались в стороне феодальный замок с его обитателями и феодальная война. Небезынтересно отметить, что делается даже робкая попытка кратко охарактеризовать Древнюю Русь. Здесь, правда, Поньон, специалист по западной цивилизации, чувствует себя менее уверенно и допускает неточности вроде ошибочной даты крещения Руси, а его утверждение о том, что «…где-то около 1000 года Россия стала приобретать то лицо, которое она имела вплоть до Петра Великого и многие наиболее характерные черты которого сохранила вплоть до Ленина», может вызвать только улыбку. Впрочем, вряд ли стоит акцентировать внимание на этом огрехе Поньона – он характерен для многих западных историков и несуществен для исследования, посвященного совсем другому региону и другим проблемам. Наш основной (и почти единственный) упрек к автору прекрасной книги относится к совершенно иной сфере.
В последней фразе «Заключения», как бы резюмируя сказанное выше о бурном строительстве новых храмов, Поньон делает следующий вывод: «…людям 1000 года было чем заняться, вместо того чтобы страшиться конца света». Странный вывод! Ибо каждый непредвзятый историк и искусствовед прекрасно знает, что взаимосвязанность здесь была совсем иной: люди 1000 года именно потому так ретиво и взялись за строительство церквей, что люто боялись конца света! И именно ужас перед концом света и Страшным Судом, изображения которого покрыли все тимпаны соборов, были тем стимулом, который привел к резкому сдвигу в религиозной архитектуре и стал одним из мощных рычагов в появлении готики! Между тем приведенная заключительная фраза автора далеко не случайна: она как бы перебрасывает наше внимание к самому началу книги, к главе первой, о которой мы пока умышленно ничего не говорили и которая-то и вызывает наши тягостные сомнения.
Дабы читатель правильно понял, что мы имеем в виду, придется начать несколько издалека.
Евангелие сообщает, что, беседуя со своими учениками, Иисус Христос поведал им о своем Втором Пришествии на Землю и о тех знамениях, которые будут это сопровождать (Матф., 24: 29-33), не определив, однако, времени события: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Матф., 24:36), и далее еще раз подчеркнул ту же мысль: «Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет» (Матф., 24:42). Однако все же Он дал понять, что произойдет это в пределах одного поколения: «Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет» (Матф., 24:34). Поскольку этого не произошло, христианской церкви пришлось отказаться от буквального толкования Евангелия и перенести Второе Пришествие в неопределенное будущее. Некоторые уточнения дало Откровение святого Иоанна Богослова (Апокалипсис), где сообщалось, что Второму Пришествию будут предшествовать страшные бедствия, а вслед за ним наступит 1000-летнее земное царство Иисуса Христа. Так впервые появилась эта сакральная цифра – единица с тремя нулями и соответственно милленаризм (хилиазм)[6] – учение, ставшее выражением мечты о земной справедливости и устранении социального зла. В раннехристианской теологии учение это получило неоднозначную оценку: его не признали Ориген и Августин, но поддержали Тертуллиан, Юстин и Ириней. Однако в народной среде оно получило широкое распространение, постепенно приобретая все более мистический и антифеодальный настрой[7]. И вполне закономерно, что первые и наиболее стойкие ожидания должны были прийтись также на цифру с тремя нулями – на 1000 год от Рождества Христова. Тем более что именно в преддверии этого года Европу охватили все апокалиптические бедствия – и войны, и вторжения, и голод, и мор, и всевозможные небесные катаклизмы. Косвенным подтверждением сакральности 1000 года может служить и то обстоятельство, что сегодня, когда грядет конец второго тысячелетия от Рождества Христова, в воздухе витает тот же испытанный лейтмотив о конце света и Втором Пришествии, подкрепленный теми же апокалиптическими бедствиями на более высокой (атомной) основе.
Так или иначе, но ожидание конца мира, зафиксированное в средневековых источниках и приуроченное к 1000 году, – факт, не подлежащий сомнению. А вот автор книги о 1000 годе не только в нем сомневается, но и пытается его оспорить с горячностью, достойной лучшего применения. При этом главной (и даже единственной) мишенью избирается один из великих историков прошлого столетия – Жюль Мишле. Упрекая Мишле в «неточностях», Поньон наносит ему удары ниже пояса, поскольку известно (и Поньону лучше, чем кому бы то ни было), что Мишле был художником от истории, что он зачастую умышленно переставлял факты, чтобы создать образ, и никогда не гнался (не потому, что не мог, а потому, что не хотел) за академической «точностью». Именно поэтому на Мишле, конечно же, было проще нападать, чем, скажем, на Ф. Мишо, знаменитого историка крестовых походов[8], бывшего, как и Мишле, «романтиком», но отвечающего за каждый факт, помещенный в его книге.
Но оставим Мишле и перейдем к фактам. А вот факты-то, приводимые самим Поньоном, как это ни парадоксально, все как один свидетельствуют против него. Действительно, он дает в развернутой форме весь «арсенал» того же Мишле: и бедствия, и набеги, и голод, и людоедство, и «знамения» на небе… Он даже не отрицает, что факт «ожидания» засвидетельствован в источниках, но упирает на то, что их так мало! Спрашивается, а много ли вообще дошло до нас источников от 1000 года? Исчерпывающий (разумеется, отрицательный) ответ дает весь текст книги Поньона. Не более убедительна и его ссылка на то, что в большинстве своем источники не называют точно 1000 год. Ну, а как могло быть иначе? Сам же Поньон напоминает, что в те времена новый год начинался не с 1 января! Само собой разумеется, что ожидания конца мира население не привязывало к одной точной дате и даже к одному конкретному году: это мог быть и конец уходящего тысячелетия, и начало будущего – и 999 год и, в равной мере, 1001! Характерно, что когда стало ясно, что в районе 1000 года светопреставления не будет, его перенесли на 1033 год (тысячелетие Страстей Господних), а затем на 1066 год («звериное число»), и настроение это сохранялось в течение всего XI века, явившись, кстати говоря, одной из причин крестовых походов.
Впрочем (и думается, читатель из всего вышесказанного мог сам это заметить), парадоксальное утверждение Поньона никак не повлияло на весь последующий текст этой книги, оставляя ее в целом весьма занимательным и достойным произведением, и она, не сомневаемся в этом, будет с интересом и приязнью принята всяким русским, интересующимся историей.
А. Левандовский
От переводчика
Переводчик – в какой-то мере посредник Во всяком случае, ему первому выпадает возможность соприкоснуться с тем, что после него прочтут многие. Это чувство не покидает его во время работы над переводом и придает остроту впечатлению, получаемому от книги. И чем выше книга поднимается над средним уровнем чтива во имя убиения времени, тем больше впечатлений. Впечатлениями же всегда хочется поделиться, так уж устроен человек. Отсюда эта небольшая вступительная статья, которую читатель, желающий сохранить остроту собственного впечатления, может спокойно пропустить…
Впечатление первое
Тысячный год… Положа руку на сердце признаемся, что не сразу сообразишь, с чем связана эта дата. По количеству нулей она более чем «круглая», но если спросить себя: «А что, собственно, тогда происходило?», то человеку, не занимавшемуся историей специально, ответить не очень просто. Пожалуй, появляется лишь смутное воспоминание о том, что, кажется, в Европе в этом году ожидали конца света. (Кстати, именно с развенчания этой расхожей идеи и начинается книга Э. Поньона.) Если добавить по несколько десятилетий до и после тысячного года, то картина не то чтобы проясняется, но обретает хоть какие-то точки опоры. В 987-989 годах произошло крещение Руси… В 1066 году норманны завоевали Англию… Чуть раньше вроде бы Византия воевала с Болгарией… И еще где-то в это время викинги открыли Америку… Прошу прощения у более эрудированных читателей, но любое впечатление имеет право на субъективность. А впечатление состоит вот в чем.
Обычно историческая литература либо сосредоточивается на малом пространственном и временном отрезке (например, «Восстание Спартака» или «Образование США»), либо охватывает абсолютно необозримый период («История Средних веков», «История Рима от основания города» и т. п.). Бывают исследования, сосредоточенные на личности: тогда временной отрезок весьма узок, но узок и обзор событий: он связан только с тем, что касается героя исследования. А вот история года, тысячного или какого бы то ни было, – это нечто очень конкретное и вместе с тем позволяющее создать огромную панораму фактов. В книге Э. Поньона в основном речь идет о Франции, есть сведения также о Священной Римской империи и о папском престоле. О Византии данных уже весьма немного. Сведения же, выходящие за пределы этих границ, весьма схематичны и зачастую вызывают слишком много вопросов и даже возражений.
Вот если бы развить идею истории года, если бы сделать срез на уровне года или нескольких десятилетий по различным регионам и странам! Покуда мы слишком привязаны к узким рамкам границ. Все знают, что существует нечто под названием «Всемирная история», но на практике неисторик, читающий, скажем, романы А. Дюма, посвященные истории Франции, с трудом соображает, что происходило в то же самое время в его родной России. А читая жизнеописание Ивана Калиты, вообще не представляет себе, какова была в то время ситуация в Германии, в Испании или даже в соседней Польше. В нашей повседневной жизни мы постепенно привыкаем к тому, что границы между государствами перестают быть непреодолимым препятствием. Постепенно народы, с разной скоростью преодолевая сопротивление и силу инерции, объединяются в Человечество. Это неизбежно. Ведь, скажем, экологические проблемы, столь характерные для современного мира, нельзя решать в рамках узкогосударственных границ. Как известно, эхо взрыва на Чернобыльской АЭС докатилось до Швеции.
Но как только мы мысленно обращаемся к истории, у большинства в голове возникают отдельные и трудносовместимые истории – «история Франции», «история России», «история Японии», «история Халифата» и т. д. Можно возразить, что человечество предыдущих веков было сильнее разделено границами, нежели сейчас: и средства передвижения были маломощные, и атомные электростанции еще не взрывались… Несомненно. Но при этом в наших же (я имею в виду «массового читателя») специально исторически не образованных головах издавна сидит выученная в школе идея: «Существуют наиболее общие законы исторического развития, конкретно проявляющиеся в каждой стране, в каждом регионе». Только вот что за законы – ответить труднее: 20 лет назад заучивали одни законы, теперь вроде бы они стали другими…
Так вот: если бы продолжить начинание Э. Поньона и добавить к его «Тысячному году» описание повседневной жизни в странах Восточной Европы в 1000 году, картину событий и общей атмосферы жизни на мусульманском Востоке, историю Китая на рубеже X-XI веков, историю Индии, Японии и любого другого региона, любого другого народа! Может быть, тогда в этом обширном материале станут более наглядными те самые наиболее общие тенденции, которые пока что большинство из нас постулирует сугубо умозрительно. Что в экономике, политике, морали, философии, искусстве различных, пусть напрямую не связанных между собой регионов было общим, характерным именно для этого узкого отрезка времени? Подобная панорама для любого года, не обязательно тысячного, возможно, была бы более поучительна, чем теоретическое изложение основных законов развития общества.
Впечатление второе
Книга Э. Поньона интересна не только тем, что дает много конкретных сведений о мало известном широкому читателю периоде истории. Одним из наиболее замечательных ее свойств является обилие кавычек, то есть огромное число цитат из источников того времени: от длинных описаний до короткой, в два слова, ссылки на источник. Пусть от той эпохи сохранилось мало документов и все они принадлежат в основном перу одних и тех же авторов, объединенных общей идеологией, уровнем образования, зачастую воинствующей субъективностью. Дело же не в том, что источнику того времени нужно сразу верить на слово, а в том, чтобы почувствовать аромат этого источника, а не довольствоваться пересказом, сделанным современным историком. Э. Поньон постоянно дает нам возможность соприкоснуться с бережно заключенными в кавычки осколками мысли и морали людей 1000 года. Каково бы ни было наше суждение о содержании этих мыслей, сама возможность ощутить колорит времени не может не доставить удовольствие читателю.
Но этого мало. Э. Поньон не только цитирует источники. Он исподволь, ненавязчиво учит нас тому, чему обычно обучают только профессиональных историков, а именно: анализу и критике источников. Не останавливаясь специально на вопросах источниковедения, автор на конкретных примерах, излагая ход собственных рассуждений, показывает, как, например, из картинки в иллюстрированном календаре можно извлечь информацию о том, что ели, что надевали и что покупали на рынке люди 1000 года. И сразу же читатель видит пример того, как можно критически рассмотреть полученную таким образом информацию, сравнив ее, допустим, с Уставом клюнийских монахов. Или как привлечь к анализу данные лингвистики. Или как учесть свидетельства палеографии и палеоботаники. Или о чем можно узнать, рассматривая обрушившиеся стены древних построек. И главное: как не позволять себе произвольно домысливать то, чего не было, но во что очень хочется поверить.
Впечатление третье
Книга Э. Поньона начинается словами: «Повседневная жизнь людей зависит от того, во что они верят». Можно развить эту идею и сказать: «Наше представление о повседневной жизни людей любого времени зависит от того, во что верим мы». Как бы тщательно мы ни изгоняли субъективность из анализа источников, мы никогда от нее полностью не избавимся. И в этом смысле книга Э. Поньона, написанная в 1975 году, тоже уже является историческим источником, подлежащим критическому осмыслению.
Как часто приходится слышать жалобы археологов на то, что предыдущие поколения их собратьев безвозвратно разрушили часть культурного слоя, из которого современная наука могла бы извлечь ценные сведения. Но ведь те, старые археологи просто искали и выбирали то, во что верили и что могли понять в духе своего времени. Откуда им было знать, что изменение взглядов и технологии позволит другим увидеть больше? Это касается не только археологии, а истории в целом. Находили же историки прошлого подтверждение «ужасов тысячного года» в тех же источниках, в которых современный исследователь находит их опровержение. И неизвестно, что напишут о том же периоде исследователи следующих столетий. Как и о том периоде, в котором живем мы с вами…
Впечатление четвертое – и последнее
Магия нулей 1000 года заставляет задуматься о более близкой нам круглой дате – о 2000 годе. В начале XI века только монахи-летописцы знали, что 1-го января 1001 года наступило новое тысячелетие. Первое января 2001 года, скорее всего, будет отмечать все человечество. И вот мы, люди конца XX века, размышляем о тех, кто жил за 1000 лет до нас. Пройдет сколько-то времени, и будущие историки станут строить гипотезы о том, как жили мы. Хочется надеяться, что за это время не произойдет никаких глобальных катаклизмов, и тогда в их распоряжении будет огромное количество различных источников, и им не придется по осколкам и фрагментам пытаться домыслить картину целого. Но если от эпохи 1000 года до нас дошло лишь мнение одной группы населения, а именно – мнение ученых монахов, то историки 3000 года, анализируя нашу жизнь, возможно, почувствуют затруднение по противоположной причине: их может смутить обилие точек зрения, взглядов, оттенков, зачастую пародий и ироничных оценок, которые все вместе могут оказаться не менее сложны для анализа, чем скудные источники 1000 года. Но вполне может оказаться, что, проанализировав это многоголосие, будущие историки придут к тому же выводу, к которому Э. Поньон приходит при анализе 1000 года, к выводу, который обычно недоступен современникам анализируемых событий: возможно, они напишут, что 2000 год и обрамляющие его десятилетия были переломным моментом в истории, когда закладывались ростки качественно нового этапа жизни человеческого общества.
Э. Драйтова
Глава I «УЖАСЫ ТЫСЯЧНОГО ГОДА»
Мы не всегда в должной мере осознаем, насколько повседневная жизнь людей зависит от того, во что они верят.
Историк с богатым воображением
Представим на минуту, что Мишле[9] не преувеличивал, когда писал: «В Средние века все были убеждены, что конец света наступит в тысячный год от Рождества Христова». Какова же тогда была повседневная жизнь!… Давайте вообразим… хотя, нет, нам незачем брать на себя такой труд, он сделал это за нас. Вспоминая «те древние статуи в соборах X и XI веков, изможденные, безгласные, с искаженными лицами и скованными движениями, полные страдания, как сама жизнь, и уродливые, как сама смерть», – вспоминая их и не смущаясь тем, что эти статуи в основном относятся ко временам более поздним, чем тысячный год, – он признает в них «образ этого несчастного мира, прошедшего столько разрушений» – разрушение Римской империи, империи Карла Великого[10], осознание неспособности христианства «исправить зло земной жизни». Он пишет: «Несчастье за несчастьем, разрушение за разрушением. Должно было случиться что-то еще, и этого все ожидали. Заключенный ожидал во мраке темницы, заживо похороненный en pace[11]; крепостной крестьянин ожидал на своем поле, в тени зловещих замковых башен; монах ожидал в уединении монастыря, в одиноком смятении сердца, мучимый искушениями и собственными грехами, угрызениями совести и странными видениями, несчастная игрушка дьявола, упорно кружившего вокруг него ночью, проникавшего в его убежище и злорадно шептавшего на ухо: «Ты проклят!»
И далее, в той же 1-й главе IV тома «Истории Франции», следуют весьма реалистические описания катастроф, которые потрясали эпоху, — вперемешку: тех, что были до тысячного года, и тех, что случились позже, но при этом лишь тех, которые подтверждают основную идею. Нам еще предстоит определить истинную ценность этих примеров. Мишле между тем приходит к выводу о воздействии всех этих событий на людей: «Эти исключительные несчастья разбивали их сердца и пробуждали в них искры милосердия и сострадания. Они вкладывали мечи в ножны, сами содрогаясь под карающим мечом Бога. Уже не имело смысла бороться или воевать за эту проклятую землю, которую предстояло покинуть. Месть также потеряла смысл: каждый понимал, что его врагу, как и ему самому, остается жить недолго».
В этом месте нашему историку потребовался убедительный пример. И он его приводит: «Во время чумы в Лиможе люди по собственному побуждению бросались к ногам епископов и обещали с этих пор вести мирную жизнь, почитать Церковь, не заниматься разбоем на дорогах и во всяком случае обходительно обращаться с теми, кто путешествует под защитой священников или монахов. В святые дни каждой недели (с вечера среды до утра понедельника) были запрещены любые столкновения: это и было тем, что называли «миром», а позднее — «перемирием во имя Бога».
Вот так смягчились человеческие нравы. Беда только в том, что ассамблеи, на которых возникли конкретные установления, называемые «мир Господень» и «перемирие во имя Бога» — две вещи, как мы увидим позднее, абсолютно различные — относятся ко времени уже после тысячного года. Что до чумы в Лиможе, случившейся около 997 года, то она, по сообщению летописца Адемара из Шабанна[12], привела лишь к заключению «договора о мире и справедливости» между герцогом Аквитанским и «знатными сеньорами», причем в нем отнюдь не упоминалось ни о неприкосновенности каких-либо лиц, ни об объявлении специальных дней, когда были запрещены вооруженные столкновения. Короче, это был обычный договор о мире, и менее чем через три года, т. е. как раз накануне тысячного года, он не помешал двоим из упомянутых «знатных сеньоров» вступить в борьбу и пролить немало крови в битве за один из замков.
Тем временем неутомимый Мишле продолжает описывать свое видение: «В этом охватившем всех страхе большая часть людей могла успокоиться только под сенью Церкви». Подношения Церкви в виде земель, зданий, крепостных крестьян… «Все эти акты», если верить Мишле, диктовались одним и тем же настроением: «Наступил закат мира». Позже «все эти акты», то есть множество завещаний и дарственных бумаг, сохранившихся со времени высокого Средневековья[13], были проанализированы. И вот результат: только в 35 из них упоминается конец света; ни в одном не упоминается его конкретная дата; часть документов относится к VII веку и большинство — ко времени не менее чем за сто лет до тысячного года; несколько завещаний было написано уже после 1000 года, последнее помечено 1080 годом.
Далее, тем не менее, наш удивительный драматург от истории незаметно соскальзывает на другую тему: «Однако чаще всего этого им казалось недостаточно. Они стремились сложить мечи и другое оружие, отказаться от всех военных атрибутов своего века; они искали убежища среди монахов и надевали монашеское одеяние…» Даже наиболее великие правители мечтали уйти в монастырь и отказывали себе в этом только из чувства долга перед государством. Примеры? Гильом I, герцог Нормандский, известный под прозвищем Длинная Шпага, который был убит в 943 году; Гуго I, герцог Бургундский с 1076 по 1079 год; Генрих II, германский император с 1002 по 1024 год. Эти трое действительно могут служить ярким примером того, сколь притягательна была для большинства светских лиц того времени простота монастырской жизни, как ничто другое утешавшая их в поисках конечной цели. Тем не менее их пример вряд ли может служить подтверждением идеи об «ужасах тысячного года». Однако Мишле не думает об этом. Объектом его описания является вера и благочестие некоторых правителей эпохи: после Гильома, Гуго и Генриха он приводит четвертый пример — пример человека, который жил и правил в 1000 году. Он не пишет — и это справедливо — о том, что этот человек боялся конца света; речь идет о добром короле Франции Роберте Благочестивом[14].
Ему Мишле отводит большую часть своего повествования, причем его описание не отличается беспристрастием. Из всего, что написано о Роберте его биографом монахом Эльго[15], а также летописцем, которого Мишле вообще часто цитирует, Раулем Глабером[16], тоже монахом, — из всего этого он сохраняет только черты богобязненности, благочестия и милосердия. Он приписывает Роберту даже одно из благодеяний, которое Эльго связывает с именем не Роберта, а его отца Гуго Капета[17]. Он описывает его с нежностью. И неожиданно выясняется, что «именно при этом добром короле Роберте и происходили ужасы тысячного года». Противоречие? Отнюдь нет: есть способ его уладить. «Казалось, что гнев Господень был обезоружен этим простым человеком, который как бы олицетворял собою мир Божий». Все не только сходится, но идея ужасов подкрепляется доказательством от противного: «Люди успокоились и стали надеяться, что просуществуют еще хотя бы недолго ‹…› Они очнулись от своих страданий и вновь начали жить, работать, строить: строили в первую очередь церкви Божьи». И вот опять, казалось бы, Рауль Глабер льет воду на ту же мельницу. Однако переведем его описание более точно, чем это делает Мишле: «Когда наступил год третий после тысячного, почти по всей земле, а особенно в Италии и в Галлии, начали перестраивать здания церквей. Хотя в большинстве своем они были крепко построены и в перестройке не нуждались, настоящий дух соперничества заставлял каждую христианскую общину обустраивать свою церковь более пышно, чем у соседей. Можно было сказать, что весь мир стряхивал с себя ветхие одежды и облачался в белые одеяния церквей».
Замечательный текст. Он со всей очевидностью показывает, что начало XI века, то есть время непосредственно после 1000 года, стало эпохой интенсивного обновления церковной архитектуры. Это единственное, что действительно доказывается этим текстом. Ни его непосредственное содержание, ни контекст не подразумевают того, что «люди успокоились» и «очнулись от своих страданий».
Источники
Оказывается, достаточно внимательно почитать Мишле и свериться с цитируемыми им источниками, чтобы удостовериться в том, насколько далеко этого, пусть даже гениального, историка уводила его собственная фантазия, заставляя отступать от истины и даже толковать источники в свою пользу. Но его, естественно, всегда читали с полным доверием. Его идеи подхватывали другие историки, например, Огюстен Тьерри[18]; тема развивалась в бесчисленных исторических описаниях, иные из которых принадлежат перу даже таких эрудитов, как Эмиль Гебхардт[19]; эта тема проникла почти во все школьные учебники. Таким образом, миф об ужасах 1000 года — или «тысячного года», как пишут ради вышедшего из употребления орфографического кокетства, которое, впрочем, не одобряет уже Литтре[20], закрепился в умах людей. Нельзя сказать, что его не пытались опровергнуть. Однако, как говорил замечательный историк-медиевист Фердинанд Лот, «достаточно перестать бороться против исторической ошибки, чтобы она тут же возобновилась».
То, что в 1873 году бенедиктинец Франсуа Плен в серьезной статье в «Журнале по историческим вопросам» (Revue des Questions historiques) на основе источников доказал ошибочность этой идеи, ничего не изменило. Ни к чему не привело и то, что в 1885 году ученый Жюль Руа посвятил тысячному году целую книгу, выводы которой были столь же отрицательными. Напрасно в том же году Кристиан Пфистер в своей прекрасной книге «Исследование правления Роберта Благочестивого» живо описал Францию тысячного года, отнюдь не охваченную паникой. Напрасно в 1908 году Фредерик Дюваль сурово осудил идею «ужасов тысячного года» как проявление «субъективизма в истории». Не помогли и многократные отдельные опровержения мифа в работах серьезных историков. В 1947 году, одновременно с Фердинандом Лотом, я, вооружившись всеми аргументами предшественников, столь же безрезультатно восставал против этой идеи в «Меркюр де Франс», а в 1952 году вышла в свет книга «Тысячный год» Анри Фосильона[21], целую главу которой этот замечательный историк искусства посвятил тому, чтобы не только показать, что ужасы тысячного года не упоминаются в источниках, но и при помощи изощренных хитроумных доказательств убедить в том, что они и не могли существовать.
Чтобы пояснить позицию Фосильона, я позволю себе вспомнить диалог двух других, ныне покойных авторов: дорогого моему сердцу Луи-Раймона Лефевра, по чьему настоянию я написал книгу «Тысячный год» для издательства «Галлимар», и Жана де ла Варенде[22]. Автор книг «Кожаный нос» и «Вильгельм Бастард-Завоеватель», в которых в полной мере проявились его мастерство и совесть историка, чувствовал себя оскорбленным при виде того, как «нормальные люди» (я таковым не являюсь и прошу меня за это простить) сваливают вину за свои ошибки на привычные нам старые легенды. Разумеется, Патрис де ла Тур дю Пен[23] был прав, когда писал:
Все страны, что утратили легенды, Обречены окоченеть навек.Однако ужасы тысячного года — не легенда. Легенда — это преувеличенное воспоминание о великих событиях истории, о предках, их мужестве, героизме при столкновении с гигантскими испытаниями, которые они преодолели или не преодолели, о вмешательстве богов или небес, — все то, что пробуждает в сердце народа ощущение непреодолимости судьбы.
Такова «Илиада», такова «Песнь о Роланде»[24]. Рассказ же о страхе людей, об их отчаянии, об отказе от сопротивления — это нечто совсем другое. И если это не правдивое описание, то всего лишь историческая ошибка. Дай Бог, чтобы кроме нее у нас сохранились настоящие легенды. Тогда мы хотя бы избежим опасности окоченеть…
Так стоит ли еще раз пытаться одним ударом срубить все головы этой многоголовой гидры? Стоит ли вновь критиковать те двенадцать текстов — их не больше! — на которые обычно ссылаются защитники идеи, и доказывать, что четыре из этих текстов принадлежат перу людей, которые действительно страшились конца света, но жили уже после тысячного года, а четыре других хотя и относятся к X веку, но нигде не упоминают роковую дату? Стоит ли подвергать сомнению приводимые всеми сочинения Рауля Глабера, который писал около 1040 года? Ведь это он должен быть в ответе за появление мифа. Однако для него тысячный год не является особенным, он просто берет его за точку отсчета в своей хронологии и, надо сказать, достаточно произвольно. Он верит в конец света и охотно распространяется по поводу бедствий и отступничеств, которые в его время — как и в другие эпохи — заставляли людей, напуганных конкретными событиями и обстоятельствами, со страхом вспоминать о грядущем светопреставлении. Однако он нигде не соединяет идею конца света и тысячный год. Между тем людям, читавшим его сочинения, равно как и тем, кто из содержания этой книги поймет, в каком трагическом мироощущении он находил для себя удовольствие, ясно одно: если бы его современники именно накануне 1000 года пребывали во власти всеобщего и порожденного конкретным поводом страха, он непременно отдал бы должное этим настроениям и подробно описал их.
В 954 году Адсон, аббат Монтьеранде, посвятил королеве Франции Герберге[25] «Малый трактат об Антихристе». В конце его он заявляет — никоим образом не упоминая тысячный год, — что час Страшного Суда может быть известен одному лишь Богу. Возможно, он делает это, дабы разубедить королеву или, по ее указанию, успокоить народ? Но тогда он слишком рано беспокоится. Конец света через 40 лет в эпоху, когда любой молодой человек имел возможность умереть в гораздо более раннем возрасте, вряд ли мог кого-нибудь озаботить. Адсон на протяжении всей своей небольшой книги пишет о множестве других вещей и ни разу не прибегает к полемическому тону: как он пишет в посвящении, ему хотелось лишь ответить на некоторые теологические вопросы, интересовавшие королеву.
Так что же, выходит, ни один человек не объявлял тысячный год датой конца света? Утверждать подобное было бы невозможно, не погрешив против истины. Такой человек был. В 998 году Аббон, аббат монастыря во Флёри на Луаре[26], написал свои мемуары, озаглавленные «Апология». Он пишет о том, что в молодости ему приходилось бороться со многими ошибками и заблуждениями. Поскольку он пишет об этом уже в старости, то время описываемых событий следует отнести к 60-м годам X века. Итак, Аббон рассказывает: «Что касается конца света, то я услышал в одной из парижских церквей проповедь о том, будто в конце тысячного года явится Антихрист и вскоре затем наступит Страшный Суд. Я всеми силами противостоял этому утверждению, опираясь на Евангелие, Апокалипсис и Книгу пророка Даниила». Вот о чем вполне умиротворенно пишет Аббон за два года до тысячного. Если бы проповедник, встреченный им в юности, основал школу, то теперь было бы самое время опровергнуть его утверждения, во всеуслышание заявить, почему Евангелие, Апокалипсис и Книга пророка Даниила служат доказательством противоположного. Но в «Апологии» об этом ничего не говорится. Создается впечатление, что эта тема давно исчерпана, и старый аббат сразу же переходит к другим проблемам.
Четыре и четыре — восемь. Рауль Глабер, Адсон, Аббон — три. Всего — одиннадцать. Кому принадлежит авторство двенадцатого текста? Читаем: «В году тысячном от Рождества Христова по всей Европе прокатились сильные землетрясения, которые разрушили многие прочные и великолепные здания. В том же году на небе появилась ужасная комета. При виде ее многие, посчитавшие ее знамением конца света, похолодели от ужаса. Дело в том, что в течение уже многих лет люди ошибочно верили, что конец света наступит в тысячном году».
На этот раз все ясно. Все на месте, даже комета.
Когда же впервые появился этот текст? В тысяча шестьсот восемьдесят девятом году. Вы правильно поняли: это было во времена Людовика XIV. Этот текст можно найти во втором издании летописи монастыря Гиршау[27], составленной немецким монахом-бенедиктинцем, именовавшим себя Тритгейм, по названию деревни, в которой он родился. Даты его жизни — с 1462 по 1516. Он был весьма учен, но порой позволял себе сплутовать. Например, среди источников своих летописей Гиршау он приводит некоего монаха Мейнфрида, которого сам придумал. Впрочем, для нас это не так уж важно: не он внес в свой труд упоминание об ужасах тысячного года. В первом издании летописи Гиршау, опубликованном в 1559 году, то есть спустя 43 года после смерти автора, в приведенном отрывке упоминаются только землетрясения и комета. Конец света был добавлен уже в издание 1689 года и является поздней вставкой, анонимной и не имеющей исторической ценности.
Впрочем, к концу XVII века этой исторической ошибке было уже более ста лет. Первое письменное упоминание о ней мы находим в «Церковной летописи» кардинала Барониуса, опубликованной около 1590 года.
Может быть, кардинала ввели в заблуждение Рауль Глабер и ему подобные? Однако мы видели, что если их и можно, при сильном желании и достаточной недобросовестности, призвать в свидетели, то уж во всяком случае нельзя считать авторами интересующей нас идеи. Весьма вероятно, что сам Барониус увлекался чтением Апокалипсиса. В XX главе этой таинственной эсхатологической книги много раз упоминается период в тысячу лет, и интерпретировать это можно по-разному, в том числе и буквально как срок существования мира. О том, что христиане раннего Средневековья часто обращались к Апокалипсису, свидетельствуют многочисленные рукописи X и XI веков, дошедшие до наших дней. Забытый на несколько последующих веков, Апокалипсис вновь вошел в моду в эпоху Возрождения, когда на его основе было создано множество гравюр, наиболее известная из которых принадлежит Дюреру, а наиболее фантастическая — французу Жану Дюве[28]. Возможно, эрудиты того времени ставили себя на место читателей Апокалипсиса, живших до 1000 года, и приписывали им пугающие умозаключения, до которых те сами не могли бы додуматься. В результате, после Барониуса, при Людовике XIII, появился скрупулезный труд аббата Ле Вассера, который упоминает и Рауля Глабера, и «белые одеяния новых церквей». За ним следует, почти дословно его переписывая, первый парижский археолог Соваль, живший при Людовике XIV. Он приходит уже почти к тем же выводам, что Мишле. Видимо, именно его труды и послужили основой для вставки, внесенной в летопись Гиршау.
И вот к XVIII веку уже все верят в ужасы тысячного года; о них часто говорят проповедники и монахи, для которых особенно важны упоминания о завещаниях и дарах в пользу Церкви. В 1769 году англичанин Робертсон[29] впервые дает окончательную формулировку идеи и собирает все подтверждающие ее источники. Его работа, переведенная на французский язык, распространяется на волне англомании и начинает изучаться в школах. Мишле и ему подобным остается лишь состязаться в украшении готовой темы живописными подробностями.
Двухтысячный год
Если Апокалипсис создан для того, чтобы пугать людей, он должен был бы, по правде говоря, скорее напугать тех, кто живет в эпоху двухтысячного года. Для них – то есть для нас – отнюдь не сама круглая дата тысячелетия звучит угрозой наступления конца света: к этой идее приводят куда более серьезные и правдоподобные размышления об обстоятельствах нашей жизни. Тем, кто сегодня обращается взором к заре нашего тысячелетия, меньше чем кому-либо пристало смотреть на живших тогда людей с жалостью, как на запуганных существ. Да, эти люди жили в жестокое время, они в полной мере ощущали на себе непостоянство природы, страдали от неумения бороться с этими превратностями, от эгоизма и злонамеренности многих из своих собратьев. Однако – и на последующих страницах мы неоднократно увидим тому подтверждение – в это время были уже заметны признаки обновления мира, которые подтвердились дальнейшими историческими событиями, и те, кто умел видеть, воспринимали эти знаки. А главное, ни одному человеку не давалось право объявлять наступление конца света. Бог не хочет Апокалипсиса. Люди же с тех пор не раз имели возможность его осуществить.
Глава II МЕЖ ДВУХ МИРОВ
Итак, не будем больше говорить о конце света. Лучше поговорим об эпохе тысячного года. Однако поскольку речь идет о том, чтобы оживить образы людей того времени, восстановить их нравы, представить себе их жилища, их кухню, их костюмы, то надо признать, что это задача не из простых. Может быть, изобретатели «ужасов тысячного года» включили их в свои сочинения по той же причине, по которой древние картографы изображали чудовищ, заселяя ими «неведомые земли»?
Достойный вызов
X век и первая половина XI века весьма скудны в отношении сохранившихся источников. Ученые последних ста лет не без труда сумели описать события этого периода на основе хроник, летописей, отдельных королевских или сеньориальных актов и даже на основе сохранившихся поэм. Сегодняшние же историки, которые пренебрегают «событийной» историей и предпочитают прослеживать развитие общества, в первую очередь основываясь на экономических изменениях, с отчаянием заявляют, что почти ничего не знают о десятилетиях, непосредственно предшествовавших 1000 году и следовавших за ним. От этого времени не осталось тех «полиптиков»[30], что были столь многочисленны во времена Карла Великого и его ближайших потомков и обстоятельно описывали большие домены[31] королей и, в особенности, аббатств, тех полиптиков, которые Марк Блок[32] назвал «поражающими воображение описями сеньориальных владений». Слишком мало сохранилось также текстов договоров, свидетельствующих о частных сделках. Завещания есть, но они мало что сообщают о конкретных вещах. В рукописях есть некоторое количество миниатюр, но о них нельзя с полной уверенностью сказать, что они действительно отражают реальность, увиденную глазами художника. О постройках и говорить нечего, от жилищ бедноты вообще ничего не осталось. Даже мельниц. Даже сельскохозяйственных орудий. Даже посуды. Даже мебели. Даже одежды…
«История не может живо представить себе время, от которого не осталось даже вороха одежды». Для тех, кто вознамерился оживить эпоху 1000 года, это замечание братьев Гонкур[33] должно звучать как вызов. Достойный вызов.
Потому что неправда, будто, не имея каких-то обрывков ткани, историк не в состоянии воссоздать жизнь эпохи. Если от нее осталась одежда — тем лучше; но далеко не одна одежда создает многоцветие жизни. Это многоцветие, как я уже писал, во многом зависит от того, во что люди верят. Еще больше оно зависит от природной среды, от общественных установлений, от деятельности людей.
Следовательно, как бы скудны ни были источники, вполне возможно представить себе костюмы, лошадиные сбруи, оружие, предметы обихода, дворцовые и, в особенности церковные, постройки, а иногда и более скромные здания. Даже вопросы питания и гигиены не полностью ускользают от нашего анализа. Так же как представления о нравах, о проявлениях любви и ненависти.
Великие изменения
Наиболее заметная особенность данной эпохи состоит в том, что это была эпоха великих изменений. Говоря точнее, это был поворотный пункт. Конечно, вопреки тому, что пишет Эмиль Гебхардт в своей книге «Сочельник тысячного года», запуганные толпы не теснились у стен Латеранского дворца[34] в ожидании неизбежной и окончательной катастрофы, чтобы затем возликовать после полуночи, поняв, что ничего не случилось. Во-первых, 31 декабря не считалось в те времена последним днем года, во-вторых, на последующих страницах мы увидим, насколько это описание вообще далеко от реальности. Однако если люди того времени и не ожидали конца света, они, пусть неосознанно, были участниками и свидетелями гибели одного мира и становления другого мира.
Все хорошо представляют себе эпоху Каролингов или, точнее, первую ее половину до начала X века. Повседневная жизнь того времени, без особых пробелов, была воссоздана профессором Рише[35] в книге, вышедшей в той же серии, в которой выходит эта книга. От эпохи после распада империи Карла Великого сохранилось очень мало исторических документов, и для историков наступили «сумерки», на которые в свое время сетовал Жорж Дюби[36]. Когда же «сумерки» начали постепенно рассеиваться — а полностью они рассеялись лишь к концу XI века, — занимающаяся заря осветила уже совершенно новый пейзаж. Наиболее явной и наиболее рано обозначившейся его чертой были, конечно, «белые одеяния новых церквей», воспетые вскоре после 1000 года Раулем Глабером. По правде говоря, это были, конечно, не совсем те церкви, которые видел Рауль, а скорее те, что были построены около 1100 года или чуть позже и оставили после себя существующие доныне фрагменты или следы. Еще более значимым для повседневной жизни стало появление новых форм общественного устройства, экономическое обновление, притягательная сила возрождающихся городов и, возможно, новое осмысление определенных моральных требований христианства.
Таким образом, даже если бы не было никакой возможности непосредственно получить информацию о десятилетиях, обрамляющих 1000 год, очень о многом можно было бы догадаться. Зная, откуда шли и куда пришли люди того времени, можно было бы восстановить пройденный ими путь, как можно отыскать русло высохшей реки. Конечно, это достаточно рискованный метод, но, по счастью, нам и не придется постоянно к нему прибегать.
Итак, у нас есть более или менее прямые свидетельства о тех изменениях, к которым привела в будущем эта наметившаяся тенденция к возрождению. По крайней мере, возьмем на себя ответственность за это утверждение. Однако, чтобы не вводить никого в заблуждение, повторим, что скудость документальных источников, касающихся экономической жизни, начинается с X века и продолжается в течение всего XI века. Присоединимся также к тонкому замечанию Жоржа Дюби: «Человек, описывающий в отдельных главах данные о IX веке, а затем о XI и XII веках <…>, возможно, напоминает зрителя, позволившего себе излишне увлечься простым изменением освещения сцены в театре».
Тысячный год стоит на границе двух различных миров, однако в течение долгого периода неизвестности, частью которого он является, наверняка происходило больше постепенных и незаметных эволюционных процессов, нежели резких изменений.
Глава III МНОГО ДЕРЕВЬЕВ И МАЛО ЛЮДЕЙ
Сразу же оговорим: внешний вид земель, где обитали три или четыре поколения людей, которым было суждено пережить 1000 год, скорее всего мало изменялся на протяжении их жизни. Жители всех европейских стран всю свою жизнь видели вокруг себя пейзажи, основным элементом которых был лес.
Заселение земель
Разнообразие и удивительная изобретательность современных методов исследования позволяют восстановить, по крайней мере в основах, процесс заселения земли. Самым классическим методом исследования является, конечно, кропотливый анализ письменных источников, но он далеко не всегда дает нужные результаты. Топонимика более результативна: подробное рассмотрение всех географических названий, которые возникли в эпоху, предшествующую изучаемой, позволяет выявить на карте территории, на которых такие названия не встречаются, и таким образом определить, где находились целинные земли интересующей эпохи. Более того, многие топонимы переводятся как «расчищенная земля»: в Северной Франции это все слова, включающие элемент «essarts», в Южной Франции — слова на «artigue», в Италии — на «ronchi»; есть также множество подобных германских и английских суффиксов. Местности, названные подобным образом, без сомнения ранее были покрыты лесом или, по меньшей мере, кустарником. Однако развитие современных методов анализа позволяет проводить и прямое исследование почвы: на аэрофотографиях выявляются некоторые особенности поверхности, незаметные при наблюдении с земли и позволяющие специалистам судить о предшествующем состоянии растительности. Еще более точен анализ глубинных слоев почвы, например пластов торфа: каждый пласт содержит остатки растений, существовавших в эпоху его образования.
Очевидно, что подобные технологии дают ученым большие возможности. В результате исследователи последних десятилетий не только смогли определить, какие территории были покрыты лесами в эпоху высокого Средневековья, но также уточнили, какие породы деревьев росли в каждом из регионов. Эти же исследования дали не менее интересные результаты, свидетельствующие о том, что на многих территориях в то время встречались организмы, которые в настоящее время не могут там обитать либо из-за неблагоприятного климата, либо из-за условий высокогорья. Из этих данных был сделан вывод, что среднегодовая температура воздуха в Западной Европе около 1000 года была по меньшей мере на 1° выше, чем температура, установившаяся начиная с XIII века. Этот «период потепления», который продолжался, хотя, может быть, чуть менее выраженно, приблизительно с 500 года, привел, в частности, к распространению березы в Гренландии и Исландии. Почти повсеместно также отмечено, что верхняя граница распространения бука, то есть высота, выше которой это дерево не может расти, была в то время на 100 — 200 м выше, чем сегодня.
Все это, впрочем, не более чем частные проявления общей ситуации, которая характеризовалась увеличением числа лиственных пород по сравнению с хвойными, способными, как известно, выживать на больших высотах и при более низких температурах.
Демографическая ситуация
Таким образом природные условия благоприятствовали росту лесов. Условия, создаваемые людьми, способствовали тому же. Всем известно, и это неоднократно подтверждалось даже в наше время, что достаточно на несколько десятилетий оставить невозделанным поле или виноградник, как они сами по себе зарастают лесом. Так вот, возделывание почвы, которое даже в лучшие времена римского правления распространялось на куда меньшие территории, нежели в период позднего Средневековья или в Новое время, во времена 1000 года еще более сократилось по вполне серьезной причине демографического спада. Если население Западной Европы в античный период составляло около 25 миллионов человек, то население империи Карла Великого, судя по всему, едва достигало 10 миллионов. Можно предположить, что в течение IX и X веков оно начало вновь расти, однако очень медленно. Тысячный же год, напротив, отмечен началом быстрого роста населения, который все убыстрялся вплоть до XIII века, в том числе и во Франции. Одним из следствий этого стала массовая расчистка новых земель, которая достигла особого размаха в XII веке. Эта тенденция к демографическому подъему — одно из тех изменений, которые стали характерной отличительной чертой интересующего нас года. И вероятно, одной из наиболее значительных, поскольку, согласно мнению Пьера Шоню[37], цивилизация прогрессирует с ростом численности населения.
Однако 1000 год — это только начало. Внешний вид земель этого времени был результатом пяти веков демографического спада и упадка экономики. И поэтому нас не должна удивлять картина, нарисованная Марком Блоком в его книге «Характерные черты французской аграрной истории»: «…вокруг обжитого места — горстки домов — земля с истощенной почвой; между подобными оазисами — обширные пространства, которых никогда не касался плуг. <…> В основе общества X и XI веков лежали робкие попытки освоения земли; это общество состояло из разбросанных звеньев, и составлявшие их группы людей, сами по себе весьма небольшие, жили, к тому же, далеко друг от друга». А между этими группами людей, особенно на западном побережье и в континентальных землях, по большей части находились леса.
То, что пишет Марк Блок, абсолютно справедливо в отношении Франции, разве что за исключением средиземноморского побережья, где условия менее благоприятствовали разрастанию больших лиственных лесов. Это в еще большей степени справедливо для германских территорий, огромные пространства которых были покрыты девственными лесами. Короче говоря, если сегодня леса — это всего лишь вкрапления, разбросанные здесь и там среди обработанной земли и городских владений, то в описываемые нами времена все было наоборот. Люди той эпохи жили на лесных прогалинах. Чтобы попасть из одного места в другое, надо было пройти через лес.
Леса как границы
И, как это точно отметил Роже Дион[38], леса с незапамятных времен формировали линию границ. Труднопроходимые, они играли для местного населения роль защитного заграждения, так называемой «no man's land»[39], способной сдерживать или отвращать более или менее враждебные действия соседей. Еще во времена 1000 года леса, обрамлявшие Маас по обоим его берегам, одновременно отделяли земли короля Роберта Благочестивого от Германской империи. Внутри Франции, как отмечает Шарль Игуне[40], «на стыке Турени к Анжу, с одной стороны, и Пуату, с другой, необработанная и покрытая лесами территория образовывала настоящую границу, разделявшую Нейстрию (Северную Францию) и Аквитанию»[41].
В дальнейшем мы увидим, что люди того времени получали от леса многие важные средства существования. Мы даже увидим, что они весьма неправильно пользовались этими ресурсами и наносили небольшим лесам серьезный ущерб. Но наиболее мощные лесные массивы оставались в своих глубинах нетронутыми. И эти огромные леса, населенные неведомыми зверями и служившие убежищем или оплотом опасным людям — сразу приходят на ум те, кого в Англии после нормандского завоевания называли outlaw[42], — эти леса, через которые были проложены лишь неверные тропы, хранили тайны и беспокоили воображение.
Глава IV ПЛОХИЕ ВРЕМЕНА
Согласно научной истории климата, для которой анализ ископаемых растений представляет собой лишь один из многих методов (обстоятельный обзор достижений этой науки можно найти в недавно вышедшей книге Эмманоэля Ле Руа Ладюри[43]), эпоха 1000 года относится к «периоду потепления» и даже к наивысшей точке этого периода. Мнению ученых исследователей стоит поверить, однако не стоит воображать, будто люди той эпохи считали, что живут под благодатным небом…
Те, кто тогда жил
И Рауль Глабер, и Адемар из Шабана, и другие авторы описывают совсем не благоприятные климатические условия. Заявить, что они преувеличивали ради удовольствия создать яркое литературное произведение, значит пытаться слишком легко отделаться от их свидетельств. Впрочем, такой подход, к счастью, отошел в прошлое. И если, действительно, объективность этих авторов зачастую уступает место тенденции освещать многие вопросы в возвышенном духе великих примеров латинской древности, то в данном конкретном случае этот аргумент смысла не имеет: авторы, жившие на побережье Средиземного моря в эпоху Римской Республики и во времена Августа, никогда не жаловались на климатические условия.
Среднегодовая температура воздуха могла значительно повыситься, но это явление вполне совместимо с любыми капризами климата. Другие научные методы — в первую очередь, измерение годичных колец в стволах ископаемых деревьев, — позволили вычислить ежегодный уровень «осадков» — дождя, снега: согласно этим данным, уровень осадков, в отличие от температуры, подвержен более частым изменениям, очень чувствителен к внешним условиям и весьма неравномерен. Таким образом, данные, полученные при изучении ископаемых растений, ни в коей мере не мешают верить высказываниям современников, отмечавших в своих записях, какова была в то время погода.
Вот что можно найти в этих записях.
Какова была погода
В 987 году в Лотарингии и Рейнской области обильные осенние дожди и наводнения затопили дороги, погубили множество скота и практически уничтожили урожай. На следующий год, по крайней мере в районе Лана, стояла убийственная жара, а после нее воды небесные, низвергнувшись вниз, погубили часть армии короля Франции Гуго Капета. В 990 году в Северной Франции, Рейнской области и Южной Италии были отмечены слишком засушливая весна, бурное лето и нездоровая осень. Осенью 992 года из-за тяжелых погодных условий погиб урожай в Германии (где два раза наблюдалось северное сияние — 30 октября и 26 декабря) и в Италии. Потом наступила холодная зима, которая продлилась до самого апреля и уступила место жаркому и страшно засушливому лету. Следующая зима, очень ранняя, была невероятно морозной, снежной и показалась бесконечной как жителям Франции (в том числе Аквитании), так и жителям Германии. После нескольких лет передышки в 998 году последовали новые капризы погоды на севере Германии, а в июле в районах от Эльбы до устья Рейна ощущались подземные толчки.
Любопытно, что ничего подобного не встречается в описаниях 1000 года и двух последующих лет, но уже в 1003 году отмечается ужасное половодье на Луаре. Через год или два в Аквитании наступила «губительная засуха», а затем «чрезвычайно обильные дожди». В течение трех ночей Вьенна в Лиможе разлилась на две мили в округе. Затем — полное молчание источников вплоть до 1031 года: в этом году разлилась Луара и урожай стал жертвой насекомых, которых автор, знакомый с Ветхим Заветом, называет саранчой, отождествляя их с насекомыми, опустошившими Египет во времена Исхода.
Похоже, этот второй трехлетний период подводит нас к тысячелетию со дня Страстей Христовых. В июле 1032 года монахи монастыря святого Бенедикта на Луаре писали о разрушительных дождях, а в последующие месяцы наступила еще более суровая непогода. Рауль Глабер, находившийся в это время в Бургундии — в монастыре Сен-Бенинь в Дижоне, а может быть, уже в Клюни, — смотрел дальше других как во времени, так и в пространстве. Объединив в своем описании эти три ужасных года, он подводит итог: атмосферные явления были столь неблагоприятны, что трудно было найти подходящее время для сева, а из-за наводнений «не было возможности снимать урожай». Если верить ему, то это бедствие «…вначале объявилось на Востоке. Голод опустошил Грецию, перекинулся в Италию; проникнув оттуда в Галлию, бедствие затем настигло все племена, населяющие Англию». Маршрут слишком точно прослежен, чтобы не принимать его всерьез: бич непогоды, должно быть, обрушился на очень большие территории Европы и Ближнего Востока.
Голод, людоедство
Конечно, в любые времена случались подобные бедствия. Но в X и XI веках они, как гром среди ясного неба поразили людей, у которых не было никаких средств им противодействовать. Разливы рек практически означали наводнение, плохо или вовсе не осушаемые почвы удерживали после обильных дождей невероятное количество влаги, не было также никаких методов ирригации, помогающих противостоять засухе.
В таких условиях непогода, губившая посевы и домашний скот, не могла не породить голод. Еще в 910 году в землях Ангулема он достиг такого размаха, что, как пишет лимузенский монах Адемар из Шабанна, «появилось неслыханное доселе явление, когда люди стали охотиться друг на друга, чтобы съесть».
В 968 году Лиутпранд, епископ Кремоны, находясь с посольством в Констатинополе, отмечал, что «вся греческая земля в настоящее время по воле Бога охвачена такою нуждой, что даже за золотой су нельзя купить двух павийских сетье зерна[44], и это еще в местностях, где царит относительное изобилие». Засухи и наводнения около 1005 года, согласно Адемару, привели к «ужасному голоду».
Во времена, когда король Франции Роберт Благочестивый продолжал завоевание Бургундии, то есть в период между 1002 и 1016 гг., бургундец Рауль Глабер писал, что «жестокий голод, длившийся пять лет, распространился по всему римскому миру (то есть по всем странам, ранее подчинявшимся Риму. — Э. П.) до такой степени, что нельзя найти ни одной области, которая не была бы поражена нищетой и нехваткой хлеба; большая часть населения умерла от голода». Люди ели «нечистых животных и ящериц», но, естественно, их не хватало, и, подобно жившим в предыдущем веке ангулемцам, голодные люди превращались в людоедов. Понятно, что слабые служили пищей более сильным: «Взрослые сыновья пожирали своих матерей, в то время как и сами матери, забыв о своей любви, делали то же со своими малолетними детьми».
Похоже, пароксизм бедствия наступил в те же ужасные годы: с 1030 по 1032. Мы не можем избежать показаний Рауля Глабера, наиболее красноречивого свидетеля этих кошмаров. Вот что он написал спустя 12 или 15 лет, сидя в своей уединенной келье. Он ничего не забыл: «На самых урожайных нивах мюид[45] семян давал лишь сетье зерна нового урожая, а сетье едва приносил горсть». Никто не мог найти себе пищу, все голодали — и богатые, и те, кто принадлежал к «среднему классу», и бедные. «Могущественным» было некого «грабить». Тот, у кого по воле случая оказывалась лишняя провизия на продажу, мог заломить какую угодно цену. Быстро истребив все виды дичи: зверей и птиц, люди стали есть «мертвечину» и всякого рода «вещи, о которых страшно упоминать». «Лесные коренья» и «речные травы» не спасали от голода, и опять дичью становились люди. Началась настоящая охота: путешественников, бежавших от голода, останавливали на дорогах, убивали, разрубали на части и жарили. Других убивали и съедали ночью те, кто предоставил им ночлег. Дети, увидев издалека приманку в виде яйца или яблока, подбегали в надежде получить пищу, и сами становились пищей. Хуже всего было то, что людям стал нравиться вкус человеческой плоти. Они даже откапывали недавно погребенные трупы. Редкие оставшиеся в живых животные, бродившие без пастухов, подвергались меньшей опасности, чем люди. В Турню — а должно быть, монах из Клюни точно знал то, о чем писал, — некто посчитал возможным дойти до конца в этой ужасной логике: этот человек стал продавать на рынке вареное человеческое мясо. Правда, такое оказалось уже слишком: его схватили и сожгли живьем. Страшный товар закопали в землю; какой-то голодный раскопал его и съел, однако, обнаруженный на месте преступления, был также схвачен и сожжен. Такому же наказанию был подвергнут «дикий человек», нечто вроде огра, который свирепствовал в лесу Шатне в провинции Макон. Он устроил себе жилище возле уединенной, но, видимо, часто посещавшейся церкви. Те, кто просился к нему на ночлег или просто проходил мимо его дома, были обречены. Он съел уже 48 жертв, чьи отрезанные головы гнили в его хижине, когда одному из прохожих, оказавшемуся сильнее его, удалось вырваться из его когтей и убежать. Граф Оттон, узнав о случившемся от этого спасшегося человека, собрал «всех людей, которым мог располагать». Людоеда схватили, привезли в Макон, «привязали к косяку в амбаре». Монахи из соседнего Клюни «своими глазами» видели, как он жарился на костре.
Таким образом, людоеды иногда погибали в наказание за свои преступления — многие же, несомненно, избежали наказания — но, во всяком случае, они умирали не от того, что ели. Чего не скажешь о тех несчастных, которые, по щепетильности или по бессилию, воздерживались от человеческой плоти и прибегали к опасным эрзац-продуктам. Чтобы увеличить объем муки или отрубей, к ним старались что-нибудь подмешать, например белую глину, разновидность каолина, и тогда голод сменялся отравлением желудочно-кишечного тракта. Бледные и исхудалые лица, вздутые животы, голос «тонкий, похожий на короткие крики умирающей птицы», груды трупов, которые уже не было сил хоронить по одному и которые накапливали «до пяти сотен и более» и затем сваливали, нагими или почти нагими, в огромные общие ямы…
Можно возразить, что Рауль Глабер мог описать лишь то, что происходило в Бургундии… Откроем же «Чудеса святого Бенедикта», написанные Андре из Флёри[46]. Он предоставит нам свидетельство о событиях в Орлеане, где, как мы уже упоминали, в 1032 году происходили разрушительные бури. Мы прочтем, что и здесь голод длился три года. Здесь также имели место людоедство, тяжелые физические недуги, невероятно высокая смертность. Впрочем, монахи, жившие в монастыре святого Бенедикта, а также в Клюни, похоже, смогли довольно безболезненно выжить. Конечно, необходимость из-за нехватки рыбы и, видимо, овощей есть в Святую Пятницу ослиную требуху и конину произвела незабываемое впечатление на благочестивого Андре. Разумеется, ему было тяжело оттого, что пришлось даже в день Страстей Христовых нарушить закон воздержания. Однако если учесть, что огромному числу людей вообще было нечего есть…
Истощение было в те времена не единственной причиной преждевременной смерти. Даже если не упоминать о таком само собой разумеющемся факторе, как отдельные болезни, которые не умели лечить, то нельзя не вспомнить о том, что к ним присоединялись эпидемии. В 956 году в Германии и Франции свирепствовала чума. После смерти в 994 году аббата Клюни святого Майеля летописцы описали новую болезнь: «скрытый огонь», который охватывал сперва один член тела, затем постепенно овладевал всем телом и в одну ночь пожирал пораженного им человека. Адемар из Шабанна был свидетелем того, как мор свирепствовал в Лимузене в 997 году. Он называл его «огненной болезнью» и писал, что «невидимый огонь пожрал тела бесчисленного множества мужчин и женщин». Судя по всему, Бургундию поразила та же болезнь, а близость дат описаний позволяет предположить, что речь идет об одной и той же эпидемии, которая, следовательно, пронеслась по всей Франции с востока на запад. Этот «огонь», который вновь вспыхнул в 1043 году в областях между Сеной и Луарой и по меньшей мере еще на севере Аквитании, а затем неоднократно возвращался в течение всего Средневековья, назвали «огнем святого Антония». По всей видимости, его можно отождествить с заболеванием, которое сейчас называют «эрготизмом»[47] и которое вызывается употреблением в пищу некачественной муки, в первую очередь муки из ржи, пораженной спорыньей. Таким образом, здесь мы опять имеем дело с последствиями нездорового питания.
В общих чертах, несмотря ни на что, создается впечатление, что 1033 год стал концом этой длинной вереницы мрачных лет. Рауль — опять он! — говорит об этом однозначно: чистое небо, зеленеющие плодородные земли «в году тысячном со дня Страстей Христовых». Не подтасовывет ли он немного ради совпадения дат? Наверное, велико было искушение заявить, что природа вновь стала благосклонна к людям с наступлением тысячной годовщины Искупления, даже если это не совсем соответствовало истине. Вместе с тем во всех хрониках начиная с 1033 года упоминания о стихийных бедствиях становятся значительно более редкими. А достигнув 1046 года, мы уже встречаем свидетельства о «великом изобилии вина и овощей».
Глава V ЗНАМЕНИЯ НА НЕБЕСАХ
В течение всего описываемого времени несчастиям, опустошавшим землю, сопутствовали появлявшиеся на небе знамения, загадочные, беспокоившие и даже приводившие в ужас, потому что считалось само собой разумеющимся, что они всегда что-то предвещают.
Затмения и кометы
20 июня 984 года герцог Генрих Баварский по прозвищу Строптивый встретился в Тюрингском селении Pop с императрицами Аделаидой и Феофано, бабушкой и матерью юного Оттона III, опекуном которого он незаконно пытался стать[48]. Предметом обсуждения было освобождение юного принца, однако Генрих не был расположен к согласию. Внезапно средь бела дня на небе засверкало нечто похожее на яркую белую, медленно движущуюся комету. Спорный вопрос был сразу же улажен: Оттон бросился в объятия матери, и Генрих не посмел возражать.
21 октября 990 года — затмение солнца; 15 июня следующего года умерла Феофано. В феврале 998 года в Германии наблюдали «блестящее красное небесное тело, блуждавшее ночью по небосводу, а затем внезапно вспыхнувшее и упавшее на землю, в то время как луна окрасилась в кроваво-красный цвет». В некий точно не указанный год правления Роберта Благочестивого, однако до смерти Аббона, настоятеля монастыря святого Бенедикта на Луаре, а следовательно, между 996 и 1004 годами, сверкающая комета в течение трех осенних месяцев освещала ночное небо и не исчезала «ранее, чем начинали петь петухи». Рауль пишет, что «каждый раз вскоре после того, как люди видели появление в мире подобных чудес, на них обрушивалось нечто удивительное и ужасное». Действительно, вскоре насильственной смертью умер Аббон, пожар разрушил церковь на горе Сен-Мишель, и вышел из берегов Ардр, небольшая речка по соседству с аббатством. В октябре 1002 года умер Генрих I, герцог Бургундский[49]; в декабре, вечером в субботу накануне Рождества, люди наблюдали в воздухе «призрак, а может быть, даже настоящее тело огромного дракона, который появился из полуденных областей и вновь вернулся на юг, разбрасывая снопы молний». Естественно, он предзнаменовал начало длительной войны, которую Роберт Благочестивый предпринял для усмирения герцогства и вступления в права наследования.
Похоже, что приблизительно в это же время Адемар из Шабанна, бывший в то время молодым монахом монастыря святого Марциала в Ангулеме, отмечал «многочисленные затмения солнца и луны». Спустя десять лет, находясь в Сен-Сибарде в Ангулеме, он вместе со всеми наблюдал «комету, имевшую по длине и по ширине форму меча», который указывал «на север в течение многих ночей лета»; и сразу же в Галлии и в Италии начались пожары, разрушившие небольшой город Шарру, церковь Святого Креста в Орлеане и несколько замков. 24 января 1023 года произошло затмение солнца, полностью подтвержденное современными астрономами. До и после него, согласно описанию того же Адемара, были отмечены частые изменения внешнего вида луны, которая становилась «то кровавой, то темно-синей», а иногда вдруг исчезала. Всю предыдущую или последующую осень в знаке Льва сражались две звезды — большая, пришедшая с востока, и маленькая, которая появлялась с другого конца неба, бросалась к первой, но сразу же обращалась в бегство, отталкиваемая «лучистой гривой» своей соперницы; вскоре после того умерли папа Бенедикт VIII, восточный император Василий Младший[50] и архиепископ Кельнский Герберт. К тому же, в 1024 году новый германский император Конрад Франконский[51] захватил в плен и заключил в темницу своего племянника и соперника Конрада, прозываемого Младшим. Адемар, естественно, пишет, что «все эти события были предвосхищены на небесах знамением большой и малой звезд».
2 марта 1031 года комета предупредила монахов монастыря святого Бенедикта на Луаре о нападении саранчи и разрушительных явлениях природы, о которых мы уже знаем. Более того, монахи связали с затмением луны, произошедшим в том же году, смерть Роберта Благочестивого. Спустя два года, то есть в том самом 1033 году, когда ярость стихий уже стала утихать, всех напугало затмение солнца, произошедшее в пятницу 29 июня. Рауль наблюдал его в Клюни и нашел «истинно ужасающим». Солнце стало цвета голубого сапфира и «обнаруживало в верхней своей части образ луны, находящейся в первой четверти». Все предметы окутались «дымкой шафранового цвета». Наш монах, описывавший это явление уже спустя лет пятнадцать, узрел в нем предзнаменование мятежа римлян против папы Бенедикта IX: он спутал затмение 1033 года с затмением, произошедшим 22 ноября 1044 года, то есть в год, когда в Ватикане действительно произошла упомянутая трагедия[52]. Впрочем, отметим для себя это небесное явление, а также другое, породившее еще большее беспокойство, раз о нем почти в то же время пишет Ги, архиепископ Реймский: он и его люди увидели однажды вечером «звезду Босфор, именуемую также Люцифером, которая колебалась то вверх, то вниз, как бы угрожая обитателям земли». Вскоре после этого стала ощущаться нехватка вина и ряда других продуктов. Рауль не забыл такое упомянуть затмение солнца в среду 22 августа 1039 года и последовавшую непосредственно за ним смерть императора Конрада, а чуть позже — что бы там ни говорили — еще и смерть Гильома VI, графа Пуатье. Последнее упоминаемое им небесное явление — это затмение луны 8 ноября 1046 года. Он пишет, что это затмение «заставило многих содрогнуться». Светило почти полностью было закрыто «зловещей кровавой вуалью». В том же месяце на укрепленный город Сен-Флорантен на берегах Армансона упал каменный метеорит; тогда же, к удивлению всех, семена, засеянные в августе, с тем чтобы, как обычно, собрать урожай в октябре, не дали всходов.
Вспышка бедствий
Следует обратить внимание не на частоту описывавшихся небесных явлений — скорее всего, в то время было не больше затмений солнца и луны, чем в любую другую эпоху. То же самое можно, наверное, сказать и о кометах, и о метеоритах. Поражает скорее то суеверное внимание, с которым к ним относились люди, и смысл, который они вкладывали в эти явления. Достойна удивления и сила воображения, безмерно увеличивавшая происходящее и различавшая в небесных явлениях знакомые и, понятное дело, наводящие ужас вещи — меч, дракона…
Живя под воздействием страхов и несчастий своего времени, люди были не в состоянии искать рациональное объяснение этим явлениям. Их науки, представление о которых мы постараемся дать на последующих страницах, были далеки от того, чтобы объяснить природные явления. Не имея представления о том, что существуют экономические законы, люди того времени не понимали, что нехватка пищи и другие проблемы во многом являются результатом слабости — впрочем, в то время непреодолимой — их организации труда и их технологий. Одни из них — и таких было большинство — еще находились во власти примитивных суеверий и, не понимая, покорялись тому, что считали капризами таинственных сил. Другие — духовные лица, в силу своей профессии склонные приписывать все божественной воле, — предлагали свою логику объяснения: Бог наказывает людей за их грехи.
Рауль, посвятив многие страницы суровому осуждению «прелатов, которые обогащаются постыдным путем», пишет, что именно «охлаждение любви к ближним, умножившаяся склонность к беззаконию в сердцах людей, безраздельно занятых лишь самими собой, привели к необычайному учащению бедствий» как в 1000 году, так и позднее «во всех частях света». Он называет великий голод 1030-1032 годов «мстительным бесплодием». И если попытки людей доброй воли помочь его жертвам приводили к смехотворно незначительным результатам, то это лишь потому, что «еще много оставалось неотмщенных преступлений». Как же не возмутиться тем, что «под сим таинственным бичом божественного мщения» никто или почти никто не признает своих ошибок и не взывает к Господу о помощи! Актуальными стали слова пророка Исайи: «Народ не обратился к тому, кто поразил его». Заметим, что этот вывод абсолютно несовместим с идеей, которую обычно вкладывают в понятие «ужасов тысячного года».
Учитывая такое количество бедствий и призраков, порожденных ими в людском воображении, трудно избавиться от ощущения, что три или четыре поколения, пережившие эпоху 1000 года, были свидетелями вспышки разного рода несчастий. Ни до этого, ни после — по крайней мере вплоть до эпидемии чумы в XIV веке и несчастий Столетней войны[53] — мы не найдем такого числа невзгод и такой степени страха.
Но как бы часто они ни случались, несчастья и пугающие чудесные явления не существовали постоянно. Достаточно перечислить их, чтобы понять это. В течение десятилетий, обрамляющих тысячный год, бывали и относительно благополучные периоды, когда люди вели нормальную повседневную жизнь. В противном случае было бы невозможно написать эту книгу. Начнем же наконец наше описание этой повседневной жизни.
Глава VI ЯЗЫКИ
Существует немного факторов, которые оказывают на нашу повседневную жизнь такое же влияние, как язык. Без него ни практическая, ни интеллектуальная жизнь была бы невозможна. Если справедливо мнение, что в любую эпоху на географическом пространстве некоторой напряженности можно найти множество различных языков, то это утверждение тем более справедливо для Европы 1000 года и нескольких последующих столетий.
Образование «вульгарных языков»
После того как латинский язык еще в античную эпоху вытеснил разнообразные италийские диалекты, он стал внедряться также в завоеванные Галлию и Испанию. Конечно, это не был язык Цицерона, Тита Ливия и Сенеки[54]. На языке, который мы находим у этих авторов, возможно, народ вообще никогда не разговаривал, в том числе в самой Италии. Разговорный латинский, должно быть, был сильно изменен местными диалектами, почти все из которых, в том числе и в Галлии, принадлежали, как и латынь, к индоевропейской семье языков и не только походили на нее синтаксическими и грамматическими конструкциями, но и, конечно же, имели в своем словаре огромное количество общих корней. Достаточно одного примера: слог «рикс» (rix), на который оканчивается множество галльских имен, например Верцингеторикс, означает то же, что и латинское «rex» — царь.
Мы специально останавливаемся здесь на родственных связях языков наиболее западной части Европы с латинским, даже рискуя при этом несколько отвлечься от непосредственного предмета нашей книги. Французский язык, язык «ос»[55], на котором долгое время говорили на юге Франции, испанский, каталанский, до сих пор остающийся независимым живым языком, португальский — все эти языки, которые, по-видимому, произошли от латинского, относятся к так называемой романской группе. Эти прекрасные национальные языки проходили в своем развитии — с первых веков нашей эры до XI-XII веков — такой этап, на котором они представляли собой всего лишь «вульгарные языки», как их презрительно называли интеллектуалы того времени, относившиеся к ним как к жаргону необразованных людей. Этими языками пользовались практически все, но при этом считалось, что они ведут свое происхождение от латинского языка, задолго до того изуродованного просторечьем деревенщины, неспособной соблюдать правила и четко произносить слова. Это означало бы, что все крестьяне Галлии и Иберии принялись бормотать что-то на латыни только потому, что несколько тысяч легионеров и местные «романизированные» хозяева обрабатываемой ими земли не говорили больше ни на каком языке. Другими словами, пример и давление, оказываемое слабым меньшинством завоевателей и землевладельцев, были достаточны для того, чтобы заставить местное население в течение жизни нескольких поколений забыть языки предков.
Удивительное явление… Тем временем Рейнская область, которую римляне занимали столь же долго и осваивали столь же интенсивно, как и Галлию (Трир даже был имперской столицей), сохранила собственные германские наречия. В то же время в Галлии и в Испании не осталось и следа от языков германских завоевателей. Нормандцы, говорившие на романском диалекте, в конце XI века стали хозяевами Англии, но не сумели заставить население Британских островов заговорить по-французски: они сами в конце концов заговорили по-английски.
Потому и кажется заманчивой мысль, что галлы и испанцы худо ли, бедно ли, но стали осваивать латынь именно из-за того, что к этому их подтолкнули собственные языки. Тогда романские языки — это не законные потомки самого по себе латинского языка, а скорее плоды его свободных связей — пусть даже «кровосмесительных» — с различными языками и диалектами той же языковой семьи.
Впрочем, не следует забывать, что романские языки Средневековья известны нам — понятно почему — только по письменным источникам, то есть по текстам, написанным образованными людьми, а они могут стараться приукрасить или привести в порядок «вульгарные языки», которыми сами пользовались, чтобы быть понятными окружающим. Вероятно, они пытались по возможности приблизить эти языки к латинскому, который преданно изучали и который, как все в то время, считали единственным достойным языком. Если бы читатель 29 стихов «Песни о святой Евлалии», наиболее раннего из известных нам литературных текстов на французском языке, написанного в конце IX века, или поэмы «Страсти Христовы» и «Житие святого Леодегария», относящихся к X веку, чудом услышал, как разговаривали между собой крестьяне того времени, он скорее всего был бы изрядно удивлен.
Какое бы будущее ни ожидало эту не совсем принятую гипотезу, ясно, что устные наречия в 1000 году были донельзя разнообразны.
Существовала романская территория — Италия, территория современной Франции плюс валлонская Фландрия минус Эльзас, Испания, несмотря на арабское завоевание, — и существовала германская территория. Символом этого крупного разделения может служить двуязычный текст «Страсбургских клятв», которыми в 842 году обменялись король западных франков Карл Лысый и король восточных франков Людовик Немецкий, заключившие союз против своего брата императора Лотаря. Воины Карла, которого исторически считают первым королем собственно Франции, жившие и сражавшиеся вместе с ним и прошедшие всю Галлию, без сомнения пользовались романским языком, о чем свидетельствуют обращенные к ним строки; то же самое можно сказать о германском тексте, произнесенном для воинов Людовика[56].
Но не следует считать, что на этом романском и на этом германском наречиях разговаривали все на соответствующих территориях. Судя по сохранившимся источникам, на протяжении всего Средневековья и там и там возникали и существовали местные диалекты, каждый из которых можно было подразделить на говоры, имеющие еще более ограниченный ареал распространения. Однако мы имеем дело с письменными текстами, и, опять же, не значит ли это, что дошедшие до нас языки были в большей или меньшей степени изобретены представителями духовенства, которые эти тексты писали? Это всего лишь осколки тех до бесконечности разнообразных соседствующих языков, о существовании которых, вплоть до наших дней, свидетельствуют местные говоры.
Подобное устойчивое дробление бытовых говоров является всего лишь результатом и, соответственно, доказательством того, что повседневная жизнь различных районов в эпоху Средневековья протекала очень изолированно. Крепостной или свободный крестьянин обычно вращался только в непосредственно окружавшей его языковой среде, в которой имелись свои фонетические и семантические особенности, отличавшие его речь от речи тех, кто жил на соседних землях. Разумеется, различия между соседями были очень малы. Тем не менее эта языковая мозаика позволяет выделить во Франции три большие ограниченные друг от друга области: язык «oil» («oui») на севере вплоть до Берри и Пуату; язык «ос» на юге; «франко-провансальское» наречие вокруг Лиона, в Альпах вплоть до гор Фореза и северной части Юрского хребта. Следует добавить, что на всем полуострове Арморика[57] население говорило на кельтском наречии, сильно отличавшемся от древнего галльского: это было наречие островных бриттов[58], бежавших в V веке от нашествия англов и саксов и нашедших пристанище в краю, который с тех пор носит их имя: Бретань. Еще более отличным от других и загадочным является распространенный на крайнем юго-западе язык басков.
За исключением же мест распространения этих двух языков, паломники и другие путешественники легко осваивались в областях, где население говорило хотя и не совсем так, как они, но где их могли без труда понять; они приспосабливались к ним мало-помалу по мере прохождения различных этапов своих долгих пеших путешествий.
Латынь — единый язык
Уникальной языковой чертой, отличающей Средневековье, является исключительная роль латинского языка. Этот язык, который, по меньшей мере с VI века, ни для кого уже не был родным, оказался более распространен, чем любой из живых языков; на нем свободно говорили все служители Церкви: белое духовенство и монахи, а также многие другие люди на всей территории христианского Запада. Вдобавок это был единственный язык культуры: любое серьезное обучение велось на латинском языке. Человек не мог считаться образованным, если он не знал латыни. Долгое время — в том числе и в 1000 году — все записи велись практически только на латинском языке; упоминавшиеся выше тексты на местных наречиях — редкое исключение.
Преимуществами латинской грамотности пользовались и знатные миряне. Их число менялось в зависимости от места и времени. Их знания были результатом обучения в школах, о которых мы еще расскажем. Пока же наиболее интересно понаблюдать за тем, как эта лингвистическая система функционировала в различных слоях общества.
Вот пример: встреча императора Оттона II с Гуго Капетом в 981 году. Немецкий император не знал романского языка, на котором говорил французский король, но знал латынь. Что касается Гуго, то он мог говорить только на родном языке. Он привез с собой епископа Орлеанского Арнуля, который и переводил на «вульгарный язык» латинскую речь германского императора.
Ясно, что отец первого короля династии Капетингов, Гуго Великий, не удосужился отдать своего сына в обучение изящной словесности. В отличие от него, сам Гуго Капет уже посылает своего сына Роберта в школу в Реймсе, где учил мудрый Герберт (здесь мы в первый, но далеко не в последний раз упоминаем о нем). Таким образом, наследник Гуго Капета должен был стать не меньшим знатоком латыни, нежели священник или монах. Современник Роберта Благочестивого Гильом V, герцог Аквитанский, тоже был образован, то есть знал латынь и, по свидетельству Адемара из Шабанна, часть ночи всегда посвящал чтению.
Остается сказать, что большая часть мирян латыни не знала. Общество в целом, тем не менее, функционировало на латинском языке, и это было несложно, поскольку везде имелись представители духовенства, то есть люди, получившие образование в единственном учреждении, которое было способно давать образование — в Церкви. И эти люди принимали участие в различных видах деятельности. Они были министрами, посланниками, экономами, юристами, частными секретарями. Они предоставляли в распоряжение нанимавших их лиц свои глаза, свое перо, свой язык, вели переписку, оформляли юридические акты. А между собой, особенно на ассамблеях епископов, они говорили на латинском языке.
На латинском языке они говорили также с Богом. И их молитвы слушали и понимали те люди, которые приходили на мессу или участвовали в пышных литургических церемониях, совершавшихся по большим праздникам. Даже простые люди слушали латинскую речь и пение. Очевидно, они ничего не понимали, но это, несомненно, только придавало еще большую торжественность обращению к невидимому. Основываясь на своем ощущении магии священного, они находили вполне естественным, что к Богу следует обращаться не на том языке, на котором говоришь в повседневной жизни. Важно было не самим понимать этот язык, а чтобы Бог его понял. Известно ли вам, что наши затворники, жившие в монастырях не далее как 30 лет назад, имели обыкновение часами распевать на латинском языке псалмы, в которых не понимали ни слова? Это не мешало им быть последовательными и просветленными в вере.
Таким образом, если местные наречия были бесконечно более многочисленны и разнообразны, чем сегодня, то для свершения великих дел, как божественных, так и человеческих, а также и для дел не совсем великих, существовал единый язык. Из этого рождалось ощущение христианского единства. Западная империя осталась лишь в воспоминаниях, формирование европейских наций еще было скрыто завесой тайны будущего. Существовал лишь узкий местный патриотизм, и в особенности процветало соперничество, постоянное столкновение интересов, порождавшее кровавые конфликты. Однако все знали, что повсюду на Западе люди обращаются к Богу с одними и теми же словами. Это заменяло национальные чувства, и именно это сделало в дальнейшем возможным зарождение духа крестовых походов.
Глава VII ПРОСТРАНСТВО
Раздробленное на кусочки диалектами, но объединенное латинским языком пространство, с одной стороны, казалось человеку X-XI веков полным неизвестности, а с другой — воспринималось очень остро.
Пространство — это также вещи. Например, сегодня это слово может вызвать в нашем сознании и образ межзвездного пространства, и образ типа «пространство Кардена»… В 1000 году этим словом пользовались не очень часто. Связанная с ним идея была еще не совсем ясна.
Вселенная
Бесконечное — или искривленное — пространство современной астрономии еще никому не было известно. Наиболее обобщенным представлением о Вселенной был образ сферы, в центре которой находится Земля. Следует ли говорить о том, что и эти представления были достоянием лишь интеллектуальной элиты: учителей и учеников нескольких епископских школ? В 80-х годах X века Герберт Орильякский, «учитель богословия», то есть глава епископской школы в Реймсе, который впоследствии стал папой под именем Сильвестра II, материализовал эту идею в виде трех сферических моделей: сферы, на которой он отметил точки, где восходят и заходят звезды; модели, состоящей из многочисленных «кольцевых сфер», то есть из соединенных вместе колец, показывавших движение звезд по небу; и наконец полой сферы, снабженной множеством трубок, из которых одна позволяла определять положение полюсов, а другие вращались вокруг нее, направляя и фиксируя взгляд на определенных точках. Так это нам описывает Ришер, преданный ученик Герберта. Не будем притворяться, будто полностью поняли описание последней сферы. Но предположим, что эта трубка, позволявшая определять полюса, была чем-то напоминавшим устройство, которым пользовались для определения положения на небе Полярной звезды и ориентации по ней солнечных часов. Что бы это ни было, всем известно, что до Коперника, чья книга «О вращениях небесных сфер» вышла только в 1543 году, считалось, будто Земля находится в центре мира, состоящего из концентрических сфер, каждая из которых соответствует орбите Солнца, Луны и других планет, а последняя поддерживает совокупность неподвижных звезд. Приблизительно так мы можем представить себе Вселенную глазами ученых, живших в 1000 году.
Земля
Сразу бросается в глаза, что, согласно данной концепции, сама Земля также сферична. Вопреки широко распространенной противоположной точке зрения, следует отметить, что это открытие древнегреческой науки в Средние века было забыто не всеми. Вместе с тем, хотя идея сферичности Земли сохранялась в астрономии, она никоим образом не отразилась на географических представлениях. Впрочем, можно ли назвать географами тех авторов так называемых mappae mundi[59] (плоской карты мира, в отличие от глобуса), которые условно изображали Землю в виде диска, разделенного на три части подобием буквы Т? Полукруг, образованный горизонтальной линией, считался Азией, из двух четвертей круга левая была Европой, а правая Африкой. Вертикальная полоса должна была изображать Средиземное море, горизонтальная — Танаис (Дон) и Нил… На пересечении располагался Иерусалим как центр мира. Эти «монастырские карты Т-О типа»[60], как их называют историки картографии, традиционно иллюстрируют в рукописях определенные отрывки из часто копировавшихся трудов, таких как «De natura rerum» и «Etymologiae» Исидора Севильского, «De ratione computandi» Беды, «De bello Jugurthino» Саллюстия[61]. Но один отрывок из «Историй» нашего незаменимого Рауля показывает, что они представляли собой теологическую схему.
Отметив, что христианство завоевало «области Аквилона(Север) и Запад», но не «противоположные им восточные и южные части мира», он добавляет: «Именно это было истинно предсказано положением креста Господня <…>: в то время, как за спиной Распятого находился Восток и его кровожадные народы, перед Его глазами простирался Запад, готовый наполниться светом веры; и в то же время Его всемогущая десница, открытая для трудов милосердия, была протянута к Северу, познавшему сладость веры в святое слово; левая же рука указывала на Юг, кишащий варварскими народами».
Этот текст могла бы проиллюстрировать карта мира Т-О типа, и это имело бы больший смысл, нежели соседство таких карт с текстами, рядом с которыми они обычно находятся.
Естественно, имелись различные варианты этой схемы, а приблизительно со времен 1000 года появляются менее схематичные изображения Земли. Карта, обнаруженная в рукописи комментария к Апокалипсису, приписываемого монаху Беату[62] (рукопись относится ко времени после 1027 года), предлагает нашему вниманию некоторые детали, уже точнее отражающие реальность. С ней можно сравнить и некоторые другие карты более позднего происхождения.
Таковы были представления ученых монахов о нашей планете в целом. Что касается того, как они представляли себе отдельные страны, то упоминания об этом крайне редки. Вот пример, принадлежащий перу того же Рауля: «Согласно мнению большинства тех, кто рассуждает о форме земного глобуса, территория Галлии вписывается в квадрат; однако, несмотря на то что от Рифейских гор до границы с Испанией слева от нее находится Океан, а справа вдоль нее простирается цепь Альпийских гор, ее продолговатая форма не укладывается в пределы фигуры квадрата. Ее нижняя оконечность, во всех отношениях наиболее достойная презрения, называется Галльским Рогом. Столицей ее является Ренн; с давних пор здесь обитает бретонский народ, который изначально освобожден от налогов на имущество и имеет в избытке молоко. Абсолютно чуждые цивилизации, бретонцы характеризуются дикими нравами, склонны к гневу и говорят нечленораздельно на бестолковом наречии».
Оставим без внимания это замечание из области «человеческой географии», которое дает представление о том, какую нежность испытывали друг к другу различные этнические группы, населявшие «Галлию». Однако мы не поскупимся на комментарии в отношении других утверждений этого удивительного текста. Во-первых, слово «глобус», которым, за неимением более подходящего, я перевел латинское «orbis», — это слово отнюдь не подразумевает, что Рауль считал Землю сферичной; orbis означает также «кольцо, круг», а рассуждения Рауля об ориентации распятия Христа весьма точно соответствуют смыслу карт мира Т-О типа, из чего следует, что он использовал слово orbis именно в последнем значении. Рифейские горы, которые в данном контексте представляют собой границу Франции, противоположную границе, образуемой Пиренеями («до границы с Испанией»), являются задачей с двумя неизвестными. Во-первых, этим именем обычно обозначаются горы, расположенные на севере Скифии, то есть, грубо говоря, на территории современной России[63]. Во-вторых, на северной границе Галлии вообще трудно найти какие-либо «горы». Чтобы сказать, что слева Галлия граничит с Океаном, а справа с Альпами, нужно сориентировать карту так, чтобы Север находился наверху, как это принято сейчас, в то время как известные mappae mundi располагают Север слева. Но в таком случае «Галльский Рог« (от этих слов, возможно, образовалось название Корнуайль[64]), являющийся нижней оконечностью этой продолговатой Галлии, должен оказаться на южной границе, а речь несомненно идет о Бретани… Так по какому принципу мы можем оценить степень географической просвещенности нашего монаха, который, кроме всего прочего, помещает Везувий в «африканскую страну», считает Африку театром военных действий между сарацинами[65] и христианами (эти действия на самом деле могли происходить только в Испании) и иногда называет Лотарингию Рецией (а это имя одной из альпийских областей)?
Так что же, Рауль совсем не знал географии? Нам практически не с чем сравнивать. Позволю себе высказать точку зрения, относящуюся ко всему Средневековью в целом, но вполне применимую и к описанию 1000 года: люди того времени не чувствовали особой потребности ни в географических, ни в топографических картах. Мореплаватели создали (вероятно, уже в XIII веке) навигационные карты, с удивительной точностью воспроизводящие конфигурацию берегов Средиземного моря с указанием названий мест, по которым можно ориентироваться. Наиболее старая из таких карт, называемых обычно портоланами, или портуланами, относится к периоду около 1300 года. Однако подобных изображений суши мы не имеем, и в текстах они не отмечены, за исключением одного упоминания о некой «карте земной поверхности», а также о планах Рима и Константинополя, выгравированных на серебряной доске, которая, по свидетельству Эйнгарда[66], принадлежала Карлу Великому. Можно не сомневаться, что рано или поздно эта доска была переплавлена на серебряные монеты. Это отсутствие документов или молчание тем более удивительно, что в Средние века и, в частности, в 1000 году, было не менее важно, чем в другие эпохи, иметь точное представление о земной поверхности: о ней спорили, ее делили. И делили не абы как. Когда по Верденскому договору в 843 году Лотарь, Людовик Немецкий и Карл Лысый разделили на три части империю Карла Великого, они, как это ясно показал в наши дни Жак Пиренн[67], очень внимательно отнеслись к тому, чтобы каждый получил в свою долю более или менее одинаковые площади лесов, пахотных земель, виноградников, одинаковое число крупных городов. В наши дни трудно представить себе столь продуманный раздел земли без пользования очень точными картами. Однако ни в одном из документов, относящихся к подготовке этого договора, таковые не упоминаются. В течение всего Средневековья, начиная с каролингских «политиков» и кончая «свидетельствами и переписями» XV века, в документах, имевших юридическую силу, даже наиболее сложные территориальные вопросы разбирались посредством словесного описания. Сегодня для того, чтобы хорошо их понять, мы в первую очередь стараемся соотнести их данные с картой; но ни к одному из этих текстов вплоть до XVI века не прилагались ни карты, ни планы. Следует предположить, что люди того времени обладали чувством ориентации, способностью интуитивно и конкретно воспринимать окружающее пространство (причем, видимо, включая весьма отдаленные области), и подобная зрительная опора была им не нужна.
Из Реймса в Шартр верхом
Чувство ориентации было абсолютно необходимо, чтобы путешествовать из одного места в другое и не теряться по дороге. Ведь дороги были едва намечены, проходили сквозь дремучие леса, безо всяких указателей, и двигаться по ним надо было без компаса, поскольку этот инструмент стал известен на Западе только в XII веке.
Ришер, монах аббатства святого Ремигия в Реймсе, был очень увлечен медициной. Он мечтал прочитать «Афоризмы» Гиппократа. За две недели до того, как каролинг — соперник Гуго Капета был схвачен в Лане в результате изменнического заговора епископа Асцелина[68], то есть в середине марта 991 года, к Ришеру приехал посланник от его друга Герибранда, Шартрского священника, который приглашал его приехать для ознакомления с этим трудом. В восторге от предложения он решил последовать за этим человеком, которого он именует «кавалером»[69], и взял с собой слугу из монастыря. Он пишет, что его аббат «дал ему в помощь всего одно вьючное животное»; из последующего описания становится ясно, что у самого Ришера также была лошадь. Итак, трое мужчин сели на коней. Но Ришер покинул обитель «без денег, без сменной одежды, без каких-либо предметов первой необходимости». Можно предположить, что либо его аббат вовсе не одобрял этой поездки, либо он вообще недолюбливал Ришера.
Первый этап путешествия прошел без приключений. Наши путники прибыли в аббатство Орбе, «место, известное своим гостеприимством». Можно себе представить, хотя Ришер не пишет об этом, что для того, чтобы приехать в Орбе, они пересекли лес на Реймском холме и переправились через Марну подле Эперне, либо, что более вероятно, подле Отвиллера, поскольку там находился монастырь бенедиктинцев. Это аббатство прославилось значительно позднее, после того как дом Периньон впервые применил там шампанскую технологию изготовления вин[70]. Итак, в аббатстве наши путешественники могли подкрепиться обедом. Переехав через Марну, они, должно быть, направились к Орбе через леса Энгиена и Васси и таким образом проехали за день 55 км или больше, поскольку, скорее всего, дороги через леса пролегали отнюдь не по прямой линии, в отличие от современных шоссе.
Как бы то ни было, Ришер пишет, что был «ободрен» аббатом Орбе, который явил ему «множество знаков своей щедрости». Поймем это так, что, с удобством проведя в аббатстве ночь, он уехал на этот раз с деньгами и со сменой одежды. Они направились в Мо. Ришер продолжает рассказ: «Однако после того как я отправился со своими двумя товарищами по лесной дороге, на нас посыпались всякого рода несчастья. Поехав после развилки не по той дороге, мы проехали лишние 6 лье (24 км). Затем, на подъезде к Шато-Тьерри, наша лошадь, которая до того казалась Буцефалом[71], стала плестись медленнее осла. Солнце уже зашло далеко за полдень и склонялось к закату, в воздухе чувствовалось приближение дождя. И тут этот доблестный Буцефал, подкошенный усталостью, упал без сил под моим слугой, который на нем ехал, и умер, словно пораженный молнией, не дойдя 6 миль до города». Следует сказать, что эта несчастная лошадь, которая была тем самым «вьючным животным», пожалованным аббатом, до этого тащила на себе и слугу, и багаж; так что она заслужила право называться доблестной.
Город, о котором пишет Ришер, это, конечно, Мо, цель этой части путешествия, а не Шато-Тьерри, как можно предположить исходя из контекста. Дело в том, что 6 миль — это чуть меньше 9 км, а к вечеру Ришер и «кавалер» достигли Мо. Если бы несчастье случилось в 9 км от Шато-Тьерри, им бы оставалось до цели около 40 км, что почти равнялось длине нормального дневного переезда.
Итак, путешественники остановились под дождем, который все усиливался. Багаж свален на землю, слуга, абсолютно не привычный к такого рода нагрузкам, лежит, окончательно сломленный усталостью. Ришер принимает решение оставить его, дав ему должные наставления о том, что говорить прохожим, и вместе с кавалером отправляется в Мо. Они находятся уже недалеко от города, когда в почти непроглядной темноте, оказываются на мосту. «Присмотревшись повнимательнее, я понял, что нам грозят новые невзгоды. На этом мосту было так много и таких больших провалов, что вряд ли люди, привыкшие к жизни в городе, могли легко ходить по нему даже днем. Мой попутчик, человек деятельный и изобретательный путешественник, поискал поблизости лодку, не нашел ее, вернулся к опасному проходу, и Бог помог ему без происшествий переправить наших лошадей через мост. Иногда в поврежденных местах он подкладывал им под ноги свой щит, в нескольких местах он соединил разошедшиеся доски: то сгибаясь, то разгибаясь, то продвигаясь вперед, то отступая на шаг, он наконец благополучно прошел по мосту вместе с лошадьми, а я последовал за ним».
Была уже темная ночь, когда Ришер прибыл в аббатство Сен-Фарон в Мо. Однако монахи еще не спали, поскольку в этот день они «совершили торжественный обед после чтения главы Устава, относящейся к обязанностям келаря, что заставило их перенести ужин на более поздний час». В другой главе мы еще увидим, что представлял собой монастырский келарь. И тогда поймем, почему в день, когда ежедневное чтение монастырских правил доходило до посвященной ему главы, монахи устраивали в честь него праздник. Монахи Сен-Фарона приняли путешественника «как брата», одарили его «добрым словами и достаточной пищей». Однако создается впечатление, что кавалер не оказался лицом, достойным такого же щедрого приема. Во всяком случае, как видно из текста, Ришер тотчас же послал его назад вместе с лошадьми на поиски слуги и багажа, так что у него даже не было времени перекусить. Этот идеальный помощник вновь и столь же удачно прошел по мосту и не без труда нашел брошенного слугу «во второй страже ночи», то есть в час, предшествующий полуночи. Чтобы вновь не рисковать, переходя в темноте через мост, «он остался вместе с ним в какой-то хижине». «Хотя они весь день ничего не ели, они предпочли в эту ночь отдых ужину». В Сен-Фарон они прибыли только днем, «весьма поздно и умирая от голода».
На этом рассказ Ришера обрывается; он добавляет только, что «вскоре прибыл в Шартр». Тем лучше для него, раз с ним больше ничего не произошло, и тем хуже для нас, потому что мы не можем проследить, как он проезжал через Париж (а этого он не мог избежать, так как должен был переправиться через Сену по мосту Нотр-Дам и по Малому мосту) и как он преодолел густой лес Рамбуйе…
Нам удалось тем не менее выяснить, что верхом при наличии багажа можно было проехать в день 55-60 км, что можно было легко сбиться с пути и что некоторые мосты были в ужасающем состоянии. Мы можем также констатировать, что человек, находящийся в тяжелом положении, мог провести часть ночи в одиночку с багажом в лесу по соседству с Мо и не быть ограбленным. Наконец мы видим, что монастыри были традиционным местом ночлега для путешествующих, и впоследствии мы сможем убедиться, что их гостеприимство распространялось не только на путешественников, носивших сутану.
Стоит ли добавить, что в течение всего этого путешествия Ришер соблюдал все правила, которые Устав предписывал путешествующим монахам? Мы можем быть уверены, что на нем были ряса и мантия. Ему не представилось случая подавать за столом пример воздержания и трезвости, что предписывалось в особенности при остановках на постоялых дворах. Ведь он останавливался только в монастырях, что также рекомендовалось Уставом. Путешествующему монаху следовало также в каждый канонический час богослужения сходить с коня, вставать на колени, осенять себя крестом, произносить покаянные молитвы и продолжать читать их, вновь отправляясь в дорогу, но не надевая перчаток. Не разрешалось также то, что было сделано в нашем случае, а именно: продолжать путь после повечерия, то есть ночью. Учтем также, что нельзя было пускать коня галопом, бегать самому, а если по стечению обстоятельств в пути встречался другой монах, то его следовало приветствовать, но не нужно было сходить с коня для того, чтобы обменяться «поцелуем мира», ибо это могло повлечь за собой пустословие. Мы можем также порадоваться, что Ришеру не пришлось просить гостеприимства у женщины и вследствие этого он не был вынужден отказаться сесть с ней за один стол или принимать от нее дары. Что до молчания, которое он должен был соблюдать так же, как и в монастыре, то он часто нарушал этот запрет под давлением обстоятельств.
Несчастные случаи в дороге
Эльго, монах монастыря святого Бенедикта на Луаре, ставший биографом короля Роберта Благочестивого, сохранил неприятные воспоминания об одном путешествии, которое он совершил совместно с двумя братьями из того же монастыря, сопровождая короля в Пуасси, где тот намеревался провести время Великого поста. Им пришлось переправляться через Сену в одном особенно опасном месте. По приказу короля они взошли на борт «небольшого судна». Их лошади (ибо они, конечно же, путешествовали верхом) должны были следовать за ним вплавь, в то время как сидящие в «судне» держали поводья. К несчастью, «на самой середине потока» одно из животных, «плохо прирученное и никогда ранее не проделывавшее таких упражнений, вскинуло передние ноги на борт лодки». Лодка начала переворачиваться. Король, который уже перебрался на другой берег, и все бывшие с ним «возносили к небу горячие молитвы». Кроме этого, Роберт дал им практический совет: он крикнул, чтобы они отпустили поводья и постарались отплыть от лошадей как можно дальше. Чудом не утонувшие путешественники так и сделали: они отбились от коней ногами и «поплыли к берегу». Относительно этого рассказа, как и большинства рассказов того времени, приходится сожалеть, что автор умалчивает о деталях. Как передвигалось «небольшое судно»? Видимо, на веслах. Однако лучше бы это было ясно сказано в тексте. Впрочем, понятно, что именно таким образом верховые путешественники переправлялись через реки: ничто в рассказе Эльго не заставляет предположить, что это исключительный случай. Мостов было немного, удобных бродов тоже.
К тому же броды и, в меньшей степени, мосты затоплялись в период половодья. Монахи и слуги монастыря святого Бенедикта на Луаре неоднократно имели возможность в этом убедиться.
В 986 или 987 году аббат Уалболд, желая достойно отметить день успения святого Бенедикта — 21 марта, послал монаха Аннона купить рыбу в достаточно отдаленное место, где она имелась в изобилии. Аннон исполнил поручение и пустился в обратный путь. Однако сильные дожди привели к разливу «аквитанских рек». (Этот эпитет подтверждает тот факт, что экспедиция была отправлена на левый берег Луары.) Одна из рек — Андрия, «ручей весьма непримечательного вида, но опасный для перехода по причине множества излучин его русла и множества прудов, образуемых им в некоторых местах», не оставил для путешествующего брата ни одного брода, который можно было бы переехать даже верхом. Аннон увидел две лодки — одну полузатонувшую на середине реки, а другую — прибившуюся к противоположному берегу. Рядом не было никого, кто мог бы помочь. Аннон стал истово молиться святому Бенедикту. И тут лодка освободилась от того, что ее удерживало у берега, и сама по себе направилась к Аннону и его спутникам — ибо в этом месте рассказа мы вдруг узнаем, что его кто-то сопровождал. Они подцепили лодку, остановили ее, погрузили весь свой багаж и переправились через реку, причем лошади следовали за ними вплавь. Пусть те, кто сомневается в чудесной силе святого Бенедикта, не доходят до того, чтобы полностью оспаривать свидетельство Аннона! В конце концов лодка могла и без вмешательства сверхъестественных сил оторваться от берега и проплыть настолько близко от путешественников, что они смогли ее поймать. В любом случае нет никаких оснований не счесть этот эпизод достоверным описанием полной приключений поездки.
В 1003 году произошел большой разлив Луары, во время которого оказался в серьезной опасности пастух аббатства святого Бенедикта. Чтобы уберечь коров, ему пришлось перегнать их на более возвышенное место. По возвращении он обнаружил, что проход, которым он пользовался, затоплен. Он поспешил к известному ему мосту, который был перекинут через небольшой приток, прозванный «по причине большого болота, его окружающего, Длинной Нитью» (?). Но и здесь вода поднялась уже высоко, и переход стал невозможен. Пастух уже не надеялся выбраться. Немного потеряв голову, он привязал себя к доске настила моста при помощи обмоток своей обуви. Это был лучший способ утонуть, если бы вода еще поднялась. Но поскольку он страстно молился святому Бенедикту, разыгравшиеся волны снесли мост, и его понесло как на плоту к слиянию Бонне с Луарой. Таким образом он проплыл расстояние в три мили, подталкиваемый ветрами, которые, будучи до этого буйными, превратились в нежный зефир. Он оказался неподалеку от небольшого судна, в котором плыли его сыновья. Они выловили его, отвязали от досок и отвезли в безопасное место.
Опасные встречи
Однако не только природные явления представляли собой опасность для путешественников. Известно, и мы еще приведем тому примеры, что некоторые сеньоры были склонны устраивать засады возле своих замков.
Еще более яркий пример дорожных невзгод — приключение аббата Клюни Майеля незадолго до 972 года.
В то время сарацины, хозяева Испании, Сицилии и большей части островов Средиземного моря, сумели обосноваться на восточном берегу Прованса. Они создали плацдарм в районе Ла-Гард-Френе позади Сен-Тропе в глубине массива Мор и оттуда устраивали набеги в достаточно отдаленные области прибрежных и провансальских Альп. Само собой разумеется, что иногда они устраивали засады в ущельях, через которые люди ехали в Италию или возвращались оттуда. Во всяком случае, именно там, «на самых узких альпийских тропах», по словам Рауля, их встретил Майель, возвращавшийся из одного из своих многочисленных путешествий на полуостров. Он защитил одного из своих спутников от стрелы, которая ранила его в руку, после чего его вместе со всеми увели в «уединенное место в горах», отобрали все вещи и объявили, что отпустят в обмен на выкуп. «С любезностью, полной достоинства, этот божий человек ответил, что у него нет ничего своего в этом мире, ибо он не желает иметь никакой материальной собственности, но не стал скрывать, что имеет влияние на многих людей, которых назвал владельцами больших поместий и крупных состояний». Похитители сразу же назначили выкуп — огромную сумму в 1000 ливров[72]. Одного из пленников послали в Клюни с письмом, которое гласило: «Отцам и братьям монастыря Клюни. Ваш брат Майель в бедственном положении в плену. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня (5-й стих 17-го псалма). Пошлите же, прошу вас, выкуп за меня и за тех, кого схватили вместе со мной». Следует предположить, что все подробности посланный должен был передать устно. Все в унынии, все в слезах. Стали собирать все, что было золотого и серебряного. (Так что заплатили вовсе не богатые друзья аббата.) Тем временем в лагере сарацин «святой человек не мог скрыть своих достоинств от взоров окружающих». Правда, это выразилось довольно удивительным для нас образом. Отвечая тому, кто предложил ему «мяса и весьма черствого хлеба», он сказал: «Если я голоден, то Господь насытит меня, а этого я есть не стану, я к этому не привык.» Мясо, действительно, было запрещено в Клюни, но хлеб? И хотя мы с вами не понимаем, один из сарацин сразу понял его: «Он осознал тогда высокий ранг этого божьего человека; охваченный чувством почтения, он засучил рукава одежды, омыл руки и омыл также свой щит, на котором перед очами преподобного Майеля он весьма достойным образом приготовил хлеб. Он быстро испек его и поднес аббату с большим почтением. Аббат принял хлеб и, лишь произнеся соответствующую молитву, подкрепился этой пищей; после чего он воздал благодарение Богу».
Разумеется, между пленением и прибытием выкупа прошло несколько недель: если предположить, что все это происходило в районе Тендского ущелья, то до Клюни было добрых 70 км, и местность была не равнинная, так что длину пути следует удвоить. На коне или на муле с грузом в 500 кг золота и серебра было невозможно проехать в день больше 15 лье, то есть 60 км, а для того, чтобы проехать 1400 лье, нужно было 24 дня. Добавьте время, которое ушло на сбор средств для выкупа. Так или иначе, заключение Майеля продлилось не меньше месяца. Похоже, что с ним прилично обращались: после случая с хлебом и последовавшего затем чудесного наказания некоего сарацина, который случайно наступил на Библию святого отца, «многие из них старались засвидетельствовать аббату больше почтения и относились к нему с мягкостью.»
В 972 году Гильом, граф Арльский, будущий тесть Роберта Благочестивого, и Ардуэн, маркиз Турина, изгнали сарацин из их логова в Ла-Гард-Френе. Похоже, больше они в Провансе не появлялись.
В любом случае, как показывает этот эпизод, приверженцы Магомета не сегодня начали захватывать заложников и удерживать их в плену в нарушение прав человека: речь идет об очень давней традиции народов, исповедующих ислам. Впрочем, в 1000 году эта достойная порицания практика была и у других народов. С ней столкнулась виконтесса Лиможа Эмма. Когда она отправлялась на богомолье в Сен-Мишель-ан-Л'Эрм, известную святыню Вандеи, ее захватили ночью норманнские пираты и, по словам Адемара из Шабанна, «в течение трех лет держали в заточении за морем». И дело не в том, что кто-то промотал сокровища, собранные для ее выкупа: «Сокровищница святого Марциала предоставила огромное количество золота для выкупа, золотую статую святого архангела (святого Михаила) и большое число других украшений; норманны взяли все это, но, в нарушение слова, не отпустили даму. Наконец, спустя много дней, Ричарду, графу Руанскому (это был Ричард II, герцог Нормандский, который таким образом воспользовался своим этническим родством с пиратами), пришла в голову блестящая идея послать к ним за море послов, чтобы выкупить ее, и освободив, он вернул ее сеньору Ги, ее супругу».
В отличие от некоторых мусульманских народов, скандинавы уже давно перешли к обычаям всех христианских и цивилизованных стран.
Путешествие императора
Большими и малыми реками пользовались для передвижения почти столь же часто, как сухопутными дорогами. Это естественно для времени, когда состояние дорог делало неудобным применение колесного транспорта (во всяком случае, при путешествии на большие расстояния) и заставляло грузить багаж и товары на вьючных животных.
Известно, например, что Оттон III охотно путешествовал на корабле. В апреле 996 года он покинул Павию на борту судна, предоставленного в его распоряжение этим городом. Вместе с сопровождавшими его придворными он спустился по реке По и зашел в гавань Кремоны. Его сегодняшний биограф Ален Оливье описывает нам, как корабль скользил «по спокойной воде, в легком тумане, овеянный весенней прохладой, проплывая мимо огромных равнин, на которых были видны только стебли тростника, колосья хлебов и богатые виноградники». К концу месяца он достиг дельты По и пристал к берегу в Класси, порту Равенны.
Два года спустя, в январе 998 года, он повторит это небольшое плавание из Кремоны в Равенну. В Ферраре к нему присоединится корабль, весь увитый гирляндами и сопровождаемый более мелкими судами, прибывшими из Венеции: на корабле находился сын дожа[73] — Пьеро Орсеоло II, который был крестником молодого императора. Так и хочется представить себе эти сопровождающие маленькие суденышки в виде гондол. Оттон взошел на борт венецианского корабля и на нем завершил свое путешествие. Путешествие было приятным, но не мирным, ибо он направлялся в Италию для того, чтобы подавить новое восстание Рима против саксонского императора. Его армия сопровождала его по сухопутной дороге.
Гостеприимство аббатств
Каждый раз, когда император прибывал в Италию через Бреннерское ущелье, он имел обыкновение останавливаться в аббатстве Сан-Дзено в Вероне. В целом нам известно, что монастыри были обычным местом ночлега для знатных путешественников. Во времена, когда епископы, аббаты, короли и более мелкие сеньоры почти все время находились в пути, гостеприимство становилось неотъемлемой функцией монастырей. Аббатство Клюни, служившее примером в этой области, как и во многих других, было специально оснащено для этого. Оно имело за пределами монастырских стен большое здание в 135 футов длиной и 30 шириной со спальней для мужчин на 40 мест и отхожим местом, рассчитанным на такое же количество человек, а для высокородных дам имелась другая спальня на 30 мест, имевшая те же удобства. Между двумя спальнями, разделяя их, находилась трапезная, где господа и дамы вместе ели. Обслуживанием занимался специальный монах, ответственный за гостиницу, которому помогали два других монаха и слуги; из них одни стряпали на кухне, другие чистили обувь и набедренники приезжих, третьи подвозили на двух ослах дрова для отопления.
Церемониал приема путников был строго расписан. Если прибывал король, то аббат или приор собирал всех монахов в церкви, где они надевали мантии, в то время как монастырские дети надевали стихари, затем ризничий выстраивал процессию, которая начинала двигаться под звон двух больших колоколов. Из описания можно понять, что первую группу участников процессии составляли монахи, несший крест, монах, размахивавший кадилом, и еще трое, несшие подсвечники. Вторую группу составляли монахи, один из которых нес святую воду, другой — крест, и трое — Евангелие. Третья группа была такой же, как первая. Затем следовали послушники в мантиях, они шли парами. За ними шли дети, ведомые своими учителями. После них шел аббат во главе монахов, выстроившихся по двое. Процессию замыкали великий приор и приор монастыря, шедшие рука об руку. Короля кропили святой водой, он целовал Евангелие и принимал воскурения. Затем звучал Ecce mitto anglum meum[74], в то время как слуги звонили во все колокола. В церкви стелили ковер перед главным алтарем и еще один — перед алтарем святого Креста. Под звуки гимна, сопровождаемого приличествующей моменту молитвой, процессия входила в монастырь. При приезде королевы совершалась та же церемония. Если приезжал епископ, монахи в мантиях вместе с детьми, одетыми в стихари, шли процессией после послушников, которым на этот раз поручалось несение святой воды, креста, двух канделябров и Евангелия. Все колокола звонили вплоть до входа процессии в церковь. В случае приезда аббата церемония упрощалась, и колокола молчали. Прием простых сеньоров, которые, тем не менее, были высокородными людьми, будет подробно описан в главе, посвященной обязанностям внутренних служб монастыря.
Возвращение из Византии
Лиутпранд, епископ Кремоны, отправившийся в 968 году с посольством от императора Оттона Великого в Константинополь, оставил нам живописный рассказ о начале своего возвращения на родину.
Басилевс[75] и весь византийский двор отнеслись к нему очень плохо. Исполнив свою миссию посла, он затем был вынужден долгое время ожидать разрешения на отъезд и выдачу средств для поездки. Наконец 2 октября в сопровождении проводника, которого он называет по-гречески диастозисом, он покинул ненавистный ему город Константинополь «на борту небольшого корабля». И хотя он не сообщает нам о том, где высадился на сушу, мы далее читаем, что он ехал «49 дней на спине осла, шел пешком, скакал верхом на коне, страдая от голода, жажды, задыхаясь, рыдая, стеная», пока не прибыл в Навпактос. Таким образом он пересек всю Фракию, Македонию, Фессалию и Этолию, то есть преодолел около 1500 км, делая переезды приблизительно по 30 км каждый.
В Навпактосе «диастозис» распростился с Лиутпрандом, предварительно поручив его и его свиту заботам капитанов двух «маленьких кораблей», которые должны были доставить их морем в Отранто, где они могли наконец ступить на итальянскую землю. Однако эти несчастные, не имея охранной грамоты, повсюду наталкивались на пренебрежение окружающих. Лиутпранд и его немецкие товарищи лучше них умели устраивать дела, им самим и пришлось обеспечивать пропитание.
Понятно, что речь идет о прибрежном плавании. Отбыв из Навпактоса 23 ноября, посол и его свита через два дня причалили в Фидарисе, откуда им был виден на пелопоннесском берегу город Патры, место мученичества святого Андрея. Лиутпранд торопился вновь увидеть родину и решил, что может не совершать паломничества, в которое было собирался отправиться. За это ему пришлось сурово поплатиться. Ужасающе сильный ветер с юга поднял бурю, не утихавшую пять дней. На третий день посол, решивший, что пришел его последний час, вознес страстную молитву святому Андрею. Через 48 часов молитва была услышана. Непогода улеглась, и, сами правя кораблем, ибо матросы исчезли, Лиутпранд и его товарищи доплыли до острова Левкас, «пройдя таким образом расстояние в 140 миль (около 252 км) и не встретив ни препятствий, ни неприятностей, если не считать некоторых осложнений, возникших подле устья Ахелоя (Аспропотамоса), чьи бурлящие водные потоки с быстротой обращались вспять морскими волнами».
Прибыв на Левкас 6 декабря, Лиутпранд и его свита оставались там до 14-го числа того же месяца. Им не пришлось рассчитывать на любезный прием местного епископа, который отнесся к ним «без малейшего человеколюбия», так же как это делали его собратья, встреченные ими до того, и те, которых им еще предстояло встретить. Кстати, этот прелат был евнухом, что, по идее, не могло позволить ему, согласно каноническому праву, стать священником. Короче, 14 декабря путешественники, по-прежнему не имея с собой ни одного профессионального мореплавателя, отбыли и взяли курс на Корфу, куда прибыли 18-го числа. «Стратиг», как его называет Лиутпранд, иначе говоря, губернатор по имени Михаил, предстал перед ними с улыбкой и вел себя чересчур вежливо для честного человека. Его лживость была обличена тремя подземными толчками, а через 4 дня, то есть, вероятно, 22 декабря, произошло затмение солнца, сильно напугавшее Михаила, но не изменившее его поведения. Этот порочный стратиг должен был, не откладывая, посадить Лиутпранда и его людей на галеру и отправить их в Отранто. Он ничего подобного не сделал, и в течение 20 дней посол был вынужден тратить деньги на пропитание для себя и своих товарищей. Предосторожности ради Лиутпранд преподнес губернатору прекрасный плащ, купленный в Константинополе. Но подарки мало действовали на «этих греков»: они становились еще менее надежны, если им ничего не дарили или дарили не то, что им хотелось. Доказательством этому служит поведение посланника, прибывшего от «хитонита» Льва, местного представителя власти, который ожидал высокого гостя в Отранто. Лиутпранд преподнес посланнику серебряный кубок, а тот хотел получить византийский плащ. Недовольный подарком, он отдал приказ капитану галеры, направлявшейся в Отранто, высадить своих пассажиров на каком-то мысе, где они чуть не умерли от голода.
Интересно было бы знать, как Лиутпранд выпутался из этой трудной ситуации. Он наверняка написал об этом. Однако конец его рассказа утрачен.
«Бродяги»
Мы должны еще раз констатировать, что в нашем распоряжении, в основном, имеется информация о лицах, принадлежавших к меньшей части населения. Рассказы о монахе, покупавшем рыбу, и о пастухе аббатства святого Бенедикта дают нам некоторое представление и о множестве обычных паломников, простых священников, монахов, законно или незаконно покидавших монастыри, крестьян, право которых на передвижение уже не подвергается сомнению, то есть всех тех, кто пешком путешествовал по дорогам. Если взять паломников, о которых мы еще будем говорить, то была ли эта категория путешественников действительно столь многочисленна, как это иногда представляют себе некоторые историки? Источники, относящиеся к эпохе 1000 года, могут подтвердить это только молчанием. Наш Рауль, находясь в одном из монастырей, встретил «юношу, родом из Марселя, одного из тех людей, что привыкли бродить по земле, ничему не учась и не стремясь увидеть новые места». Этот бродяга был не единственным в своем роде, раз его относят к некой категории лиц. Хочется спросить, на какие средства жили эти люди? Возможно, мы получим ответ на этот вопрос, если примем к сведению то, что говорил этот человек Раулю и другим монастырским братьям. Он рассказал, будто, имея желание все повидать, он пересек некую пустыню и встретил отшельника, который якобы провел там 20 лет, не видя ни одного человека. Первым человеком был наш рассказчик. Подвижник сказал ему: «Я понял, что ты пришел из Галлии. Но прошу тебя, ответь, видел ли ты когда-нибудь монастырь Клюни?» Услышав утвердительный ответ, он продолжал: «Знай же, что этот монастырь не имеет себе равных в романском мире, в особенности в умении освобождать души, подпавшие под власть демонов. Там столь часто совершаются животворящие литургии, что почти не проходит дня без того, чтобы это непрекращающееся занятие не позволило вырвать чью-либо душу из власти злых демонов». Если наш юноша рассказывал эту историю монахам Клюни (а это вполне вероятно), то можно быть уверенным, что этому доброму человеку было оказано особо щедрое гостеприимство и он ушел из аббатства не с пустыми руками.
Глава VIII ВРЕМЯ
Обычное время и его измерения
Течение времени отмечалось по дневному пути Солнца на небе или при помощи солнечного света. Само собой разумеется, никто не носил ничего похожего на наручные часы и ни у кого дома не было настенных часов с маятником.
Наступление дня возвещалось естественным звуком — криком петуха. Это «кукареку» было столь знакомо всем, что превратилось в символ раннего утра, утренней зари. Когда Рауль хотел сказать, что комета, появившаяся на небе осенью около 1000 года, была видна всю ночь, он, как мы видели, написал, что она не исчезала «ранее, чем начинали петь петухи».
Объявив таким образом о возвращении дневного света, природа уже не отбивала других часов. Люди же пытались более или менее восполнить этот пробел. В первую очередь этим занимались монахи. Крестьяне, жившие по соседству с монастырями, могли слышать звон колоколов, который, подавая сигнал к началу ежедневных богослужений, звучал каждый день в одни и те же часы. Видимо, за исключением колокольного звона, созывавшего всех верующих на воскресную мессу, в остальных случаях колокола звучали только для самих монахов. В XII веке стали также отзванивать начало Angelus[76] на восходе, затем звонили в полдень и с наступлением сумерек. Однако во времена 1000 года, похоже, не было принято призывать мирян молиться в определенные часы дня.
Каким образом монахи отслеживали повседневное течение времени? О монахах Клюни, начиная со второй половины XI века, мы знаем точно: у них были часы, отбивавшие время. Об этом свидетельствуют два свода монастырских правил того времени. Говоря о ризничем, ответственном за звон колоколов, автор первого из них, монах Бернар, пишет, что тот «отвечает за часы и с усердием следит за их исправностью». В тексте, автор которого называет себя Ульрихом, подчеркивается, что ризничий должен звонить в колокольчик к полунощнице «после того, как прозвонят часы».
Эти звонящие часы не могли быть механическими часами с колесиками, отвесом и маятником, то есть теми, которые мы представляем себе сегодня, услышав слово «часы». Вплоть до XIII века инструментами измерения времени служили только солнечные часы и клепсидры, то есть часы, в которых время определялось по уровню воды, вытекавшей капля за каплей из сосуда. Песочные часы, принцип действия которых аналогичен клепсидре, служили лишь для измерения коротких промежутков времени.
И солнечные часы, и клепсидра были известны с Античности. Изобретательные александрийцы снабдили эти изначально весьма простые машины устройствами, звонившими в определенные моменты. Арабы, в результате завоеваний унаследовавшие эллинистические премудрости, в свою очередь усовершенствовали их: именно клепсидру со звоном халиф Гарун-аль-Рашид[77] прислал из Багдада в подарок Карлу Великому. Ее описание, сделанное Эйнгардом в биографии великого императора, не оставляет в этом никаких сомнений. Искусство создавать такие часы перешло к христианам Запада, и уже в XIII веке король Кастилии Альфонс Мудрый, прославившийся знанием астрономии, описал их в своих трудах. Если бы ему были известны часы с колесиками, он наверняка хотя бы упомянул о них. Впрочем, до их создания было уже недалеко. В описи мебели, принадлежавшей королю Филиппу Красивому, который скончался в 1314 году, упоминаются «часы серебряные, совсем без железных частей, с двумя серебряными противовесами, наполненными свинцом». Если не ошибаюсь, это первое в истории упоминание о часах с гирями.
Герберт Орильякский, с которым читатель этой книги уже встречался и еще неоднократно встретится, не мог, познакомившись с различными часами, не сделать сам такие же. Немецкий хронист Титмар Мерзебургский пишет, что, находясь в Магдебурге вместе с юным Оттоном III (значит, это был 996 год), Герберт сделал часы, которые наладил, наблюдая через трубу за известной звездой, указывающей путь морякам». Здесь перед нами кажущееся затруднение, поскольку всегда считалось, что телескоп был изобретен Галилеем только в начале XVII века… Впрочем, читатель может не волноваться: эта труба не была телескопом. В ней отсутствовали линзы. Она служила Герберту лишь для того, чтобы видеть самую неподвижную звезду неба — Полярную. И это астрономическое действие показывает, что его часы следовало ориентировать по небесным светилам, то есть речь идет об обычных солнечных часах.
Однако те из читателей Титмара, которые обладали богатым воображением, а именно некие Марло и Жак Александр, опубликовавшие в 1734 году статью в «Ученом журнале», поспешили признать в «orologium»[78] Герберта механические часы, созданные гением и опередившие свое время. В ответ появилось бесстрастное опровержение Александра Оллериса в предисловии к его изданию трудов Сильвестра II: «Если бы он (Сильвестр. — Э. П.) изобрел механические часы, то, наверное, этот хитроумный секрет, сохраненный его учениками, избавил бы Людовика IX[79] от необходимости прибегать к помощи горящей свечи для того, чтобы следить за ходом времени и не увлекаться чтением ночью». Оговоримся, что у Людовика Святого не было часов, и постараемся не забыть про эту свечу, когда вернемся в Клюни, к ризничему и его часам.
Из всего сказанного следует, что упомянутыми в Уставе часами могла быть только клепсидра. И поскольку этот вид часов существовал со времен Античности и стал известен на средневековом Западе не позднее эпохи Карла Великого, у нас нет оснований не доверять монахам — авторам приведенных выше Уставов. Мы можем не сомневаться в том, что в Клюни в 1000 году время дня и ночи отсчитывал ось клепсидрой со звоном.
Свод правил Бернарда допускает случай, когда клепсидра неправильно отсчитывает время или даже портится (cum fieri possit ut aliquando fallatur[80]): в этом случае ризничий должен «обратиться к помощи восковой свечи и к движению звезд или даже луны, чтобы разбудить братьев в нужный час». Дело в том, что латинский текст данного отрывка можно перевести только весьма приблизительно. Нетрудно понять, что искусное наблюдение за звездами и луной позволяло определять час суток. Упоминание же свечи возвращает нас к горящей свече Людовика IX, но только в описании исповедника королевы Маргариты, супруги святого короля, мы, похоже, находим достойное разъяснение: «Каждый день он удаляется в свою комнату и зажигает там свечу определенной длины, приблизительно в три фута; и покуда она светит, он читает Библию либо какую-нибудь другую священную книгу; когда же вся свеча сгорает, он зовет одного из своих капелланов».
По свидетельству источников, вплоть до конца Средних веков время (особенно в ночные часы) измерялось по длине свечей. Этот обычай был так распространен, что стал основой естественного деления ночного времени.
Пользуясь солнечными часами днем — при хорошей погоде, и свечами ночью, а также клепсидрами в любое время суток (хотя они были далеко не у всех), люди 1000 года в большинстве своем не знали о равных друг другу 24 часах современных астрономических суток. Почти все они были далеки от мысли о некой неизменной единице, способной служить для измерения времени. Этим вопросом занимались лишь ученые, и результаты их чисто теоретических исследований не выходили за рамки интеллектуального курьеза. Так, грамматист Папиас в своем Латинском словаре (Vocabularium latinum), составленном в 1053 году, сообщает нам, что час состоит из 5 «точек», 15 «частей», 40 «мгновений», 60 «знамений» (ostenta) и 22 560 «атомов». В другом месте он пишет, что «точке» соответствуют две минуты, из чего следует, что час Папиаса состоит из 10 минут. Однако два века спустя в математической рукописи, которую цитирует Литтре, слово «минута» определяется так, что час состоит из 22 560 минут, «столь малых, что их невозможно отделить друг от друга»… Единственное, с чем согласны все, — это то, что в сутках 24 часа. Но поскольку, согласно римской традиции, было принято считать, что из них 12 приходится на день и 12 на ночь, то реальная длительность часа менялась в зависимости от времени года. На астролябиях, инструментах, использовавшихся для разного рода астрономических операций, сохранились надписи, отмечающие «неравные», или «косые»часы.
В монастырях не отзванивали все 12 часов дня и тем более 12 часов ночи. Ночь обычно делилась на четыре «стражи»: две до полуночи и две — после. Отмечались только часы богослужений, то есть «канонические часы». Как будет видно в дальнейшем, при подробном описании монастырской жизни, днем это были: час первый (Prima) — при восходе солнца; в середине утра — час третий (Tertia); в полдень — час шестой (Sexta); в середине дня — час девятый (Nona); при заходе солнца — вечерня. Кроме вечерни («vepres», от латинского слова «vesper» — «вечер»), остальные канонические часы назывались в соответствии с латинской нумерацией: prima hora, tertia, sexta, nona[81]. Когда наступала ночь, звонили к повечерию; в полночь — к полунощнице; вторая половина ночи была отмечена заутреней и хвалитнами.
Мы уже видели, что ризничий ограничивался тем, что звонил в колокольчик, давая сигнал к полунощнице. В другом источнике, напротив, колокольным звоном объявляется заутреня; так, во всяком случае, было заведено в аббатстве Сен-Жермен в Осере. Еще больше было оснований звонить к хвалитнам, а также в дневные часы. Таким образом, монастырь делился с окружающей сельской местностью знаниями о времени, измерения которого в нем проводились. Эти знания были более чем достаточны, если не сказать избыточны. Крестьянам не требовалось знать, какой час дня наступил: их деятельность не включала в себя ничего такого, что следовало делать точно по часам.
Годовые ритмы
Времена года имели свою естественную, сезонную окраску, от которой зависели полевые работы, охота, ведение войны, короче, вся жизнь крестьян и их сеньоров. Мы еще сможем в этом убедиться.
Другой ритм накладывался на годичный цикл литургией. Воскресный отдых на седьмой день недели, праздники, в которые нельзя было работать и которые, как мы увидим ниже, зачастую вызывали сопротивление. Литургический год, как известно, строится исходя из праздника Пасхи, который отмечается в первое воскресенье после полнолуния, наступающего после 21 марта[82]. Расчет этой даты для каждого года входил в обязанности специальных «счетчиков». В свою очередь, дата Пасхи определяла время наступления ежегодных покаяний: в первую очередь, 40 дней Великого поста, а также нескольких других, более коротких постов. Согласно Раулю, «большая часть истинно верующих» постилась между праздником Вознесения и Пятидесятницей (Троицыным днем), то есть в течение 10 дней, первый из которых приходился на 41-й день после Пасхи. Вместе с тем церковные соборы, проводившиеся в то время, объявляли эту практику необязательной; исключение составляла лишь суббота накануне Троицына дня. Можно задать вопрос: что тогда означают слова «большая часть истинно верующих»? Вряд ли стоит понимать эти слова буквально, даже если считать, что они относятся только к Бургундии, где жил наш монах.
Даты обозначались на латинский лад, считая от календ, ид и нон[83], а месяцы обозначались в рукописях латинскими названиями. Календарь имел огромное значение для литургии, поскольку порядок чтения мессы, отправления богослужений, так же как поминовение святых, менялись в зависимости от дня (что принято и сейчас). Светское население, возможно, не столь внимательно следило за календарем.
Смена года не происходила, как сейчас, первого января. Начало года приходилось на разные дни в зависимости от территории и, может быть, даже от социальной среды. Например, в канцелярии короля Франции, судя по всему, год начинался с 1 марта, а в Анжу и в Пуату — с Рождества, 25 декабря. В аббатстве святого Бенедикта на Луаре началом года было 25 марта, праздник Благовещения, то есть зачатия Спасителя. В Германии и в Англии наиболее распространен был обычай начинать год с Рождества.
Само собой разумеется, что священники, ответственные за соблюдение литургии, знали, какой год на дворе; им это было нужно хотя бы для того, чтобы определять день Пасхи. Труднее решить, относилось ли все население с таким же вниманием к наступлению нового года. Например, как люди могли узнать, что наступает точно 1000-й год от Рождества Иисуса Христа? Впрочем, он и не был тысячным: ведь 1-й год христианской эры, выведенный в хронологических трудах Дионисия Малого, римского монаха, жившего в конце V века, теперь считается 4-м годом после установленной историками даты рождения Спасителя.
Возраст мира и мировые эпохи
Независимо от того, знали или нет люди того времени год рождения Христа, интересно представить себе, как они в целом ощущали свое место в течении мирового времени. Отзвук того, что об этом думали ученые люди, можно найти у Рауля Глабера. В конце первой книги своих «Историй» он упоминает, что со времени творения мира до пришествия Спасителя минуло шесть исторических эпох, и завершает свою мысль словами: «И многие верят, что седьмая эпоха станет свидетелем завершения волнений этого низкого мира, с тем чтобы все, имевшее начало, равным образом нашло в своем создателе завершение, которое дает ему полное успокоение». Естественно, в этом тексте не имеются в виду ужасы тысячного года, поскольку он был написан в 1040 году. Он просто доказывает, что в монастырях читали трактаты по всеобщей истории, в частности, труд Беды Достопочтенного, английского монаха, жившего в начале VIII века, имя которого Рауль упоминает на первых же страницах своих «Историй». В работе «De temporum ratione»[84] Беда точно приводит традиционное деление времени на эпохи: первая эпоха — от Адама до Ноя, то есть от творения до потопа; согласно еврейской хронологии, она продолжалась 1656 лет, а согласно мнению создателей «Септуагинты», 70 александрийских переводчиков Ветхого Завета, — 2242 года. Вторая эпоха, от Ноя до Авраама, общего прародителя еврейского народа, длилась соответственно 292 и 1072 года; третья продолжалась вплоть до царствования Давида — 1942 года согласно обеим хронологиям; четвертая, завершившаяся окончанием Вавилонского плена, насчитывает 473 года, на 12 лет больше по Септуагинте. Пятая, длившаяся, по общему мнению, 589 лет, приводит нас к дате Рождества Христова. Шестая эпоха — это та, в которой живут люди со времени этого великого события мировой истории. Согласно еврейской хронологии она началась в год 3952 от сотворения мира.
Итак, в 1000 год миру исполнилось 4952 года. Как известно, эта хронология просуществовала вплоть до расцвета классической эпохи, то есть почти до времени Боссюэ[85]. Сейчас приходится делать некоторое усилие, чтобы представить себя на месте людей, для которых время существования мира было столь коротким.
Добавим, что эти люди верили, будто живут в последнюю фазу развития истории. Это было логично, ибо какое событие будущего могло превзойти по значимости Рождество и Искупление, обозначить собой новый этап и начать новую эру? Иоахим Флорский[86] еще не родился, и только в XIII веке его ученики развили мистическое учение до того, что стали пророчествовать после царства Сына Божия наступление царства Святого Духа, третьей ипостаси Святой Троицы. Для Беды и для интеллектуалов 1000 года все же существовала седьмая эпоха, но она находилась вне времени, вне этого низкого мира; существовала даже и восьмая эпоха, эпоха воскрешения плоти, долженствовавшая длиться вечно.
Убежденные в том, что они живут в завершающую эпоху исторического времени, эти люди, пользуясь своей хронологической шкалой в том виде, в каком мы ее знаем, не могли отодвинуть конец света в очень отдаленное будущее. Но они не называли его дату. Беда пишет: «Для шестой эпохи, которая существует сейчас, не даны ни точное число поколений, ни точная протяженность». Те, кто читал эти строки почти через три столетия, могли только констатировать, что эта эпоха еще не кончилась.
Время жизни
И наконец существовало время жизни. Длительность жизни каждого человека. Время жизни, время смерти, что одно и то же.
Нет никакой надежды на то, что кто-нибудь сможет исходя из точных данных определить среднюю продолжительность жизни человека в 1000 году. Еще не существовало служб регистрации гражданского состояния. Не было приходских списков. Нет ни одного документа, способного дать пищу для статистических исследований. Невозможно установить, много ли детей умирало в раннем возрасте, хотя скорее всего это именно так, поскольку так было во все другие эпохи вплоть до недавних успехов в развитии медицины и профилактики.
В целом известны, с большей или меньшей степенью точности, даты смерти известных людей, как духовных, так и светских. Дата рождения указывается значительно реже, можно сказать, в исключительных случаях. Мы не знаем дату рождения даже такого короля Франции, как Гуго Капет, в жизни которого отец всегда играл роль первого плана[87]. Мы не знаем и даты рождения его сына Роберта Благочестивого. Мы не знаем дат рождения таких знаменитых лиц, как аббаты Клюни Майель и Одон. Однако для таких известных исторических деятелей можно восстановить эту дату по косвенным свидетельствам и таким образом хотя бы приблизительно определить продолжительность их жизни.
Пальму первенства в плане долгожительства, если говорить только о людях, здравствовавших в 1000 году, следует присудить аббату Клюни Одилону. Установлено, что он родился в 962 году, а умер в 1049, то есть в возрасте 87 лет. Его современник, аббат монастыря Сен-Бенинь в Дижоне, Гильом из Вольпиано (961-1031), немного отстает: он прожил ровно 70 лет. А вот предшественник Одилона Майель умер в 994 году, а родился, должно быть, где-то около 906 года, то есть, возможно, прожил несколько дольше его. Если говорить о светских прелатах, то Асцелин, с которым мы впоследствии познакомимся ближе, стал епископом Лана в 977 году, а умер в 1030, то есть носил митру в течение 53 лет. Если допустить, что в момент избрания ему было около тридцати, можно считать, что он прожил 83 года. Впрочем, он мог быть в то время и немного моложе, тогда срок его жизни значительно сокращается. Что до Герберта, то есть Сильвестра II, то он умер в 1003 году в возрасте около 73 лет.
Продолжительность жизни среди знатных мирян значительно ниже. Роберт Благочестивый умер, согласно его биографу, в возрасте 61 года, в 1031 году. Король Стефан (Иштван) Венгерский — в возрасте 59 лет, в 1038 году. Этельред, король Англии, умер в 1016 году в возрасте 50 лет. Германский император Оттон III умер в 1000 году и прожил всего 22 года, хотя малярия, унесшая его жизнь, была, конечно, несчастной случайностью. Заметим при этом, что его отец, Оттон II, умер в возрасте 28 лет, судя по всему, от кишечного заболевания.
Фульк Нерра, граф Анжуйский, умер в возрасте 68 лет в 1040 году, возвращаясь из своего четвертого паломничества в Иерусалим. Гильом V, герцог Аквитанский, который каждый год ездил в Рим или Сантьяго-де-Компостела[88], жил с 959 года приблизительно до 1030, то есть около 71 года. Говоря о причинах смерти членов аристократических феодальных семей, следует отметить, что редко кто из этих воинов умирал на поле битвы. Мы вернемся к этому позже, когда будем описывать войны.
Даты рождения мы знаем в еще более редких случаях. Просто везением можно считать то, что нам известен год рождения Герберги, сестры Оттона Великого, которая, выйдя замуж за Людовика IV, стала королевой Франции: она родилась в 913 и умерла в 969 году, то есть прожила 56 лет. Что касается супруги Роберта Благочестивого Констанции, то она родилась не раньше 982 года, и точно известно, что умерла в 1032 году, то есть прожила не более 50 лет.
Нет никакой возможности делать обобщения исходя из столь ограниченного количества примеров. Обратим внимание на долгожительство прелатов, на то, что короли умирали молодыми или, в лучшем случае, доживали до шестого десятка, а срок жизни их знатных вассалов был несколько дольше. Отметим также, что две королевы не дожили до своего шестидесятилетия.
Крайне досадно, что мы ничего не знаем о продолжительности жизни бедноты. Плохо и, возможно, нерегулярно питаясь, не имея защиты от превратностей природы, страдая от истощения из-за слишком тяжелого и монотонного физического труда, они вряд ли доживали до старости. Но, с другой стороны, мы не знаем об этом ровным счетом ничего.
Время смерти
Вероятно, мы сможем уяснить себе, каково было отношение людей к смерти, если поверим рассказам, которые дошли до нас. Но как забыть о том, что все они принадлежат перу тех, кто считал себя воспитателями! Они не обманщики, но они — избранные…
Вот пример такого описания: история Лиебо, паломника, ходившего в Иерусалим, о последних минутах которого его товарищи по возвращении рассказали Раулю Отберу. Лиебо простерся ниц перед горой Елеон, откуда, как говорят, Христос был вознесен на небо, и молился: «О Господи Иисусе <…> Я молю Тебя во всемогущей доброте Твоей, позволь: если моя душа должна в этом году расстаться с телом, то пусть я не уйду отсюда, пусть это произойдет со мной здесь при лицезрении места Твоего Вознесения. Я верую, что, как мое тело последовало за Тобой, придя сюда, так и душа моя, здравая, спасенная и радостная, последует за Тобой в рай». И его просьба была услышана.
Если верить Раулю, Лиебо был не единственным в своем роде. «Многие» паломники, как и он, желали умереть, не возвращаясь в свою страну.
Так что для них смерть была желанным событием, восхождением к бесконечному счастью. Существовали ли люди, для которых она, напротив, означала конец всего? Если они и существовали, мы об этом никогда не узнаем: они не оставили после себя никакого следа. Напротив, мы знаем о многих, которые хотя и не призывали смерть, но видели в ней врата неба или ада. Из всех христианских догматов люди, похоже, лучше всего усвоили и уверовали в догмат о бессмертии души и посмертном воздаянии или возмездии. Те, кого эта вера сама по себе не смогла сделать чистыми, добрыми, честными и справедливыми-а думается, что таких было подавляющее большинство, — надеялись купить божественное милосердие посредством раздачи милостыни и составления щедрых завещаний. Многие намеревались в последние мгновения жизни принять монашество. Можно было бы счесть лицемерием мысль о том, что обеты, произнесенные человеком, не имеющим будущего, могут смыть с него ошибки или преступления всей жизни. Однако просвещенные христиане советовали прибегать перед смертью к этому средству. Святой Ансельм Кентерберийский, один из наиболее глубоких мыслителей XI века, писал графине Матильде Тосканской: «Если вы почувствуете близость смерти, отдайтесь полностью Богу, прежде чем покинуть эту жизнь, а для этого всегда держите тайно подле себя готовый монашеский покров». Но были ли действительно у этой богобоязненной графини, деятельной союзницы великого папы Григория VII, тяжкие грехи, в которых она могла бы себя упрекнуть? Значительно ближе к нашему 1000 году, в 995 году, беспокойный вассал Гуго Капета Эд, граф Шартра и Блуа, умирая от болезни во время одной из войн, которую он вел против своего короля, также воспользовался этим средством. «Эд ушел в мир иной, став монахом», — пишет Ришер. Он не комментирует это событие, поскольку ситуация весьма обычная, почти традиционная. Можно было бы привести множество других подобных примеров.
Как всегда, мы имеем данные только о тех людях, которые вписали свое имя в историю. Как умирали простые крестьяне, если это случалось не во время паломничества, подобно Лиебо? Были ли среди них такие, которые принимали монашество? При каких обстоятельствах встретил свой последний час презревший святого Бенедикта богатый земледелец, о котором мы поговорим в одной из следующих глав? Даже замечательный историк Филипп Арьес[89], автор книги «Человек перед лицом смерти», не может нам об этом рассказать.
Но если тайна души хранилась свято, то о смерти монастырское перо вообще не было склонно молчать. Вот, например, история монаха из Ла-Реомы в Тарденуа, о последних месяцах жизни которого нам очень подробно сообщает Рауль. Все началось с того, что после заутрени, то есть ночью, в церкви его посетило видение: ему явились испанские монахи, которые, несмотря на свой сан, имели право брать в руки оружие в борьбе против сарацин и погибли в бою. Теперь же они были призваны к Богу, чтобы «всем вместе разделить судьбу благословенных». Однако они проходили мимо Ла-Реомы, «поскольку там находилось много людей, которые вскоре должны были к ним присоединиться». Когда они уже уходили, один из них сделал знак нашему монаху по имени Гуфье следовать за ним; но, прежде чем он успел повиноваться, все исчезло. Он сразу понял, что скоро покинет этот мир.
Это случилось в первое воскресенье после Троицына дня. Через пять месяцев, «то есть в следующем декабре», уточняет Рауль, ошибаясь по меньшей мере на месяц, поскольку Троицын день мог быть не позже 13 июня, Гуфье, разбиравшийся в медицине, был послан аббатом в монастырь Сен-Жермен в Осере, чтобы оказать помощь нескольким заболевшим братьям. Едва прибыв, он захотел приступить к своим обязанностям. Ему посоветовали отдохнуть до завтра, но он объявил, что завтра уже ничего не сможет сделать. И действительно, начинало светать, когда он почувствовал сильные боли. Он дотащился как мог до алтаря Святой Девы, прочел мессу, вернулся в келью, лег на постель и увидел сияющий образ Марии, которая пообещала ему быть защитницей при «переходе». Приор и будущий аббат монастыря Сен-Жермен по имени Ашар, которому Гуфье рассказал об этом и предыдущем видениях, понял все правильно и сказал: «То, что вы видели, редко бывает дано увидеть людям, должно быть, вы скоро проститесь с этой плотью…»
Монахи навестили его, как приличествовало в подобных ситуациях. Он умер на исходе третьего дня, при наступлении ночи. Когда его обмывали, «согласно обычаю», готовили саван и звонили в колокола, некоему мирянину, «человеку, тем не менее, весьма благочестивому», почудилось, что звонят к заутрене, и он встал, чтобы идти в церковь. Когда он ступил на деревянный мост, находившийся где-то на полдороге, многие люди, бывшие рядом с этой дорогой, услышали в стороне монастыря голоса, которые кричали: «Давай! Давай! Приведи его к нам поскорее!» И кто-то ответил: «Этого не могу, но приведу другого, если будет возможность». Благочестивому мирянину в этот момент показалось, что он видит, как кто-то из его соседей идет по мосту ему навстречу. Но на самом деле это был дьявол, который сразу же превратился в башню, поднявшуюся в воздух. Наш путник рухнул на мост. Крестное знамение рассеяло видение. Он вернулся домой, еще более твердый в своей решимости развивать в себе добродетель благоразумия. И вскоре он умер «в мире».
В этом изобилующем деталями рассказе есть много данных о том, как умирали в 1000 году: покойники, по крайней мере те, кто имел особые заслуги, предполагали «разделить судьбу благословенных», и они должны были достичь этого в определенном месте, поскольку они шли куда-то, остановившись по пути в Ла-Реоме. Они шли туда группой, разраставшейся по мере того, как к ней присоединялись те, кто умер спасенным в краю, по которому они проходили. Однако прежде чем присоединиться к такому каравану, каждый умирал сам по себе, и тотчас же демоны пытались утащить усопшего с собой в ад. Понятно также, что подобные видения служили несомненным предвестником приближающейся смерти.
Глава IX СЛОИ ОБЩЕСТВА И ИХ ВЗГЛЯДЫ НА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Никто не может прожить всю жизнь, не отдавая себе отчета в том, в какой человеческой среде он живет. Во времена, когда то, что мы называем средствами массовой информации, еще не существовало, представления каждого об окружающем мире в первую очередь зависели от того, какое место в обществе он занимал. Широкий просветленный взгляд на мир был позволителен лишь тем, кто по обязанности или по честолюбию реально мог оказывать влияние на окружающую среду, на политические или духовные интересы общества. Что касается тех, кто стоял ниже их, то по мере нисхождения по социальной лестнице мы наблюдаем уменьшение возможности ясного и практически осмысленного восприятия мира. Кругозор наиболее бедных слоев населения при этом расширялся за счет тех устных рассказов, которые они имели обыкновение слушать. Этого литературного явления мы еще коснемся в другой главе.
Папа и император
Тысячный год — действительно уникальная дата. Оказывается, именно в 1000 году — вернее, незадолго до него и незадолго после — два совершенно неординарных человека занимали место, откуда они могли наиболее полно осознавать окружающий мир и пытаться направить его судьбу. Этим местом был Рим. Этими людьми были папа и император.
Сначала о папе. Он вознесся столь высоко отнюдь не благодаря своему высокому происхождению. Маленький Герберт, которого около 945 года монахи аббатства Сен-Жеро в Орильяке сочли достойным стать сначала учеником в их монастыре, а затем одним из них, был сыном бедных крестьян, возможно, пастухов, о которых нам ничего не известно. Всех последующих успехов он добился только благодаря своей жажде знаний, высоким политическим и духовным идеалам, на которые его вдохновило усердное чтение произведений великих авторов, как церковных, так и светских, и наконец, своей внутренней потребностью и таланту воплощать в реальность эти идеалы. Мы сможем впоследствии проследить за его настойчивой приверженностью к учебе, которая, как говорят, даже привела его в Испанию, где в то время сокровища греческой и александрийской науки принадлежали мусульманам. Затем, в 973 году, архиепископом Реймским Адальбероном он был назначен на пост «учителя богословия», то есть директора епископской школы, где он, полностью согласный с идеями своего нового учителя, посвятил все свои способности их осуществлению. Убежденные в том, что благо христианского Запада состоит в объединении его под единой властью, как это было при Константине[90], а затем при Карле Великом, они оба старались распространить на Западнофранкское королевство, которое тогда еще не называли Францией, императорскую власть, восстановленную за 11 лет до этого саксонским королем Германии Оттоном I, прозванным Великим. Потомки Карла Великого не были готовы к такому подчинению, но у них было слишком мало сил. В 987 году, воспользовавшись благоприятным случаем, Адальберон добился того, что наследником покойного Людовика V был избран герцог Гуго Капет, которого он и его «учитель богословия» считали наиболее сговорчивым. Спустя 4 года Герберт, в свою очередь, стал архиепископом Реймским. Но его будущность принадлежала другому поприщу: ему было суждено находиться подле того императора, которому он считал необходимым служить, помогая отнять корону у последних Каролингов. К этому времени он уже давно вращался на этой орбите: Оттон I какое-то время держал его при своем дворе, Оттон II навязал его в качестве аббата мятежным монахам Боббио[91]. Юный Оттон III принял его в 996 году с распростертыми объятиями, ибо он давно знал его и восхищался им, и сделал его архиепископом Равенны. И вот в 999 году по милости императора Герберт становится папой. Он принимает имя, которое многое объясняет: Сильвестр. Именно так звали жившего на шесть веков ранее папу, при котором римский мир открылся навстречу христианизации во время правления императора Константина.
Оттону III было 20 лет. Был ли он новым Константином? Он в это верил, он этого хотел. У этого внука грубого саксонского короля были бабушка-итальянка и мать-византийка. Он был напичкан латинской и греческой премудростью. Его вера была пламенной, мистической, неспокойной. Он верил в то, что его миссия — принести власть Рима и мир Христов на весь христианский Запад, а, может быть, позднее и на Восток. Это было именно то, о чем думал и чего хотел Сильвестр. Кесарь и Петр[92] наконец оказались в согласии. Они объединились: где же еще, если не в Риме? Покинув Ахен, бывший имперской столицей со времен Карла Великого[93], Оттон избирает местом своего жительства Вечный город. Вопреки страстям и бурям. Вопреки желаниям своих естественных сторонников, немцев. Вопреки желанию римлян, которых пришлось безжалостно подавлять. Но наконец, какая жизнь! Его дворец возвышается на Авентинском холме. Пока это всего лишь «маленький временный дворец», ибо новый, который он, подобно Августу или Траяну[94], велел построить на Палатинском холме, еще не готов. Кирпич, из которого строился дворец, облагородили беломраморным античным портиком с колоннами, спрятали за пилястрами и рельефами, взятыми из античных зданий и вмурованными в новые стены. Поскольку он считал себя Константином, а Константин жил в Византии и дал этому городу свое имя, Оттон строит свой императорский двор по модели двора басилевса, правящего в Константинополе. Он детально копирует византийский этикет. Он принимает пищу в одиночестве. Он одевается как басилевс — в золотой плащ и пурпурные сандалии. Его придворные получают византийские титулы: «куропалат», «логофет», «паракимомен», «протовестиар»…
Это — внешний декор. Он не может скрыть реальности ни от Оттона, ни от Сильвестра. Это образ, формальный символ, который они хотят дать миру и который отражен также на печати юного императора, где изображена аллегория Рима, овеянного легендой: Renovatio Imperii Romani[95]. Даже если Оттон считал, что просто возрождает знаменитый кодекс Юстиниана[96], и папа, и император прекрасно понимали, что взвалили на себя непосильный груз.
Расколотый на кусочки Запад
В реальности же они видели Запад, расколотый на кусочки, и почти везде — следы глубоких, едва зарубцевавшихся, а иногда и открытых ран — результаты нашествий скандинавов, набегов сарацин и, что еще хуже, вторжения мадьяр[97]. Запад, отрезанный исламом почти от всей Испании, от Сицилии и, несмотря на победы знаменитого деда императора, по-прежнему чувствующий угрозу с Востока — угрозу вторжения славян, остающихся язычниками. Огромная территория, на которой нигде не было покоя и на которой центральная власть была не в состоянии избавить население от опасности. Поэтому оно постоянно находилось в состоянии самозащиты, то есть не чувствовало себя обязанным подчиняться кому бы то ни было. Если в Германии, попавшей в 919 году в руки Генриха, отца Оттона Великого, был еще восстановлен относительный порядок, то во всех других местах, и в первую очередь в Италии, первейшей задачей было преодоление анархии. В том, что осталось от Галлии, после того как в 843 году по Верденскому договору от нее был отрезан левый берег Роны, Соны и Рейна, анархия свирепствовала уже в течение двух веков. Но, в отличие от Италии, эта страна, как бы она ни была искромсана, представляла собой королевство: «король франков, аквитанцев и бургундцев», как официально именовался вслед за Гуго Капетом его сын Роберт Благочестивый, хотя и не был потомком Карла Великого, но, нося свою корону, становился немалым препятствием единству империи Запада. И он был не один. Было еще «королевство Бургундия», которое простиралось от Базеля до дельты Роны, примыкая на западе к герцогству, носившему такое же имя и подчинявшемуся королю-капетингу. Король Бургундии Рудольф III не был враждебен императору, он даже пытался встать под его защиту, но все равно он оставался королем.
Нужно ли было ради воскрешения Римской империи начинать с того, чтобы добиваться падения этих корон? Оттон не обольщался на этот счет. В противовес им он создавал другие короны. Между Дунаем и Дравой, на плодородной равнине, омываемой Тиссой, жили мадьяры, которые уже изрядно утихомирились после того, как 45 лет назад Оттон Великий разбил их в битве при Лехе. Правитель этой молодой Венгрии Вайк незадолго до описываемого времени принял христианство и стал с тех пор именоваться Иштваном (Стефаном). Оттон сделал его королем. Аналогичную поддержку и почти в то же время получил герцог Польский Болеслав, который способствовал христианизации своего народа. Он признал, или, вернее, согласился принять титулы «брата и сотрудника Империи» и «друга и союзника римского народа»: таким образом в древние времена Рим подчинял себе маленькие периферийные государства. Иштван оказался таким же образом связан с Римом, получив, правда, менее однозначные титулы. Семья народов, слишком разных и слишком хорошо понимающих свои отличия друг от друга, чтобы отказаться от идеи каждый иметь своего короля, однако объединенная общей верой и ведомая тем, кто берет на себя ответственность управлять ею и расширять ее, возвышаясь над всеми в союзе с наместником Христовым на земле, — вот как Оттон III и Сильвестр II задумывали Renovatio Imperii Romani. Это, конечно, не худший способ. Это самые высокие амбиции в сочетании с терпимым отношением к природе вещей.
Однако амбиции были слишком высоки… Что толку в спутниках, когда ненадежна сама звезда, вокруг которой они вращаются? Ведь сам римский народ, сам итальянский народ пришлось завоевывать силой оружия. Конец 1000 года стал концом прекрасной мечты. Римляне изгнали того, кто считал себя римским императором и кого они считали саксонским тираном. Малярия или отчаяние милосердно оборвали его жизнь спустя 18 месяцев? Сильвестр вскоре присоединился к нему в том граде Божьем, который эти два почитателя святого Августина хотели сделать моделью града земного.
Римляне не пожелали иметь хозяина, даже того, кто хотел сделать их хозяевами мира. Оттон заблуждался на их счет. Он надеялся, что они почувствуют тягу к славе, к тому возрождению их города, которое он предлагал. Но они были такими же, как весь Запад: у них были вожди, выдвинувшиеся из их числа и не желавшие подчиняться кому бы то ни было. С самого начала, для того чтобы обосноваться в Риме, пришлось разбить и казнить некоего Кресценция; другой Кресценций все же сумел одолеть императора[98].
Но то, во что Оттон не хотел верить по отношению к римлянам, он не мог не видеть, когда обращал свой взор к другим народам. Препятствием к единству, препятствием к римскому и Христовому миру, препятствием к Renovatio Imperii Romani на самом деле были не короли, уже носившие корону или получившие ее из рук императора и относившиеся к нему с пониманием и доброй волей. Препятствием была сама ткань, из которой были сотканы их королевства.
Феодальное королевство
Каким они видели его? Каким видел свое королевство, например, Роберт Благочестивый, который правил «Королевством франков, аквитанцев и бургундцев» до того, как оно стало именоваться просто Францией?
В первую очередь он видел в этом королевстве всякого рода людей, которые практически были в состоянии делать все, что им заблагорассудится. Кто, например, помнил, что Балдуин Бородатый, могущественный граф Фламандский, получил свои земли в наследство от предка-воина, который был направлен королем Карлом Лысым во Фландрию для охраны этих земель и не имел никакого права не только передавать по наследству местную административную и военную власть, но даже сам пользоваться ей пожизненно? Теперь же Фландрия перестала быть большим округом Франции, она стала большим фьефом[99]. Граф Фламандский уже не крупный чиновник, которого можно отозвать, а вассал короля, крупный феодал. Что до его графства, то он в нем суверенный правитель. То, что он его «держит» от лица короля, следует понимать только в том смысле, что взамен он «чтит» короля и клянется ему в верности. Тем лучше, если он сдержит эту клятву… Дай Бог, чтобы ее сдержали также Эд II, граф Шартра и Блуа, а впоследствии также Труа и Мо, или Фульк III Нерра, граф Анжуйский. Роберт не мог не знать, что эти двое укрепили свое могущество в ущерб интересам его собственного отца Гуго Капета; и земли Шартра, и земли Блуа, и земли Анжу в давние времена были неотъемлемой частью огромного герцогства «Франкии», из которого его предок Гуго Великий за счет королей-каролингов создал себе большой фьеф. А предок Эда был всего лишь скромным виконтом, охранявшим Тур, так же как предок Фулька был назначен управлять землями Анжера. Справедливое возмездие? Или, может быть, в первую очередь непреодолимый, естественный ход вещей?
Феодальный строй уже не менее полутора веков ограничивал привилегии суверена. Он установился в результате изменения соотношения сил. Что мешало этим людям, располагавшим своей землей, получавшим с нее ресурсы для жизни и борьбы, сделавшим ее название своим родовым именем, — что мешало им решить, что эта земля их собственная, и передать ее детям? Роберт и не мечтал тягаться с ними. Он не мог соперничать также с Ричардом II, герцогом Нормандским, ни — тем более — с Гильомом Великим, правившим огромным герцогством Аквитанским. То же — в отношении герцога Гасконского, графа Тулузы, маркиза Готии, правившего в Нарбоннэ. То же — в отношении графа Барселонского, фьеф которого именовался «испанская марка» и теоретически считался «поддерживающим корону Франции». Все эти сильные вассалы в принципе должны были оказывать королю военную помощь, в случае если он шел на войну. На деле же они оказывали ему помощь, которую считали нужным оказывать, исходя из собственных интересов, а иногда требуя взамен привилегий, то есть чаще всего новых земель. Имея их за спиной, было легче решать дипломатические вопросы. Король мирился с этим. Он происходил из семьи, которая давно играла в такие игры, соблюдая собственные интересы. Он не мог не осознавать положение дел достаточно ясно.
Роберт имел виды только на герцогство Бургундское. Когда-то оно было частью домена его деда. Теперь же оно находилось во владении его дяди Генриха, у которого не было наследников. Таким образом, задача состояла в том, чтобы не допустить перехода власти в руки узурпатора, который уже появился на горизонте. Роберт готовился к действиям. Это была единственная военная кампания, которую он планировал, не будучи спровоцирован на нее, — и она продлилась 14 лет. В других случаях, если он брал в руки оружие, то делал это лишь для того, чтобы обороняться или защищать свой домен, которым он и его отец хотели и были в состоянии управлять непосредственно. Это было сердце всего королевства, Иль-де-Франс, в котором через Орлеан, Париж и Санлис протекают Луара, Сена и Уаза. Кроме того, королю случалось брать в руки оружие ради коротких военных экспедиций, предпринимавшихся, если можно так сказать, с чисто полицейскими целями.
Полиция! Приходилось ее создавать. И эта задача часто превышала возможности короля франков, аквитанцев и бургундцев. Полиция в королевском домене. Полиция в больших фьефах, руководители которых, за исключением разве что Нормандии, не могли как следует обеспечить порядок, безопасность и мир. Феодальный строй многоэтажен, и при нем каждый практически владеет всеми ресурсами занимаемой им земли и подчиняется тому, от кого он ее «держит» только в смысле верности, в которой поклялся. Если король зависит от лояльности своих крупных вассалов, то и они находятся в таком же положении. Из-за того, что повсюду пришлось укреплять или приказывать укреплять неприступные замки для защиты от норманнов, мадьяр и сарацин, а также от соседей; из-за того, что у каждого укрепленного замка есть владелец, закаленный воин, и из-за того, что владелец замка может кормиться только с той земли, которой владеет, — из-за всего этого у крупных вассалов есть свои вассалы. А у этих вассалов, если их фьеф достаточно велик, также есть вассалы. Так что самый малый из этих феодальных владельцев оказывается на деле самым независимым. Из своего замка он может бросить вызов не только врагам, но и собственному «сеньору», своему «сюзерену», от которого «держит» эту землю. Подвергнуть его осаде? Условия ведения войны, характерные для того времени (мы поговорим об этом в другой главе), делали подобную осаду весьма затруднительной. Если владелец замка принял предосторожности и заготовил достаточно съестных припасов, то он мог выдержать очень длительную осаду. Поэтому сюзерен мог решиться на такой шаг, только имея очень веские причины.
Владелец небольшого замка
Взгляды на окружающий мир Ричарда Нормандского, Гильома Великого, Фулька Нерра и тем более Эда II Шартрского, который мог в любую минуту стать королем Бургундии, ненамного отличались от взглядов короля. Взгляды владельца небольшого замка не имели и этой широты. С высоты своей башни он видел окружающие земли, и его мысли не преступали границ того, что видели его глаза. Однако эти мысли не давали ему покоя! Допустим, на горизонте он различает границы своих владений и край владений соседа. Естественно, там есть земли, которые он считает ничьими — ведь феодальные права на землю, как и другие привилегии, давно утратили юридическое обоснование — и со спокойной совестью хочет сделать своими. Он видит также другие земли, которые покуда держит в своих руках, но знает, что на них претендует сосед. В таком случае он должен нападать или защищаться. А вот на опушке леса начинается дорога, проезд по которой он своей властью обложил пошлиной. А вот еще мост. Не пропускают ли его люди проезжих, не взяв с них деньги? Если же он человек, абсолютно лишенный щепетильности, — а таких было немало, — он даже не пытается облечь дело в форму законности и задает себе другой вопрос: не упустили ли путешественников? (Об одном путешественнике речь не идет, такие явления были исключением, потому что обычно люди осмеливались отправляться в путь только группами.) В седло! Лови неосторожных! Они, конечно, вооружены, но не так хорошо, как мы. Если они поведут себя прилично, мы удовольствуемся их деньгами, их товарами, их провизией, их вьючными животными, их одеждой, если она того стоит. Если нет — тем хуже для них.
Конечно, хозяин замка должен оказывать своему сеньору военную помощь. В принципе он ничего не имеет против: ему нравится воевать. К тому же, если он действительно окажет услугу, если его помощь очень нужна, то, возможно, он урвет при этом еще какой-нибудь клочок земли, деревню, а то и новый фьеф. Кроме того, существовал еще один вид войны, который мог увести его даже далеко от дома: это вендетта, месть, которая была распространена по всему миру.
Крестьяне
Если владелец замка оглянется вокруг, то увидит земли, которые возделывают его крестьяне. Часть этих земель — правда, не всегда — принадлежит непосредственно ему. Конечно, это не означает, что он обрабатывает их своими руками; эти руки созданы лишь для того, чтобы держать меч и поводья коня. Но он является полным хозяином всех плодов, получаемых с этих земель. Эти земли называются mansus indominicatus, т.е. «манс сеньора». Слово «манс», изначально означавшее отрезок земли, необходимый для того, чтобы обеспечить существование одной семьи, впоследствии стало весьма растяжимым понятием. В целом его значение — «доля». Нет никаких данных, чтобы определить размеры этого mansus indominicatus, который, впрочем, в 1000 году никогда не был особенно велик. Он не превышал размеры мансов, занимаемых крестьянами, которые зависели от сеньора: со временем перераспределение и передел земель сделали эти участки неравными по величине.
Мансы крестьян являли собой арендованные земли, то есть давались им для обработки на определенных условиях, в числе которых была обязанность обрабатывать манс сеньора под руководством интенданта, человека обычно сурового.
Были ли крестьяне «сервами»[100]? Не обязательно, особенно если домен располагался не в Бургундии, Нивернэ или Шампани. Мы все учили в школе, что сервы были «прикреплены к земле»: они не имели права покидать обрабатываемую ими землю или жениться на женщинах из других доменов. Они себе не принадлежали. Свободный крестьянин — «виллан» — теоретически не был связан такими ограничениями. На практике же разница была невелика. Местный сеньор понимал эту разницу — весь мир того времени был невероятно просвещенным в вопросах права, — однако он мог не обращать на нее внимания, если речь шла не о поимке и наказании «беглого» серва. Он одинаково презирал и эксплуатировал и сервов, и вилланов. Земля принадлежала ему. Крестьянин «держал» ее от его лица. Конечно, крестьянин не клялся в «верности и покорности», такое даже невозможно себе представить: он просто был обязан производить предусмотренные обычаем выплаты деньгами, а чаще натурой, не исключая также работ на mansus indominicatus. Но это еще не все: разве мелкий сеньор не король на своей земле? Он также требовал всего того, чего короли требовали в те времена от своих подданных: оброк, что означало денежную сумму, «барщину», которая означала обязанность производить определенные работы по ремонту дорог, строительству, перевозкам. Эти постепенно узурпировавшиеся королевские права обрушивались не только на арендаторов, но и на тех, кто испокон веку были полными собственниками своих наделов, маленьких доменов, принадлежавших свободным людям и называвшихся аллодами. Эти люди тоже, в свою очередь, зависели от местного сеньора и были обязаны пополнять его казну, работать на него. Оброк и барщина ничем не регламентировались. Так же как и сумма, которую следовало платить за пользование мельницей или хлебной печью, при этом было запрещено молоть муку и печь хлеб в других местах.
И как же эти сервы, вилланы и все промежуточные сословия, множество названий которых не имеет смысла здесь приводить, воспринимали мир? Их хижина, их поле, их скот, ближний лес; замок, куда следовало относить большую часть плодов своего тяжкого труда и откуда не следовало ждать ничего хорошего; деревенский базар; церковь — стоило бы спросить, что она для них значила? А вокруг — сплошные опасности. На небесах — дождь, когда нужно солнце, и солнце, когда нужен дождь. На горизонте — солдаты соседнего сеньора или войска короля, направляющиеся в поход: и те и другие имели обыкновение для начала разорять окрестные деревни. Можно было укрыться в замке, угнать туда скот, возможно, перетащить туда запас зерна. Но от еще неснятых хлебов и от хижин уже не оставалось ничего, кроме золы.
Общий взгляд
Такова среда, которую могли воспринимать крестьяне в 1000 году (А крестьяне — это, по меньшей мере, девять десятых населения Запада.) Таково было течение их повседневной жизни. Картина кажется слишком мрачной? Во всяком случае, современники видели ее не в более радужном свете. Адальберон, епископ Лана, тезка архиепископа Реймского (удобства ради будем называть его Асцелин, что является сокращенной формой его имени), посвятил большой отрывок своей поэмы, сочиненной для короля Роберта, описанию общественного устройства. Помимо духовенства, которое, по мнению Асцелина, связывает людей с Богом, занимает особое место и не вмешивается в дела людей, он выделяет еще два класса: «нобили» (благородные) и «сервы», понимая под последним термином (а это показательно!) всех крестьян без различия деталей их юридического статуса, в которых он, несомненно, разбирался, и сводя их всех к наиболее бесправной группе населения. Вот что он пишет: «Эти несчастные существа не обладают ничем, кроме того, что добывают тяжким трудом. Кто мог бы с абаком в руке сосчитать все заботы, которые поглощают жизнь сервов, их долгие переходы, их тяжкие работы? Сервы обеспечивают всех серебром, одеждой, пищей; ни один свободный человек не мог бы существовать без них. ‹…› Хозяина, который притворяется, будто кормит серва, на деле кормит серв. И не видит серв конца своим слезам и стенаниям».
Асцелин еще умалчивает о несчастьях военного времени. Напротив, читая его, можно подумать (хотя, может быть, он иронизирует), что светские власти исполняют чисто благотворительную миссию: «Два человека занимают места первого ранга: один из них король, другой — император». Из этих слов видно, что уже тогда, в духе времени, король Франции был, как потом сказал Филипп Красивый, императором в собственном королевстве. Асцелин продолжает: «Их правление обеспечивает прочность государства. Но есть и другие, находящиеся в таком положении, что их ничто не сдерживает» — именно об этом я только что писал! — «разве только они воздерживаются от преступлений, обузданные королевским правосудием». Разве только!.. «Эти люди — воины, защитники церквей, они защищают народ, больших и малых, всех, и одновременно обеспечивают собственную безопасность».
Вот общество, такое, каким оно должно было бы быть… Нет никаких сомнений в том, что Асцелин видел, каким оно было на самом деле. Он был хитрым лисом, циником, и особая щепетильность не ограничивала его действий. Он был глубоко замешан в интриги Адальберона и Герберта против рода Каролингов. Его излюбленным оружием была измена. Он сначала клялся всем самым святым, а затем изменял клятве. Он кончил тем, что его стали называть «старым изменником». Но он был епископом: до своего последнего дня он жил безнаказанно и даже в почете. Он был не единственным из высшего духовенства, кто не особенно ценил собственное честное слово. Чтобы далеко не ходить за примером, можно вспомнить того человека, которого Гуго Капет сделал архиепископом Реймским после Адальберона и который не задумываясь открыл ворота города каролингу — сопернику нового короля. Он тоже, после некоторых неприятностей, выпутался из создавшегося положения без ущерба для себя.
Высшее и низшее духовенство
По этим нескольким чертам можно догадаться, что люди Церкви, что бы там ни писал Асцелин, воспринимали окружающий мир так же, как и миряне. Епископы, священники, монахи, деревенские проповедники — все они были составной частью той же системы. Высшие из них — как мы видели на примере Сильвестра II, а также Адальберона — разделяли мечты императора, королей, крупных феодалов, что отнюдь не означает, что они всегда разделяли их взгляды. Епископы более низкого уровня «держали» земли, ни дать ни взять как светские сеньоры, и оказывались вовлечены в те же заботы, в те же честолюбивые планы, вели ту же административную деятельность в своих доменах, были так же обязаны оказывать военную помощь сюзерену. Но все же и, можно сказать, тем более аббаты монастырей, земельные владения которых были огромны, причем самые значительные из них, те, кто руководил целым орденом, видели мир столь же широко, а может быть, и шире, чем короли. Напротив, видение мира мелких служителей культа, приписанных к деревенскому приходу и носивших звание кюре (от латинского cura animarum — исцеление душ), имело столь же узкие горизонты, как и мировоззрение их прихожан; они, в чем мы еще убедимся, происходили из их среды, видели не дальше их, и единственным их жизненным опытом был страх, в котором они зачастую пребывали всю свою жизнь.
Приметы будущего
Чтобы описать общество, в котором люди 1000 года жили своей повседневной жизнью, и соблюсти при этом все требования, предъявляемые сейчас к исследователям, проводящим детальный анализ в области гуманитарных наук, потребовалось бы не 14 страниц, а огромный том. Такие работы есть, но, по правде говоря, их материал не укладывается в несколько десятилетий, окружающих 1000 год и столь мало нам известных. Даже замечательная книга «Воины и крестьяне» профессора Жоржа Дюби и даже первый том его «Экономики сельского хозяйства на средневековом Западе» охватывают более широкий отрезок времени. Я попытался здесь определить место 1000 года в политическом и социальном развитии Европы и вдобавок создать правдоподобную картину того, как каждый осознавал свое место в мире. Каждый ли? Видимо, нет. Конечно же, существовали крестьяне, которые не считали себя несчастными, и даже такие, кто жил вполне в свое удовольствие, как, например, тот человек, о котором мы расскажем в следующей главе. Были и милосердные сеньоры, и, конечно же, прелаты, которые умели обходить подводные камни политических страстей, не губя при этом свою душу: о них мы тоже поговорим. Мы обнаружим также в целом ряде глав много новых подробностей о реальной жизни всех этих людей и даже представителей некоторых других категорий населения, менее многочисленных, пограничных сословий и групп, которых можно было и исключить из этого общего рассмотрения.
Вытекает ли из этого достаточно грубого наброска, что 1000 год находился в центре эпохи перемен? Да, это так.
Неудача политики Оттона и Сильвестра весьма наглядно символизирует конец старого мира, того, в котором еще витала идея единства Западной империи, некогда воплощенная в реальность Карлом Великим. В 1000 году уже существовало определенно независимое королевство, которое Асцелин (и не он один) ставит на одну ногу с германской империей — это королевство Капетингов во Франции. Вскоре появятся и другие: на сцену выходят политические формы развитого Средневековья.
Что еще более важно для повседневной жизни: дробление власти в европейских странах достигло своего предела. Но это не конец света, а точка отсчета. Традиция вскоре узаконит эту реальную власть, права и обязанности, которые она подразумевает. Постепенно сложится феодальная иерархия.
Структура общества в интересующее нас время упрощается, можно даже сказать, рационализируется: различия условий жизни мелких земледельцев, порожденные в предыдущие века их происхождением или условиями приобретения земли, стираются. Как бы они ни назывались: сервы, вилланы и т.п., — все они землепользователи, и отношение к ним более или менее одинаковое. И, конечно же, они не являются владельцами надела, который обрабатывают, они его «держат», но если не считать оброк и барщину, они пользуются наделом по своему усмотрению как своей собственностью. Это также новая черта, и притом очень важная. Общество времен Меровингов[101], общество времен Каролингов, агония которого продолжалась в течение всего X века, унаследовали от Древнего Рима систему крупной земельной собственности, типа виллы, огромные поля которой возделывались сервами, мало отличавшимися от античных рабов. Их вполне можно было бы сравнить с плантациями рабовладельцев в недавней Америке: mansus indominicatus был огромен и требовал огромных затрат труда арендаторов. Теперь же он постепенно уменьшается. Большая часть земли ушла у сеньора на то, чтобы создать маленькие фьефы в пользу вооруженных вассалов, которых он вынужден содержать в большом количестве. Те же, в свою очередь, завели своих «держателей земли».
Так распространенная и обоснованная система вознаграждения путем пожалования земли совершила тихую революцию, от которой будет зависеть все будущее Запада, ту революцию, о которой Пьер Шоню недавно написал так: «Революция в пользу свободы, предоставившая право и ужасающую обязанность самому решать вопросы организации своего труда, произошла в 1100 году».
Нет ничего удивительного и в том, что схема, предложенная Асцелином: люди Церкви, нобили, сервы, — предвосхитила схему, которая во Франции и в других странах применялась для описания общества вплоть до конца XVIII века: духовенство, дворянство, третье сословие.
Только учтем, что третьим сословием, которое во времена Филиппа Красивого обрело свое название и свою роль в государстве, было не крестьянство, а буржуазия. А буржуазия — это города. В интересующее же нас время, в отличие от времен Римской империи, города играли весьма незначительную роль. Малонаселенные, они существовали только как военные укрепления, как резиденции одного или нескольких церковных или светских сеньоров, владельцев больших сельских доменов, и обычно как резиденции епископов. Однако, когда окончатся сумерки, вызванные молчанием документов, города вновь возникнут в поле нашего зрения, уже вовлеченные в процесс расширения, который станет одной из основных особенностей экономического и социального развития в период расцвета Средневековья. Это еще одно изменение, робкие ростки которого мы опишем более подробно на последующих страницах. Его также следует записать в актив интересующих нас малоизученных десятилетий.
Глава X РЕЛИГИЯ ДЕРЕВЕНЬ
Если место, занимаемое человеком в обществе, придает его повседневной жизни определенную окраску, то это можно сказать и в отношении его религии.
Условия существования и миссия Церкви
Господствующей религией был, разумеется, католицизм. Церковь везде имела своих представителей: в городах, которые, как уже было сказано, являлись резиденциями епископов; в деревнях, образовывавших приходы, каждая вокруг своей церкви. Однако приходы, бывшие единицей территориального деления, то есть землями, с которых надлежало получать доход, в том числе десятину, взимавшуюся с верующих для обеспечения служителей церкви и покрытия расходов, связанных с культом, — эти приходы превратились в те же поместья. Они принадлежали тем, кто обеспечил себе право владеть землей, то есть светским сеньорам, епископам, аббатам. Их завещали, продавали, делили. И скромный служитель церкви, который в принципе должен был получить сан из рук епископа данного диоцеза[102], на деле назначался владельцем прихода, считался его подчиненным, то есть, можно сказать, его слугой, и помогал ему присваивать себе добрую часть собираемой десятины. Короче, во всех конкретных случаях, в соответствии с территориальным делением и на всех своих уровнях Церковь была составной частью феодальной системы.
Однако как бы она ни погрязла в интересах своего века, она не могла забывать о том, для чего существовала: об обрядах крещения, об отправлении служб, о совершении таинств, о проповеди веры, о контроле за нравами, о молитвах и об обучении молитвам. Можно задаться вопросом, или, скорее, можно себе представить, как справлялся с подобной миссией скромный приходской священник, в большей или меньшей степени наугад выбранный светским сеньором из числа своих «сервов». Однако епископы, выступая на своих ассамблеях или перед канониками[103] своих соборов, могли, по крайней мере, уподобиться этому идеалу. Да и среди монастырей, начиная с середины X века, было немало таких, которые вновь, после периода ужасной сумятицы, стали возвышенным местом вознесения молитв.
Впоследствии мы подробно остановимся на этом великом феномене цивилизации, а также на повседневной жизни монахов, целиком погруженных в служение Богу и исполнение заветов братской любви. В настоящий же момент нас больше интересует тот факт, что очень многие зависящие от них приходы находились под опекой священников, которые знали свое дело. И можно также сказать, что изрядное число приходов находилось под непосредственным контролем епископов.
Итак, в деревнях было не просто много крещеных (крещеными, видимо, были все, поскольку везде имелись приходские церкви) — было много тех, кого активно побуждали подчиняться законам Церкви и верить в то, чему она учит. Хотелось бы только знать, как они это воспринимали?
Как уже наверняка понял читатель этой книги, все, — или почти все, — что было написано в то время, было написано в монастырях. Нам практически не известно ничего, что вышло бы из-под пера мирянина. Ришер, оставивший нам хронику последних французских Каролингов и начала правления Гуго Капета, был монахом. Рауль Глабер, Адемар из Шабанна, Аббон, Адсон, которых мы уже в разной степени цитировали, тоже были монахами. Монахом был Эльго, автор биографии или, скорее, жития Роберта Благочестивого, короля, правившего Францией в 1000 году. Монахом был Эд, автор жизнеописания Бушара, графа Вандомского. Монахом был Андре из Флёри, который поведал о жизни своего аббата Гозлена, стоявшего во главе монахов, и написал «Чудеса святого Бенедикта», из которых мы узнаем много интересных вещей. А те авторы, которые не были монахами, являлись епископами, например Лиутпранд и Асцелин, с которыми мы уже встречались, а также Фульберт Шартрский[104], чьи письма чрезвычайно интересны. Герберт, то есть папа Сильвестр II, сначала был монахом, потом епископом — случай весьма нередкий в те времена.
Когда читаешь их труды, могут показаться само собой разумеющимися всеобщая вера и почитание Христа; противоположное кажется исключением, сразу же безжалостно отторгаемым всем обществом, которое осуждает подобные случаи. Рассмотрим же эти исключения.
Ереси
Это то, что теологи называют ересями. Наиболее известная из них была обнаружена в 1022 или 1023 году в Орлеане, столице королевства Капетингов. Если верить Раулю Глаберу, ее принесла «некая женщина, приехавшая из Италии», которая, похоже, по дороге оттуда создала целую школу. Легче всех попались на удочку наиболее ученые. Два орлеанских священника, Эрбер и Лизуа, пользовавшиеся уважением и восхищением знатных сеньоров и самого короля за свои знания и благочестие, стали ее учениками, а затем последователями. В тайне они сделали адептами новой религии «всех тех, чьи души не были достаточно укреплены любовью к всеобщей вере». Набравшись смелости, они послали человека с увещеваниями к святому проповеднику в Руан, и тот поспешил открыть эту тайну герцогу Нормандии Ричарду II. Сразу же предупрежденный своим вассалом, король Роберт поспешил в Орлеан и открыл следствие, на которое созвал большое число епископов, аббатов, духовных и светских лиц. Городские священники подверглись подробному допросу на тему о том, как каждый из них «понимает и верует в истины, которые католическая вера хранит и проповедует непоколебимо и согласно учению апостолов». Загнанные в угол, Эрбер и Лизуа сбросили маски. Вслед за ними «многие» публично признали, что тоже принадлежат к секте.
Король и епископы, судя по всему, хотели не смерти, а обращения этих грешников. Было бы куда поучительнее вернуть в истинную веру, а не наказать таких людей, как Лизуа, который в монастыре Святого Креста отличался несравненным милосердием, или Эрбер, который был ведущим учителем школы при церкви Сен-Пьер-ле-Пуэлье. На них оказывали давление, приводили аргументы, увещевали. Ничто не помогло. Они даже с уверенностью заявили, что их учение скоро победит «среди всех народов». Роберт решил попробовать припугнуть их: он приказал разжечь недалеко от города большой костер. Напрасный труд. В результате Эрбер и Лизуа и одиннадцать их последователей, столь же непоколебимые, как они, «по приказу короля и единодушному решению народа» положили начало длинной веренице еретиков, сожженных на костре на протяжении последующих веков.
В чем же состояла их истина, ради которой они пожертвовали своими жизнями? Мы знаем о ней только то, что написали их преследователи, а это могли быть клеветнические обвинения. Согласно Раулю, они неверно трактовали догматы, выводимые Церковью из Ветхого и Нового Заветов, в особенности же догмат о Троице. Они говорили, что Вселенная несотворима и вечна. Вслед за эпикурейцами считали разврат естественным и невинным явлением. Наконец, они считали «все христианские труды благочестия и праведности», иначе говоря, внедрение норм поведения, вдохновленных евангельскими примерами, «поверхностными усилиями».
Адемар из Шабанна сообщает, что они поклонялись дьяволу, «каждодневно жертвовали ему много серебра» и «предавались во тьме таким ужасам и преступлениям, даже рассказ о которых был бы грехом». Но он называет их также «манихейцами». Это проливает некоторый свет на рассказанное Раулем и лучше объясняет их героическое поведение. Учение Мани[105] было возвышенным и представляло собой соблазн в прямом смысле слова. Всем известно, что оно провозглашает особого рода равенство сил между добрым и злым началами. Менее известно, что Мани призывал своих последователей освобождаться от зла, то есть материального, посредством усердного созерцания духовного, и путем к этому считал молитву и пост.
На основе написанного Раулем в первую очередь можно распознать идею о том, что материальный мир, мир зла, не был создан благим Богом, а существовал всегда. Затем следует отрицание реальности событий, приводимых в Писании, поскольку они, в особенности идея Искупления, считаются чистыми символами. И наконец отказ от запретов и предписаний морали: поскольку повседневная жизнь полностью погружена в мир зла, ею управляет только зло и бороться с ним невозможно, ибо избежать его можно, только следуя духовным путем. Однако избежавших слишком мало: это — «совершенные», а другие: ученики, «слушатели», собирающиеся войти в число первых, считались не виновными в зле, которое они не могли не совершить.
Итак, мы видим, что это просто-напросто ересь катаров[106], которая вспыхнула два века спустя, прежде всего на юго-западе Франции, где ее адептов называли альбигойцами. Кстати, Адемар пишет, что «манихейцы были также обнаружены и уничтожены в Тулузе». Должно быть, их уничтожили не всех. Это высокоинтеллектуальное учение, доступное только образованным священникам, получившим образование под сенью соборов, то есть в городах, спустя 6 и 7 поколений стало религией целого народа: крестьян, ремесленников, сеньоров. Надо думать, со времен доброго короля Роберта ее апостолы, которые умели говорить с простыми людьми, добились многого. Под покровом католической веры, проповедуемой и поддерживаемой великим Гильомом V, графом Тулузы, уже можно угадать тайное развитие этих взглядов, последователи которых отдают должное невидимому и приветствуют Добро, но, за исключением нескольких героев-искупителей, без угрызений совести отказываются бороться против ощутимых прелестей Зла. Действительно, все Средние века и все века нашей эпохи показывают, что недостаточно верить в Христа, чтобы жить в соответствии с христианскими добродетелями. И как не вообразить в этих южных землях, где солнце слишком сильно подогревает кровь, возможность повседневной жизни без таких добродетелей?
Учение катаров также является религией. В источниках мы находим упоминание и о других «ересях», менее изощренных, но, впрочем, и менее распространенных.
В Равенне некто по имени Вильгард «с необычайной страстью посвятил себя искусству грамматики». Слово «грамматика» в ту эпоху означало литературу; ее изучали по мирским текстам латинской античности. Рауль отмечает, что в Италии такую грамматику предпочитали всем другим «искусствам». Однажды ночью Вильгарду явились Вергилий, Гораций и Ювенал[107]; на самом деле, это были демоны, принявшие их облик. Они поблагодарили его за усердное изучение их трудов и служение их славе и предрекли ему такую же славу. С той поры Вильгард потерял голову. Его священным писанием стала не Библия, а труды любимых поэтов. По словам Рауля, он проповедовал, «учил» (может быть, он создал школу), что в этих книгах заключена истина. В дело вмешался архиепископ Равенны, он осудил Вильгарда как еретика. В связи с этим по всей Италии были обнаружены «сектанты, следовавшие этому пагубному учению». Их истребили «железом и огнем». Из Сардинии, где они тоже были обнаружены, нескольким удалось бежать «в Испанию» — без сомнения, в северную Испанию, поскольку остальная ее территория находилась под властью мусульман. Они совратили там «часть народа», после чего были физически истреблены «католиками».
Итак, греко-латинское язычество, в течение многих веков бывшее национальной религией итальянцев, еще не было полностью уничтожено христианством. Возможно, кое-где на полуострове еще сохранились одна-две небольшие «школы риторики», известные еще в античности и, не осмеливаясь открыто выступать против принятой религии, потихоньку учившие совсем другому. Усиление ностальгии, недосмотр местного духовенства, больше занятого доходами с церковного имущества, нежели наставлениями в вере, — и вот они уже рискуют выйти на поверхность, пытаются отвоевать свое, пробуждают в «части народа» плохо забытые верования предков. В те времена христианская вера, имевшая за плечами уже шесть веков истории, все еще нуждалась в постоянной и безжалостной бдительности, для того чтобы поддержать себя.
В Галлии римское многобожие было в свое время принято в качестве официальной религии, однако оно не пустило корней. Поэтому грамматик, проповедующий народу веру в Юпитера, Марса или Венеру, наверняка потерпел бы фиаско. В связи с этим некто Леутард, живший в деревне Вертю в Шампани, набирал себе учеников по-другому. Он был простым крестьянином. Однажды находясь в поле, утомленный «какой-то сельскохозяйственной работой», как с пренебрежением интеллектуала пишет Рауль, он прилег и заснул. Он увидел странный и достаточно неприятный сон: пчелиный рой, вопреки обычному движению пищи в человеческом теле, вошел в его тело снизу и вновь вышел через рот, ужасающе жужжа и покрывая его укусами. В конце концов пчелы заговорили и приказали ему «совершать над людьми всякого рода невозможные вещи». То, что он сделал проснувшись, не было невозможным, однако требовало большой самоуверенности. Он сразу же вернулся домой и выставил за дверь жену, «имея намерение развестись в соответствии с евангельскими правилами». Затем он вышел «как бы для того, чтобы помолиться, вошел в церковь, схватил распятие и разбил образ Спасителя». Свидетели этого святотатства были глубоко возмущены. Его сочли сумасшедшим. Однако у него, без сомнения, был хорошо подвешен язык: «слабые деревенские головы» попались на его удочку. К тому же, не объяснил ли он им, что «платить десятину — это бесполезный и лишенный смысла обычай»? В такие вещи поверить нетрудно. Он сдобрил это соблазнительное учение несколькими рассуждениями в отношении речений пророков, из которых, по его мнению, одних стоит принять, а другие не заслуживают никакой веры. Таким образом, он прослыл человеком более знающим, чем отцы Церкви, и, во всяком случае, «человеком, полным здравого смысла и благочестия», и эта слава за короткое время завоевала для него поддержку «значительной части народа».
В это время в Шалоне-на-Марне был епископом старый и мудрый Жебуан, который умер в 991 году. Он приказал привести Леутарда к нему, расспросил его, доказал всем присутствующим несостоятельность его псевдотеологических рассуждений. «Частично соблазненный народ» вернулся «полностью к католической вере». Несчастному деревенскому еретику не оставалось ничего другого, как признать свое поражение и ошибочность своей «честолюбивой демагогии». Надо понимать, что добрый Жебуан ограничился этим уроком; однако Леутард, освобожденный из-под стражи, вернулся к себе и утопился в колодце. Должно быть, повседневная жизнь уже не казалась ему достойной того, чтобы ее дожить.
Разумеется, ереси в каждом случае истреблялись в зародыше или в младенческом возрасте. Несмотря на это, они каждый раз находили доверчивых слушателей и души, готовые пренебречь тем, что проповедовали епископы, священники и монахи. Ведь эти «ереси» были не тем, что обычно понимают под этим словом. Речь идет не о христианах, которые спорили по конкретным вопросам действующей теологии; эти манихейцы, эти грамматики, благоговеющие перед Олимпом, были не христианами, а приверженцами другой религии. Правда, в случае Леутарда, его притворное знание Писаний может создать иллюзию ереси. Но могли ли его слушатели, чуть ли не ученики, принять за христианина человека, который начал свои проповеди с того, что разбил распятие?
Обращение к вере в святого Бенедикта
Итак, ты имеем дело с довольно серьезной гипотезой. Постараемся ее доказать.
Некий крестьянин из Шатильона, деревни, принадлежавшей аббатству святого Бенедикта на Луаре, позволил себе работать в праздник своего святого покровителя: он вез домой телегу, груженную сеном. Для него это кончилось плохо: огонь небесный пожрал весь воз, волы, лишенные упряжи, разбежались. Крестьянин пообещал никогда больше так не делать, и после этого удовлетворенный Бенедикт взял его под свое покровительство.
Случаев такого рода очень много в «Чудесах святого Бенедикта». Данный анекдот помещен в главу XII книги V, составленной, как и предыдущая и две последующие, монахом Андре из Флёри около 1050 года. Еще пример: история некоего «зажиточного человека», жившего в Блезуа и имевшего земли «в угодьях святого Бенедикта». Хотя он и был богат, но не был сеньором: мы увидим, что он сам обрабатывал свое поле. Это был зажиточный крестьянин, хорошо обеспеченный сельский житель, и автору это не кажется чем-то необычным. 9 июля, в день, когда отмечают годовщину перенесения мощей святого в город Флёри-на-Луаре (носящий поэтому имя Сен-Бенуа), священник, к приходу которого принадлежал Виней, призвал свою паству отпраздновать святой день, воздерживаясь от какой бы то ни было работы. Это не пришлось по душе нашему крестьянину, потому что у него как раз в это время, в начале лета, созрел хлеб. Перед дверьми церкви он крикнул, что плюет на святого Бенедикта, и послал своих домашних на уборку. В конце дня он вновь собрал их, но не затем, чтобы дать им отдохнуть, а затем, чтобы показать свое презрение и ненависть к святому. Он схватил левой рукой пучок колосьев, который странным образом вырывался и сопротивлялся; правой рукой он попытался срезать их серпом. При этом он богохульствовал: «Посмотрим, сможет ли этот Бенедикт одолеть меня или кого-нибудь другого!» Он перестарался: серп соскользнул, и его «зубчатая пластина» отрезала крестьянину левую руку. Он упал замертво. Затем огонь уничтожил его урожай, телегу, скот, и его близкие вернулись домой почти нагишом.
В районе Тура в другой праздник святого Бенедикта, приходившийся на 4 декабря, некто по имени Готье также отказался от празднования. Ему явилось «видение» и велело прекратить работу, он отказался и был засыпан землей.
Даже в начале XII века автор восьмой книги «Чудес святого Бенедикта» Рауль-Ле-Туртье записывал аналогичные истории. Ясно, что эти крестьяне, как позже сапожник Лафонтена[108], считали, что праздники их разоряют. Некоторые из них прямо говорили, что каждый день приносит свой хлеб.
Эта причина хорошо все объясняет, но она не единственная. Она, например, недостаточна для того, чтобы объяснить богохульственную язвительность богатого фермера из Винея. Она также плохо объясняет упорство авторов и их детальные описания ужасающего возмездия. В этих историях, предназначенных (через посредство монахов и священников, способных их прочитать) для простого народа, которому их должны были рассказывать, — в этих историях на самом деле идет борьба с реальными скептицизмом и враждебностью, которые крестьяне выказывали по отношению к святому Бенедикту. Именно поэтому виновный будучи наказан неизменно кается, становится страстным почитателем святого и получает его действенное покровительство. Речь шла о том, чтобы привязать к этому великому представителю христианского мира людей, которые откровенно не желали ничего о нем слышать.
Андре из Флёри предваряет свой рассказ о крестьянине из Шатильона-на-Луаре и его телеге с сеном весьма показательным небольшим замечанием:
«Грубая крестьянская натура, хотя и участвует своей полуязыческой душою в культе, установленном святым учением, позволяет себе по причине нравственной слабости считать ненужными и необязательными правила, установленные в честь святых».
Полуязыческая душа — semipaganum animum. Слово сказано.
Галльское язычество
В галло-римскую эпоху христианство смогло завоевать только галльские города и аристократию из числа крупных землевладельцев, которые были тесно связаны с завоевателями и возведены ими в высший класс «сенаторов». Крестьяне, подчиненные хозяину земли, называвшейся «pagus» (что означает «деревня» или сельская местность), обозначались словом «pagani»; это слово вскоре стало также использоваться для обозначения всех тех, кто подобно им сохранил приверженность к древним культам. Слова «язычник» («paien»), «крестьянин» («paysan») происходят во французском языке от одного корня.
Хлодвиг[109] и франки подчинили себе Галлию, но они были слишком немногочисленны, чтобы повсюду вытеснить местную аристократию. Они жили за ее счет, но в конце концов смешались с ней. Смешанные браки были, без сомнения, частым явлением. И поскольку победителями были франки, они и задавали тон. С той же скоростью, с какой они перенимали римские обычаи, галльские аристократы перенимали обычаи франков. Наглядной иллюстрацией этому является тот факт, что галлы стали носить исключительно германские имена. Галльское крестьянство было окружено, подчинено и в большей или меньшей степени эксплуатировалось хозяевами, которые в их глазах могли выглядеть иностранными оккупантами. И именно религией этих оккупантов меровингские апостолы пользовались для того, чтобы управлять страной.
Так во что же верили раньше эти pagani, эти крестьяне, эти язычники? Судя по всему, они не исповедовали: такую же структурированную религию, как католицизм, имеющий свои догматы и свою литургию. Рим цезарей, придя в Галлию, начал с того, что, вопреки своему обыкновению принимать богов завоеванных народов, в которых римляне без труда узнавали своих богов, в данном случае ополчился на богов галлов и их служителей друидов. Древняя галльская религия, представляющаяся теперь возвышенной и прекрасной и восходящая к доисторическим временам, к эпохе неолита, в которую были построены менгиры и дольмены[110], то есть относящаяся ко временам, предшествовавшим завоеванию страны кельтами, — эта религия со времен Цезаря ушла в подполье. Больше не было публичных отправлений культа, не было больших собраний людей, во время солнцестояния сходившихся со всей Галлии к возвышенным местам, из которых наиболее известной была гора Томбе, впоследствии названная горой святого Михаила. Больше не было и друидов, или, по крайней мере, передавая свою традицию от отца к сыну, они все менее становились похожи на священнослужителей и превращались в деревенских колдунов. И одновременно с ними изменялось и деградировало представление о Божественной Сущности.
Почти 30 лет назад Анри Донтанвиль в своей замечательной книге «Французская мифология» доказал, что эта Сущность имела имя, вернее, два имени, потому что это были Отец и Сын. Отца звали Белен, по сути своей он был тем же, что и Аполлон, великим божеством Солнца, которому изначально поклонялись все праиндоевропейские народы. Сын считался находящимся ближе к земле; он был связан с камнями, деревьями и водоемами. Его имя было Гарган.
Если даже говорить только о территории Франции, то там можно найти много мест, названия которых этимологически связаны с именами Белена и Гаргана. В зависимости от фонетических особенностей местных говоров, эти названия звучат как Балан, Блезм, Бельфэ (дерево Беля), Монтбелер (гора Беля), Бален, Блэн, Баллон, Корблен (камень Белена), Бленвиль (город Белена), Бельмонт, Монтбель… Вспомним также, что существовали древние галльские крепости Горгобина и Герговия; Геранда, замок Горгон, реки Горганна, Горгонна, Гаргонна, Гаргонда; возвышенности Гаргатта, Жаржатта… Нередко оба имени соседствовали, и — что, возможно, даже более важно, — неподалеку от мест, имена которых были связаны с Беленом, до сих пор рассказывают — или совсем недавно рассказывали — народные легенды, герой которых — великан, и имя его чаще всего Гаргантюа.
Гаргантюа
Маловероятно, чтобы образы этих Гаргантюа были подсказаны крестьянам чтением Рабле[111]. Кроме того, бессмертный кюре из Медона не сам придумал это имя. В От-Виенне сохранилась запись 1471 года о некоем «Гаргантюасе» во плоти. Незадолго до Рабле Шарль Биллон, родившийся в деревне подле Иссудена, первым в литературе издал «Великие и невероятные хроники об огромном великане Гаргантюа». Это прекрасно понимала Жорж Санд, когда упоминала легенды о Гаргантюа, которые сама слышала в своем уголке в Берри: «Те, кто рассказывает вам всякие истории, сам за всю свою жизнь не прочел ни одной книги и не больше, чем его предки, знает об их существовании. Имя Рабле столь же неизвестно им, как имена Пантагрюэля и Панурга <…> Эти персонажи — выдумка поэта; однако же Гаргантюа, я думаю, — создание народа…»
Для любого, кто его читал, Рабле — это насмешливый (несомненно, из осторожности) разрушитель всех христианских традиций. Если он сделал Гаргантюа своим знаменем, то это неспроста. Опыт и интуиция помогли ему увидеть этот бродящий по французским деревням призрак другой религии, другого видения мира, которое вот уже девять веков яростно запрещалось христианством, но все еще не хотело умирать.
Так что Гаргантюа — это Гарган, сын Белена. Почему именно он, а не его отец? Потому что он был ближе, ощутимее, человечнее. Иисус тоже более понятен христианам, нежели Бог-Отец. Но почему — «тюа»?
Одним из средств, использовавшихся Церковью для того, чтобы заставить людей забыть верования предков, как известно, была христианизация священных мест и существ, которым они поклонялись. Туманный святой Горгон, следы которого отыскались в Риме, оказался вполне подходящим для того, чтобы вытеснить Гаргана. Мощи этого святого были принесены в 765 году аббатом Горзы Хродегангом в Лотарингию, и оттуда его культ распространился почти на всю Францию севернее Луары. Его почитание устанавливалось во многих местах, которые еще вчера были связаны с легендами о Гаргантюа. Его имя давали прудам, источникам, которые, без сомнения, до этого имели совсем другого покровителя. Наконец святой Горгон обосновался на границе Бретани и Нормандии, совсем недалеко от уже упоминавшейся горы Томбе, наиболее почитавшейся последователями древней религии. Возможно, святой Михаил и изгнал Белена и Гаргана с этой горы в VI веке, но вряд ли ему удалось изгнать их из сердец их почитателей. Поместив его тезку почти напротив горы в Сен-Квентин-сюр-ле-Ом (где «ом» — «homme» или «houlme» — означало «холм», «возвышенность»), христиане надеялись добиться того, чтобы паломники, упорно приходившие поклониться своим ложным богам, делали это, не отрицая и истинного Бога. Расчет оправдался, ибо еще в прошлом веке паломничество к святому Горгону привлекало в эти места толпы нормандцев и бретонцев, которые уже понятия не имели о его некатолическом происхождении. Но это весьма позднее достижение отнюдь не означает, что в VIII веке великого Гаргана можно было так же легко заменить никому не известным Горгоном. Чтобы не допустить путаницы, упорные почитатели Гаргана добавили к имени своего божества слог «тюа», смысл которого в настоящее время утрачен, но каким-то образом в те времена он помогал отличать одного от другого.
Конформизм и независимость
Конечно, в деревенских легендах, которые Анри Донтанвиль еще мог собрать в 1948 году, Гаргантюа изображается уже просто как великан непонятного происхождения, который передвигается огромными шагами по горам и долам и оставляет здесь холм, который есть не что иное, как ком грязи, отлипший от его сапога, там — скалу, которая есть лишь песчинка, упавшая с его ботинка, либо создает реки и озера, изливая влагу из своего мочевого пузыря. Однако если бы тридцать лет назад помнили, что за четыре с половиной века до этого он был еще столь жив и значим, что смог стать аллегорическим героем антихристианской книги Рабле, то кто бы поверил, будто тысячу и более лет назад он покорно сдал позиции и уступил богу Клотильды, Хлодвига, Карла Великого и короля франков Роберта Благочествивого? Как не увидеть за жалкими выходками Леутарда, за бунтом шатильонского крестьянина, винейского фермера и туренского Готье запоздалое сопротивление, которое спустя век продолжал красочно описывать Рауль Ле Туртье? По меньшей мере можно предположить, что эти крестьяне, давно жившие в атмосфере, созданной христианской аристократией и христианским духовенством, которым принадлежала обрабатываемая ими земля и от которых они непосредственно зависели либо как сервы, либо как арендаторы, — эти крестьяне в целом приняли практику, предписанную официальной религией, однако сохранили и свою самобытность. Конечно, не один из них втайне, а порой и открыто, отвергал Бога и святых, которых ему навязали; кроме того, многие верили, что древний Гарган может отомстить тем, кто ему изменил… Ведь, в конце концов, если Христос и бог, то это не означает, что Гарган не бог и что он не существует. Даже если он передал свои полномочия святому Бенедикту или святому Горгону, это не отнимает грозной силы у тех мужчин и женщин, которые знают, например, к какому дереву или источнику надо идти просить об исцелении. Даже Рауль Глабер, описав один из случаев почитания ложных святынь, завершает рассказ следующим образом: «Мы изложили эту историю для того, чтобы люди остерегались столь разнообразных форм дьявольских и человеческих козней, которыми изобилует мир и которые часто связаны с теми источниками и деревьями, которым безрассудно поклоняются больные люди». Те, кто поддерживал в деревнях эти верования, были, вероятно, не кем иным, как потомками жрецов Белена и Гаргана, ушедших в подполье друидов. У них не было священной книги, излагающей учение, ибо они не имели своей письменности. Однако с тем большим рвением они передавали из поколения в поколение, пусть немного изменяя, великие мифы, забавные легенды о великане Гаргантюа и древние ритуалы, превратившиеся в практическую магию — колдовство.
Итак, простые люди не выбирали между религией, которую им проповедовали, и древними верованиями, отбросить которые им казалось опасным. Им представлялись одинаково реальными и бог их хозяев, и их святые — и бог их предков, и таинственные силы, которыми он управляет. Мир полон сверхъестественных сил, которые не всегда живут в согласии друг с другом. Между ними приходилось лавировать, хитрить. Христос и его небесные помощники могли сделать человеку много хорошего, но и много плохого, не говоря уже о том, что, не признавая их, человек восстанавливал против себя сильных мира сего, — значит надлежало посещать мессу. Гарган и его силы также способны вознаграждать и наказывать, — что ж, есть проверенные средства, как завоевать их благосклонность. Прибегнем же к ним: будем почитать их в образе деревьев и источников, но потихоньку, раз это запрещено. Главное — это добиться того, чтобы вовремя шел дождь, чтобы коровы не околевали, чтобы дети выздоравливали, чтобы супруга наконец понесла, чтобы возлюбленная не влюбилась в другого. Главное — получить что-то. Вот какой была — за исключением эпизодических бунтов, когда подспудное и более или менее осознанное сопротивление навязанной новой вере выплескивалось на поверхность, — повседневная внутренняя жизнь крестьянина в интересующем нас 1000 году.
В итоге, если все это более или менее так, идея о том, что существует лишь истинный Бог, была им чужда. И по еще более понятным причинам была чужда идея, что к Богу следует обращаться ради него самого, а не ради тех благ, которые его можно при помощи соответствующих действий принудить даровать человеку в этом мире. Видимо, именно осознав это, Андре из Флёри разглядел в них «полуязыческую душу».
Все те, кто, подобно ему, старались привести этих людей к единому истинному Богу, ставили тот же диагноз. И делали из этого выводы. Проповедуя истины своей веры, пытаясь заслужить себе благоденствие в потустороннем мире соблюдением десяти заповедей, призывая приходить на службы, чтобы приобщиться к святому, они старались не дать душам крестьян окончательно сбиться с пути. Есть всего лишь один Бог — единый в трех лицах, — но, по счастью, есть также ангелы и святые. Мы уже видели, как архангел Михаил благополучно обосновался на древней горе Томбе, где его охраняли двенадцать каноников, и как его затем поддержал святой Горгон. Есть и другие примеры. Святой Николай из Мир Ликийских, мощи которого были перевезены из Малой Азии в Бари около 1000 года[112], заменил в качестве покровителя путешественников Меркурия, более забытого во Франции, чем в Италии, а затем перешел через Альпы и вытеснил (во всяком случае, в одной деревне у слияния Сены и Уазы) самого Гаргантюа. Вскоре после 1000 года наступил черед святого Христофора понемногу вытеснять отовсюду древнего великана. До них и после них то же самое делали и другие святые.
Мы видели, что успеха удалось добиться далеко не сразу, однако апостолы веры были настойчивы и терпеливы. К тому же, их было много. И у них была власть…
Глава XI ДАВЛЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
В отличие от других религий, христианство не присуще человеку изначально — в этом один из наиболее сильных аргументов в пользу его истинности. Характерные для него духовные устремления и мораль всегда распространялись и поддерживались под давлением некой элиты. Прошу понять меня правильно: давление не есть принуждение, по крайней мере не всегда. Героическая элита, которую представляли собой апостолы первых веков, разумеется, не имела никаких средств принуждения: она обратила в свою веру жителей городов, простой народ, знать и, наконец, самого императора исключительно силой убеждения. Проповедь, личный пример, братское милосердие были теми привычными средствами, с помощью которых христианство оказывало давление. В этих формах давление оказывалось постоянно: сначала во времена зарождения христианства, затем — свободно, без препятствий, но и без поддержки — в меровингскую эпоху, в течение которой епископы были единственными дееспособными членами общества; и, наконец, в эпоху после Карла Великого — уже при поддержке властей. Таким образом было создано взаимодействие власти и духовенства, которое в ряде случаев производило впечатление единодушия. Именно это можно было наблюдать в те великие века Средневековья, каковыми являлись XII и XIII столетия. Говоря об этом времени, под давлением христианства можно подразумевать уже другое: это нечто, похожее на атмосферное давление или на давление в котле. Оно может уже обернуться насилием против инакомыслящих, каковыми были, например, катары в Лангедоке. Не вдаваясь в исторические детали, которые слишком далеко увели бы нас от предмета данной книги, все же отметим, что народное христианство начало исчезать почти во всех странах, где власти перестали интересоваться деятельностью апостолов веры или начали чинить им препятствия. Добавим вскользь, что сейчас в странах, в которых вера подавляется в наибольшей степени, может вновь повториться история первых веков христианства. Уже есть признаки этого. Как говорится, mutatis mutandis[113].
Итак, каким образом осуществлялось давление христианства в интересующем нас 1000 году?
Движение Клюни
В предыдущей главе мы уже ознакомились с некоторыми проявлениями давления христианства, и они представляли собой именно подавление: наказание еретиков или то, что можно назвать профилактическими мерами, — перелицовка христианством языческих святынь. Способ убеждения, основанный, впрочем, тоже на некотором интеллектуальном насилии, представляют собой рассказы о «Чудесах святого Бенедикта». Теперь следует остановиться на других, более ценных формах проявления давления христианства.
Печальная эпоха, начавшаяся приблизительно с середины IX века неудержимым падением империи Каролингов, отмечена, помимо прочих несчастий, упадком духовенства. Выше уже говорилось, что епископы, приходы, монастыри были неотъемлемой частью феодальной системы. Читатель наверняка понял, что это нанесло огромный урон их духовной миссии. Но мы уже говорили в начале предыдущей главы о том, что с X века монастыри, а может быть, и епископства начали возрождаться.
Это движение началось в Клюни, в деревне Маконнэ на берегу Гросны. Там в 910 году Гильом Благочестивый, граф Оверни и герцог Аквитанский, владел родовым доменом. Будучи «благочестивым», он задумал обновить монастырь и решил сделать его образцовым. Он знал, что монахи Бома, жившие в горах Юры неподалеку от Лон-ле-Сонье, под руководством своего аббата Бернона соблюдали Устав святого Бенедикта во всей его древней строгости. Он призвал Бернона и доверил ему Клюни. В акте об основании монастыря говорилось, что новый монастырь будет освобожден от какой бы то ни было светской или церковной юрисдикции и будет находиться под юрисдикцией непосредственно Священного Престола. Это было гениальное и истинно «благочестивое» решение. Другие монастыри в большей или меньшей степени зависели от преходящих благ, от сеньора или короля, контролировавших их доходы и назначавших по своему усмотрению монахов, которые должны были ими управлять и которых называли «светскими аббатами». Епископы каждого диоцеза были вполне компетентны в вопросах религиозной жизни, но слишком часто случалось, что их основной заботой было отнюдь не духовное развитие. Именно от этого принуждения, ограбления, извращения, коррупции и эксплуатации и должно было быть защищено новое аббатство.
Бернон и его последователи Одон, Эймар, Майель и, наконец, Одилон, бывший аббатом с 994 по 1049 год, постарались извлечь максимальные преимущества из этой счастливой независимости. Монахи Клюни быстро прославились своим суровым образом жизни: кстати, их повседневная жизнь — это единственный образ жизни того времени, о котором нам многое подробно известно, и мы не будем пренебрегать сохранившимися свидетельствами. Кроме того, они прославились пышностью и великолепием своих богослужений. Их пример был заразителен: эта заразительность усугублялась тем, что многие правители, почувствовавшие неожиданную потребность реформирования монастырей своего домена, погрязли в неизбежном сопротивлении. Большинство реформировавшихся монастырей принимали зависимость от аббата Клюни, который стал таким образом — новое явление по тем временам — «главой ордена». В конце XI века в Европе насчитывалось 1450 аббатств и приорств, подчиненных Клюни, в них жили около 10 тысяч монахов. 815 из этих аббатств находились во Франции — их приходилось приблизительно по 9-10 на каждый современный департамент. 109 было в Германии, 23 в Испании, 52 в Италии, 43 в Англии. В 1000 году эти цифры, конечно, были меньше. Но завоевание, начавшееся при аббате Одоне, то есть в первой половине X века, к этому времени уже принесло значительные результаты. Рауль Глабер пишет: «Он столь ревностно пропагандировал Устав, что от провинции Беневент и до Океана все наиболее значительные монастыри, которые находятся в Италии и в Галлии, почитали за счастье подчинить себя его руководству». Говоря о времени, в которое он писал эти строки (то есть около 1040 года), Рауль добавляет: «Этот монастырь (Клюни) часто приглашает из различных стран тех братьев, которые, будучи назначены главами других обителей, всеми способами служат интересам Господа».
Несомненно, существовали обители, не принимавшие реформу. Если реформатор был слишком настойчив, то дело могло кончиться плохо. Наиболее трагическим примером может служить монастырь в Ла-Реоле. В 977 году он был подчинен аббатству святого Бенедикта на Луаре, издавна связанному с Клюни, через посредство герцога Гасконского Гильома-Санчо, однако его монахи не стали из-за этого более добродетельными. Аббон, аббат монастыря Святого Бенедикта, нанес им визит и, надеясь, что доброе семя способно изменить плевелы, оставил у них нескольких монахов своей обители. Эти миссионеры быстро поняли, что если они хотят остаться живы, им лучше бежать. Второй десант привел к такому же результату. В 1004 году Аббон решил вновь посетить монастырь. Страстное нежелание гасконских монахов подчиниться реформе усугублялось их неприязнью к «французам», жившим севернее Луары. Любой вопрос превращался в спор, даже сено для лошадей становилось предлогом для ссоры. После того как Аббон упрекнул одного из монахов, собиравшегося заночевать в городе, завязалась драка, в результате которой аббат был смертельно ранен.
Престиж и слава аббатов
Таким образом, повседневная жизнь великих аббатов-реформаторов иногда оказывалась полной опасностей. Однако чаще она была отмечена успехом, престижем и почестями. Понятно, что эта жизнь ни в коей мере не ограничивалась стенами того монастыря, руководителем которого был аббат. Путешествия, или лучше сказать — экспедиции, занимали большую часть жизни аббатов, в особенности если добавить сюда поездки, которые они совершали по просьбе властителей, жаждавших их совета. К Аббону, мученику Ла-Реоли, очень прислушивался Гуго Капет, для которого тот в своем труде под названием «Каноны» изложил основы статуса королевской власти. После смерти первого короля-капетинга, Роберт Благочестивый послал Аббона в Рим, чтобы уладить с папой Григорием V множество сложных вопросов. Обширные познания во всех науках того времени привели Аббона также в Англию, в монастырь Рамси, аббат которого хотел восстановить давний авторитет монастыря как интеллектуального центра.
У аббатов Клюни была еще более обширная аудитория. Майель общался со всеми правителями своей эпохи: с королем Бургундии, с Оттонами. Он также был другом Гуго Капета, который, отказавшись от титула светского аббата Мармутье, просил его восстановить этот монастырь, а затем велел ему пригласить Бушара, графа Вандомского, для проведения реформы среди монахов Сен-Мор-де-Фоссе в предместьях Парижа. Чтобы избавиться от тех, кто упрямо сопротивлялся реформе, он прибег к мнимой ссоре с Бушаром: созвал всех монахов в деревню, расположенную в нескольких лье от монастыря, и объявил им, что только те, кто присягнет ему на верность, смогут вернуться в аббатство… Ричард I, граф Нормандский, хотел, чтобы Майель реформировал аббатство Фекамп; но взамен он потребовал для Клюни право выгона скота в нормандских лесах и, не получив его, отказался.
Одилон, бывший аббатом Клюни в 1000 году, не переставал в полном смысле этого слова мерять шагами Францию, Бургундию, Аквитанию, Италию. Согласно желанию Гуго Капета и его сына Роберта Благочестивого, он провел реформу в аббатстве Сен-Дени[114] близ Парижа. В Оверни, откуда он сам был родом, он реформировал монастыри в Сен-Флуре и Тьере, также как монастырь Спасителя в Невере и монастыри в Нантуа и Шарлье. По призыву Гильома V, который, по словам Адемара из Шабанна, видел в нем «воплощение Храма Святого Духа», он работал во многих монастырях в Пуату. В долине Роны он основал аббатство Ла-Вульт. В 1014 году он отправился в Рим, чтобы присутствовать при помазании императора Генриха II. Рауль Глабер рассказывает, что по этому случаю папа Бенедикт VIII пожаловал императору знак своего достоинства — «золотой шар, разделенный на четыре части рядами весьма драгоценных камней и увенчанный золотым крестом». Генрих вручил этот знак Одилону, сказав при этом: «Никто не может быть более достоин хранить и созерцать этот дар, нежели те, кому презрение к славе этого мира дает легкость для того, чтобы они могли следовать за Крестом Господним». По этому поступку можно судить, какого мнения были об аббате Клюни сильные мира сего. Впоследствии Одилону еще раз довелось сопровождать императора в Италию. У короля Франции он пользовался не меньшим почетом. Когда Роберт пришел с войной в Бургундию, Одилон не побоялся упрекнуть его в жестокости и смог спасти хотя бы аббатство Сен-Бенинь в Дижоне. Он присутствовал в Реймсе при помазании второго сына короля Генриха. Он получал письма от короля Наварры Санчо Великого, от короля Иштвана Венгерского. Изучая его биографию, можно сказать, что он и сам был королем, главой международного государства, имя которому было Клюни.
Непосредственный современник Одилона ломбардец Гильом из Вольпиано соперничал с ним. Гильом был аббатом монастыря Сен-Бенинь в Дижоне, того самого, который, как мы только что видели, спас Одилон. Гильом усердно проводил реформу в Нормандии, в диоцезе Лангр, а также в Париже, куда был вызван королем для наведения порядка в Сен-Жермен-де-Пре, и в Лотарингии. В Ломбардии на принадлежавшей ему земле он основал монастырь Фруктуаре. Он еще меньше, чем Одилон, церемонился при общении с королем Робертом. Впрочем, в отношении монашеской дисциплины он был более суров, чем этого требовал разумный подход, и его прозвали «Человеком сверх Устава». Тем не менее авторитет его был высок, а деятельность успешна.
Благотворительность клюнийцев
Как мы видели, аббаты крупных монастырей относились к числу наиболее известных и наиболее влиятельных людей своего времени. Их вездесущность, их постоянные поездки в какой-то степени изменяли равновесие сил и, конечно, усиливали влияние христианства. Однако если в сельской местности начала распространяться искренняя приверженность к христианству, если древнее деревенское язычество стало менее осознанным, то это в первую очередь было результатом их основной деятельности: реформы монастырей.
Она состояла в том, чтобы утвердить в монастырях — в несколько измененном виде — устав, выработанный в VI веке святым Бенедиктом Нурсийским и дополненный при Карле Великом святым Бенедиктом Анианским[115]. В этом бенедиктинском (вдвойне бенедиктинском!) уставе было следующее предписание: «Утешать бедных, одевать нагих, помогать несчастным, поддерживать сокрушенных сердцем». Если мы рассмотрим уже упоминавшиеся здесь обычаи Клюни, которые сложились в XI веке и вполне отвечали требованиям эпохи 1000 года, хотя их создатели выдавали их за «очень древние», мы увидим, как этот в высшей степени соответствующий духу Евангелия принцип воплощался на практике в Клюни и, должно быть, в многочисленных прошедших реформу монастырях, — воплощался, во всяком случае, по мере сил каждого из них. Понаблюдаем же за повседневной благотворительной деятельностью клюнийцев.
Один из монахов был особенно тесно связан с этой деятельностью: он являлся раздатчиком милостыни. Его задачей было принимать бедных путешественников, несчастных паломников, странствующих священников и монахов и, в особенности, бедняков, просивших пищи и приюта на несколько дней. Для этого предназначался специальный дом, построенный вне стен монастыря и называвшийся странноприимным, или домом для бедных. Каждый, кто в нем останавливался, получал ливр хлеба, испеченного монахом, ответственным за пекарню, а когда уходил, брал еще пол-ливра. При приходе и при уходе его угощали вином в том же количестве, которое полагалось монахам. Раздатчик милостыни должен был также с разрешения аббата приводить в трапезную бедных путешествующих пешком священников, если он встречал их на дороге. Для них в специальной миске сберегалось то, что оставалось от ужина монахов, а также выделялось некоторое количество вина и был припасен хороший самшитовый посох.
Раздатчик милостыни должен был также знать о всех нуждающихся в округе. Один раз в неделю он ходил в деревню и расспрашивал людей. Если ему говорили, что где-то есть больной, лежащий в постели, он шел к нему в дом, спрашивал, что ему нужно, и, с согласия аббата, старался максимально удовлетворить его просьбу. Если заболевала женщина, то вместо монаха в ее дом шли сопровождавшие его слуги.
Во всех клюнийских монастырях, располагавших достаточным средствами, раздатчик милостыни каждый день раздавал пищу беднякам, жившим в округе. В самом Клюни каждый день готовили 12 «пирогов», то есть ржаных хлебов, каждый из которых весил 3 ливра, для раздачи несчастным, обращавшимся за помощью: детям, хромым, слепым, старикам и старухам.
Во время постов, таких, как Рождественский, Великий, кануны праздников, сезонные посты, остатки хлеба и вина раздавались нуждающимся паломникам. В дни, когда монахи получали дополнительную пищу, которая, как мы увидим, называлась «генеральной», раздатчик милостыни тушил мясо для бедняков и, в случае необходимости, покупал его на средства, полученные с десятины. Любой паломник или бедный путник, который не мог вернуться в монастырь ранее чем через год, получал подорожные в размере 1 денье[116]. Если умирал кто-то из монахов, его доля пищи в течение 30 дней раздавалась как милостыня.
Одежда монахов, после того как ее носили в течение года, также распределялась между бедняками. Однако эта обязанность исполнялась уже не раздатчиком милостыни, а монастырским экономом, чьи полномочия были шире. Он же раздавал монахам по 2 денье, которые каждый должен был в Святую субботу отдать какому-нибудь бедняку, предварительно омыв ему ноги.
У монахов Клюни не было недостатка в таких бедняках: восемнадцать из них жили прямо в монастыре. Один из летописцев добродушно называет их «бедняками, получающими доход с церковного имущества». Эти привилегированные среди несчастных каждый день получали вино и ливр хлеба, а также, судя по всему, порцию бобов. Три раза в неделю к этому добавлялись также овощи со специального огорода, за который отвечал раздатчик милостыни. По большим праздникам им давали мясо. На Пасху им выдавали 9 локтей шерстяной ткани, чтобы они могли сшить себе одежду, а на Рождество они получали по паре башмаков. У них была своя спальня, расположенная в здании странноприимного дома. Они должны были присутствовать на вечерне. Если они этого не делали, то им не давали вина. Если они засыпали во время службы, их ужин значительно сокращали. Интересно было бы узнать, по какому принципу их отбирали. Это не могли быть хворые или дряхлые, раз они присутствовали на службе. Неизвестно также, оставались ли они в монастыре пожизненно или их состав периодически обновлялся. В любом случае, эта форма благотворительности клюнийцев кажется несколько менее убедительной, чем другие. Однако она была вполне в духе времени, такого рода практику вводили у себя и светские феодалы. Короче говоря, в обществе того времени, в котором усердно поддерживались христианские взгляды, в частности идея о том, что благотворительность — это долг тех, кто держит в своих руках блага этого мира, бедные имели свою социальную нишу.
Однако, разумеется, не бедняки способствовали распространению христианства среди простого народа. Эту функцию исполняли другие: больные, которых лечили дома, нищие, получавшие подаяние в виде «пирогов», и в особенности, наверное, нуждающиеся в помощи путники, для которых монастыри становились бесплатным постоялым двором. Между собой монахи должны были соблюдать заповедь молчания; тем более красноречивыми становились они в обществе тех, кому давали приют. Они разговаривали с ними о разных вещах, и то, что они говорили, разносилось их мимолетными гостями по дальним краям. Таким образом они формировали общественное мнение по разным вопросам на всех уровнях общества того времени, в основном же в низших его слоях. И практически единственными, кто это делал, были именно монахи: ведь у епископов не было такой возможности, а из приходских священников на это были способны опять же лишь монахи, приставленные к церквам в зависящих от монастыря деревнях; что до сеньоров, то у них были другие заботы, и им было некогда болтать со своими крестьянами.
Сила святых
Мы не знаем, о чем монахи говорили с простолюдинами. Однако никому не возбраняется попытаться представить себе это. Большое место в этих разговорах, должно быть, занимали рассказы о чудесной силе святых покровителей монастырей. Поэтому и возникали истории о чудесах, например о чудесах святого Беденикта. Эти чудеса не сводились исключительно к наказаниям вроде тех, что мы видели в предыдущей главе. Часто это были исцеления, разного рода благодеяния, воздаяния приверженцам святого. Эти рассказы не были призваны вдохновлять слушателей на веру, основанную на теологических рассуждениях. Тем не менее святой был неотделим от Христа. Идея о том, что чудеса свершаются Богом, а святые — всего лишь посредники, постоянно высказывается, например, таким клюнийским монахом, как Руаль Глабер, который привел в своих трудах множество подобных историй. Следует думать, что эта идея поддерживалась в монастырях неусыпными стараниями аббатов. Таким образом, идея единого Бога, единственного, всемогущего, который неотвратимо наказывает злонамеренных, но умеет прощать и поощрять добродетельное поведение, всеми средствами распространялась среди сельского населения.
В этой связи появлялась еще одна возможность привлечь внимание простого народа. Эта возможность возникала далеко не каждый день, но позволяла охватить большое количество населения. Она появлялась тогда, когда святые мощи предъявлялись народу в храме, в котором они хранились, или, что было еще лучше, перевозились в другое место, которое далеко не всегда должно было стать постоянным местом их пребывания. Эти «проявления» и «перенесения», как их называли, сопровождались огромными процессиями монахов и священников, одетых в самые пышные священные одежды. Адемар из Шабанна оставил нам рассказ, позволяющий представить себе празднества, состоявшиеся после того, как в базилике св. Иоанна в Анжели была обнаружена глава святого Иоанна Крестителя. «Все жители Галлии, Италии и Испании, воодушевленные этой новостью, спешили, горя желанием приехать в это место». Понятно, что в столь отдаленное место смогли приехать только король и крупные сеньоры: Роберт Благочестивый, Санчо, король Наваррский, их приближенные. Роберт привез с собой пышные дары: «блюдо из чистого золота, весившее 30 ливров, шелковые и золоченые ткани для украшения церкви». Огромное количество музыкантов, каноников, монахов… Адемар не упоминает здесь толп простого народа, но сразу пишет о том, что во время этих празднеств мощи святого Марциала были перенесены в монастырь святого Стефана в Лиможе, «в золотой раке, украшенной драгоценными камнями». Они проезжали через Шарру (нынешний главный город кантона в департаменте Вьенна), по-другому это место называлось Святой Шарру, потому что там хранился кусочек дерева от Святого Креста. Мощи сопровождали аббат монастыря святого Марциала в Лиможе и епископ этого города, а также многочисленные сеньоры и — на сей раз — «бесчисленная толпа народа». В миле от города навстречу им вышли монахи и «весь народ» Шарру. Мощи перенесли в церковь под звуки «древних гимнов», певшихся «в полный голос», затем была отслужена месса с тем же сопровождением. По возвращении в монастырь святого Иоанна в Анжели — новая церемония, при которой «каноники святого Иоанна пели по очереди с монахами святого Марциала тропы и хвалы, как это делается в дни праздников». После мессы «епископ, держа в руках главу святого Иоанна, благословил народ».
Литургические представления
Святая неделя и Пасха, Рождество и Крещение предоставляли и другие возможности для того, чтобы воздействовать на души верующих. К обычным литургическим церемониям священники некоторых церквей добавляли символические инсценировки событий, описанных в Евангелиях.
Доказательством этому служит рукопись, написанная между 965 и 975 годами английским монахом-бенедиктинцем Этельуолдом, который рекомендует своим братьям по религии следовать примеру французских церквей и особенно Флёри-на-Луаре, чтобы «укрепить веру неграмотного простонародья и неофитов». Он подробно описывает, как можно изобразить положение во гроб и воскресение.
Вечером в Страстную пятницу два диакона подходят к алтарю, неся завернутый в плащаницу крест, изображающий распятого Христа в погребальных пеленах. Они помещают его в углубление алтаря, которое символизирует гробницу. На рассвете в день Пасхи один из монахов, одетый в стихарь, с пальмовой ветвью в руке садится подле алтаря. Трое других подходят к нему, неся благовония, и делают вид, будто ищут что-то. Как вы догадываетесь, это — блаженные жены-мироносицы, пришедшие умастить тело Иисуса и встретившие ангела. Между ними завязывается известный всем разговор на латинском языке: «Кого вы ищете?» — «Иисуса из Назарета». — «Его здесь нет…» После того как три жены поют хорал «Аллилуйя, Господь воскрес!», ангел раскрывает гробницу, и все видят пелены, брошенные воскресшим Иисусом. Жены-мироносицы развертывают их и показывают присутствующим. Все заканчивается гимном «Te Deum laudamus»[117], который запевает аббат.
Речь здесь идет о том, что историки театра — и в частности дорогой моему сердцу и оплакиваемый мною Гюстав Коэн, которому эти строки обязаны своим появлением на свет, — называют литургическим представлением (литургической драмой). Это был зародыш сценического изображения Страстей и Воскресения, которые, все совершенствуясь, в последние века Средневековья превратились в пышные «мистерии», состоявшие из 30-40 тысяч стихов. В этом отношении 1000 год — всего лишь время, когда занималась заря будущих спектаклей такого рода.
Театрализованные изображения Рождества и Крещения упоминаются в источниках, относящихся к несколько более позднему времени, и поэтому мы видим их на более высокой стадии развития. В одном из текстов XI века, сохранившемся в монастыре Линзен в Лимбурге, описываются знамение пастухам, пришествие волхвов, которых Ирод бросает в темницу, но которые выходят оттуда и относят свои дары Божественному Младенцу, а затем, предупрежденные ангелом, возвращаются по другой дороге. Чтение пророчеств Ветхого Завета, возвещающих о приходе Мессии, уступало место живописному действу, в котором можно было увидеть Моисея с рожками и бородой, несущего скрижали Закона; Аввакума, грызущего коренья; Елизавету, мать Иоанна Крестителя, — эту роль, конечно же, исполнял священнослужитель, однако по всем признакам можно было понять, что Елизавета беременна. Здесь был и Валаам верхом на ослице, которую изображал человек с длинными ушами на голове, стоящий на четвереньках и покрытый мохнатой шкурой. Эта ослица, как и должно быть согласно Библии, владела человеческой речью, однако говорила на латинском языке… Возможно, в 1000 году изображались также чудеса святого Бенедикта, Воскрешение Лазаря и Обращение святого Петра, — тогда эти спектакли были предтечами аналогичных действ несколько более позднего времени, латинский текст которых сохранился. Можно предположить, что неграмотные зрители по самой игре актеров в целом угадывали смысл, даже если спектакль не сопровождался комментарием на их родном языке.
Для людей, не знавших ни кино, ни телевидения, эти праздники и их драматические представления были единственной возможностью развлечься. Видимо, той же цели служили песни и фокусы «жонглеров», о которых речь пойдет в другой главе. Если вспомнить, какое влияние на общественное сознание оказывают современные средства массовой информации, то легко можно представить себе, какое реальное место могла занимать в душах простого народа религия, которая столькими звуками, движением, светом и красками скрашивала серую будничность их обычной жизни.
Мир и перемирие во имя Бога
Еще большее благодеяние Церковь оказывала обществу в тех случаях, когда она находила средства против военных бедствий. В той мере — слишком ограниченной, — в какой ей это удавалось, она действительно вносила изменения в повседневную жизнь сельских жителей.
Как мы видели на первых страницах этой книги, Мишле считал причиной того, что он называет мирным установлениями, добрую волю сеньоров Лиможа, напуганных эпидемией чумы в 997 году. Хотя эти сеньоры, судя по источникам, еще не приняли в то время, вопреки Мишле, конкретных установлений, названных чуть позже «миром Господним» и «перемирием во имя Бога», он все же не ошибся, почувствовав пробуждение духа сопротивления непрерывным войнам.
К 990 году, то есть еще до заключения лимузенскими сеньорами «договора о мире и справедливости» (который, как мы уже видели, они не особенно соблюдали), а другой части Аквитании, в Пюи, епископ Ги Анжуйский созвал нескольких прелатов южных провинций; результатом этой встречи явилось очень важное обращение, адресованное всем правоверным христианам: «Пусть отныне во всех епископствах и графствах никто не врывается силою в церкви; пусть никто не угоняет коней, не крадет птицу, быков, коров, ослов и ослиц с их ношей, баранов, как и свиней. Пусть никто не уводит людей на строительство или осаду замков, если эти люди не живут на принадлежащей ему земле, в его вотчине, в его бенефиции[118]. Пусть духовные лица не носят мирского оружия, пусть никто не причиняет вреда монахам или их товарищам, путешествующим безоружными. Пусть только епископы и архидиаконы, которым не выплатили подати, имеют на это право. Пусть никто не задерживает крестьянина или крестьянку, чтобы принудить их заплатить выкуп». Всех верующих призывали собраться на специальную ассамблею в середине октября, для того чтобы пообещать не нарушать эти запреты. И они собрались, дворяне и крестьяне, но, как ни странно, ни те, ни другие не обнаруживали особого энтузиазма. Только присутствие войск двоих племянников епископа подтолкнуло их к тому, чтобы решиться дать требуемое обещание. Дух Лиможа еще не витал в воздухе, даже в Пуатье, где как раз в 1000 году консилиум постановил, что любая ссора по поводу присвоения имущества должна быть разрешена по справедливости: источник не сообщает нам, как отреагировали на это заинтересованные лица.
Мирное движение смогло набрать силу несколько позже. Заслуга в этом принадлежит Роберту Благочестивому, который сумел сделать Церковь Франции своей союзницей ради блага королевства. Он способствовал проведению ассамблей мира, проводил их и в своем домене, в Орлеане, и в Вердене-на-Соне, маленьком бургундском городке, завоеванном им незадолго до этого. В 1024 году, опять же в Бургундии, он созвал в Эри большую всеобщую ассамблею. На нее из всех областей Франции съехались священники, аббаты, сеньоры, крестьяне. Многочисленные реликвии, свезенные туда издалека по случаю этого события, вызвали немало чудес. Энтузиазм достиг своей наивысшей точки. С тех пор ассамблеи мира много раз проводились в разных районах королевства; почти каждый диоцез провел свою ассамблею.
Договора, заключавшиеся на этих ассамблеях, сильно отличались друг от друга в деталях. Простоты ради можно сказать, что все они стремились ограничить войны как в плане числа втягиваемых в них людей, так и в плане времени. «Мир Господень» обязывал воюющие стороны щадить бедняков, слабых, женщин, людей Церкви и их имущество; «Перемирие во имя Бога» запрещало военные столкновения с пятницы по воскресенье, в Великий пост и некоторые другие литургические периоды. Большего нельзя было требовать от общества, естественным порождением которого была война. Даже если не удавалось достичь и этого скромного идеала, военные столкновения становились все же более редкими, а главное — совершалось меньше жестокостей по отношению к простому народу. Воины впервые почувствовали свой долг перед государством: они еще могли обнажать меч, но уже поклялись на святых реликвиях не размахивать им без нужды направо и налево. Эта клятва положила начало рождению благородных шевалье будущих веков.
Еще один аспект будущего наметился на этих ассамблеях мира: в них участвовали крестьяне. Они могли брать слово и, в результате, оказывались рядом с сеньорами среди членов лиги, которая обычно создавалась для того, чтобы заставить всех соблюдать договор, при необходимости прибегая к использованию силы. Бывший до того пассивной игрушкой истории, труженик земли постепенно входил в число ее действующих лиц. Он приобретал достоинство и ответственность, присущие человеку. Разумеется, эта тенденция была еще весьма скромной и едва различимой по сравнению с ограничениями, которым в течение долгих веков было суждено давить на сельских жителей, по сравнению с тем презрением, которое выказывали им их хозяева, носившие меч. Тем не менее эта тенденция уже ощущалась.
И в чем не было никакого сомнения, так это в трудах Церкви. Видя, сколько усилий прилагает она к тому, чтобы отвратить бич войны, и этим противостоит их хозяевам, которых они согласно древнему пережитку считали ее корыстными союзниками, крестьяне не могли не приходить к новым мыслям — тем самым, которые пробуждала в них благотворительность монахов. Получалось, что Христос, о котором Церковь говорит в своих проповедях, любит крестьян, желает им добра и уж во всяком случае относится к ним с не меньшим вниманием, чем к сильным мира сего. Они наконец почувствовали себя христианами. Древнее сельское язычество, которое так окончательно и не умерло и, без сомнения, оставило свой след на понимании ими христианства, сохранялось теперь лишь в наиболее бессознательных сферах их психики.
Паломничество
Признаки этих изменений будут становиться все заметнее в XI веке. Они проявятся наиболее ярко в последние годы этого века, когда по призыву Петра Пустынника тысячи людей из простонародья поднимутся ради спасения земной родины Христа[119]. Однако уже в первые десятилетия века притяжение Святой Земли выразилось в популярности паломничества.
Вскоре после тысячелетия Страстей Христовых, то есть через 33 года после 1000-го, «бесчисленная толпа», как пишет Рауль Глабер, «отправилась через весь мир к гробнице Спасителя в Иерусалим; никто не мог заранее предвидеть такого стечения людей. В первую очередь это были люди из простонародья, затем — принадлежащие к средним классам, затем — великие короли, графы, маркизы, прелаты; наконец — то, чего никогда еще не случалось, — можно было видеть высокородных дам, которые направлялись туда наряду с самыми отверженными».
Рауль в данном случае пишет не по слухам. Он сам видел этих паломников, которые по пути на Восток пользовались гостеприимством бургундского монастыря Безе, где он в это время находился. Он встретил их и когда они уже возвращались; именно тогда сотоварищи паломника Лиебо рассказали ему, как тот умер по собственному желанию, «глядя на место Вознесения Спасителя». Рауль был поражен количеством «людей из простонародья», которые шли в Иерусалим. И его свидетельство не единственное: Адемар из Шабанна, рассказав о паломничестве Гильома Тайлефера II, графа Ангулемского, совершенном в 1026-1027 годах, писал, что его примеру последовали «многие сеньоры, люди среднего класса и бедняки». Есть, правда, одно отличие от того, что пишет Рауль: Адемар не имеет в виду, что «люди из простонародья» подали сигнал к этому движению, а по словам Рауля получается именно так.
Даже для тех, кто не покидал страну, поездки в Святую Землю были большими событиями: когда в Ангулеме было объявлено о возвращении Гильома Тайлефера, «все сеньоры, причем не только ангулемские, но также из Пуату и Сентонка, и другие люди всех возрастов и обоих полов сбежались ему навстречу и были переполнены радостью оттого, что могут его видеть. Регулярное духовенство Сен-Сибарда в белых одеждах, неся различные атрибуты, в сопровождении великой толпы простолюдинов, священников, каноников, радостно двигалось ему навстречу и прошло расстояние в милю от города под звуки хвалебных песен и гимнов».
Не удержимся от замечания: здесь речь идет о горожанах. Челядь графа, светские слуги «регулярного духовенства» Сен-Сибарда, ремесленники и торговцы, необходимые участники городской жизни, — все они, как бы мало их ни было, вместе со своими семьями вполне могли произвести впечатление «огромной толпы людей»; ведь эти слова могут одинаково означать и сотню, и тысячу. В любом случае, встреча, оказанная Гильому, ничего не говорит нам о вере крестьянства. Есть ли информация о ней в других цитируемых здесь источниках?
Давайте вспомним две детали: «самые отверженные», которых Рауль видел рядом с «высокородными дамами»; и «бедняки», которые, согласно Адемару, сопровождали сеньоров и людей среднего класса. В те времена нужда в большей степени поражала сельскую местность и деревни, нежели города, население которых, упомянутое здесь в нескольких строчках, обычно не было лишено самого необходимого.
Разумеется, правда и то, что крестьяне в целом не могли стать активными участниками этих паломничеств, пеших путешествий, которые должны были оторвать их от их полей и скота на многие месяцы. Тем не менее в семье, которая часто была многочисленна, всегда мог найтись кто-нибудь, чья помощь не была постоянно необходима. Кроме того, не говоря о «самых отверженных», следует вспомнить, что были и такие, кого скука повседневной жизни, стремление к приключениям, мистическое притяжение Иерусалима, необходимость и надежда изменить свое серое существование при соприкосновении с тем, что считалось самым священным, необходимость получить прощение за грехи и заслужить место в раю заставляли забыть об обыденном благоразумии и печальном долге своего сословия. Действительно, вряд ли стоит сомневаться в том, что в этих толпах «людей из простонародья» было немало беднейших и не совсем бедных крестьян, и в том, что их вера свидетельствовала также в пользу веры тех, кто оставался прикован к своей земле.
Глава XII МОРАЛЬ И НРАВЫ
Одной из основных миссий Церкви, влияние которой на людей все более и более крепло, был контроль за их поведением. В отличие от религий древности и в отличие практически от всех других религий, за исключением иудаизма (от которого оно и происходит) и ислама (который претендует на то же наследство), христианство наделило своих священников функцией цензоров повседневной жизни верующих. Священники должны были давать советы, руководить, запрещать, судить, наказывать, прощать.
В конкретном виде это проявлялось в организации покаяния. Именно с этой стороны мы наиболее ясно можем представить себе христианскую мораль того времени и одновременно нравы, которые тогда царили в обществе.
Покаяние по тарифу
Понимание сути прощения и способ отпущения грехов сильно изменились со времени возникновения христианской веры. К 1000 году в течение уже около двух веков существовал режим «покаяния по тарифу». Иначе говоря, каждому греху соответствовало определенное наказание, соразмерное с тяжестью греха. Следовательно, существовали тарифы, изложенные в письменном виде. Их называли уложениями о покаянии. Что бы ни думали об этой поддающейся подсчету морали, документальная ценность таких каталогов грехов очевидна.
Наиболее поздний из них относится ко времени после 1000 года, поскольку он был составлен в 1008-1012 годах Бурхардом, епископом Вормским. Этот известный юрист был автором полного изложения канонического права, которое он назвал «Декретом». Уложение о покаянии Бурхарда — не что иное, как XIX книга его огромного «Декрета». У этой книги особое название: «Целитель», или «Врачеватель». Она была очень широко известна, особенно в церквах Германии в течение всего XI века и позже. Однако если после Бурхарда никто не составлял таких уложений, то это объясняется все-таки не столько неизменным успехом этой книги, сколько изменением самих представлений о покаянии, подробно описанным 10 лет назад аббатом Сирилом Фогелем[120].
То, что система исповеди уступила место тарифам наказаний, означает некоторое смягчение отношения к грешнику по сравнению с тем, что было принято в ранней Церкви, которая считала, что христианин, принявший крещение и таким образом смывший с себя все предыдущие грехи, должен всю свою жизнь сохранять обретенную при этом чистоту. При таком подходе само собой разумеется, что мелкие грешки и обыденные несовершенства можно было не принимать во внимание. Однако христианин, совершивший тяжкий проступок, мог получить прощение, лишь проходя различные ступени покаяния всю оставшуюся жизнь: он должен был отныне жить жизнью нищего, не имея ни общественного положения, ни семьи. Молодые люди не могли смириться с этой системой. Церковь и сама не настаивала на выполнении этих правил; иначе, в результате их неумолимого соблюдения, общество могло бы совсем обезлюдеть. Поэтому грешнику позволялось грешить всю жизнь, имея в виду, что покаяние будет ему определено в глубокой старости или на пороге смерти. Из этого легко понять, каким проклятием казалась людям внезапная смерть. Именно поэтому, как хорошо показал Филипп Арьес, она часто воспринималась как результат гнева Божьего. С другой стороны, поскольку нераскаявшийся грешник не имел права на причастие, такой порядок был чреват тем, что большая часть христианского общества не имела возможности жить в полной мере по христианским правилам.
Введение покаяния по системе тарифов было следствием глубокого изменения в отношении к искуплению грехов: оно давало грешнику возможность исповедаться в любой момент жизни, по своему усмотрению. Это преимущество не умаляет того факта, что применение тарифа очень часто влекло за собой чересчур тяжелые и, главное, даже согласно простым арифметическим подсчетам, абсурдно длительные наказания. В течение XI века был сделан еще один шаг к реалистическому подходу и облегчению положения грешника, что позволило отказаться от практики приплюсовывания наказаний друг к другу: признание ошибок и неизбежные при этом смирение и раскаяние постепенно стали сами по себе давать право на Божеское прощение. Покаяние сузилось до того, что стало ограничиваться лишь чтением нескольких символических молитв, которые и сейчас известны католикам, во всяком случае тем из них, кто еще считает нужным исповедоваться.
Суровый юрист Бурхард был далек от того, чтобы допускать такие послабления. Судите сами.
Убийство
Начнем с того, что существует грех, который влечет за собой наказание в стиле древних времен: убийство хозяина или супруга. Бурхард предлагает виновному в столь тяжком преступлении выбор между двумя возможностями искупления. «Покинь этот ничтожный мир и уйди в монастырь; покорись власти аббата и униженно делай все, что он тебе прикажет». Либо — и стоит спросить, не является ли это еще более суровым наказанием, — грешник должен был отказаться от любой деятельности, позволявшей ему занимать определенное место в обществе: от военной службы, от управления своим имуществом… Он не должен был есть мясо и сало, за исключением дней трех великих праздников: Пасхи, Троицына дня и Рождества, его пища должна была состоять из хлеба и воды, и лишь изредка разрешалось добавлять овощи или фрукты. Он не имел права жениться, должен был забыть о купании и верховой езде, не имел права стоять в церкви среди правоверных христиан, а должен был находиться за порогом… Он не имел больше права причастия и мог причаститься только перед смертью.
Следующим по строгости после наказания за убийство хозяина или супруга было наказание за «отцеубийство». Это слово относилось не только к случаям, когда жертвой преступления были отец и мать, но и к случаям убийства брата, сестры, дяди, тетки «или другого родственника». В течение года виновный должен был приходить к порогу церкви, моля о милосердии Божьем. После этого ему разрешалось входить в церковь, но в течение еще одного года он должен был молиться в углу. Затем, «если станут видны плоды его покаяния», он мог получить причастие, «дабы он не погряз в отчаянии». Кроме того, отказ от мяса. Ежедневный пост до часа девятого (15 часов) за исключением праздничных дней и воскресений. Отказ от вина, медовых напитков и пива три раза в неделю. Потеря права участвовать в военных действиях, за исключением войны против язычников. Передвижение только пешком. Однако грешник имел право сохранить семью, если был уже женат. Если он еще не был женат, то должен был соблюдать безбрачие. Епископ мог положить конец его покаянию тогда, когда считал нужным. Как бы сурово ни было это наказание отцеубийц, оно, однако, было явно меньшим, нежели наказание за убийство хозяина или супруга. Этому факту можно дать скорее социальное, чем теологическое объяснение: ради сохранения прочности общества, было важнее защищать власть и брак, нежели любовь к родственникам. Тому, кто с удивлением спросит, почему эти убийства не наказывались смертью, как это принято даже сейчас (пусть теоретически, согласно французскому уголовному кодексу), напомним в первую очередь, что Церковь, проявляя большую заботу о стабильности общества, не имеет права наказывать так, как это делает современная ей светская власть. Ее задача — примирить виновного с Богом, и уложение о покаянии не является уголовным кодексом. Однако следует добавить, что общество того времени относилось к убийству менее сурово, нежели в более поздние времена. Известно, что законы, принесенные различными германскими народами, которые вторгались в Римскую империю начиная с V века, вообще не наказывали убийство смертью, а допускали только денежное возмещение — вергельд, сумма которого зависела от общественного положения жертвы. Убийство человека в 1000 году было куда менее исключительным и менее предосудительным событием, нежели сегодня. Объяснить это грубостью нравов значит ничего не объяснить… Дело в том, что ни в одном государстве (и этому были причины) не осуждалось право самолично добиваться справедливости. Иными словами, месть (вендетта) была допустима, в особенности же личная месть. Тот, кто убил первым и чьи мотивы не всегда были при этом злонамеренны, оказывался с этого момента под угрозой мести со стороны родственников жертвы, и для восстановления справедливости никому не нужны были ни жандармы, ни судьи.
Но какова была справедливость! Недалеко от Жуаньи проживал некий дворянин по имени Арлебо. И он, и его жена происходили из весьма благородных и богатых семей. Рауль, который поведал нам эту историю, сообщает, что «между его детьми и внуками и детьми его ближайших соседей существовало серьезное соперничество в отношении наследственных владений». Они уже в течение многих лет пытались вернуть себе землю под названием Айан, расположенную в области Сане, некогда дарованную им приорами монастыря святого Коломба, а впоследствии захваченную и разоренную вооруженными людьми из Осера. И вот в день мщения две враждующие стороны с оружием в руках сошлись на территории этого самого Айана. И с той и с другой стороны было множество убитых, среди них — одиннадцать сыновей и внуков Арлебо. «И впоследствии распря их продолжалась, разногласия ожесточались, и бесчисленные несчастья продолжали обрушиваться на головы членов этой семьи, многие из которых были убиты за последующие 30 с лишним лет». Понятно, что вендетта, приводившая к новым смертям и мщению за них, продолжалась, и Рауль не считает это чем-то необычным.
Одна только Церковь не считала безгрешными такого рода смертоубийственные столкновения. Об этом свидетельствует Бурхард: «Не свершил ли ты убийства ради отмщения за своего родича? Если да, ты должен поститься 40 дней в году на протяжении 7 лет, ибо Господь сказал: «Мне отмщение, и Аз воздам». Таким образом, не наказуемое обществом того времени убийство из мести не прощалось небесами. И плата была немалой. В этом вопросе, как и во многих других, Церковь по-своему восполняла упущения земных властей. Тем более тяжко наказывала она за убийства, совершенные «ради стяжания, для того, чтобы завладеть собственностью другого»: сорокадневный пост на хлебе и воде, после чего отказ от вина, пива и медовых напитков, от сала, мяса, сыра и жирной рыбы в течение трех лет. После этого следовали еще 4 года, в течение которых согрешивший соблюдал эти строгие правила во время трех литургических постов: перед Пасхой, перед днем святого Иоанна Крестителя, то есть с 13 мая по 23 июня, и, наконец, в течение 40 дней перед Рождеством. По окончании первого года кающийся допускался в церковь и получал поцелуй мира[121]. Причастия он удостаивался только по истечении 7 лет. Отметим, что в течение всего срока покаяния, в случае путешествия, участия в военных действиях или болезни, кающийся мог откупиться от поста во вторник, четверг и субботу ценой одного денье или раздачей пищи троим беднякам, из чего можно заключить, что самый простой обед стоил треть денье.
Плотские грехи
Плата за оскорбление целомудрия, несомненно, была наиболее высокой после платы за убийство, а наказание за плотские грехи относились исключительно к компетенции Церкви, поскольку именно она требует от людей добродетели в этой области, что мало соответствует природе и вряд ли вообще возможно.
Наиболее наказуемыми из плотских грехов были случаи кровосмесительной связи, виды которой были очень подробно определены. Любопытно, что первый случай, приводимый Бурхардом, рассматривает не кровное родство, а родство по браку: речь идет о человеке, который согрешил с сестрой жены. Бурхард явно считает его очень большим грешником: ему запрещается отныне приближаться к собственной жене, которая, «если она не желает жить в уединении», может заключить законный брак «с кем захочет». Что до него и до соучастницы его греха, то они оба приговариваются к безбрачию и должны в течение всей своей жизни подвергать себя умерщвлению плоти, степень которой определит кюре. Тому, кто виновен в кровосмесительной связи со своей матерью или сестрой, также предписывалось пожизненное безбрачие; он должен был умерщвлять плоть вплоть до самой смерти, но особо оговаривается, что первые 15 лет (в случае совокупления с сестрой срок уменьшался до 10 лет) он должен время от времени соблюдать посты, в один из которых ему разрешалось есть только хлеб и пить только воду. «Любодеяние» с женой отца, с женой брата, с невесткой также влекло за собой запрет на вступление в брак и некоторые не описанные подробно лишения, которым, однако, следовало подвергать себя до самой смерти. Значительно менее суровым было наказание для того, кто «любодействовал» с женщиной, на которой впоследствии женился его сын: 7 лет покаяния «с постом в установленные сроки», после чего согрешивший мог вступить в брак «перед Богом». Однако соучастница должна быть разлучена с мужем и обязывалась нести покаяние до самой смерти: здесь можно увидеть некоторое сходство со случаем, когда мужчина становится любовником сестры своей жены. Сходное наказание предписывалось тому, кто «любодействовал» с кумой или крестной дочерью: 7 лет покаяния, включающего пост на хлебе и воде.
Другим покушением на целомудрие была супружеская измена, и самым тяжелым проступком считалась связь между женатым мужчиной и замужней женщиной; это была как бы двойная измена. В течение 15 лет согрешивший должен был дважды в год соблюдать пост и всю оставшуюся жизнь был обязан тем или иным способом приносить покаяние. Наказание уменьшалось вполовину (и это не лишено логического смысла) для неженатого мужчины, которого соблазнила замужняя женщина: пост один раз в год в течение 7 лет.
Супруг, который выгнал свою жену и взял вместо нее другую, должен был вернуть первую жену и в течение 7 лет ежегодно один раз поститься на хлебе и воде. Ибо никому не позволялось выгонять жену, за исключением случаев «любодеяния», то есть измены. Более того: тот, кто расходился с женой, виновной в измене, не должен был брать другую жену, покуда первая была жива. Если он и его жена, не желая терпеть такие «лишения», хотели отказаться от развода, по прошествии 7 лет епископ мог их «примирить». Аналогично происходило в случае измены мужа: жена могла расстаться с ним, но не должна была вторично выходить замуж. Однако же, как мы видели, женщина, мужа которой увела сестра, могла выйти замуж за другого мужчину: это объяснялось тем, что ее муж был вдвойне виновен — помимо измены, он вступил в кровосмесительную связь. Его грех был столь велик, что должен был повлечь за собой расторжение брака.
Итак, супруги должны быть верны друг другу, брак расторгался только в случае измены, отягощенной кровосмесительством, причем родственными связями с случаях кровосмешения считалось не только кровные, но и те, что возникают в результате вступления в брак, и даже чисто духовные, как между кумом и кумой, крестным отцом и крестницей. Как всегда случается, если законодательство сложно и излишне детализованно, люди активные и обладающие воображением, искали и находили способы извлечь из него выгоду для себя. Например, некий муж, которому наскучила его супруга, узнал, что запрещен брак с женщиной, сыну которой ты приходишься крестным отцом. Он устроил дело так, что держал своего собственного ребенка над купелью, когда священник крестил его. Это простое действие, более чем необычное, поскольку, по определению, отец не может быть крестным отцом, создало линию родства, делавшую его брак основанным на кровосмешении. Он надеялся таким образом добиться расторжения брака и затем снова жениться. Однако Бурхард не дремал: действительно, брак был расторжен, и его жена, «если она не захочет уединяться», могла вновь выйти замуж. Сам же он был приговорен к безбрачию и в течение 7 лет должен был совершать ежегодный пост на хлебе и воде. Он был обязан заниматься умерщвлением плоти всю оставшуюся жизнь…
Однако человек, женившийся по закону и хранящий верность жене, еще не был в расчете с Церковью. Наиболее интимные радости семейной жизни также регламентировались. Бурхард, в отличие от других авторов уложений о покаянии, не перечисляет всего того, что физически возможно, но запрещено. И наказания, по сравнению с тем, что мы до сих пор видели, относительно мягкие: например, 5 дней на хлебе и воде за совокупление с женой «по-собачьи». Бурхард добавляет кроме того: «либо с какой-нибудь другой женщиной», а это означает, что за грех «любодеяния» назначается свое наказание, а к нему добавляется вышеуказанное. Три дня на хлебе и воде назначались мужу, который приблизился к жене, когда она была «в слабости». 40 дней — если он сделал это в первые дни после родов; в течение этих 40 дней ей было запрещено приходить в церковь. Пять дней — если жена была беременна; 10 дней — если это произошло после того, как плод начал шевелиться; 4 дня за невоздержание в воскресенье; 40 дней за невоздержание во время поста, однако в этом случае можно было откупиться за 20 су. Только 5 дней на хлебе и воде назначалось тому, кто был при этом в состоянии опьянения. Аналогично 20 дней на хлебе и воде должен был просидеть муж, который не воздерживался в течение 20 дней, предшествующих Рождеству, во все воскресенья и еще в некоторые праздничные дни.
20 дней на хлебе и воде были также ценой, которую платил неженатый мужчина, согрешивший со свободной женщиной или со своей служанкой. Такое равенство наказаний может удивить. Вместе с тем неженатый человек, который не имел права соединяться с женщиной, поскольку плотские связи дозволялись только между супругами, заслуживает не меньшего извинения за периодические уступки своим желаниям, чем супруг, который не смог дождаться дней, не отмеченных воздержанием. В этом и в других случаях видно, что Бурхард правильно понимает этот аспект жизни. Например, женатый мужчина должен был поститься два дня, если прикоснулся к прелестям какой-нибудь женщины, а неженатый — всего один день.
Неудивительно, однако, что Бурхард, напротив, очень сурово относится к противоестественному содомскому греху. Женатый человек, замеченный в нем один или два раза, должен был совершать покаяние в течение 10 лет, причем первый год провести на хлебе и воде. Тот, у кого это вошло в обычай, присуждался к 12 годам покаяния; кто согрешил таким образом со своим братом — к 15 годам.
Можно спросить, почему параграфы, посвященные содомии, детально и в весьма реалистических терминах описывают этот грех, названия которого достаточно, чтобы понять, о чем идет речь; кроме того, при всех уточнениях получается, что наказания применимы только к одному из партнеров, а другой остается в неведении о наказании, которого заслуживает. То же можно сказать о следующем параграфе, содержание которого столь близко к предыдущему, что невозможно ощутить морального различия между ними: речь идет о человеке, виновном в содомии, но ограничившемся поверхностным контактом. Следует предположить, что для Бурхарда разница была огромной: 40 дней на хлебе и воде достаточны, чтобы искупить этот грех. Еще меньше стоит взаимная мастурбация, описанная во всех подробностях, — всего 20 дней. Онанизм, для описания которого потребовалось 37 уточняющих слов, влек за собой 10 дней покаяния, если только вместо руки не пользовались «просверленным деревом» — таковое обстоятельство удваивало наказание. Наибольшего снисхождения заслуживал мальчик, который достиг полного удовлетворения, обнимая женщину: один день на хлебе и воде был достаточным наказанием, чтобы смыть с него вину, если, конечно, это произошло не в церкви: в этом случае наказание было десятикратным.
Все эти уступки чувственности были в порядке вещей в описываемую эпоху. Судя по всему, реже встречались случаи, когда человек удовлетворял страсть с кобылой, коровой, ослицей «или каким-либо другим животным». Если виновный восполнял таким образом отсутствие жены, «дабы удовлетворить свое влечение», он должен был ежегодно один раз поститься на хлебе и воде в течение 7 лет и затем умерщвлять плоть в течение всей жизни. Если у него при этом была супруга, 7 лет заменялись десятью; если грех вошел в привычку — 15 лет. Если он сделал это будучи ребенком, грех прощался после 100 дней на хлебе и воде.
Контрацепция, аборты
От этих мужских грехов Бурхард отличает грехи, которые против целомудрия могут совершить женщины. Им он вменяет в вину различные противозачаточные и абортивные средства, причем мужчина-партнер в этом случае оказывается как бы ни при чем. Он не обвиняет того, кто оставил женщину, забеременевшую от соблазнителя, и это свидетельствует об определенном состоянии его души. Но раз он считает контрацепцию исключительно женским делом, мы можем предположить, что мужчины были абсолютно равнодушны к будущему физиологическому состоянию женщин, с которыми они предавались удовольствиям. Возможно, этим объясняется относительная терпимость Бурхарда: «Сделала ли ты так, как обычно (!) делают некоторые женщины, которые, предавшись блуду и желая умертвить плод, изгоняют его из своего чрева с помощью колдовства или трав, либо поступают так же, дабы не понести? Если ты это совершала или учила этому других, — три года покаяния. Но в случае повторения такая женщина должна быть отлучена от Церкви до конца жизни, потому что любое препятствие зачатию считается убийством. Вместе с тем существует огромная разница между бедной женщиной, которая не в силах прокормить ребенка, и той, которая хочет скрыть последствия своего греха».
Трудно понять, как этот параграф соотносится с двумя другими, которые проводят различие между абортом, совершенным до одухотворения плода (один год покаяния), и абортом, сделанным тогда, когда зародыш уже получил душу (три года). Интересно было бы также знать, по прошествии какого срока происходит это основополагающее изменение.
Затем Бурхард говорит о тех, кто при помощи снадобий помогает любовникам, изменившим своим супругам, избавиться от уже родившегося или только зачатого в грехе ребенка. Такие люди должны в течение 7 лет находиться вне общины истинно верующих и всю свою жизнь прожить в слезах унижения.
Кроме наказаний за покушение на деторождение, женщины несли наказания и за другие противоприродные грехи. Некоторые, если верить Бурхарду, использующему весьма прямолинейные выражения, «имеют обыкновение» обзаводиться орудием для того, чтобы вести себя как мужчины с другими женщинами, — 3 года покаяния. Для тех, кто только сами пользуются этим орудием, — 1 год. Для тех женщин, кто, не пользуясь подручными средствами, вступают друг с другом в интимные отношения, — 3 года. Похоже, были такие, которые использовали ради своего удовольствия собственных малых детей: за это 2 года. Не забудем также о тех, кто вместо мужчины сожительствовал с животным. Их наказание было наиболее суровым: один ежегодный пост на хлебе и воде в течение 7 лет и последующее пожизненное покаяние.
Сексуальная магия
Особенностью эпохи является применение сексуальной магии, которую Бурхард не обходит молчанием. Разумеется, во все времена встречаются женщины, одержимые страхом, что муж или возлюбленный бросит их. Однако способы борьбы с этой опасностью оказываются различными. Бурхард описывает не один такой способ. Он спрашивает кающуюся женщину: не глотала ли она сперму своего мужа? Не подавала ли она ему на стол рыбу, которую еще живой вводила в свои интимные органы и вынимала только после последних содроганий агонии? Не давала ли она ему есть хлеб, который месила на своем голом заду? Не примешивала ли она к его еде и питью свою менструальную кровь? За первый из перечисленных проступков, связанных с особым сладострастием, полагалось 7 лет покаяния, за два последующих всего по два года, за последний — пять лет. Особый случай: любовница женатого мужчины, видя, что он готов бросить ее и вернуться к жене, делает его импотентом с помощью средств, которые, к сожалению, не описаны. И что вы думаете? Получается, что эта женщина куда менее виновна, чем если бы она постаралась удержать его подле себя: она могла отделаться 40 днями на хлебе и воде. Дело в том, что для Бурхарда, как и для всех христианских моралистов любой эпохи, акт любви в любом случае недобродетелен. Чем меньше этим занимаются, тем лучше. Без сомнения, именно поэтому столь умеренное наказание постигало супругу, которая пыталась вызвать у мужа болезнь и сделать его импотентом следующим образом: раздевшись донага, она обмазывалась медом и каталась по ткани, усеянной хлебными зернами; затем она собирала все зерна, прилипшие к ее коже, молола их, вращая мельницу против солнца, и делала из полученной муки хлеб, который подавала своему бедному мужу.
Знаменательно, что Бурхард не принимает в расчет возможности аналогичных случаев применения сексуальной магии мужчинами. Очевидно, он считал, что такого не бывает, либо случается очень редко. Если так, то в известном ему мире женщины гораздо больше держались за своих мужчин, нежели мужчины за своих жен. Между тем, это неравенство, которое возмущает наших воительниц из MLF[122], неизбежно и естественно в любом слаборазвитом обществе: мужская сила, будучи основным источником энергии, занимает главное место. Вследствие этого общественная организация стремится благоприятствовать тому полу, от которого получает больше преимуществ. Более слабый пол поэтому нуждается в защите, в поддержке, в заботе более сильного. Потерять эту поддержку для женщины равносильно катастрофе. Обратное же не соответствует реальности. Только любовь способна установить некоторое равновесие, если, конечно, мужчина ее разделяет. Бывает, что такое случается. Однако нужно, чтобы любовь длилась долго. Магия способна создать иллюзию, что этого можно добиться. Или что можно отомстить.
В любом случае, любовь мужчины к женщине в 1000 году была еще далека от той куртуазной любви, которая позднее заставляла кавалера посвящать себя своей «даме». В литературе интересующего нас времени о любви нет ни слова, за одним парадоксальным исключением — мы имеем в виду драматические произведения некой молодой немецкой монахини, к которым вернемся в надлежащем месте. О любви не говорится даже в эпических песнях[123], расцвет которых, правда, происходит не менее чем через столетие, хотя они уже в зародыше существовали в начале XI века. Если не ошибаюсь, история оставила нам рассказ только об одном человеке того времени, любившем свою жену. Этим человеком был король Франции Роберт Благочестивый. Об этом мы также поговорим позже.
Языческие суеверия и различные виды магической практики
Из 180 параграфов, входящих в «Целитель» Бурхарда, 42 посвящены грехам, связанным с сексом. Категория проступков, следующая за этой по степени представленности, — это проступки, связанные с суевериями и различными видами магической практики, в большей или меньшей степени всегда являющиеся наследием язычества. Этому разделу, не считая уже рассмотренных случаев магии, связанной с сексом, посвящено 38 параграфов. Они исключительно подробны. Вначале Бурхард отмечает, что «традиции язычников» передавались от отца к сыну и дошли до его времени «как бы по праву наследования, блюстителем которого является дьявол». Люди поклонялись стихиям, или луне, или солнцу, или движению звезд. Люди верили, что можно завываниями вернуть блеск новой луне или луне, скрытой затмением, либо, наоборот, получить помощь луны при постройке дома или при вступлении в брак. Наказанием за такие действия был пост в течение двух лет.
Такое же наказание полагалось за празднование 1 января по языческому обычаю. Как уже было сказано, год начинался не с этой даты. Таким образом, можно понять, что речь идет о том, чтобы порвать с языческой календарной системой. Поэтому грехом являлось соблюдение этого дня и следование в этот день обычаям язычников: нельзя было отмечать его какими-либо исключительными действиями: например, класть на стол камни в определенном порядке, устраивать пиршества, гулять по улицам с песнями и плясками, наряжаться оленем или коровой, забираться с мечом на поясе на крышу своего дома, чтобы узнать судьбу на грядущий год, садиться на перекрестке на бычью шкуру, чтобы угадать будущее, печь хлеб в ночь на 1 января и следить за тем, как поднимается и густеет тесто, чтобы определить по этому, будет ли год изобильным. Тот, кто делает все это, оставляет Бога, своего Создателя, вновь обращается к идолам и становится вероотступником. К тому же, в ночь на первое января, которая считалась святой как восьмой день после Рождества, не разрешалось начинать какую бы то ни было работу. Но это последнее нарушение наказывалось намного мягче, чем остальные. Сорока дней на хлебе и воде было вполне достаточно, чтобы его искупить.
Напротив, тяжкое наказание в виде двух лет поста налагается на тех, кто завязывает узелки на нитке, продетой в иглу, наводит порчу или привораживает, как это делают неблагочестивые свинопасы, волопасы, а иногда охотники, когда они произносят дьявольские заклинания над хлебом, или над травой, или над завязываемыми шнурами, которые прячут на деревьях, или бросают под виселицы, или на перекрестках дорог, чтобы вылечить свой скот или собак от чумки и других болезней, либо для того, чтобы наслать болезни на скот соседа.
Еще более суровое наказание ожидало женщин, пользующихся колдовством и заклинаниями для того, чтобы перенести на свои стада и ульи изобилие, которое они видели у соседок: 3 года поста. И 5 лет для «женщин, обучавшихся дьявольской науке», которые «протыкают следы ног, оставленные христианами, собирают землю, по которой те прошли, рассматривают ее и надеются таким образом отнять жизнь или ослабить благочестие этих прохожих».
Однако Бурхард гораздо терпимее относится к глупостям женщин, которые ткут шерстяную ткань и воображают, будто порча и происки дьявола могут запутать нить основы или уток[124] и будто нельзя иначе спасти работу, как произнеся в ответ другие дьявольские заклинания: им, как и их соучастникам, это прощается после 20 дней поста.
При сборе лекарственных трав следовало читать «Верую» и «Отче наш», а не «нечестивые заклинания». В противном случае — 10 дней поста.
Было важно также, чтобы молитвы возносились в церкви или в месте, освященном епископом диоцеза или приходским кюре, а не возле источника, груды камней, дерева или на перекрестке дорог. Ни в коем случае нельзя было допускать почитания этих мест зажжением там факела или свечи; нельзя было оставлять там хлеб и другие приношения; нельзя было вкушать там пищу, моля о физическом или моральном благоденствии. Тот, кто позволял себе подобное, заслуживал поста в течение 3 лет. Эти действия по сути были явно языческим способом поведения и не прощались.
Некоторые верили, что можно вылечиться от коросты, съев отшелушившуюся кожу или проглотив питье, к которому примешаны вши, выпив мочу, проглотив экскременты. За это 20 дней на хлебе и воде. Однако только 10 дней назначались тому, кто пытался вернуть здоровье своему ребенку, помещая его на крышу или на печную трубу.
Бурхард упоминает некоторые способы поведения, связанные со смертью: например, обычай сжигать зерна на месте, где кто-то скончался, завязывать узлы на поясе покойника с намерением повредить чужакам, бросать на гроб гребни, которыми чешут шерсть… Десять дней на хлебе и воде. Двадцать дней — тем женщинам, которые надеются оживить убитого, натирая ему руки мазью. Десять дней за попытку получить исцеление, проливая воду из источника под носилками покойника в момент, когда их поднимают, и следя за тем, чтобы их поднимали не выше колен.
Но есть еще более серьезное нарушение. Некоторые женщины боятся, что ребенок, умерший до крещения, вернется на землю и станет наносить вред живым. Чтобы отвратить эту опасность, они протыкают трупик колом и прячут его. Женщин, умерших от родов, тоже иногда пронзали колом вместе с плодом и «старались пригвоздить к земле уже в могиле». Подобное святотатство стоило двух лет поста.
По сравнению с этим достаточно безболезненно сходили с рук бытовые суеверия, такие как, например, боязнь выходить из дома до крика петуха из страха перед нечистыми духами, которые особо опасны ночью; или уверенность в удачном путешествии, если ворона перелетела через дорогу слева направо, или то же самое, если это была птица, «называемая мышеловкой, потому что она ловит мышей и ест их». Тариф был соответственно 10 и 5 дней на хлебе и воде. Были также люди, которые, направляясь посетить больного, переворачивали камень на дороге и, если видели под ним живого червяка или какое-нибудь насекомое, объявляли, что больной выздоровеет, если же нет, то предвещали ему смерть. 20 дней на хлебе и воде. Другие занимались предсказаниями, пользуясь столь же дешевым способом: они бросали зерна на еще не остывшие камни очага. Если зерна подпрыгивали, это предвещало опасность. Десять дней на хлебе и воде.
В тех же пределах находилась плата за мелкие действия ради милости таинственных сил: например, слова или магические жесты, сказанные или сделанные, вместо молитвы, перед началом работы. Любопытно, что Бурхард не считает более виноватым того, кто «изготовил маленькие кисточки со значками, как это делают дети», и «разбросал их в своей кладовой или на гумне, чтобы фавны и волосатые гномы развлекались ими и принесли ему в награду добро, украденное у соседей».
А вот суеверие крестьянок, чей грех оказался достоин 20 дней на хлебе и воде, являет нам любопытную деревенскую сцену. «Во времена засухи они созвали много девушек и поставили во главе их одну, еще девственную. Они раздели ее донага и вывели прочь из деревни на луг, где росла белена. Они заставили нагую девицу вырвать эту траву вместе с корнем мизинцем правой руки и привязали белену к маленькому пальцу ее правой ноги. Девицы, держа в руках ветки, заставили нагую девушку войти в протекающую поблизости реку, таща за собой белену. Они окропляли ее водой с ветвей и надеялись этим колдовством вызвать дождь. Затем они вернулись от реки в деревню, держа за руку нагую девицу, которая шла, пятясь задом, как рак». Вполне возможно, что почти везде крестьяне пользовались подобной наивной имитационной магией для того, чтобы вызвать дождь; однако детали ритуала, должно быть, менялись в зависимости от местности. Бурхард, без сомнения, описывает обычай, которому следовали в его краю, в районе Вормса.
Вопрос о добродетели девиц
Интересно задать себе вопрос, что подразумевается под этим простым словосочетанием: «девица, еще девственная»? Значит ли это, что девушки, которые собрались вокруг нее, уже не были девственны или, по крайней мере, их девственность ставилась под сомнение? Являются ли эти три слова невольным свидетельством того, что воздержание среди девиц было редкостью? Бурхард составил обширный каталог плотских грехов. У него есть параграф о наказании — умеренном — неженатого мужчины, который сошелся со свободной женщиной. Однако он забыл указать, какое наказание следует этой женщине. Женщине запрещались все описанные нарушения: измена, кровосмешение, противозачаточные и абортивные действия, противоприродные поступки, сексуальная магия. Однако ни в одном месте своего труда Бурхард не говорит о том, что женщина должна совершать покаяние, если будучи сама незамужней по доброй воле переспала с неженатым юношей. То, что Бурхард, то ли по оплошности, то ли нарочно, умалчивает о подобных случаях, является показателем нравов того времени. В общем, судя по всему, существовало снисходительное или, может быть, даже терпимое отношение к любовникам, если оба они не состояли в браке и между ними не было родства ни по крови, ни по браку родственников, ни по духовной линии, и если, наконец, они ничего не делали для того, чтобы погубить естественное следствие своих забав. И если этот последний запрет воспринимался весьма серьезно, то, возможно, только потому, что «предосторожности» были не по вкусу мужчинам, а аборты казались женщинам опасными. В противном случае в Средние века было бы меньше незаконнорожденных детей. Недостаточное количество документов эпохи непосредственно около 1000 года не позволяет нам назвать многих из бастардов. Тем не менее тот же самый Рауль Глабер, не краснея, сообщает нам, что его родители «зачали его во грехе». Бастарда мы встречали также в лице Адемара из Шабанна, но это все незаконные дети сеньоров, рожденные почти наверняка в результате супружеской измены. Тем убедительнее их пример подтверждает наличие тенденции уступать требованиям природы.
Наказуемые верования. Шабаши
Бурхард осуждает не только магическую практику. Он объявляет также виновными, а следовательно, обязанными совершить покаяние тех, кто разделяет определенные верования относительно колдовства. Он назначает наказание в виде годичного поста для тех, кто считает, будто некоторые женщины обладают тем, что называется дурным глазом, то есть силой умерщвлять разную живность «и даже маленьких поросят и других животных», причем для этого им достаточно всего лишь войти в дом хозяина скотного двора. Другие верят в «парок»[125] и воображают, будто они «дают человеку в день его рождения силу превращаться в волка-оборотня». Эти люди могут получить прощение после 10 дней на хлебе и воде. Та же цена назначается для тех, кто, уступая своему слишком живому воображению, верит в «сильфов, живущих в лесах, которые при желании могут превращаться в людей». Однако те, кто в определенные дни года, согласно обычаю, кладут на стол три ножа для трех парок, должны в течении года соблюдать пост на хлебе и воде «в предписанные дни».
А вот дьявольские иллюзии, которых следует остерегаться под угрозой сурового наказания. Некоторые женщины верят, что «в тишине ночи, при закрытых дверях, в компании других учеников дьявола» они могут «подниматься в воздух до самых облаков» и там устраивать настоящие побоища с другими подобными воинствами. За такое колдовские мечты полагается 3 года поста. Очень сурового наказания заслуживает та женщина, которая считает, что способна ночью переноситься в пространстве вместе с другими женщинами «в то время, как ее муж спит в ее объятиях». Подобные фантазии Бурхард связывает с воображаемой способностью убивать христиан невидимым оружием, есть их плоть, предварительно сварив ее, замещать их сердце соломой, куском дерева или другим предметом, оживлять их. За весь этот набор верований, противоречащих христианской вере, — 40 дней поста и 7 лет покаяния, способ которого точно не описан.
Однако когда автор доходит до «скачек Дианы», создается впечатление, что, несмотря на свое здравомыслие, он верит в то, что это не просто иллюзия: «Ночью, вместе с языческой богиней Дианой, в сопровождении толпы других женщин, они скачут верхом на животных, переносятся на большое расстояние в тиши глубокой ночи, подчиняются приказаниям Дианы как своей хозяйки и исполняют свою службу ей в определенные ночи года <…> Многие люди верят, что эти скачки Дианы действительно происходят <…> допуская, что может существовать бог или богиня помимо единого Бога. Дьявол и вправду принимает различные облики и человеческие образы и, одурманивание мечтами душу, которую держит в плену, показывает ей то образы счастья, то образы несчастий, то образы неизвестных лиц. Именно так дьявол приводит душу на ложный путь. Идет только воздействие на душу, но ум человеческий верит, что эти призраки реальны…» Скачки Дианы сильно напоминают другую фантасмагорию: «некоторые одержимые дьяволом женщины считают себя принужденными и обязанными в компании демонов, принимающих облик женщин, как, например, та, которую наши местные жители по глупости называют колдуньей Хольдой, в определенные ночи ездить верхом на животных и таким образом присоединяться к воинству демонов». По сути это и есть шабаш. Однако интересно, что этим женщинам предстоит всего лишь пост в определенные дни в течение года, в отличие от двух лет за «скачки Дианы». Может быть, это из-за того, что Хольда, в отличие от Дианы, — местное явление и не принадлежит к числу языческих богов, почитание которых надо было вырвать с корнем?
Прегрешения против милосердия
По сравнению с 38 параграфами, посвященными действиям и верованиям, связанным с магией или заимствованным у язычества, прегрешения против братской любви, непосредственно предписываемой Евангелием, составляют незначительную часть свода: два параграфа. Тот, кто отказался посещать больных или заключенных, оставил без помощи убогих, должен был искупить вину сорокадневным постом. Другой параграф создает более точное представление о нравах нарождающегося класса феодалов: «Притеснял ли ты крестьян, являвшихся твоими соседями и не имевших возможности защищаться? Отнимал ли ты у них их добро?» Виновный должен был, в первую очередь, вернуть отнятое, а затем соблюсти тридцатидневный пост на хлебе и воде.
Достаточно типичными для феодалов кажутся и следующие прегрешения: «Защищал ли ты виновных из жалости либо по дружбе и оказался ли из-за этого безжалостен к невинным?» За этими словами угадывается кастовая солидарность угнетателей против беззащитных жертв. Расплатой за это должны были стать 30 дней на хлебе и воде.
В духе предыдущих установлений, но более мягко, наказывается грешник, оклеветавший или проклявший кого-то из зависти: 7 дней на хлебе или воде.
Кражи
Кража представляет собой объект рассмотрения четырех параграфов, и градация наказаний также весьма показательна. Торговец, пользующийся фальшивыми гирями или неточными мерами, приговаривается к 20 дням на хлебе и воде. Если кто-либо посредством взлома проник ночью в дом христианина и украл у него скот, лошадь, быка «или вещь, стоящую 40 су», то он не будет прощен, пока не возместит стоимость похищенного; после этого он должен в течение года поститься в предписанные дни. Если стоимость украденного была выше, то и покаяние должно быть более тяжелым. Наоборот, мелкая кража искупалась десятью днями на хлебе и воде, а если виновным был ребенок, то наказание смягчалось вдвое. К голодному, укравшему хлеб насущный, также относились снисходительно, хотя и не прощали: от него требовалось просидеть три пятницы на хлебе и воде, правда, если он вернет украденное или заплатит его стоимость. Если нет — 40 дней.
Однако Бурхард считает покаяние в течение одного года недостаточным в случае грабежа с применением силы, «ибо более серьезной виной отягощен ограбивший того, кто заметил это и кого пришлось принуждать, нежели ограбивший человека спящего или отсутствующего». Впрочем, тариф здесь точно не указывается, скорее всего, потому, что покаяние, как и в предыдущем случае, зависит от размера кражи.
И наконец есть вид кражи, несравнимо более сурово наказуемый: как легко догадаться, это покушение на имущество церкви. Тот, кто похитил из сокровищницы храма золото, серебро, драгоценные камни, книги, рясы, покрывала алтаря или одежды священнослужителей, должен, естественно, после возвращения всего похищенного, совершать три поста ежегодно в течение 7 лет. То же наказание назначалось за кражу реликвий.
Чревоугодие
Грех чревоугодия относится к наименее наказуемым. Тот, кто ел и пил свыше необходимого, получал прощение после 10 дней поста. Тот, кто напился вина, доведя себя до рвоты, — после 15 дней. Тот, кто таким образом превысил свою норму после причастия и, соответственно, вместе со рвотой отрыгнул просвиру, естественно, заслуживал большего наказания, но не такого уж строгого, если учесть совершенное им святотатство: 40 дней поста, то есть чуть дольше, чем обычный пьяница, который приговаривался к 30 дням. И наконец напоить кого-нибудь ради развлечения, если это было сделано по дружбе, означало 10 дней поста. Срок возрастал до 20 дней, если это было сделано по злоумышлению.
Недостаточная набожность
Напомним, что «Целитель» насчитывает около 180 параграфов. С удивлением приходится констатировать, что поступкам против набожности посвящено всего 4 параграфа. В одном из них говорится о женщинах, которые недостаточно сосредоточены на молитве: «Направляясь в церковь, они болтают между собой, трещат, как сороки, вовсе не думая всерьез о своей душе. Войдя в атриум, где похоронены тела правоверных христиан, они ступают прямо по их надгробиям, не думая о тех, кто лежит под ними, и не молясь за упокой их душ». Наказание таким женщинам составляет 10 дней на хлебе и воде. Несколько более виновными считаются христиане, которые позволяют себе не причаститься в Страстной Четверг, в Пасху, в Троицын день, в Рождество: 20 дней поста. Вспомним, что по установлению Тридентского собора[126] считалось обязательным только ежегодное пасхальное причастие.
А вот более тяжкий проступок: «Отказывался ли ты присутствовать на мессе, которую служит женатый священник, пренебрегал ли его молитвами и святыми тайнами? Отказывался ли ты исповедоваться женатому священнику и получать причастие из его рук под предлогом того, что считаешь его греховным?» Разумеется, многие уже давно выступали за безбрачие служителей церкви и считали его обязательным. Однако окончательно оно было утверждено как закон только в 1074 году папой Григорием VII[127], а в интересующее нас время было еще немало женатых приходских священников. Позволить кому бы то ни было отвергать таких священников означало то же, что отрицать священный характер их сана, и к тому же резко уменьшило бы число надежных людей, занятых удовлетворением религиозных потребностей верующих.
Вне всякого сомнения, именно поэтому Бурхард приговаривает виновного в этом к посту в течение года, в то время как он назначает всего 40 дней поста верующему, который выступил против своего епископа или кюре, высмеивая «его манеру учить и его постановления». В последнем случае, в конце концов, речь шла о порицании конкретного человека, а не лица, облаченного божественной властью.
«Целитель» и жизнь
Читая «Целитель» Бурхарда, можно составить себе определенное представление о поведении христиан начала XI века и о том, чего от них требовала Церковь. Однако приведенные в нем тарифы заставляют задуматься. Многодневный пост на хлебе и воде за малейшие прегрешения, воздержание в течение многих лет за серьезные, но не исключительно серьезные проступки, — это слишком суровая плата. Впрочем, платили ли ее на самом деле?
Действительно, эта система была настолько мало применима, что допускались разнообразные послабления. Согрешившие могли заменить пост молитвой. А то еще лучше: эти молитвы, занимавшие достаточно много времени, могли быть произнесены, если позволительно будет так выразиться, купленными устами. Аналогично, особо тяжелые наказания заменялись паломничеством, а в паломничество можно было за плату отправить кого-нибудь другого…
Таким образом, уложение о покаянии, правдивый свидетель о нравах своего времени, становится лжесвидетелем как раз в том, ради чего оно создавалось: то, что оно предписывало, на практике не выполнялось. Мы можем предположить, что вместо этого богатые откупались, чтобы жить как им заблагорассудится, а бедные пытались повернуть ситуацию к своей выгоде. Естественно, что отказ от такой системы покаяния, основанной на чрезмерных и неприменимых способах искупления, должен был стать прогрессивным шагом в развитии духовной жизни христиан, отказом от формализма и лицемерия.
К тому же люди того времени, от которого до нас дошли эти тексты, вряд ли были слишком заняты искуплением своих грехов посредством постов или чересчур стремились сохранить невинность…
Рауль считал себя вправе заявить, что период процветания, который должен был начаться после 1000-летия Страстей Христовых, то есть после 1033 года, будет отмечен умножением всех пороков. «Знатные люди из числа дворян и из числа лиц духовного звания, вновь обретя свойственное им корыстолюбие, так же, как прежде, и даже в большей степени стремятся удовлетворить грабительскими средствами свои хищные инстинкты. Люди среднего класса и малые мира сего, по их примеру, также погрязли в гнусных пороках. Ибо до сего дня кто слышал, чтобы говорили о таком количестве случаев кровосмешения, о таком числе измен, о стольких незаконных союзах между кровными родственниками, о стольких постыдных сожительствах, о таком состязании в злых делах?» Несколькими страницами ниже тот же Рауль уверяет, что «можно видеть повсюду в мире, как в церковных, так и в мирских делах, действие преступных сил против права и справедливости». «Необузданное корыстолюбие» заставляет почти всех забывать о «той лояльности в отношении других, которая есть основа и поддержка всякого доброго образа жизни». «Грабежи, кровосмешение, столкновения, вызванные слепой алчностью, кражи, измены супругам…»
Скорее всего, следует в первую очередь рассматривать эти заявления как упражнения в красноречии, однако при этом надо отметить, что второй отрывок непосредственно связан с рассказом о солнечном затмении в пятницу 29 июня 1033 года, явлении, которое не могло предвещать ничего хорошего. Можно такое сказать, что ни в одну эпоху нравы не были добрыми. Однако в любом случае в данном свидетельстве показательно отсутствие ссылок на какое бы то ни было уложение о покаянии.
Если бы потребовалось привести конкретные факты, подтверждающие эти общие заявления, то сложность заключалась бы только в том, чтобы выбрать отдельные примеры из огромного числа описанных. Такие хроники, как «Чудеса святого Бенедикта», полны рассказов о грубости, жестокости, нарушении прав слабого, презрении к святыням, разврате. Читая эти монотонные повествования, быстро устаешь. Тем не менее упомянем здесь о казни жены начальника гарнизона замка Мелен, сдавшего замок одному из врагов короля Роберта. Ришер пишет: «Она была подвергнута новому виду казни: ее повесили за ноги, так, что ее одежды, свесившись вниз, обнажили ее тело, и она умерла ужасной смертью подле своего мужа». В противовес этому мстительному варварству мы можем вспомнить о том, как Гуго Капет пощадил грешников, оказавшись свидетелем их срамного поведения. Король, проводивший пасхальную неделю в своем дворце в Сен-Дени, однажды утром по обыкновению отправился в церковь послушать мессу. По дороге «он увидел перед собой двоих несчастных, которые, лежа на углу, предавались постыдному занятию». Вместо того чтобы наказать их, он накрыл их своим дорогим меховым плащом. Итак, вот пример двух людей, предававшихся содомскому греху и избежавших наказания, предписываемого уложением. Эльго, который рассказал об этом случае в «Жизнеописании короля Роберта», воздает многословную хвалу отцу своего героя: «О! Как совершенен тот, кто таким образом прикрыл грешников своей собственной одеждой!.. Какой истинный пример добродетели и совершенства, на коем может укрепить себя тот, кто желает следовать стезей справедливости! Отец и покровитель монахов (святой Бенедикт) советует нам избирать себе в исповедники грехов наших именно таких людей, которые могут врачевать свои и чужие раны, а не обнажать их перед глазами других…»
«Жизнеописание короля Роберта» было написано после «Целителя» Бурхарда. Решительно, закон вормского епископа действовал не везде. В последних приведенных словах Эльго можно угадать то отношение к грешнику, которое вскоре должно было возобладать в христианстве и сохраниться таким на несколько веков.
Тем не менее для нас имело смысл столь долго цитировать Бурхарда. Он — единственный, кто мог детально поведать нам о нравственной стороне поведения людей 1000 года, которых он знал и исповедовал: этих носителей убийственных мечей, которых он приговаривал к пожизненному отказу от участия в военных столкновениях и оставлял за ними право с этих пор ходить только пешком; этих крестьян, которых он уличал в применении магии; этих торговцев, которые подделывали гири и меры; этих воров, пользовавшихся насилием или обманом; этих женщин, мечтавших о колдовстве и различных дьявольских средствах, помогающих оставить при себе мужа, и пользовавшихся весьма естественными средствами для того, чтобы предотвратить или прервать беременность; этих извращенцев и извращенок, которые вступали в сексуальную связь даже с животными.
Да, знакомясь с уложением о покаянии Бурхарда, мы можем познакомиться со всем обществом того времени. Но этот ретроспективный взгляд показывает нам в основном мирян. Многие из этих прегрешений могли, разумеется, быть совершаемы и духовными лицами, но по контексту можно судить, что автор имел в виду не духовенство. Что же касается грехов монахов, проповедников, епископов, то о них не сказано ни слова. Никаких упоминаний о наказании за симонию, то есть за покупку места епископа, и это во времена, о которых Рауль писал, что «все церковные должности продаются, как товар на ярмарке». Нет упоминаний и о наказании для николаитов, священников, сожительствующих с женщинами; против них не только не было предусмотрено никаких санкций, но даже запрещалось верующим относиться к ним с недостаточным уважением. Ничего не говорится и о наказании для епископа, который ездит на охоту или развлекается с куртизанками, или для монаха, который покидает обитель и скачет верхом по дорогам в сапогах и с мечом на поясе.
Для Бурхарда было важно установление рамок поведения для верующих. То есть, лучше сказать, поддержание в них веры: в первую очередь следовало отвратить их от нехристианских верований и обычаев, заимствованных из язычества, а затем отвратить их от всех плотских удовольствий, которые не запрещались древними религиями. Вот почему именно этим двум видам греха посвящена почти половина «Целителя». Вот почему речь идет только о мирянах: люди церкви, по определению, являются христианами, их прегрешения — это другая тема. И если мы хотим о них узнать, то искать информацию надо в других источниках.
Глава XIII НРАВЫ ДУХОВЕНСТВА
В течение всего Средневековья существовали плохие епископы, плохие священники и плохие монахи. Но иногда их бывало больше, а иногда меньше. Десятый век относится к временам, когда их было много, но все же к концу столетия наметилось значительное улучшение нравов. Кроме того, 1000 год вообще представляет собой поворотный пункт. Впрочем, это можно было уже почувствовать, когда речь шла о реформаторской деятельности аббатов и монахов ордена Клюни.
Епископы
Феодальная анархия, наступившая после распада империи Карла Великого, привела к глубокой деградации светских кадров Церкви. Даже само папство стало игрушкой местной аристократии. Престол святого Петра зачастую занимали отпрыски знатных родов, которые видели в нем лишь средство жить в роскоши и разврате: у Церкви больше не было главы. А поскольку у королевств также не было сильных руководителей, то почти везде местные сеньоры назначали епископов и аббатов, выбирая их зачастую из членов своей семьи, если только те не находили для себя чего-нибудь более выгодного. Епископский город становится сеньорией. Епископ больше не думает о духовном долге, а ведет себя так же, как его братья и кузены, оставшиеся в миру. Второй аббат Клюни Одилон говорил об этом без обиняков: «Руководители Церкви одержимы плотскими желаниями; их распирает гордыня, снедает жадность, расслабляет похоть, мучает злоба, обуревает гнев, раздирает несогласие, извращает зависть, убивает роскошь». Существовали епископы, имевшие жен («епископесс»), проживавших в отдельных комнатах епископского дворца: это известно, например, о Сифруа, епископе Манса. Другой епископ Манса, Авейол, явно предпочитал мессе охоту. Архиепископ Санса, примас Галлии Аршамбо, утвержденный в своей должности родственником, графом Рено, во всем походил на этого родственника: он заботился исключительно о собаках и охотничьих соколах и забывал о них только тогда, когда принимал участие в оргиях.
Можно не сомневаться, что нравы приходских священников, избиравшихся, как мы знаем, местными сеньорами из числа их крестьян, отличались не большей чистотой. Безбрачие не считалось нормальным. И изменений в этой области следовало ждать еще долго: «жена священника» стала привычным персонажем так называемого фаблио[128], популярного литературного жанра, расцвет которого приходится на XII век.
Тем не менее к концу X века, по крайней мере в королевстве Капетингов, не все епископы были недостойными людьми. Арнуль, епископ Орлеана, Сегин, архиепископ Санса, и другие, среди которых были и те, кто принял в 991 году участие в соборе, созванном в Сен-Вале близ Реймса для суда над архиепископом, предавшим Гуго Капета, — все это были весьма достойные люди. По поводу этого собора один историк даже писал: «Сомнительно, чтобы можно было в какой-либо другой стране христианского мира X века собрать собрание, более достойное уважения и власти». В том же году, в своей резиденции в Шалоне-на-Марне, умер мудрый старец Жебуан, который, как мы видели, умел справедливо исполнять свой долг и пресек выступления деревенского еретика, не прибегая ни к огласке, ни к насилию.
Монахи
Положение в среде черного духовенства, то есть монашества, было сложнее. Вспомним, что зародившееся в начале века в Клюни широкое и действенное движение за обновление постоянно распространялось, охватывая все большее количество монастырей, находившихся в жалком состоянии в результате той же феодальной анархии. Тем не менее к 1000 году исцеление было достигнуто далеко не везде. Из этого следует вывод, что нужно различать два вида монастырей: принявшие реформу — и все остальные.
Однако прежде следует задать один вопрос, который, должно быть, уже давно задают себе читатели этой книги: почему было так много монахов?
Стремление к затворничеству кажется нам сегодня уделом немногих исключительных личностей. Мы видим в нем лишь общий отказ от всего того, что делает жизнь интересной: от собственности, от свободы, от удовольствий, — причем взамен не предлагается ничего, кроме тесного общения с невидимым миром, к которому далеко не многие испытывают влечение.
Конечно, такие избранные существовали и в Средние века; возможно, их было даже больше, чем в наши дни. Но их наверняка было не столько, сколько было монахов, а намного меньше. Следует ли тогда считать причиной ухода в монастырь заботу о «последнем часе», стремление попасть в рай, страх перед адом, которые ощущались людьми той эпохи куда более конкретно, нежели нами? Все же, представляя себе, как они жили, склонные к насилию и кровопролитию, алчные, похотливые, возможно, отчаявшиеся в божественном милосердии или надеющиеся успеть в надлежащее время совершить публичное покаяние, — представляя все это, трудно поверить, чтобы вышеуказанные мотивы могли иметь такое уж большое значение. Должно быть, многие действительно отказывались от мирской жизни по этой причине, однако они делали это в основном уже на закате жизни, часто на пороге смерти. Здесь уже упоминалось о том, что такой уход был почти традиционным. Тех, кто предавался подобному запоздалому покаянию, называли «monachi ad succurendum» — «монахами ради получения помощи». Этим все сказано.
Однако следует отдавать себе отчет и в том, что монастыри были местом, жизнь в котором, суровая или нет, все же была легче, чем в других местах. Основанные в разное время крупными сеньорами, которые щедро даровали им земли, монастыри были богаты: там не приходилось опасаться голода, и если в каком-либо монастыре было принято жить в роскоши и удовольствиях, то средств для этого вполне хватало. Так, например, обстояло дело в середине X века в Лотарингии, в монастырях Сенона и Жамблу, где откровенно допускались самые непристойные вольности. В Италии, в Фарфе, аббатстве, которое в следующем веке стало образцовым, в X веке монахи развлекались с наложницами; те поначалу считали благоразумным прятаться, однако вскоре стали выставлять свои пороки на всеобщее обозрение. Понятно, что многие стремились стать монахами в подобных обителях своеволия, и, соответственно, в них было куда больше отпрысков аристократических семей, чем сыновей бедных крестьян.
Ришер еще докажет нам, что во Франции конца X века можно было встретить таких монахов.
Странные монахи
Адальберон, архиепископ Реймский, был крупным политиком, и его деятельность вряд ли можно было бы назвать полностью соответствующей евангельским заветом; тем не менее никто не критиковал его нравственных позиций, — он глубоко осознавал свою духовную миссию. Именно поэтому между 977 и 983 годами он счел необходимым и безотлагательным исправление нравов монахов своей церковной епархии. Он постановил в присутствии епископов, «чтобы аббаты различных монастырей собрались и решили, какими действенными способами можно добиться этого исправления». Эта ассамблея, место проведения которой Ришер не указывает, избрала своим председателем аббата монастыря святого Ремигия в Реймсе Рауля, который, возможно, был святым человеком, однако весьма слабым наставником для монахов.
Архиепископ открыл дискуссию выступлением, тему которого он определил очень точно: «Всем известно, что религия вашего ордена во многом утратила свою прежнюю чистоту. Вы даже неединодушны между собой в отношении устава ордена, и один замышляет и действует одним образом, а другой — совершенно другим. Поэтому ваша жизнь во многом к настоящему моменту утратила прежнюю святость…»
Ответ председателя, который будучи ответствен за своих монахов был не менее их задет этим обвинением, весьма любопытен. Для начала он ничего не отрицает, но старается осторожно смягчить обвинение: «Мы иногда действительно отклоняемся от того, чего должны были бы добиваться…»
Однако, сказав это, он переходит к фактам. И первое, о чем он упоминает, как бы предосудительно оно ни было, касается только одного человека — и может быть, единственного в монастыре: «Действительно, что за необходимость заставила монаха, облеченного задачей обеспечивать внутренние потребности монастыря, завести себе кума и самому называться кумом?» Известно, что в среде монахов запрещалось вступать с кем бы то ни было в особо дружеские отношения. Следует ли предположить, что эти «кумовья» вкладывали между собой в это слово тот же особый смысл, который придало ему название одного из романов нашего времени? Странный семантический комментарий, который дает аббат Рауль, оставляет нас в той же неопределенности: «Если, говорю я, он является кумом, то вернемся по сходству понятия к реальности: он есть отец при другом отце. Но если он есть отец, то нет сомнения, что у него есть сын либо дочь, и тогда он скорее заслуживает имени развратника, нежели монаха». Вы можете сказать, что это просто игра в слова. Однако само появление слова «развратник» настораживает. И дальнейшее развитие дискуссии, где заодно к делу будут притянуты и миряне, оставляет свободное поле для гипотез о том, как точнее понять смысл проблемы. «А что бы вы сказали о кумах? Что еще понимают миряне под этим словом, как не соучастниц в разврате? Как бы я ни оценивал реальные факты, я не собираюсь нападать на мирян, однако же предоставляю вашему вниманию нечто, что запрещено членам нашего ордена». На этот раз сомнений уже не остается: аббат дает понять, что в монастырях кумовья занимаются друг с другом тем, чем «в миру» священники занимаются с «кумами». Такой вот всеобщий и замалчиваемый скандал… Естественно, синод единогласно запретил кумовские отношения.
Причем это обсуждение, трудно сказать почему, как бы ограничивается грехопадением одного-единственного «должностного лица» монастыря. Более распространенным оказывается достойное осуждения поведение «некоторых монахов», у которых «вошло в привычку в одиночку покидать монастырь, в одиночку же находиться вне стен обители, не имея свидетелей своих действий…» Хуже того, они уходят и возвращаются, «не получив благословения братьев», что лишает их бесценной духовной поддержки. Отсюда «беспорядочная жизнь», «растление нравов», «стремление приобретать имущество».
А вот еще более удивительная вещь: «В нашем ордене есть некоторые монахи, которые любят при всех надевать на голову шляпы с широкими полями или украшать монашеские головные уборы заморскими мехами, а также носить, вместо скромной одежды, роскошные одеяния…»
Должно быть, эти роскошные одеяния напоминали одежду, которую носили богатые миряне. Мы понимаем это, потому что аббат, уже вошедший в раж, описывает их подробно: «Они выискивают прежде всего дорогостоящие хитоны, облегающие их фигуру со всех сторон, украшают их рукавами и каймою таким образом, что, глядя на стянутые талии и выступающие под одеждой ягодицы, сзади их можно принять скорее за потаскух, чем за монахов».
Эти странные монахи предпочитают также одежду различных цветов. Они не желают носить хитоны черного цвета, ни даже те, в которых «мастер смешал белую и черную шерсть». «Они отказываются также от бурого цвета». Им нужны ткани, окрашенные «в различные оттенки древесного цвета».
Ришер сохранил для нас эти образцы красноречия аббата Рауля, возможно, слегка подправив их на свой лад. Согласно его описанию, Рауль продолжает речь, не придерживаясь особого порядка в изложении: он переходит к обуви, затем к белью, перемежая эти описания высказываниями по поводу плащей и мехов, и, наконец, говорит о штанах. Такая беспорядочность изложения характерна для всех, кто писал в его время. Давайте восстановим в логической последовательности все, что он говорил, и перейдем от хитонов к тому, что прикрывало или должно было прикрывать ноги: «…штаны шириной в шесть футов (2 метра!), и ткань столь тонкая, что даже не прикрывает от чужого взгляда срамные места. Они заказывают их себе по такому фасону, что кажется, будто одному не хватает ткани там, где ее вполне хватило бы для двоих».
Поверх этого забавного одеяния монахи надевали плащ. «Наши предшественники по терпимости своей позволяли, чтобы монахи надевали одежду из шкур обычных животных, а не из шерстяной ткани. Это породило бедствие роскошества. Теперь они делают кайму шириной в две ладони (около 45 см) на плащах из заморских тканей и сверху покрывают их норикским сукном».
Белье Рауль просто называет «дорогим», что оставляет нам возможность гадать о том, каким оно было. Но в том, что касается обуви, описание становится более подробным: «Они предаются в ней таким излишествам, что даже сами испытывают от этого неудобства. Они носят столь тесную обувь, что ходят с трудом, заключенные в это узилище; кроме того, они приколачивают к ним каблуки». Это описание позволяет предположить, что обувь, предписанная уставом, представляла собой просто подошвы, прикреплявшиеся к ногам при помощи ремней, либо некий вид мягких туфель. «Они украшают их справа и слева ушками и изо всех сил стараются, чтобы они не образовывали «сладок. Они приказывают слугам начищать их до блеска». Стало быть, ботинки были кожаными.
Ясно, что монахи разодевались таким образом не для того, чтобы оставаться в монастыре. Куда же они ходили? В каких местах реймской митрополии или епископских городов соседних областей, где также были аббатства, они красовались в своих прекрасных одеждах? Какого рода мирское общество, наверняка достаточно высокое по положению, принимало их, давая возможность отвлечься от скуки монастырской жизни? Мы уже имели возможность заметить, что некоторые монахи «стремились приобретать имущество». Каким образом они это делали? Участвовали ли они в коммерческой деятельности, которая начала просыпаться в городах? Или, вместе с предшественниками богатых горожан, появившихся в период расцвета Средневековья, прокладывали эту дорогу в будущее и сами пользовались ею?
Как бы то ни было, аббат, отметив такое, что почти все монахи используют для своих постелей ткани сверх тех, что разрешены уставом в качестве покрывал, приходит к следующему заключению: «Я разоблачил перед вами то, что происходит. Скажите, хотите ли вы запретить это?» И добавляет: «Об остальных необходимых изменениях мы поговорим на наших специальных собраниях». Стало быть, существовали и другие нарушения монастырской морали, в подробности которых аббат не счел нужным вдаваться на соборе. И архиепископ Адальберон согласился с этим. Прежде чем закрыть собор, он сказал: «Нашей властью мы запрещаем вещи, которым вы, по своей мудрости, решили положить конец. А вопрос об изменении того, о чем вы умалчиваете, желая прежде во всем удостовериться, мы оставляем на ваше суждение».
Ришер рассказывает нам, что «с тех пор монахи стали отличаться большой приверженностью к порядку, потому что архиепископ, прекрасно знавший устав, увещевал их и побуждал его выполнять». Если Ришер говорит правду, то, должно быть, у Адальберона была хорошая хватка руководителя.
Монахи-вояки
Нарушения, о которых столь красноречиво рассуждал архиепископ, очевидно, совершались в среде монахов, весьма обеспокоенных клюнийской реформой. Были и другие, имевшие особые основания для того, чтобы проклинать этот набиравший силу орден. К этой категории недовольных относился епископ Лана Адальберон, по прозвищу Асцелин, тот «старый изменник», чье описание общества того времени мы уже читали в «Поэме для короля Роберта». Его можно считать глашатаем этой группы священнослужителей. Будучи таковым, он представляет нашему взору другой вид монастырских злоупотреблений, который можно было бы назвать клюнийским шовинизмом.
Роберт Благочестивый прекрасно сознавал, какую силу представляет собой в его королевстве сеть аббатств, управляемых Клюни. Он не удовлетворялся только поддержкой действий выдающихся аббатов, принятием их советов и щедростью в адрес их монастырей. Имея во Франции большое количество епископских мест и митрополий, он, по собственной воле, предпочитал назначать на эти должности монахов, в чьих добродетелях мог удостовериться, а не тех младших детей из знатных родов, которые раньше владели ими почти монопольно. Эта политика христианской доброй воли сыграла большую роль в возрождении (впрочем, относительном) высшего духовенства. С ней, однако, с трудом мирились духовные лица старой закалки, иные из которых были еще живы.
Одним из них и был Асцелин. Принадлежа к лотарингской аристократии, из числа которой Каролинги охотно выбирали людей на епископские должности и будучи образованным человеком и политиком в душе, он обладал при этом более чем сомнительной склонностью к чистоте нравов и, как и многие люди его крута, считал себя приверженцем старины. Из этого настроения и родилась его «Поэма для короля Роберта», где он весьма черными красками рисует картину того состояния, в котором находится королевство, возлагает ответственность за это на Клюни, едко-сатирически изображает это аббатство и излагает свою собственную доктрину политической и религиозной организации государства. Он предлагает королю программу немедленного исправления ошибок.
Нас здесь интересует именно его сатира на Клюни. Итак, с озабоченностью наблюдая, как все переворачивается вверх тормашками, как необразованные люди становятся епископами, как людей хорошего рождения и воспитания, естественным образом достойных митры епископа, отсылают в свои поместья или даже в монастыри, чтобы занять места простых монахов, которые, в свою очередь, оказываются вознесены новым временем и не знают, какого святого за это благодарить, Адальберон, по совету своих близких, наивно решил кое-что подсказать великому наставнику монахов Клюни и послал к нему одного монаха из своего диоцеза, человека набожного, мудрого, сдержанного и благочестивого. На следующее же утро этот человек вернулся назад — и в каком виде! «Покачиваясь, он выпустил из рук взмыленную шею своего коня. «Эй! Эгей! Где епископ? Наша нянька? Этот мальчишка? Эта баба?» Одежда монаха в беспорядке. Он уже сбросил с себя свое старое одеяние. На нем высокая шапка из шкуры ливийского медведя. Его длинная одежда подобрана до середины голени, вся разодрана спереди и также ничего не прикрывает сзади. Его талия туго перепоясана вышитой перевязью. На поясе у него висит множество разнообразных предметов: лук с колчаном, клещи, молот, меч, кремень, железное огниво, дубовая ветка для разжигания огня. Его ноги обтянуты длинными штанинами, доходящими до ступней. Он подпрыгивает, его шпоры колют и режут землю. Он поднимается на цыпочки, причем его ботинки имеют длинные закругленные носы.
Вот что сделало с примерным монахом однодневное пребывание в Клюни: это карикатура на воина, на которого Адальберон навесил массу аксессуаров, представляющих собой интерес для нас, поскольку они, несомненно, заимствованы из обычного обмундирования настоящих воинов того времени. Само собой разумеется, что его появление вызвало шок: «Братья, даже близко знавшие его, с трудом его узнавали. Горожане сбегались толпами и заполнили весь огромный епископский дворец». Заметим между прочим, что в этом вымышленном рассказе данное замечание весьма похоже на нечто реально увиденное. Оно помогает нам представить себе повседневную жизнь епископского города, с населяющими его горожанами, вечно полными любопытства в отношении всего происходящего в епархии и при первом же слухе о необычном происшествии являвшимися во дворец епископа как к себе домой. По крайней мере, на этот раз им было на что посмотреть.
«Ты ли это, мой монах?» — ошеломленно спрашивает епископ. В ответ тот «сжимает кулаки, поднимает руку, вскидывает брови и выгибает шею, закатывая глаза: «Я теперь солдат; возможно, я остался монахом, но вести себя буду по-другому. Или скорее — нет, я больше не монах. Я воюю по приказу короля, ибо мой хозяин — Одилон, король Клюни».
Епископ пытается заставить его замолчать, но монах не подчиняется. Он напыщенно повествует об экспедиции против сарацин, в которой он принял участие вместе с «солдатами Господними», — очевидно, с монахами Клюни. Сатира достигает кульминации. Достаточно представить себе это странное воинство! Адальберон находит для этого верный тон — тот самый, который спустя шесть веков использует автор «Менипповой сатиры»[129], высмеивавшей монахов-лигеров, их военное одеяние, их воинственные замашки. Конечно, в этой необузданной фантазии нет ничего от повседневной жизни. Как и в гротескном приказе о мобилизации, который наш монах объявляет епископу от имени своего «генерал-аншефа Одилона».
Это фарс. Однако фарс не имел бы смысла, его незачем было бы сочинять и он не был бы смешон современникам, если бы не преувеличивал знакомую им реальность.
Монахи Клюни, привыкшие к послушанию и дисциплине, строгость которой мы имели возможность оценить, на деле представляли собой огромную армию, обладавшую собственной иерархией и имевшую в лице аббата-руководителя ордена своеобразного и всемогущего властелина. Они побороли свою личную гордыню, но она уступила место бессознательной и весьма сильной кастовой гордыне. Сами по себе они ничто, но их орден — все, у него — все права и, что, возможно, еще хуже, все обязанности. Клюни — это новая сила, чистая и безжалостная, которая призвана уничтожить прогнившие старые кадры христианского общества и вместо продажных и развратных епископов везде поставить у власти добродетель и веру в Бога.
Внутри монастыря этот дух единства мог не иметь опасных последствий. Однако многие монахи покидали монастыри, и это случалось весьма часто. Мы видели, что аббаты много путешествовали либо для того, чтобы посетить бесчисленные подопечные монастыри, либо для того, чтобы навестить пригласившего их властителя, жаждавшего их советов. Дороги были небезопасны; аббат окружал себя многочисленным эскортом из монахов, ехавших верхом и, как правило, имевших оружие, годившееся как для защиты, так и для нападения. Можно ли в действительности заставить подобную личную охрану соблюдать обет молчания, посты, правила воздержания, короче говоря, монастырскую чистоту нравов? Представим себе, как это шумное воинство «солдат Господних» наводняет города и деревни. Им придает силу сознание своей миссии, их оправдывает снисходительность их «генерал-аншефа» (об этом свидетельствует биограф Одилона). Конечно, они не ведут, как это сказано в поэме Адальберона, войн с сарацинами. Но повсюду, где они проезжают, покуда их аббат делает выговор сильным мира сего или инспектирует деятельность светских прелатов, они дают урок каноникам, жителям епископских городов, всем вокруг. Они становятся невыносимы. Разражаются скандалы, которые иногда, как в случае Ла-Реоли, перерастают в кровавые стычки.
«Не просто выдумка все то, о чем пишу», — утверждает Адальберон в своей поэме. Можно поверить, что он был не совсем неправ.
Когда он писал? Он стал епископом Лана в 977 году и говорил, что «состарился, нося епископскую митру». Одилон стал аббатом Клюни в 994 году. Роберт взошел на престол в 996-м. Несомненно, прошло много лет, прежде чем аббат стал «королем», «генерал-аншефом», как его называет Адальберон, и прежде чем король начал вести политику безоговорочной поддержки Клюни, столь возмущавшую епископа. Признаем, что поэма никак не могла быть создана до 1000 года и, возможно, появилась около 1000 года. В любом случае она была написана уже после синода, созванного архиепископом Реймским. Мы не станем утверждать, что в XI веке уже не оставалось монахов, похожих на тех, кого считали необходимым «исправлять» в 980 году, однако отметим, что в поэме Адальберона отражено другое отклонение от монастырского уклада, характерное для более позднего времени. Напомним, что в 972 году аббат Майель, путешествуя через Альпы, не имел при себе эскорта, способного защитить его от сарацин. Из этого можно заключить, что подобные эскорты, возможно, потребовавшиеся именно в результате происшествий такого рода, были учреждены Одилоном.
Учитывая это, все же воздержимся от того, чтобы признать в гротескно изображенном Асцелином монахе типичного монаха Клюни. Этот образ — и притом с большим преувеличением — относится только к небольшому числу монахов, которых служба аббату во время его путешествий уводила из стен обители. Теперь же нам пора вернуться к серьезному разговору и нанести обстоятельный визит в крупные монастыри ордена.
Глава XIV ВСЕ О ДОБРЫХ МОНАХАХ
Намереваясь описать монахов, достойных своего звания, — а их во времена 1000 года становилось все больше, — следует еще раз задать себе вопрос: почему монахов было так много?
Привлекательные стороны монастырской жизни
Очевидно, среди монахов были такие, кто стремился к идеалу истинной монастырской жизни и пришел туда по призыву Бога. Но повторим: они, скорее всего, составляли немногочисленную элиту. Большинство же, видимо, подчинялось какой-то социальной необходимости.
В отличие от человека, живущего на Западе в XX веке, когда и законодательство, и общественная организация в меру сил защищают от риска его повседневную жизнь, человек эпохи Средневековья и, в частности, человек, живший в 1000 году, не мог ждать защиты от общества. Читатель должен был почувствовать это, знакомясь с предыдущими страницами книги, да и на последующих страницах будет еще немало тому подтверждений. Для бедных людей, то есть практически для всего крестьянства, это означало полное отсутствие уверенности в завтрашнем дне: войны, которые вели сеньоры, капризы погоды, от которых тогда не умели защищаться, — все это постоянно держало их под угрозой более или менее близкой нищеты, голода, смерти. Для тех, кто принадлежал к высшим слоям, — под этим словом мы имеем в виду тех, кто был владельцем большого или маленького фьефа, — разорение и голод не представляли, конечно, столь непосредственной угрозы, да и смерть принималась как неизбежная спутница военных действий. Однако и эти носители меча без разбору использовали монастыри для удовлетворения своих недальновидных и зачастую необдуманных желаний. Даже если стоявшие над ними властители ясно представляли себе происходящее, они все равно не имели возможности сдерживать или прекращать эти бесчинства; такие попытки приводили только к опустошительным кровопролитным беспорядкам.
В монастырях, приведенных в порядок реформой, не было принято роскошествовать в еде, однако в необходимом недостатка не было: страха перед завтрашним днем там не знали. Но было и еще кое-что: посреди беспорядочного и неистового мира монахи представляли собой организованную, дисциплинированную силу, руководители которой знали, чего хотели. Духовные мотивы, очевидно, присутствовали в 1000 году, как и в любую другую эпоху; но поскольку тогда было так много монахов, мы можем предположить, что и эти два более земных мотива играли не последнюю роль. Эти мотивы похожи на те, которые заставляют многих из наших современников заниматься общественной деятельностью. Большинство привлекают спокойствие и безопасность этого занятия. Лучшие же стремятся научиться управлению и с честью служить народу. То же происходило с монахами Клюни: они не страдали от голода, у них было чувство принадлежности к хорошо организованной, могущественной системе, в которой тот, кто имеет способности, может найти возможность для плодотворной деятельности в христианском мире.
Тем не менее им приходилось подчиняться весьма суровому уставу.
Распорядок дня клюнийского монаха
Устав Клюни хорошо известен. Это бенедиктинский устав, составленный в VI веке святым Бенедиктом Нурсийским и дополненный при Карле Великом святым Бенедиктом Анианским. Но о том, что касается монахов Клюни, мы знаем гораздо больше. Клюнийские обычаи детально описывались до 1000 года при аббате Майеле. Еще более подробные тексты на эту тему составлялись в течение всего XI века. Известен так называемый «Устав Фарфы», названный так потому, что рукопись была найдена в итальянском монастыре, носящем это имя. Эта рукопись датируется 1042-1043 годами. Устав монаха Бернарда относится приблизительно к 1063 году, устав монаха Ульриха — к чуть более позднему времени. Сравнение этих текстов показывает, что монастырский распорядок мало изменился в течение этого периода.
Эти ценные документы тщательно изучались. Например, их анализировал чуть более 40 лет назад Ги де Валу в своем ученом труде «Клюнийское монашество». Черты, которые он выделил, относятся не только к монахам самого Клюни, но и вообще ко всем монахам многочисленных монастырей ордена, а также к тем, кто, не присоединяясь к ним непосредственно, следовал примеру их реформы.
Итак, нам есть на чем основывать свои представления о жизни монахов Клюни в их узком кругу, об их повседневной жизни. К сожалению, это невозможно сделать в отношении всех остальных слоев населения, живших в 1000 году. Так, может быть, стоило бы, ради равновесия, слегка сократить рассмотрение того большого количества материалов о монахах, которым мы располагаем? Однако помимо того, что было бы жаль еще более обеднять пейзаж, и без того скудный конкретными данными, интересно также то, что в их жизни было немало аспектов (а также повседневных предметов), характерных не только для монашеского быта. Их контакты с остальной частью населения, уже рассмотренные в главе о благотворительной деятельности, но принимавшие также другие формы, позволяют получить представление и о повседневной жизни мирян. Короче, все говорит в пользу необходимости активно воспользоваться счастливо сохранившимися документами.
Согласно бенедиктинскому уставу монахи, если они не были заняты благотворительной деятельностью, описанной в одной из предыдущих глав, должны были делить свое время между трудом и молитвой. Бернон, основатель Клюни, решительно отдавал предпочтение молитве, будучи верным в этом вопросе духу поучений святого Бенедикта, который говорил: «Ничто не должно быть первее службы Богу». Речь здесь идет не об отдельной молитве, читаемой каждым монахом, а о молебне всей общины целиком, о «хвале», возносимой Богу на всех литургических службах. Службы отмечали время дня и ночи. Песнопения и чтения, которые их составляют, были почти единственными звуками, слетавшими с уст монахов, ибо большую часть времени они должны были проводить в благочестивом молчании.
Монахи спали в общей спальне: индивидуальные кельи были строго запрещены. Как показывал опыт многих отшельников и как позже писал Верлен[130], «одиночество — плохой советчик»… Все братья должны были быть свидетелями поведения каждого монаха ночью. Кроме того, известно, что демоны предпочитают появляться в темноте. Именно поэтому в спальне всю ночь должен был гореть светильник. Светильниками служили свечи или масляные лампы. Само собой разумеется, что взаимный надзор братьев для верности дополнялся контролем со стороны одного или двух специально назначавшихся монахов, которые совершали обход.
На деревянной раме кровати натягивалось нечто вроде войлочной подстилки — «сетки» на кроватях современных солдат, которая поддерживала соломенный тюфяк. Подушка также была набита соломой. Монах ложился спать в рубашке, в то время как старая монастырская традиция требовала, чтобы монахи спали полностью одетыми, а обычные люди в те времена ложились в постель полностью обнаженными. Монах имел право только на одно одеяло, которое зимой было из «ткани с ворсом» или дешевого меха — из козьих или овечьих шкур, но только не из кошачьих шкурок и не из шкуры «агнца с вьющейся шерстью серого или черного цвета». Летом одеяло было из толстого сукна. Иметь коврик возле постели было запрещено.
Между полуночью и первым часом ночи раздавался сигнал к полунощнице. Прежде чем встать, монахи должны были целомудренно надеть подрясник, то есть «хитон без рукавов, который должен быть достаточно широким так, чтобы два локтя проходили в нем свободно, и достаточно длинным, чтобы доходить до пят. Он натягивается на тело и подвертывается со всех сторон». Описание не очень ясное. Можно представить себе некое длинное облачение, спадающее на руки. У него есть капюшон, который «должен быть везде квадратный, размером в целую ступню человека, верхнее отверстие должно быть длиной как от локтя до кончика большого пальца, нижнее — в целый локоть и три пальца, и он должен оставлять открытой переднюю часть подрясника во всю ширину».
Какова бы ни была в точности его форма, подрясник, как и ряса, о которой мы скоро поговорим, делались из толстой ткани, более плотной для зимы, чем для лета, и не окрашивалась: их цвет был натуральным сероватым или коричневатым цветом шерсти, из которой они были сделаны.
Надев подрясники, монахи выбирались из-под одеяла и прикрывали им постель. Всунув ноги в ночные тапки, опустив на голову капюшон, они шли в отхожее место, содержанию которого в чистоте уделялось очень большое внимание. Отхожее место монастыря Клюни насчитывало 70 футов в длину и 23 в ширину. Оно разделялось на 45 кабинок; над каждым сиденьем, имевшим высоту 2 фута, находилось окошко высотой 17 футов и шириной 3,5 фута. (Напомним, что фут равняется приблизительно 33 см.)
Отдав должное природе, монахи направлялись на хоры церкви для молитв полунощницы, также называвшейся навечерием. Заняв каждый свое место, они все вместе совершали приветствие, которое называлось ante et retro[131] и состояло в поясном поклоне до горизонтального положения туловища, после чего надо было медленно распрямиться. Они пели 15 псалмов, гимн, сочиненный святым Амброзием[132] (амброзианский гимн), и читали отрывки, «уроки», из Ветхого и Нового Заветов, а также труды учителей и отцов Церкви. Затем они могли вновь лечь, но ненадолго, потому что еще до конца ночи или совсем на рассвете они должны были вернуться в церковь и петь заутреню, или хвалитны: еще три псалма, два из которых менялись каждый день недели, множество «уроков», амброзианский гимн и кант.
В момент восхода солнца они окончательно поднимались с постели, в которой отдыхали после заутрени. Наступал Час первый — первый час дневного времени. На этот раз они надевали ботинки — как они выглядели, можно себе представить, исходя от противного из описания фантастической обуви дурных монахов Реймса. Затем поверх подрясника они надевали рясу — длинное платье, рукава которого должны были закрывать руки до второй фаланги пальцев. Ряса была широкой и ниспадала складками. К поясу они подвешивали нож, который снимали каждый вечер, идя в спальню. Процессией они шли в церковь и там пели гимн, три псалма, читали один «урок», один стих библейского текста и Kyrie eleison[133]. Час третий в 9 часов утра состоял из тех же частей, так же как и два последующих часа: шестой (в полдень) и девятый (в три часа дня).
После Часа первого происходило ежедневное собрание монастырского капитула. Монахи, которые, возможно, уже приступили к какому-то физическому труду, подтягивались и спешили по сигналу колокола в капитульный зал. Они внимали дневному чтению Евангелия или отрывка из Устава. Затем следовал комментарий. После этого зачитывался список усопших монахов и в их честь читалось пять псалмов. Вторая часть капитула посвящалась делам монастыря: аббат или замещающий его монах читал доклад, по поводу которого каждый мог высказать свои соображения. По вторникам к этой процедуре добавлялась третья часть, посвященная поведению монахов. Те, кто чувствовал, что может в чем-то себя упрекнуть, каялись в этом. С осуждением других, которые ничего не говорили сами, могли выступить один или несколько братьев.
Покаяние
Если вина была признана или доказана, то виновного в случае тяжелого проступка должно было постигнуть возмездие. Он должен был предстать перед капитулом босым, обнаженным по пояс, с подрясником, накинутым на левую руку, и рубашкой, привязанной за рукава вокруг тела. В правую руку ему давали пучок розог, и он входил в капитульный зал вслед за одним из братьев, специально для этого назначавшимся. Он простирался ниц перед аббатом и просил прощения. По приказу он поднимался, садился и получал свое число ударов, определенное аббатом, — самое большее 39, ибо святой Павел, наказанный за приверженность Христу своими соотечественниками евреями, получил пять раз по 40 ударов, хотя, по правде сказать, пять ударов он недополучил[134]. Одевшись, наказанный монах опять простирался ниц перед своим начальником, затем, склонив голову и опустив капюшон до самых глаз, шел на предписанное ему место, где должен был оставаться в течение всего срока своего наказания, покидая его только для участия в службах, которые он слушал, находясь у дверей церкви и опустив капюшон. Он должен был, однако, обнажать голову, простираться на полу лицом вниз и лежать так начиная с Kyrie eleison и вплоть до конца Часа. Во время мессы он также не имел права входить в церковь, получать причастие, поцелуй мира, не имел права целовать Евангелие, петь или читать тексты вместе с другими. Его пища не получала благословения. Ему не разрешалось служить на кухне. А когда аббат наконец даровал ему прощение, он получил еще один удар розгами, прежде чем занять свое обычное место среди братьев.
Местом заключения осужденных монахов могла быть тюрьма. В XI веке это была яма, в которую спускались по лестнице. В ней не было ни двери, ни окна. К этому мрачному пребыванию в темнице могли быть добавлены кандалы на лодыжках или железный ошейник — слово, которым эти предметы обозначены в текстах (bogiae), не позволяет точно установить, что из двух имеется в виду.
Как видим, заседания капитула были порой не лишены жестоких зрелищ.
Час, наступающий следующим, был Час третий, то есть 9 часов утра.
Первая трапеза
Оставалось уже немного времени для занятия различными работами в ожидании того, что незадолго до полудня (Часа шестого) прозвучит сигнал к первой трапезе, так называемому прандиуму[135]. Тогда монахи спешили в трапезную, мыли руки, занимали свои места и ждали, когда придет аббат или замещающий его монах, который должен был сидеть во главе стола. Он произносил благословение и повторял его при каждой смене блюд. Он же давал исполняющему соответствующую обязанность монаху приказ начать чтение жития святых или другого благочестивого сочинения. Только после этого можно было приступать к трапезе, которая заканчивалась, когда аббат останавливал чтеца. Естественно, молчание было обязательным.
Меню состояло из двух блюд: одно — из бобов или гороха, другое — из зеленых овощей, таких как капуста, латук, различные виды салата. В воскресенье, вторник, четверг и субботу каждый монах получал сверх того пять яиц и иногда порцию вареного сыра. Это называлось «генеральной» пищей. В оставшиеся дни недели раздавали порции, рассчитанные на двоих каждая. Они состояли из ливра мягкого сыра или полуливра твердого сыра и четырех яиц, то есть на каждого приходилось всего по два яйца вместо пяти. В воскресенье и в четверг «генеральная» пища дополнялась рыбой, «если ее можно было достать». Мясо не подавалось никогда, разве только больным, помещенным в лазарет. Хлеб выдавался каждому на день, видимо, из расчета 1 ливр на человека. Такой же порядок был с выдачей вина; рацион каждого в данном случае составлял 300 грамм. Однако раздавали его в сосудах, называвшихся «юстами» и вмещавших порцию на двоих. Таким образом, два монаха должны были по очереди смачивать губы вином, и поскольку обычно вино оставалось, летом в нем купались мухи. Это было достаточно неприятно, однако монахам Клюни пришлось ждать XII века, чтобы получить каждому свой отдельный стакан. В утешение им перепадала добавка, так называемое «благотворительное вино», выдававшееся вне времени трапез в те дни, когда службы были особенно долгими и утомительными, особенно в Страстную пятницу. Ведь считалось (возможно, напрасно), что вино восстанавливает силы…
Итак, хорошо подкрепившись, — не отсюда ли латинское название трапезной «гefectoгium»[136]? — наши монахи шли в церковь и служили Час шестой, после чего в определенные дни они могли вернуться во внутреннюю часть монастыря или даже пойти в аудиториум, комнату, соседствовавшую с кухней, и обменяться там парой слов, но только собравшись вместе, а не один на один. Иногда они могли вернуться к этому занятию после Часа девятого. При заходе солнца служили вечерню: 4 псалма, один урок из посланий святого Павла, амброзианский гимн, гимн из Евангелия и литанию, после которой произносилась вечерняя молитва — Pater[137].
Вечерняя трапеза
После окончания вечерни наступало время вечерней трапезы, «цены»[138], в которую входили хлеб и сырые фрукты или облатки — «очень тонкие хлебцы, сделанные из муки, сжатой между железами».
Скудность этой «цены» может удивить при сравнении с относительным изобилием прандиума. Следует добавить, что режим из двух трапез соблюдался только вне периодов постов. Воздержание в пище предписывалось не только в течение 40 дней Великого поста, но также в течение приблизительно пяти месяцев, с сентябрьских ид (13 сентября) до Великого поста. Это был так называемый «монастырский пост» по уставу святого Бенедикта. Кроме этого, днями поста были среды и пятницы между Троицыным днем и 13 сентября. Точно известно, что монахи ели дважды в день в течение всей недели только в период от Пасхи до Троицына дня. Заметим, что, согласно предписаниям святого Бенедикта Анианского, посты прерывались только во время основных праздников: Рождества, Восьмого дня после Рождества, Крещения, Пасхи, Вознесения, Успения Богородицы, а также праздников нескольких особо почитаемых святых.
В дни поста была всего одна трапеза, которая происходила в Час девятый при «монастырском посте» и после вечерни, то есть во время «цены» при Великом посте.
Кухня
Единственный рецепт монастырской кухни, который дошел до нас со времен 1000 года, — это рецепт приготовления бобов, подававшихся в Клюни. Передадим его во всех подробностях.
Бобы, повседневная пища монахов, приготовлялись согласно целому ритуалу. Монахи-повара, омыв руки, читали три предписанные молитвы, затем мыли нелущеные бобы в трех водах и ставили их вариться в котле. Пену и плохие бобы, слишком легкие и потому всплывающие, когда вода закипит, удаляли шумовкой, которая служила и для того, чтобы отскабливать от дна те бобы, которые «прилипали», ибо «нельзя есть сожженные бобы». Когда шкурка бобов начинала раскрываться, их снимали с огня и трижды обливали холодной водой. Затем их помещали в плотно закрывающийся чугунный котел и ставили на несколько минут вариться вместе с салом. Однако сало не подавалось вместе с бобами: его вылавливали, отжимали и подавали вместе с зелеными овощами, которые, в свою очередь, также обдавали кипятком, поскольку «холодная вода не делает их готовыми для приема в пищу.» После того как бобы отваривали, к ним добавляли немного жира. Повар должен был попробовать бобы и проверить, хорошо ли они посолены. Видимо, соль добавляли в воду до варки, однако об этом отдельно ничего не говорится.
Другими бобовыми культурами, употреблявшимися в пищу в Клюни, были горох и чечевица. Зелень, которую называли «травами», включала лук-порей, который ели сырым, латук, кервель, петрушку, кресс. Еще был некий корень, называемый «rasa», однако его трудно идентифицировать. Плоды были весьма разнообразны: груши, яблоки, айва, персики, ирга, грецкие орехи, лещинный орех, вишня, клубника, смоква, сливы, каштаны. Возможно, в это время также ели свежесобранный виноград.
Яйца приготовлялись различными способами, в основном из них делали яичницу или «варили с перцем».
Рыба также была представлена в широком ассортименте: лосось, карп, форель, угорь, барвена, плотва, голавль, минога, моллюски, а также морская рыба: лобан, сельдь и ряд других, названия которых остаются загадкой.
Общее число молитв и служб
Завершив гастрономический раздел, вернемся к распорядку дня наших монахов. После «цены» день приближался к концу. Однако прежде чем лечь спать, монахам оставалось еще отслужить повечерие: гимны Deus in adjutorium[139], Gloria[140], три псалма, Pater, дневная молитва.
Согласно уставу святого Бенедикта, общая продолжительность всех служб должна была составлять 4 часа. Нетрудно догадаться, что все вышеперечисленные молитвы занимают куда больше времени. Более того, со времен начала клюнийского движения к полному чтению Часов добавлялись «сверхдолжные службы»: перед заутреней — 15 псалмов, потом еще 15 других псалмов в точно не указанное время, не говоря о «псалмах для ближних» (familiares), «больших» и «малых», которые пелись в честь благодетелей монастыря, самих монахов, аббатов, друзей из расчета по четыре после каждого Часа. В период Великого поста их пели также в конце каждого Часа и добавляли еще два. Во время пения последних монахи простирались ниц, откуда их название psalmi prostrati[141]. Трудно поверить, что это еще не все, тем не менее документы заставляют упомянуть семь дополнительных покаянных псалмов, которые следовало декламировать во время Великого поста после «псалмов для ближних». Кроме того, один раз в два дня устраивалась процессия от большой церкви аббатства до часовни лазарета, посвященной Святой Деве. Эта процессия происходила после полунощницы и после вечерни под пение Magnificat[142]. Кроме того, существовала служба по усопшим монахам, которую служили после вечерней трапезы. А еще были Часы Девы, которыми удлинялись заутреня и вечерня.
И, естественно, существовали также мессы. В воскресенье большую мессу служили после Третьего часа, однако до того была еще «месса на восходе». Все монахи должны были присутствовать на обеих. На неделе служили «мессу дня», то есть мессу, посвященную святому, праздник которого приходился на этот день, и еще одну, посвященную умершим. Вдобавок, если верить Раулю Глаберу, в самом Клюни существовал «обычай, который было возможно соблюдать, имея большое количество монахов: мессы служили непрерывно с первого часа наступившего дня и до часа трапезы». Само собой разумеется, что на этих мессах присутствовали не все монахи монастыря. Должно быть, их служили перед дополнительными алтарями, в то время как на хорах шли другие службы.
Физический труд
Естественно, что в столь занятые службой дни для работы оставалось мало времени. Конечно, как мы увидим, все монахи должны были по очереди работать на кухне. Однако имелись также другие непосредственно необходимые вещи, о которых надо было заботиться. Эти заботы поручались лицам, еще не принявшим монашеский сан, которых называли «обращенными». По сути они играли роль слуг. Первоначально это были благочестивые миряне, желавшие помочь монахам, но не считавшие себя достойными или способными самим принять сан. Затем среди них стало все больше «жертвователей», взрослых людей, отдавших свое имущество аббатству, принявших обет послушания и добровольно занимавшихся обслуживанием монахов. Эти conversi[143] назывались также barbati[144], поскольку, в отличие от монахов, они не брились, а еще их называли illiterati[145], очевидно, потому, что они не умели читать и не могли из-за этого принимать участие в песнопениях и чтениях во время служб и не становились монахами в полной мере. Таким образом, этот последний эпитет позволяет оценить высокий уровень специальных знаний, которые должен был освоить монах хора: литургические молитвы, которым монахи посвящали почти все свое время и силы, ибо для этого занятия требовалось немало сил, предполагали высокую эрудицию, не говоря уже о совершенной технике пения. Кроме того, следует отметить, что если изначально статус монаха ни в коей мере не подразумевал умения исполнять обязанности священника, то постепенно все большее число монахов хора обучались этому.
Вместе с тем клюнийцы вовсе не были полностью освобождены от физического труда, предписанного уставом святого Бенедикта. Традиционно под этим подразумевались сельскохозяйственные работы. Однако только крестьяне, бывшие «держателями» земли, могли обрабатывать многочисленные и огромные поля аббатств, тратя на это все свое время. Конечно, сельскохозяйственные работы самих монахов были сведены почти к нулю. Ульрих без обиняков отмечает: «В действительности работа, которую я наиболее часто наблюдал, состояла в очистке молодых, не вполне спелых бобов, в выпалывании в огороде дурных трав, бесполезных или вредных для овощей, и иногда также в изготовлении хлеба в пекарне». Монахи Фарфы имели обыкновение работать в саду: «По окончании Часа первого монахи под пение литании идут на работы. Если они идут туда после капитула, то начинают петь псалмы для ближних и поют их вплоть до прихода на место работы. В этой декламации должны принимать участие все, в том числе келарь. Прибыв на место, дети (мы скоро узнаем, кто были эти дети. — Э. П.) ставятся впереди всех, и совершаются поклоны ante et retro. Затем приор начинает Deus in adjutorium meum intende[146] и повторяет его трижды; он произносит Gloria Patri[147], затем Kyrie eleison, затем Pater, adjutorium nostrum[148], после чего монахи начинают работу и продолжают петь псалмы с того места, на котором остановились: 7 псалмов, 5 псалмов по усопшим вместе с псалмами для ближних для данного часа. Недельный читает сборную молитву. Чтение сопровождается комментариями приора во время работы. Окончив работу, монахи возвращаются в обитель под пение псалмов. Прибыв в монастырь, аббат запевает Beatus vir[149], приор читает Adjutorium nostrum, Benedicite[150], и каждый возвращается к своим обычным занятиям до тех пор, пока ризничий не позвонит в малый колокол». Из всего этого видно, что даже работа не прерывала молитв.
Труды духа
Однако руки монахов выполняли и другую работу, в которой дух принимал большее участие, нежели в лущении гороха или выпалывании грядок. Это происходило, когда руки держали перо. Во времена аббата Одилона — то есть, напомним, во времена 1000 года — отдельным монахам поручалось переписывать монастырские грамоты. Таким образом создавалось собрание монастырских грамот, или картулярий, сохранившийся до сих пор. Монахи также переписывали труды отцов Церкви, Григория Святого[151], других церковных авторов. Несомненно, среди монахов находились такие, кто был достаточно одарен, чтобы проиллюстрировать некоторые из рукописей миниатюрами. В этом отношении Клюни также пользовался славой со второй половины XI века, и до нас даже дошло имя самого замечательного из этих художников, монаха Дюранда. Разумеется, наибольшее внимание уделялось священным и теологическим текстам, но они не были единственными. Цицерон, Боэций[152] и многие другие были среди тех мирских авторов, в спасении трудов которых от полного исчезновения участвовало перо монахов Клюни. Все эти работы по копированию и украшению рукописей считались столь важными — возможно, не менее важными, чем молитвы, — что те, кто посвящал себя этому труду, частично освобождались от участия в службах.
Вообще в Клюни ценили и поддерживали любой труд в сфере прекрасного, способный служить славе Бога. Несомненно, что немыслимая роскошь оформления литургии отнюдь не могла быть обеспечена трудом одних монахов. Для создания всех этих живописных изображений, изделий из драгоценных металлов, вышитых тканей, риз, витражей, золотых чаш, украшенных драгоценными камнями, медных, серебряных и золотых паникадил, сделанных в форме короны, нужны были профессиональные художники. По правде сказать, эти чудесные вещи появились в Клюни несколько позже, однако их предшественники, возможно, менее пышные, уже украшали монастырь в 1000 году.
В любом случае, известно, что некоторые монахи вносили свой вклад в украшение храмов. Рауль Глабер — опять он! — вскоре даст нам на этот счет очень личное подтверждение.
Послушники и жертвователи
Повседневная жизнь, которую мы только что описали, была характерна только для настоящих монахов, то есть принявших постриг. Эти монахи были единственными «монахами хоров», единственными, кто мог участвовать во всех службах. Этого ранга можно было достичь, только пройдя период испытания. Таковым было послушничество, известное, впрочем, во все времена. В Клюни оно длилось год или чуть меньше.
Послушником мог стать мирянин, либо священник, желающий исполнять монастырский устав. В принципе он не мог быть принят по собственной просьбе, если не достиг семнадцатилетнего возраста. Первую ночь он проводил в гостинице монастыря, затем для начала его учили, как себя вести, или, как говорили в хороших семьях в XIX веке, как себя держать. В ордене очень большое внимание уделялось достойным манерам, без которых литургия не могла бы возносить почести Богу в должной форме. Ищущие послушничества особо тщательно обучались умению должным образом простираться ниц, ибо вскоре им предстояло сделать это перед аббатом в присутствии всех монахов обители. «Чего вы желаете?» — спрашивал аббат. Они отвечали: «Я желаю удостоиться милосердия и благодати Господних и пребывать в вашем кругу». Аббат говорил: «Да дарует вам Бог пребывание в кругу правоверных». После этого им в первый раз рассказывали о строгостях и суровых требованиях устава святого Бенедикта: о лишениях, об отказе от собственной воли, о полной зависимости от воли других. Их приводили в церковь, где они присутствовали при мессе. Затем их усаживали на хорах лицом к главному алтарю, обстригали волосы кружком и сбривали бороду. После этого наставник послушников приводил новопринятого в ризницу и давал ему рясу, но не подрясник, ибо его он имел право носить только после пострига. Последующий срок послушничества был занят глубоким изучением Устава и упорным зазубриванием всех тонкостей монастырской литургии, в частности, приобщением к искусству пения псалмов.
Случалось, что монахи, принявшие постриг в другом ордене, просили принять их в Клюни. Тогда они должны были еще раз пройти пострижение.
В первое время существования Клюни, в том числе и в 1000 году, орден принимал также «детей жертвователей». Это были мальчики, которых родители отдавали в монастырь, после чего они теоретически должны были всю жизнь оставаться монахами. Аббаты охотно соглашались на это, поскольку родители вместе с сыном жертвовали некое приданое. Такой путь, несомненно, давало возможность воспитать отличных монахов. Но в монастыре воспитывались и другие дети. Их выбирал сам аббат: обычно это были крестьянские дети, чьи добрые наклонности и интеллектуальная одаренность привлекли внимание монахов. В монастыре они получали воспитание и образование. Наиболее яркий пример — маленький Герберт, будущий папа Сильвестр II, блестящую карьеру которого мы уже описывали. До того как клюнийские монахи из Сен-Жеро в Орильяке взяли его на свое попечение, он, предположительно, пас овец.
Само собой разумеется, что ни один монастырь не мог бесконечно увеличивать число братий. Напротив, число это было ограничено и зависело от количества пищи, которую можно было получить с сельских доменов монастыря. Поэтому аббат мог и должен был всегда внимательно учитывать качество тех, кто претендовал на вступление в обитель. Хворых, калек и умственно отсталых не принимали. Была тенденция, впрочем, часто нарушавшаяся, не принимать также незаконнорожденных детей. Можно предположить, что число крестьян, которых соблазняла перспектива избавиться от голода путем превращения в монахов, намного превышало число принимаемых. Представителей менее многочисленной феодальной аристократии, судя по всему, принимали с большей благосклонностью. Лучше подготовленные своим происхождением к искусству управлять, поддерживаемые самим духом времени, когда во всех случаях отдавалось предпочтение благородным лицам, они легче, нежели другие братья, достигали постов аббата и приора.
Давайте посмотрим, что нужно было делать послушникам, кем бы они ни были по происхождению, когда подходило время их пострига. Пострижение совершалось во время большой мессы, читаемой аббатом. Перед проскомидией[153] они выходили рядами к большому алтарю, перед которым стоял аббат. Каждый зачитывал свою грамоту пострижения, которую должен был собственноручно написать и подписать, и клал ее на алтарь. Стоя на коленях, он трижды просил прощения, затем, опершись на руки (иными словами, встав на четвереньки), трижды читал стих Suscipe me, Domine[154], а постриженные монахи каждый раз ему отвечали. На третий раз он читал также Gloria Patri и простирался ниц для молитвы. Аббат в это время запевал Kyrie eleison, за которым следовали многие стихи и псалом Miserere[155]. Аббат благословлял подрясники и кропил их святой водой. Переодеваясь в них, новопостриженные снимали рясу, а затем опять надевали ее поверх подрясника. После этого они обходили хоры по кругу, чтобы получить поцелуй мира от всех братьев, начиная с аббата. Теперь они становились уже настоящими монахами. Однако в течение еще трех дней они должны были ходить с опущенным капюшоном, спать в подряснике и не произносить ни слова.
Гигиена
Одной из сторон, специфически присущих повседневной жизни клюнийцев и достаточно новой для монастырской жизни, было внимание, которое они уделяли поддержанию тела в подобающем состоянии. В середине IX века аббат Одон предписал монахам каждую субботу чистить обувь. К 1000 году суббота стала также днем, когда они мыли ноги и сразу после этого стригли ногти. Если плохое зрение или ревматизм не позволяли монаху делать это самому, он должен был просить других братьев о помощи. Каждый день следовало мыть лицо и руки. Купания были более редким явлением: два раза в год — перед Рождеством и перед Пасхой. Мылись поодиночке в чанах, вода в которых подогревалась на костре.
Наконец, поскольку Устав запрещал монахам носить бороду, ее следовало брить. По правде говоря, эта процедура проделывалась нечасто: приблизительно 14 раз в год, перед большими праздниками и днями наиболее почитаемых святых, причем летом чаще, чем зимой. Эта процедура регламентировалась особым образом. В назначенный день монахи выстраивались в две шеренги: одна — под сводом внутреннего здания монастыря, другая — вдоль его стены. Брат-раздатчик милостыни раздавал одной стороне бритвы, а другой — чаши для бритья. Каждый брил стоящего напротив. Тот, кто брил, был в подряснике; тот, кого брили, снимал его, однако оставался в рясе. Орудуя бритвой, они пели псалмы, а когда заканчивали, устанавливалась полная тишина. Было запрещено в ожидании своей очереди мыть голову, стричь себе волосы или ногти…
Чистота тела неотделима от чистоты одежды. В одном из помещений имелась прачечная с отдельными резервуарами для рубах и для кальсон. Каждый мог пользоваться ею для своих нужд. Утром, перед капитулом, белье замачивали в большой лохани с горячей водой, нагретой на кухне. Стирали днем, «в часы, когда можно говорить». Затем белье сушили на веревке, протянутой во внутреннем помещении, но это было разрешено только после «цены» или после вечерни.
Немой язык
Напомним, что, за исключением коротких минут отдыха, монахи должны были соблюдать предписанное Уставом молчание. Поскольку иногда бывало необходимо общаться друг с другом, хотя бы в практических делах, они пользовались знаками. Этот немой язык был принят в Клюни со времен первого аббата Бернона. При его преемнике Одоне язык «достиг такого уровня, что можно было подумать, что монахи утратили способность к обычной речи». И биограф Одона добавляет: «Я думаю, что им хватало знаков для того, чтобы выразить все необходимое». Эта практика существовала во всех дочерних монастырях Клюни и во многих других монастырях. Система знаков, использовавшихся в Клюни, дошла до нас в описаниях Бернарда и Ульриха. Это целый словарь из ста слов, среди которых — обозначения продуктов питания, столовых приборов, одежды, постельных принадлежностей, отдельных предметов, двадцати двух лиц, которых монахи могли упомянуть, вещей, связанных с монастырской жизнью, и, наконец, 13 слов, обозначавших действия или какие-то идеи. Часто дается объяснение использования данного жеста. Например, чтобы попросить хлеба, нужно было «сделать круг из указательных и больших пальцев обеих рук, потому что хлеб имеет круглую форму». Если для обозначения рыбы вообще был достаточен естественный жест, «имитирующий рукою движение рыбы в воде», то для обозначения лосося или осетра требовалось дополнительное объяснение: «Сделать знак рыбы, затем поместить кулак под подбородок, держа большой палец вверх, — знак превосходства, ибо обычно эту рыбу едят великие и богатые мира сего». Но почему тогда «горчицу» изображают, «поставив большой палец на верхний сустав мизинца»? Загадка…
Иногда речь идет о простой игре слов: «Блины, оладьи: взяться за волосы, как бы их завивая»[156].
Однако знак для обозначения молока имел скорее имитационный характер: «Сосать мизинец, как младенец, сосущий грудь».
Знак обуви может помочь нам представить, какой она была. «Обвести пальцем вокруг другого пальца таким движением, каким человек подвязывает обувь ремнями». Для обозначения монахов надо было коснуться капюшона подрясника. Но если речь шла о воспитаннике монастыря, то, коснувшись капюшона, следовало уточнить, различая два случая: если он был еще ребенком, то надо было поднести мизинец к губам; если он уже получил полное образование, то надо было положить два пальца на сердце «в знак учености».
Допустим, речь шла о монахе, отвечавшем за конюшни. Нужно было «потянуть волосы спереди двумя пальцами, как поводья коней».
Чтобы обозначить понятие «плохой», надо было «поместить раздвинутые пальцы на лицо так, чтобы ногти изображали когти хищной птицы, которая разрывает что-то на части».
Можно сказать, что пользоваться столь богатыми средствами выражения мысли по сути означало нарушать положенное по Уставу молчание, смысл которого был в том, чтобы освобожденная мысль обратилась к Богу. Впрочем, похоже, монахи вошли во вкус игры и язык знаков развлекал их, в паскалевском[157] смысле слова, куда больше, чем если бы они разговаривали, как обычные люди. Во всяком случае, вот какое впечатление произвело присутствие на обеде в клюнийском монастыре в Кентербери на крупного светского сеньора Жирара де Камбре, побывавшего там в конце XII века: монахи, которых он видел, столь активно жестикулировали пальцами и руками, что это напомнило ему театр, полный актеров и шутов. Он подумал, что было бы более достойно их ордена и положения, если бы они открыто говорили человеческим языком, вместо того чтобы пользоваться этим фривольным языком глухонемых.
Глава XV ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МОНАСТЫРЯ
Все ли мы рассказали о клюнийских монахах? На первый взгляд, да. И тем не менее это не так. Мы пока что представили себе только образ жизни простых монахов. Остается понаблюдать за жизнью тех, кто имел различные титулы и составлял «кадры» монастыря. Это наблюдение весьма полезно не только для того, чтобы проникнуть в тайны монастырской жизни, но и для того, чтобы представить себе жизнь той эпохи в целом.
Аббат и великий приор
По месту и почет. Любой мало-мальски значимый монастырь управлялся аббатом. В этом случае он назывался аббатством. В тех местах, где монахов было мало, иногда всего несколько человек, во главе стоял приор, или настоятель, и это называлось приорством. Это слово происходит не от французского глагола «молиться» (prier), а от латинского слова prior — «первый».
В самом Клюни, а также в наиболее значительных зависевших от него монастырях аббат по долгу службы часто отсутствовал, инспектируя подопечные монастыри или делая что-либо еще, и имел в качестве заместителя «великого приора», которому в отсутствие аббата передавались его права не только внутри монастыря, но также в отношении всего происходящего в окрестностях. Поскольку бремя его обязанностей было очень велико, существовал еще «декан», который в большей степени специализировался на экономических вопросах монастырской жизни, то есть управлял поместными землями монастыря. Наконец, поддержанием внутренней дисциплины, иначе говоря, надзором за монахами, занимался «монастырский приор», сам титул которого ясно показывает, что его компетенция не распространялась далее периметра стен монастыря.
Кроме этих людей, олицетворявших центральную власть, существовали также монахи, занимавшие специальные «должности». Именно они для нас наиболее интересны.
Эконом
Наиболее важной из этих должностей была должность эконома, или казначея. Именно он раздавал монахам одежду и строго ее учитывал, следил за сохранностью постельного белья, обеспечивал освещение в спальне, в лазарете, в кладовой, в зале послушников. Он также следил за раздачей милостыни и материально обеспечивал занимавшихся этим монахов. В Святой четверг он выдавал все необходимое для того, чтобы монахи могли смыть ноги бедняков и дать им два денье. В воскресенье перед Великим постом он руководил раздачей мяса беднякам, приходившим в этот день за едой в монастырь. Естественно, поскольку для всех этих случаев требовалось большое количество денег, именно эконом был уполномочен непосредственно принимать все денежные доходы, которые монастырь получал с доменов, а также приношения натурой, животных, одежду. Наконец, он распоряжался принадлежавшим монастырю лесом, для чего позднее он получил в помощь лесничего, бывшего иногда мирянином. Эконом следил также за пользованием прудами и реками, в.которых надо было поддерживать изобилие рыбы.
Келарь
Келарь в основном отвечал за обеспечение монастыря продуктами питания. Он запасал необходимые съестные припасы, а также распределял перед каждой трапезой индивидуальные порции, выставляя их на большом столе в специально отведенной ему комнате, где приор мог убедиться, что все порции равны. Если не было достаточного количества хлеба, келарь уносил колотушку, которой ударяли в цимбалы, чтобы созвать монахов в трапезную, и в ожидании, пока хлеб доставят, отправлял братьев на хоры для того, чтобы они прочитали дополнительный «урок». С его помощью организовывалась служба во время трапезы. К сфере его деятельности относилось и питание гостей, принимаемых в монастыре, а также корм для их лошадей.
Для обеспечения бесперебойной работы кухни полагался «помощник келаря», руководивший работой четырех-шести монахов, которые, сменяясь еженедельно, работали на кухне. От этой работы не был освобожден никто, теоретически даже аббат.
Очередная смена ответственных за кухню заступала на работу в субботу после вечерни и освобождалась в следующую субботу, предварительно тщательно выметя кухню и сложив сор и золу перед дверью, откуда слуги должны были их вынести. В тот же день они нагревали воду, которой смывали ноги монахов вместе с теми, кто должен был их сменить. Что касается богослужений, то их обязанности во время дежурства не позволяли им участвовать в службе вместе с остальными братьями и они пели псалмы на кухне.
Кухонная утварь
Ульрих оставил нам целую главу об «утвари, которая всегда должна иметься на кухне». Список, действительно, очень интересен:
— Три котла: один для бобов, другой для овощей («трав»), третий — на железной треноге — для стирки.
— Четыре лохани: одна для наполовину сваренных бобов, другая, в которую подводилась проточная вода, — для того, чтобы мыть бобы, прежде чем бросить их в котел, третья — для мытья посуды, а четвертая только для того, чтобы иметь горячую воду для бритья.
— Четыре большие лопатки: одна для бобов, одна для овощей, третья, чуть поменьше, для отжимания жира, четвертая, железная (предыдущие, вероятно, делались из дерева), для того, чтобы разравнивать золу в очаге. Кроме этого, для последней процедуры требовалась пара щипцов.
— Четыре пары нарукавников, чтобы монахи, работающие на кухне, не запачкали рукава рубах.
— Две пары рукавиц или «прихваток», называемых «romanice», для защиты рук, когда надо было снять горячий котел с огня, перенести или наклонить его.
— Три маленьких полотенца, которые следовало менять каждый пятый «feries» (четверг), чтобы экономить полотенца, висящие в обители.
— Нож для резки сала и камень для затачивания ножа.
— Небольшой сосуд для кипячения воды или растапливания жира.
— Еще один, меньший сосуд с отверстиями в дне для собирания жира.
— Банка для соли.
— Сундучок для хранения мелких предметов.
— Кувшин для того, чтобы черпать воду.
— Две маленькие щетки для чистки котла после приготовления пищи.
— Два куска «впитывающей ткани» (retis abcisiones) для мытья мисок и котлов.
— Две полки для мисок. На одну из ставили после еды, более или менее вымытыми. На вторую их выставляли на рассвете, к этому времени они должны были быть вымыты идеально.
— Два маленьких сиденья (sedilla), которые в просторечьи назывались скамьями (bancos).
— Низкая скамья на четырех ножках, на которую ставили лохань с овощами, перед тем как опрокинуть ее содержимое в котел.
— Камень, по размеру больший, чем жернов, на который ставили котел с готовыми бобами или овощами.
— Еще один камень, на который между трапезами ставили лохань для мытья мисок.
— Мех для раздувания огня.
— Опахало из ивовых прутьев.
— Брус, на котором подвешивали котлы.
— Еще один брус для распределения огня.
— Корыто или ведро (canalis), в котором постоянно находилась мыльная вода для частого мытья рук.
— Два вида рычагов или блоков (tгigonus), каждый из которых состоял из трех деревянных брусков, образующих между собой неравные углы, которые можно было двигать туда и сюда наподобие двери. С них свисали цепи, на которые подвешивались котлы, когда их наполняли водой под водоотводной трубой и оттуда без труда переносили и подвешивали над огнем.
Если говорить об инвентаре, появившемся позднее, то «стаканы», которые по-латински назывались «scyphus», скорее всего, были не из стекла, а вытачивались из наростов на стволах деревьев определенных твердых пород.
Как видим, у помощника келаря не могло быть оправданий, если он не обеспечивал безупречную работу кухни.
Смотритель трапезной
Обслуживание трапезной находилось в ведении другого помощника келаря — смотрителя трапезной. Ему помогали три монаха, которые расстилали скатерти на столах и клали на каждое место нож и порцию хлеба. Обычно скатерть покрывала только половину стола, что не очень понятно; лишь в определенные дни, а именно в «двойные» праздники, она расстилалась на весь стол. Смотритель трапезной при обслуживании стола из гигиенических соображений переодевался в льняную блузу (linteum).
Хранение вина было доверено custos vini[158], который также подчинялся келарю. По окончании сбора винограда приор указывал ему, какое количество вина он должен заготовить, а также дни, в которые монахи должны были получать pigmentum, то есть вино, настоянное на пряностях. Хранитель вина спал в кладовой, где всегда горела лампа, для которой эконом выделял масло. Эконом также выдавал ему необходимое количество денег для починки бочек. Хотя в обязанности этого монаха входила только забота о вине, он должен был также обеспечивать горячую воду, которой монахи мыли ноги в особенно холодные дни, и следить за тем, чтобы в трапезной всегда имелись жаровни, у которых могли греться дети жертвователей. Может показаться удивительным, что в обязанности custos vini входило, кроме того, обеспечение монастыря шалфеем, которым пользовались при приготовлении овощей, однако это объясняется тем, что именно этот монах запасал травы и приправы, входившие в состав двух напитков, раздававшихся монахам в праздничные дни: helnatum — вина, ароматизированного цветами и девясилом, растением, корни которого помогают при болезнях желудка и бронхов; и herbatum — вина, настоянного на различных лекарственных травах. Существовало еще одно ароматизированное вино, сильно подслащенное медом, получавшееся на основе различных специй и содержавшее корень буквицы, который обладает слабительным свойством. Уже упоминавшееся выше pigmentum было менее изощренным средством. Таким образом, задача обеспечения кухни шалфеем вписывалась в общую обязанность запасать ароматические травы и специи.
Смотритель амбаров
Еще одним человеком, непосредственно подчинявшимся келарю, был смотритель амбаров. После уборки урожая он прикидывал, какое количество зерна удастся заготовить. Он приказывал сложить его в большом амбаре по соседству с монастырской мельницей, работой которой он также руководил. Под его началом находились пекари. Он наказывал их, если они того заслуживали. Он следил за тем, чтобы изготавливались два сорта хлеба, оба прекрасного качества. В определенные периоды года по его приказу каждому монаху выдавали, сверх его обычной порции хлеба, пять облаток; в другое время, когда монахи были сильно изнурены постами или богослужениями, им раздавали холодные слоеные пирожки. В дни пяти основных праздников делали пирог, начиненный вареными сливами.
Под началом смотрителя амбаров находился монах-погонщик ослов, потому что мешки с зерном или мукой перевозились на этих животных. Больше удивления вызывает тот факт, что смотритель амбаров был также уполномочен руководить стиркой белья. Белье собирали каждый вторник во время ранней утренней мессы. Монахи клали каждый свое белье в специально отведенную для этого лохань. Сами монахи стирали только мелкие вещи, например носки, которые в действительности представляли собой полоски ткани, обертываемые вокруг ног — как мы бы сказали, «русские носки», или портянки. Искусство шить носки по форме ноги возникло значительно позже. Все предметы одежды помечались именем монаха, который ее носил. Мы не говорим: «именем владельца», потому что монахам было запрещено владеть собственностью. На рубахах имя писалось краской, а на кальсонах вышивалось нитками.
Монах-коннетабль
Монах-коннетабль отвечал за конюшни. Как известно, изначальное значение слова «коннетабль» — именно «конюший», и лишь впоследствии это слово стало обозначать престижный титул, одну из важнейших придворных должностей во Франции[159]. Эта должность в монастыре также относилась к ведению келаря, и исполнение связанных с ней обязанностей было весьма тяжелым делом, поскольку приходилось заботиться не только о монастырских лошадях, но также о лошадях высоких гостей, которым монастырь оказывал гостеприимство. Последних зачастую было больше, чем первых. Монах-коннетабль заботился о соломе для подстилок, об овсе и траве для корма. Он должен был следить за тем, чтобы всегда были заготовлены мундштуки и подковы. Поскольку к двери цепью прикреплялся молоток для того, чтобы подковывать лошадей, можно сделать вывод, что под началом конюшего служил кузнец. В любом случае, такую услугу следовало оказывать путешественникам, если те просили об этом, однако не более двух подков на каждого. Отметим к тому же, что проезжающие торговцы и истцы, ехавшие на разбор своих дел, не имели на это права, как и на гостеприимство монастыря. Монастырь — не постоялый двор. Он привечает лишь знатных и бедных. А заниматься торговлей или защищать свои корыстные интересы считалось дурным тоном.
Но именитых гостей встречали с исключительной предупредительностью. Пока они отдыхали, монах-коннетабль приближался к ним «со смиренной улыбкой» (cum hilaritate et modesta alacritate) и говорил им: «Benedicite». Поскольку они знали порядок, то отвечали: «Dominus». После чего конюший предлагал им свои услуги.
Монах-садовник
Монах-садовник во всем подчинялся келарю. Он должен был снабжать монастырь свежими овощами в среду и в пятницу, а также в сезонные посты. Ко дню Пасхи он должен был заготовить овощи, репчатый лук и лук-порей, которые монахам предстояло отведать после того, как они съедят на первое фаршированные яйца, а на второе рыбу.
Ризничий
Знакомясь с обязанностями ризничего, можно также узнать много интересного о повседневной жизни монахов. Ризничий отвечал за здание церкви и культовые предметы. Он обеспечивал воск, масло и ладан, поддерживал освещение и велел лить свечи, следил за состоянием священных сосудов, книг, необходимых для богослужения, одежд священников и колоколов. Он отпирал и запирал двери церкви и, чтобы ничего не упустить, спал в ней ночью. Обычно двери должны были оставаться запертыми в перерывах между службами и мессами, но их следовало отпирать в любой час дня или ночи тому, кто в них стучался. Церковные принадлежности также находились в ведении ризничего.
Отвечая за все материальные средства, необходимые для литургии, он каждый день готовил облачения, предназначенные для богослужений, и должен был знать, какого цвета риза полагается в каждый конкретный праздник.
Но главной его заботой был колокольный звон. Он звонил (правда, только в колокольчик), подавая сигнал к полунощнице до тех пор, пока не приходили дети. Он также звонил, сопровождая определенные молитвы, иногда в один из больших колоколов, иногда в маленький. Перед Часом третьим и перед Часом девятым он звоном приглашал монахов мыть руки. Он также звонил после мессы и перед Часом шестым. В дни праздников он давал команду ударить во все колокола в момент, когда пели последний стих «обиходного гимна», то есть в конце первой навечерней службы.
Почти столь же обременительной была обязанность ризничего следить за освещением. Количество и места расстановки свечей детально предписывались Уставом для каждой службы и для каждого дня. Каждую субботу, а также накануне праздников некоторых святых перед алтарем ставились три масляные лампы.
Можно предположить, хотя подтверждение этому мы имеем только на материале более поздних эпох, что освещение других частей монастыря, в частности спальни, которая, как мы видели, всегда должна была быть освещена, также относилось к ведению ризничего. Для ее освещения, возможно, служили масляные лампы или, что более вероятно, свечи.
Наконец, ризничий должен был руководить изготовлением просвир, которое происходило в соответствии с подробно разработанным ритуалом. В Рождество и на Пасху их запас следовало пополнять, даже если он казался достаточно большим. Пшеницу наилучшего качества перебирали по зернам. Ее промывали, затем складывали в специальный мешок, который относил на мельницу брат-послушник, характеризуемый как «поп Несшие», что можно понять либо как «нерассеянный», то есть очень серьезный, либо как «нечувственный», тогда речь идет о чистоте нравов. Для того чтобы смолоть муку, вымыв оба жернова и подложив сверху и снизу куски полотна, он переодевался в стихарь и закрывал лицо омофором, который представлял собой прямоугольный кусок тонкой ткани, завязывавшийся вокруг шеи и оставлявший открытыми только глаза — нечто подобное маске современных хирургов. Таким образом исключалось попадение на муку капель слюны и выдыхаемого воздуха. Муку вновь доставляли ризничему, который просеивал ее с помощью двух монахов-священников или дьяконов, а также одного послушника в стихаре и омофоре. Воду приносили в сосуде, в котором хранилась святая вода для мессы. Все делалось с молитвами — псалмами или молитвами Часов Святой Девы. Разговаривать и произносить что-либо, кроме молитв, не разрешалось.
С изготовлением просвир была непосредственно связана стирка ткани, на которую их клали после освящения во время мессы и которая называлась антиминсом[160]. Ее подготовка поручалась монахам-священникам и происходила весной, когда воздух чист, и осенью, в середине сентября, когда «назойливость мух» сходит на нет. Ткань на всю ночь оставляли замачиваться в холодной воде в огромных бронзовых вазах, специально для этого предназначенных. Наутро ее окунали в небольшой резервуар, в котором обычно мыли священные чаши. Затем в ризнице ее омывали в щелочном растворе, служившем только для этих целей. Пока ткань была еще влажной, ее посыпали слоем белой муки, которая впитывала остатки воды. Затем с помощью стеклянного шара ее гладили, держа между двумя белыми полотнами, которые изолировали ее как от шара, так и от дерева гладильного стола.
Старший певчий
Старший певчий был большим мастером литургии. Он хранил книги, содержавшие тексты Евангелий, посланий, «уроков», псалмов, и в целом отвечал за всю библиотеку. Он определял, какие тексты следовало читать при каждом богослужении. Такая задача предполагала глубокие и давно приобретенные знания, поэтому старшего певчего обычно выбирали из числа nutriti, то есть монахов, воспитывавшихся в монастыре с детства. Как библиотекарь он выдавал монахам книги и имел их список. Он также составлял расписание понедельник дежурств на кухне, писал его в двух экземплярах, один из которых прикреплялся к колонне во внутреннем здании на виду у всех.
Старший певчий, мастер церемоний, руководил процессиями, а также процедурой благословения нового урожая бобов, нового хлеба и молодого вина, организовывал прием высоких гостей, отвечая за него совместно в монахом-смотрителем гостиницы.
Смотритель лазарета
Еще одной значительной монастырской должностью, о которой нам остается упомянуть, была должность смотрителя лазарета.
Больные помещались в особое здание — лазарет, где жили отдельно ото всех. Смотритель лазарета заботился об их духовной жизни, в чем ему помогал только капеллан часовни лазарета, и об их физическом состоянии, в чем ему помогали несколько слуг.
Лазарет Клюни в XI веке состоял из шести залов размером 23 фута в ширину и 27 футов в длину каждый. В четырех из них стояло по 8 кроватей и столько же сидений, один служил для мытья ног в субботу, а в последнем мыли посуду. К ним примыкала кухня, и она была очень важной частью лазарета, так как основная забота о больных состояла в том, чтобы кормить их более обильно, нежели по Уставу было положено здоровым, и даже готовить для них мясную пищу. Все выглядело так, будто болезни монахов проистекали от недоедания.
Из вышесказанного понятно, что попасть в лазарет было нелегко: «Каждый брат, который почувствует себя нездоровым до такой степени, что не сможет жить общей жизнью общины, должен обратиться к капитулу и принести публичное покаяние. Пусть стоя он обратится к председателю и скажет: «Я болен и не могу следовать правилам жизни общины». Тогда председатель повелит ему выйти extra chorum[161] и отдохнуть, пока ему не станет лучше. Через два или три дня, если ему не станет лучше, он вновь должен почтительно обратиться к капитулу и повторить, что он болен. Тогда ему велят лечь в лазарет. Если он не выздоровеет после того, как проведет там два или три дня, приор должен навестить его во время трапезы и принести ему мяса».
В X и XI веках есть мясо означало для клюнийского монаха нарушить Устав в его основном пункте. Так что брат, которого болезнь заставляла это сделать, хотя и не был в этом виноват, считался опустившимся ниже других братьев. Он постоянно ходил с опущенным капюшоном и держал в руках палку, что заставляет вспомнить о трещотках в руках чумных. Он не имел права участвовать в мессе и получать причастие. И когда, выздоровев, он покидал лазарет, то должен был, прежде чем вернуться к обычной жизни, повиниться перед капитулом за то, что «весьма грешил в пище». Аббат даровал ему отпущение, и в качестве покаяния он должен был спеть 7 дополнительных псалмов.
Кроме больных, лазарет принимал здоровых монахов монастыря в полном составе для того, чтобы сделать им кровопускание, которое было обязательным на Восьмой день после Благовещения (25 марта), после Пасхи и после Троицына дня. Известно, что эта процедура, как и полный отказ от мяса, должна была вернуть монахам чистоту помыслов, подвергавшуюся испытанию в это весеннее время, когда в природе усиливаются чувственные устремления.
Итак, в Клюни, а также в монастырях, зависевших от Клюни, ничто не было отпущено на волю случая. Порядок, иерархия, власть, дисциплина, сила духа… Все заставляет поверить, что эти добродетели хорошо организованной системы не могли быть присущи во времена 1000 года ни одной другой общественной организации. Клюнийская организация, несомненно, не имела себе равных. Однако, рассмотрев вблизи людей, живших не как все, мы увидели достаточно черт, которые, конечно же, были присущи не им одним. Именно это, как мы надеемся, оправдывает нас за то, что мы столь долго заставляли читатателей этой книги пребывать в кругу монахов.
Глава XVI ТРУДЫ ДУХА
Для того чтобы представить себе умственную деятельность людей, живших в 1000 году, нам придется еще на некоторое время задержаться в монастырях. Дело в том, что в любые времена духовная жизнь начинается с обучения, а в 1000 году монастыри играли в обучении очень важную роль. Можно сказать, разумеется, mutatis mutandis и не входя в детали, что они брали на себя функцию начальных и средних школ, а высшее образование можно было получить только в епископских школах. Известно, что со времен Карла Великого аббатства и епископские города несли образовательную функцию. Бедствия IX и X веков привели к нарушению и упадку этой функции. Но ближе к 1000 году уже ощутимо наметилось их начинающееся возрождение.
Школы в аббатствах
Итак, в аббатствах имелось два вида школ. Одни из них находились вне стен монастыря. Они были открыты для детей, живших в округе. Наиболее значительные свидетельства того, как монахи оказывали эту услугу обществу, можно найти в жизнеописании аббата Гильома из аббатства Сен-Бенинь в Дижоне: «Он основал школы, в которых мог бесплатно получить благодать образования любой, кто обращался в подчиненные ему монастыри. Никому из этих людей никогда не отказывали. Напротив, сер-вы или свободные, богатые или бедные — все без различения были осенены этим проявлением братской любви. Многие также, по причине своей несостоятельности, получали питание в монастыре». Итак, в этих маленьких школах, далеких предшественницах тех, которые спустя столетия открывали братья Союза христианских школ[162], могли соседствовать друг с другом дети из семей самых различных сословий. Как уживались вместе мальчики, которые не могли не осознавать неравенства своих родителей? Было ли принято, чтобы в школу ходили все дети крестьян, или это делали только некоторые из них, а тогда кто именно? Еще вопрос: можно подумать, что их учили читать, поскольку для нас это естественное начало элементарного образования. Однако единственным языком, на котором в то время можно было научиться читать, был латинский. Значит ли это, что их обучали основам латыни? Куда более реальным и почти очевидным кажется предположение, что обучение было только устным. Тогда оно могло включать некий набор правил мысленного счета и прежде всего, ознакомление с основными понятиями вероучения, изучения наизусть молитв, рассказы из священной истории и житий святых. Именно эти знания монахи стремились в первую очередь сообщить народу. Это была их миссия апостолов веры. Тогда становится понятнее бесплатность обучения, открытость школ для всех независимо от происхождения и раздача еды детям бедняков. Можно даже предположить, что, не удовлетворяясь теми, кто приходил сам, аббат побуждал родителей присылать к нему своих детей. Сеньоры, жившие по соседству, возможно, считали нормальным, что их сыновей воспитывали в духе религии, которую они, пусть даже не будучи благочестивыми, не оспаривали. Что до родителей, бывших «держателями» земель аббатства, а таковыми были большинство крестьян в его окрестностях, то можно предположить, что они подчинялись без сопротивления. Итак, мы видим еще один, и весьма важный, аспект «давления христианства».
Подводя итог, можно сказать, что эта форма «начального» образования вполне подходила для детей мирян того времени. Им незачем было учиться читать: им просто нечего было читать. В повседневной жизни им были необходимы охота, счет, владение мечом для одних, и умение обрабатывать поле, заботиться о животных, умение общаться с хозяевами-землевладельцами для других. Но всему этому они обучались на практике. Дать им какое-то представление о духовности, о Боге, о своих обязанностях по отношению к Нему и к другим, дать им примеры из жизни святых, — это было наилучшее, что можно было сделать для них и для общества в целом. Это означало научить их принимать хотя бы какое-то участие в культурной жизни того времени, которая практически отождествлялась с христианской религией.
Обучение детей жертвователей
Впрочем, во внутренних школах, предназначенных для так называемых детей жертвователей, которых, как мы знаем, воспитывали в стенах монастыря и готовили к монастырской жизни, религиозному воспитанию также отводилась главенствующая роль.
О повседневной жизни этих мальчиков, бывших либо крестьянскими детьми, выделенными как особо одаренные, либо младшими сыновьями благородных семей, которых родители предназначили для монастырского звания, мы осведомлены гораздо лучше. Эта жизнь была невеселой. Нельзя было хотя бы минуту побыть одному. Запрещалось находиться вместе вдвоем без надзора. Даже учителю не дозволялось оставаться наедине с учеником — об этом написано в жизнеописании Одона, аббата Клюни, умершего в 942 году. Поскольку те же ограничения были засвидетельствованы сто лет спустя в уставе, написанном Ланфранком, архиепископом Кентерберийским, для монастырей, подчиненных аббатству святого Бенедикта, то можно, без риска ошибиться, предположить, что они уже существовали в 1000 году. Ланфранк хотел, чтобы «повсюду, где ходят дети, между каждыми двумя из них находился наставник». Он дотошно добавляет: «Если их двое, то достаточно одного светильника; если их трое, пусть третий также несет фонарь». Но и на этом он не успокаивается: «Пусть они никому ничего не передают из рук в руки; пусть ничего не получают из чужих рук, если только этими лицами не является аббат, великий приор или их учитель богословия; но и в этом случае это должно происходить не где угодно, а лишь в соответствующих местах. В виде исключения певчий в школе может передать им книгу, по которой они должны петь или читать».
Одержимый страхом перед «личными контактами», Ланфранк, как видим, был не лучше самого безумного ревнивого мужа.
Наказания за нарушения были жестокими: розги за малейшую шалость. Если ребенок повторно нарушал запрет, его связывали, оставляли без пищи и бросали в карцер. Во всяком случае, так поступал в начале X века Бернон, основатель Клюни, склонный к перегибам из-за своего страстного желания укрепить монастырскую дисциплину. Справедливости ради следует добавить, что, согласно биографу его преемника Одона, Бернона сурово осуждали: «Разбойник, а не монах; тиран, а не отец; забияка и живодер, а не исправитель нравов и воспитатель». И можно предположить, что около 1000 года, при более чувствительном аббате Одоне, с детьми, обучавшимися во внутренних школах, обращались уже не так свирепо.
Об этих детях уже можно, не боясь ошибиться, сказать, что их обучали чтению на латинском языке, потому что им предстояло всю жизнь иметь дело с литургическими книгами, а также письму, потому что многие из них в будущем должны были переписывать рукописи. Счет им также был нужен для того, чтобы распоряжаться имуществом монастыря. Что касается уровня их литературных знаний, то он в основном определялся тем отвращением, которое воспитывали в них аббаты по отношению к языческим авторам античности.
Проблема античных авторов
Эта проблема со времени возникновения христианства стояла перед теми, чьим призванием было мыслить и писать. Для обучения хорошему латинскому языку, а также для развития ума, незаменимыми источниками служили великие классики времен Республики и века Августа[163]. Однако мораль и философия этих классических образцов, похотливые образы, которыми были полны их книги, делали их опасными для души. Был найден необходимый путь компромиссов, без которого возрождение грамотности при Карле Великом было бы невозможно. Однако реакция Клюни на вольности нравов духовенства, неумолимое требование сурового образа жизни, на котором настаивали основатели движения, вновь поставили на повестку дня вопрос об аморальности «нечестивых» авторов.
Одон, обучавшийся в школах святого Мартина в Туре и изучавший латинский язык по трудам Присциана, византийского грамматика VI века, прочел у него некоторые образцы латинской словесности, приводившиеся в качестве примеров, нашел их прекрасным и почувствовал искушение прочитать Вергилия. Во сне ему привиделась прекрасная ваза. Пока он любовался этой вазой, из нее выползли змеи, от которых он с трудом избавился. Он понял смысл ночного видения и не пожелал больше читать ничего, кроме Священного Писания. Став аббатом Клюни, он изгнал из библиотеки всех светских авторов. Юные дети жертвователей могли теперь воспитываться только на Библии и на трудах отцов Церкви. Заметим, что по крайней мере в этих книгах был хороший латинский язык: даже если упомянуть только святого Иеронима, который перевел с древнееврейского Ветхий Завет, и святого Августина, то следует признать, что они владели языком Цицерона не хуже великих писателей древности.
Если кому-нибудь требовалось доказательство вредоносности античных книг, то таким доказательством могли служить ошибки юности Жервена, будущего аббата Сен-Рикье. Когда он учился в епископской школе в Реймсе, «его чистая душа была замутнена ежедневным чтением поэтов». Какое-то время он жил в разврате. Но вскоре, почувствовав угрызения совести, он вырвался из рук куртизанки, заставил замолчать свои чувства и порвал с этими некогда дорогими ему поэтами, «чтобы, изучая словесность, не погубить душу». В Сен-Рикье он создал библиотеку из 36 томов, в которой не было ни одного языческого автора.
При таких условиях вполне возможно, что обучение юных детей жертвователей уводило их в целом не очень далеко. Впрочем, единственной вещью, которую обязательно надо было изучать этим будущим монахам хора, было (естественно, помимо Устава) изучение песнопений, необходимых для богослужения. Вместе с тем в некоторых аббатствах обучение значительно превышало этот уровень. В особенности это можно сказать об аббатстве святого Бенедикта во Флёри-на-Луаре во времена, когда им управлял Аббон, то есть с 988 по 1004 год.
Аббон из Флёри-на-Луаре
Аббон сам учился в том же Флёри. Он изучал грамматику, диалектику (которую можно определить как технику мышления, правда, весьма отличную от того, что мы понимаем под современной философией) и, наконец, арифметику. Благодаря диалектике образование во Флёри уже превышало описанный выше минимальный уровень. Однако когда Аббон, в свою очередь, стал ответственным за обучение, он счел, что и этот уровень еще слишком низок Чтобы иметь возможность обучать, он сам начал учиться. Куда же можно было податься для этого, как не в епископские школы, которые в то время давали высшее образование? Он поехал в Париж, а затем в Реймс, украшением которого был Герберт. Там он изучил астрономию так, что превзошел своего наставника. Затем, в Орлеане, он обогатил свои знания музыки. Наконец, он изучил риторику и геометрию, однако не очень глубоко, ибо в монастырской среде, похоже, его уже начали считать чересчур ученым. С таким багажом, который соответствовал, как мы видели, тому, что называлось семью свободными искусствами, он вернулся во Флёри и стал делиться знаниями со своими братьями. В предыдущих главах уже говорилось, что его вызвали в английский монастырь Рамси, некогда пользовавшийся репутацией заведения, дающего прекрасное образование, однако в то время нуждавшийся в человеке, способном восстановить былой уровень.
Аббон оставил нам письменные свидетельства своей науки. Он давал консультации по грамматике на основе того же незаменимого Присциана. В области арифметики он пользовался трактатом Виктория Аквитанского и снабдил его массой своих комментариев. Сам Аббон написал трактат по астрономии, где, воспользовавшись возможностью, исправил некоторые ошибки Дионисия Малого[164] в расчете пасхального цикла. Адемар из Шабанна пишет, что с ним консультировались и безоговорочно верили его мнению и в Галлии, и в Германии, и в Англии. Его признавали мудрым, как Соломон, его называли «вторым Туллием», то есть вторым Цицероном. «Все, что он говорил, было не человеческим, а божественным словом».
Епископские школы
Однако даже будучи уникальной из-за своего ученого аббата, школа во Флёри оставалась монастырской школой, которую нельзя было даже сравнивать с теми школами, что блистали во многих епископских городах.
Те, кто сидел на скамьях этих школ, сильно разнились по происхождению и по возрасту. Одни были низкого происхождения: например, Герберт, юный крестьянин из Оверни, который был замечен уже в маленькой монастырской школе Сен-Жеро в Орильяке Борелем, графом Барселоны, и отправлен продолжать образование в школу, руководимую епископом Вика в Каталонии Аттоном. Фульберт также родился в очень бедной семье; его образованием занималась школа в Реймсе и не зря потратила время. Естественно, для учеников такого рода образование было бесплатным, им даже обеспечивалось питание и одежда. «Заботься, чтобы твои ученики не голодали и не были раздеты», — напишет позже Фульберт Шартрский учителю богословия аббатства святого Иллария в Пуатье Гильдегеру.
Мы видели, что студенты обычно готовились к церковной деятельности, причем наиболее одаренные из них могли сделать на этом поприще блистательную карьеру. Но были также другие, происходившие из аристократических феодальных семей. Папа Лев IX[165], который сам был высокого происхождения (он приходился кузеном императору Конраду), вспоминал, что среди его соучеников в Туле около 1020 года находились «благородные собрания юношей». За 30 лет до того Герберт, бывший тогда учителем богословия в Реймсе, похвалялся тем, что «предложил наиболее благородным из молодых людей ознакомление со свободными искусствами». Среди этих молодых людей был даже сын Гуго Капета, Роберт, будущий король Франции. Эта категория студентов платила за обучение и вела, судя по всему, более приятный образ жизни, не всегда отказывая себе в запретных удовольствиях, подобно Жервену, о заблуждении и обращении которого упоминалось чуть выше. Он обучался в том же Реймсе. Из этого, пожалуй, можно сделать вывод, что такие студенты жили в городе, тогда как ученики, обучавшиеся бесплатно, несомненно находили себе жилье в местах, зависевших от епископата.
Помимо этих двух видов студентов, существовал еще третий, не такой многочисленный: к ним относились уже получившие образование духовные лица, еще молодые, которые, подобно Аббону, желали обогатить свои знания. Сосредоточившись на науках, которым они хотели бы обучаться, они обращались в школы, известные своими достижениями в соответствующих областях. Именно так поступил Аббон. Как и Герберт, который, уже пройдя обучение и находясь в Риме, испросил в 971 году у Аттона Великого (у которого он пользовался большим уважением) разрешения последовать за архидиаконом Реймса Гераннусом, возвращавшимся домой, поскольку познания Гераннуса в философии сильно привлекали Герберта. Архиепископ Адальберон Реймский воспользовался ситуацией и доверил ему управление епископской школой. Герберт оставался учителем богословия до 991 года, не считая пребывания в течение менее чем двух лет в итальянском монастыре Боббио, в котором Оттон II сделал его аббатом, но который он так и не смог реформировать.
Пример высшего образования: Герберт
Герберт нашел в лице Ришера, которого читатели нашей книги запомнили по его многотрудному путешествию из Реймса в Шартр, прекрасного ученика и горячего почитателя. Ришер посвятил большую часть своей хроники описанию того, как его учитель учился сам и учил других. Благодаря этому драгоценному источнику и некоторым другим мы можем представить себе структуру высшего образования в 1000 году. Изначально оно включало семь «свободных искусств», которые по издавна сложившейся традиции распределялись на тривиум (trivium) и квадривиум (quadrivium).
Ришер добавляет к тривиуму логику. Обычно же тривиум включал, как видно из названия, три дисциплины, три «искусства»: грамматику, диалектику и риторику. Квадривиум соединял в себе четыре математические науки: арифметику, музыку, геометрию и астрономию. К семи свободным искусствам примыкали медицина, право и получавшее все большее развитие богословие.
Ришер мало говорит нам о том, как Герберт преподавал грамматику. Должно быть, как в то время было принято, он начинал с «Ars grammatica[166]» Доната[167], учителя святого Иеронима. Затем он учил по Присциану и, наконец, по «Сатирикону» Марциана Капеллы, автора V века, которому Средневековье в основном и обязано определением семи искусств.
То, как реймский учитель богословия объяснял и практиковал диалектику, можно представить себе более точно. Жадный до знаний и прилежный в их обретении, Герберт тем не менее не внес в них ничего нового. Это особенно верно в отношении диалектики, где более чем в других науках, видно, насколько привычный образ мышления и повседневная интеллектуальная жизнь самых высокоразвитых умов того времени отличались от того, что принято сейчас.
Никому не приходило в голову ничего изобретать. Казалось, что все уже можно найти в древних книгах, сохранившихся от предыдущих веков. Они полностью доверяли Порфирию, философу школы неоплатоников эпохи Константина, переведенному на латинский язык Викторином; Боэцию, который жил за 500 лет до них при готском короле Теодорихе[168] и мог передать им некоторые элементы философии Аристотеля, а также философские труды Цицерона, впрочем, не без того, чтобы добавить к ним плоды собственных размышлений. Собственные усилия философов 1000 года были направлены только на то, чтобы как можно лучше понять великих древних, усвоить их метод мышления и пользоваться им для решения абстрактных вопросов, зачастую кажущихся теперь смехотворными. Это был способ мышления, открытый для бесконечных дискуссий, во время которых противники состязались в хитроумии рассуждений.
Придворная культура
Ришер оставил нам отчет, причем, возможно, стенографический, об одном диспуте, который Герберт вел с ученым Отрихом в присутствии Оттона II. Речь шла о том, чтобы решить, являются ли математика и физика равными по значимости дисциплинами или вторая подчинена первой, как вид — роду. Этот вопрос отнюдь не был праздным, поскольку астрономию, которая была частью физики, нельзя было изучать без математики. Этот вопрос актуален и сейчас. Однако суждение затерялось в таком бесконечном числе отступлений, что Оттон своей властью положил ему конец, «ибо на него ушел почти весь день и его непрерывная длительность начала утомлять слушателей».
Ни одна новая философская концепция не могла возникнуть на основе этих умствований, не приспособленных для того, чтобы выделять главное, и выводивших свои аргументы только из изученных сочинений старых учителей, мнение которых считалось безошибочным и решающим. Единственным результатом была необычайно изощренная форма мышления, скорее опасная, нежели полезная. Мы видим, что она не замыкалась в пределах школ, а давала ученым мужам возможность блистать при дворах. Таким образом, и миряне были в состоянии получать удовольствие от этих изощрений ума. Сказанное относится не только к ближайшему окружению Оттона, который, похоже, более всех других властителей своей эпохи преуспел в восстановлении культуры, но также, видимо, и ко двору короля Франции.
Роберт Благочестивый, ученик Герберта, прославился благодаря своему биографу Эльго, ученику Аббона, как человек, умевший петь у аналоя не хуже монаха хора. Естественно, что в Реймсе он научился и многому другому. Если бы это было не так, то Асцелин в своей уже многократно цитировавшейся нами поэме не изобразил бы свой диспут с ним следующим образом:
«Король. Вполне ясно, что твоя побелевшая голова может соперничать в белизне с лебедиными перьями. Ясно, что именно твоя натура старца заставляет тебя говорить таким языком; именно она заставляет тебя говорить вздор.
Епископ. Другая натура вдохновляет меня сейчас, и эту натуру старость не ослабляет.
Король. Скажи мне, сколько натур у человека?
Епископ. Думаю, их две. Однако ты знаешь, что у этих двух натур, при всем том, много аспектов.
Король. Которая из двух говорит в тебе? От которой исходят твои слова?
Епископ. Я всего лишь простой книжник, а не изощренный диалектик.
Король. Так попытайся собрать воедино остатки твоих прошлых знаний.
Епископ. Как бы мало ни осталось в памяти, всего все равно не забудешь.
Король. Это твоя старость не позволяет тебе сейчас определить, которая натура вдохновляет тебя?
Епископ. Ты дразнишь меня, король <...> Философы не ограничивают натуру строгой дефиницией. Некоторые мудрецы заявляют, что ее творит огонь. Для других натура есть независимая воля Бога. Однако натура Бога есть сам Бог, а для человека это не так. Если Бог действительно существует, то Он неизменен: Его собственная суть не может изменяться. <…> Но любая сотворенная вещь обретает натуру в то мгновение, когда она обретает существование…»
Далее епископ развивает свою мысль на протяжении нескольких десятков стихов. «В человеке, за счет двойственности его натуры, имеется два вида субстанции. <…> Одна привязана к одной натуре, другая — к другой…» И так далее.
Очевидно, Асцелин рассчитывал, что его труд прочтет не только Роберт. И потому никто не запрещает представить себе, что многие «благородные молодые люди», обучавшиеся, как и король, в Реймсе, оставались при его дворе и позволяли этому двору блистать не хуже императорского. В конце концов, диалектика могла пригодиться хотя бы для этого.
Красноречие хороших авторов
Третье по счету искусство, входившее в тривиум, — риторика — вызывает меньше вопросов. Суть ее известна. Это искусство хорошо говорить, и не было другого способа научиться ей, кроме чтения хороших авторов. Существовал, конечно, и теоретический трактат, приписываемый гипотетическому учителю святого Иеронима по имени Викторин. Этим трактатом пользовался Аббон. Герберт же заставлял всех своих учеников читать великих поэтов античности. Ришер перечисляет Вергилия, Стация, Теренция, Ювенала, Персия, которого в поэме Асцелина цитирует Роберт, Горация, Лукана[169]. Поскольку сам он изо всех сил старается подражать Саллюстию, можно предположить, что труды этого прозаика также изучали в Реймсе. И Цицерон не мог не быть там известен, раз Герберт однажды написал Рамнульфу, аббату Сен-Пьер-ле-Виф в Сансе, что заказал для себя копию из трудов знаменитого оратора: «‹…› мы жаждем потока красноречия Марка Туллия». Это было в январе 989 года, в год, когда только что умер архиепископ Адальберон, а Гуго Капет защищал свою корону от опасных конкурентов-каролингов. Потому Герберт добавляет: «Пусть Марк Туллий утешит нас среди моря забот, которое нас обступает».
По этому замечанию можно судить, какую ценность имели в глазах Герберта рукописи тех трудов, которые он давал для изучения ученикам и сам страстно любил читать. Эта тема занимает огромное место в его переписке, которая является одним из наиболее интересных источников его эпохи. Он обращался во многие аббатства, где работали монахи-переписчики, например, в аббатство святого Мартина в Туре, аббат которого Эберард получил от него следующее очень характерное письмо: «Я всеми силами стремлюсь создать библиотеку. В течение долгого времени я за большие деньги покупал в Риме и других областях Италии, в Германии и в Бельгии рукописи различных авторов. Мне в этом помогали своим благорасположением и рвением мои друзья в каждой из этих провинций. Позвольте просить Вас оказать мне ту же услугу. В конце моего письма перечислены имена авторов, копии чьих произведений я желал бы получить. Я передам для переписчиков пергамент и необходимые деньги, согласно тому, как Вы прикажете, и вечно буду помнить о Вашем благодеянии». У Герберта были корреспонденты в Генте, в Трире, в Риме, в других районах Италии, в Испании — в Жероне и Барселоне. По его просьбе они приказывали переписывать тексты либо разыскивали для него рукописи, которые он хотел купить. Он платил деньгами, а иногда натурой. Монах Реми из Трира попросил у него модель небесной сферы. Герберт ответил: «Мы не посылаем тебе сферу, потому что в настоящий момент ее у нас нет и потому что сделать ее нелегкий труд, что особенно сложно при нынешнем состоянии общественных дел. Впрочем, если ты желаешь иметь такую сферу пришли нам «Ахиллеиду» Стация, добрым образом переписанную: так ты заплатишь за сферу, которую мы не можем предоставить тебе бесплатно». Иногда Герберт долго охотился за нужными рукописями: например, за трактатом по арифметике, принадлежавшим ранее епископу Жероны. Рукописи уже не оказалось в этом городе, но Герберт неизвестно каким образом догадался, что трактат был оставлен в аббатстве Сен-Жеро в Орильяке, и востребовал его у аббата. Иногда он просил кого-нибудь, кто уведомлял его в своем приезде, привезти с собой какую-нибудь книгу, которой не хватало в Реймской библиотеке.
Во время своего многотрудного пребывания в Боббио он по крайней мере мог вознаградить себя удовольствием работать в богатой библиотеке аббатства. По возвращении в Реймс он вспомнил об этой библиотеке и попросил некоего монаха, не поддержавшего бунт своих братьев и сохранившего верность Герберту, втайне переписать для него некоторые рукописи.
Таким образом, просматривая переписку Герберта, мы можем живо представить себе, как были спасены от исчезновения античные рукописи: большинство из них дошло до нас в средневековых списках, аналогичных тем, которые он заказывал. Так что не все аббаты сторонились языческих авторов, и слава Богу, ибо нигде, кроме монастырей, в ту эпоху невозможно было найти переписчиков, располагавших для работы временем и терпением.
После того как ученики хорошо усваивали примеры великих классиков, Герберт знакомил их с правилами риторики, которые изложил в трактате. Поэтому он также удостоился звания «софиста» — хотя Ришеру стоило скорее назвать его за это ритором, или учителем красноречия, — «за то, что заставлял их упражняться вместе с ним в диспутах и учил их искусству приводить доводы так, что искусство само по себе уже не привлекало внимания, что является высшей ступенью совершенства, какого может достичь оратор». Для будущей карьеры его учеников, как духовных лиц, так и мирян, красноречие было по сути необходимо. «Я всегда считал первостепенно важным изучение того, как правильно жить и как правильно говорить», — писал Герберт аббату монастыря святого Юлиана в Туре. «Верно, что при всем том искусство правильно жить, даже взятое само по себе, предпочтительнее, нежели то, что называют умением правильно говорить, и что для человека, не обремененного заботами управления, достаточно первого без второго. Однако если человек, как все мы, участвует в общественных делах, то ему необходимы оба искусства; ибо крайне полезно уметь говорить так, чтобы убедить собеседника или сдержать мягкостью своего красноречия порывы заблудших душ».
Каким бы хорошим учителем словесности ни был Герберт, больше всего он поражал воображение современников своими познаниями «искусств математических», то есть квадривиума. По правде сказать, нельзя утверждать, что он внес много нового и в эти науки. Но, похоже, он умел хорошо объяснять их своим ученикам.
Арифметика
Арифметика еще не вышла из детского возраста. Конечно, римские цифры, столь неудобные даже для простых вычислений, постепенно вытеснялись теми, которые, без особого на то основания, стали называть арабскими. Однако нуль, без которого невозможно обозначать круглые десятки, сотни и т. п., не был известен. Боэций в V веке ввел в употребление примитивную счетную машину под названием абак. Около 970 года ученик шпейерской школы по имени Вальтер описал ее в поэме о святом Христофоре. Так что Герберт не изобрел ее, однако, возможно, расширил сферу ее применения. Ришер описывает абак, который Герберт заказал «одному чеканщику». Это была «пластинка, разделенная на отделы. В длину она разделялась на 27 частей, на которые он нанес 9 знаков, обозначавших все числа». Это не вполне понятно. Предположим, что на этой пластине было три колонки, каждая из которых могла включать 9 цифр. Эти цифры были материально воплощены следующим образом: «Он приказал также сделать тысячу знаков из рога, — продолжает Ришер, — благодаря которым можно было производить умножение с такой скоростью, что, принимая во внимание великое множество цифр, их можно было понять быстрее, нежели выразить словами». Очевидно, ученик Герберта хочет этим сказать, что подвижные цифры из рога «производили умножение», будучи правильно размещены в клетках абака. Это позволяет лучше понять «Regula de abaco computi»[170], которые анализирует Оллерис в своей работе «Жизнь Герберта». Не стоит думать, будто применение абака могло быть еще более широким; ведь уже при умножении оно становилось весьма непростым и должно было еще усложниться при переходе к делению. Все же у нас достаточно данных, чтобы представить себе, как ученики Герберта выбирали одну из девяти клеток, каждая из которых содержала значки, изображавшие определенную цифру, как они помещали роговые символы в соответствующую клетку абака и, возможно, затем мысленно производили сложение промежуточных результатов… Учитывая это, можно считать, что они могли оперировать только с целыми числами, а для дробей использовали старую римскую двенадцатиричную систему[171]. Люди, занимавшиеся счетом в 1000 году, были менее искусны в арифметике, чем ученики наших начальных школ.
Музыка
Музыку в это время относили к математическим искусствам. Подобная точка зрения восходила к идеям полулегендарного Пифагора, того грека, жившего в VI веке до н.э., которому приписываются древнейшие достижения в области математики. Он видел в числах основу любого познания и, заметим, во многом предопределил этим особенности нашего современного мышления. Что касается музыки, то, если он и не был в состоянии йотировать частоты звуковых вибраций, как это делаем мы, то он во всяком случае понял, что они существуют, и констатировал, что частота вибрации увеличивается, а звук становится выше, если звучащая струна укорачивается. Рассказывают, что однажды он провел целый день у дверей кузни, в которой пользовались пятью молотами. Каждый из них издавал отличный от других звук Он заметил, что два молота издают один и тот же звук, но с разницей в октаву. Он взвесил молоты и установил, что молот, издававший более низкий звук, был вдвое тяжелее, чем издававший высокий звук Один из оставшихся трех молотов диссонировал, и Пифагор отложил его в сторону. Два остальных звучали, по сравнению с первыми двумя, один, — в квинту, а другой — в кварту. Их веса были соответственно 5:7 и 4:7. Пифагор, который не доверял слишком точному чувству слуха, равно как и музыкальным инструментам, которые изменяли звучание в зависимости от температуры и других воздействий, благодаря этому опыту с молотами смог с большей уверенностью заключить, что существует определенное соотношение высоты звука с длиной струны струнных инструментов и с объемом духового инструмента.
Таковы истоки математической теории музыки, которая, должно быть, дошла до средневековых мыслителей благодаря трактату «De musica»[172]* Боэция. Согласно рассказу Ришера, Герберт «установил последовательность тонов на монокорде» — инструменте, на котором можно было произвольно менять длину одной струны при помощи подставки. «Он различал их созвучия или симфонические объединения[173] по тонам и полутонам ‹…› и посредством соответствующей классификации звуков по различным тонам он расширил совершенное знание этой науки».
В музыкальной теории Герберт придерживался взглядов Боэция. Живший вскоре после него Гвидо, монах из Ареццо, возможно, француз по происхождению (он родился в окрестностях Парижа и воспитывался в аббатстве Сен-Мор-де-Фоссе), дал имена нотам гаммы, которые мы используем до сих пор. Ut, re, mi, fa, sol, la, si были первыми слогами каждой из семи строк гимна, посвященного святому Иоанну[174]. До этой весьма полезной реформы ноты обозначались буквами алфавита. Однако эти слоги, которым было уготовано столь прекрасное будущее, поначалу давали лишь относительное обозначение нот: с какой бы ноты ни начиналась гамма, ее начинали с ut. Обозначение абсолютной высоты — в тех пределах, в которых ее можно установить, не зная диапазона, — еще долгое время передавалось традиционными буквами.
Однако следует оговорить, что музыканты-певчие не знали теории музыки, да она им и не была особенно нужна. Певчие и монахи хора обучались при помощи упражнений, вырабатывали конкретное чувство мелодии. Музыкальная нотация, которой они располагали, так называемые «невмы»[175], знаки, также заимствованные у греков, не представляли собой зрительного образа высоты звука (в отличие от наших нот, расположенных друг над другом на пяти линейках). Память, возможно, помогала певчим куда больше, нежели ноты. Идея нотного стана впервые была предложена тем же Гвидо из Ареццо.
Переписка Герберта свидетельствует о том, что он сам строил и руководил строительством органов. Таким образом, как в арифметике он конкретизировал знания, усовершенствовав абак, так и в музыке он не удовлетворялся одной теорией.
Геометрия
Что касается геометрии, то до нас дошел трактат по этой науке, написанный самим Гербертом. Он иногда цитирует в нем греческих авторов. Однако он не знал их языка. Скорее всего, он познакомился с их трудами только по рукописи, находившейся в то время в аббатстве Боббио и также сохранившейся до наших дней. Эта работа, скорее практическая, чем теоретическая, была создана для римских землемеров. Расчет площадей поверхностей в ней не всегда точен, хотя именно этому вопросу в основном и посвящен трактат.
Астрономия
Остается астрономия. Ришер пишет: «Необходимо сказать, с каким пылом он изучал астрономию, чтобы читатель хорошо уяснил себе, какова была мудрость этого человека и сколь полезна вообще эта наука». Ранее в этой книге мы уже встречались с тремя сферами, сконструированными Гербертом, чтобы явить взору учеников материальный образ мироздания, представлявшегося, как мы помним, в виде сферы с Землей в центре, и движения небесных тел. Сколь интересными и полезными ни были эти модели, они всего лишь иллюстрировали астрономические представления, унаследованные от античности. Правда, в большинстве монастырей об этих представлениях не имели понятия, однако они были сохранены в тех учебных центрах, которые в большей степени ценили мирские книги.
Право
Из трех наук, не входивших в свободные искусства, — медицины, права и богословия, — Герберт хорошо знал лишь две последние. Он был изощрен в каноническом праве и охотно передавал свои знания ученикам. Что касается гражданского права, то, похоже, он не обучал ему; в его времена эта отрасль юридической науки еще находилась в стадии младенчества. Обширные своды законов Юстиниана: Дигеста, Кодексы и Институции, — были обнаружены значительно позднее. В отсутствие этих образцов римского права, которые ревностно изучались в Италии и во Франции, в особенности в Орлеане, «законниками» последующих столетий, единственную основу гражданского права составляли местные обычаи, мало подходившие для теоретического изучения. Правда, Жан де Вандевьер, аббат монастыря Горзе в Лотарингии, по словам его биографа, «слово в слово знал все светские законы». Очевидно, здесь речь идет об эдиктах императора Оттона, поскольку Лотарингия входила в состав Империи. У Капетингов же практически не было кодифицированных законов, действовавших во всем королевстве, и вполне понятно, почему в Реймсе, где было ни к чему изучать германские законы, было практически не на чем строить изучение гражданского права.
Богословие
Богословие предоставляло бесконечную пищу для удовлетворения интеллектуального голода Герберта и его учеников. Вместе с тем не похоже, чтобы в Реймсе оно вызывало такую же неодолимую страсть, которая позже составила славу и несчастье Парижского университета[176]. Из теологических трудов нашего учителя богословия следует выделить весьма интересный трактат «О теле и крови Христовых». Впрочем, возможно, это сочинение на самом деле не принадлежит ему, но лишь подписано его именем. Ереси, порождаемые рискованными интерпретациями догм, не были отличительной чертой интересующего нас времени. Те ереси, что были разоблачены в Орлеане и привели к гибели на костре Эрбера и Лизуа, а также их учеников, были, как мы видели, ересями совсем другого рода.
Медицина
Герберт понимал, что недостаточно знает медицину. У него было несколько трактатов, посвященных этой науке, и он их, несомненно, прочел, однако он не владел искусством лечения. В этой области блистал Ришер, или, во всяком случае, создавал о себе такую славу. Так или иначе, Ришер интересовался медициной. Мы видели, как он поехал в Шартр, чтобы прочесть «Афоризмы» Гиппократа. В своей летописи он не упоминает ни об одной смерти без того, чтобы описать ее клиническую картину. Например, король Лотарь, «пораженный приступом того недуга, который врачи именуют коликами, скончался в своей постели». «Он жаловался на то, что справа, чуть выше интимного места, чувствует нестерпимую боль. Он также ощущал жестокие боли от пупа до селезенки вплоть до левого паха, и даже в заднем проходе. Почки и кишечник также были поражены в немалой степени. У него были постоянные позывы и кровавый стул. Временами его голос становился совершенно глухим, его бросало в холод от лихорадки. В кишечнике было слышно рычание. Его постоянно тошнило. Он безуспешно пытался вызвать рвоту, его живот был напряжен, а в желудке ощущалось жжение». Похоже, что в этих симптомах можно распознать аппендицит и его естественное следствие — перитонит.
Король Людовик V умер «на летней охоте» в результате падения с лошади. «Он ощущал сильную боль в печени, и, поскольку кровь, как утверждают врачи, сосредоточена в печени, то сотрясение, полученное печенью при ударе, заставило кровь излиться в кровяное русло. Эта кровь обильно текла у него из носа и изо рта. Грудь его трепетала от постоянной боли, и все тело было охвачено нестерпимым жаром».
А вот как умер Эд I, граф Шартрский, непокорный вассал Гуго Капета: «Изменение погоды вызвало у него избыточность соков, и он заболел болезнью, которую врачи называют жабою. Эта болезнь сосредотачивается внутри горла и происходит из катаральной жидкости; при этом иногда она доходит до челюстей и щек, а иногда до груди и легких, образуя весьма болезненную опухоль. Эти области распухают и становятся горячими с первого же дня, а на третий пациент умирает. Итак, Эд заболел этой болезнью; во всем горле он чувствовал нестерпимую боль. Его кровь пылала, и речь стала прерывистой. В верхней части головы эта боль не ощущалась, но она охватила всю утробу и жестоко терзала легкие и печень».
Ришер не пишет, призывали ли врачей на помочь этим благородным пациентам. Возможно, их не было поблизости. Обычай иметь при себе личного врача возник в среде аристократов только в середине XI века. Однако во времена 1000 года мы находим примеры того, что обязанности врачей исполняли лица духовного звания. Известно, например, что Фульберт, прежде чем стать епископом Шартра в 1006 году, давал медицинские предписания и составлял лекарства по рецептам древних авторов, в первую очередь Галена. В то время он руководил епископской школой в Шартре, где медицина была в почете и до него, благодаря, в частности, Герибранду, другу Ришера. У Герибранда, помимо «Афоризмов» Гиппократа, была рукопись «О согласии Гиппократа, Галена и Сорана», которую, естественно, Ришер тоже хотел прочитать. Герибранд столь основательно изучил эти рукописи, что «не было ничего такого, чего бы он не знал в искусстве составлять лекарства, фармацевтике, ботанике и хирургии». Вот какая высокая хвала, однако нам больше пригодились бы какие-нибудь конкретные подробности.
В целом, читая Ришера, не находишь ничего, что заставило бы поверить, будто он превзошел в медицине своего учителя. Герберт наверняка мог столь же хорошо или даже лучше описывать симптомы болезней или смертельные ранения, которые ему приходилось видеть. Ришер же нигде не хвастает тем, что сам лечил кого бы то ни было.
Основные епископские школы
Мы узнали много конкретного о великом учителе богословия из Реймса. Его абак, его орган, его сферы позволяют представить его самого как учителя, не позволявшего ни себе, ни ученикам ограничиваться лишь словами и умевшего доходчиво передавать свои знания другим. Именно поэтому, если он и не внес ничего нового в науки, то уж, вне всякого сомнения, сделал реймскую школу одной из наиболее прославленных школ своего времени. Благодаря в первую очередь Ришеру, которому следует отдать должное за это, замечательная школа Реймса известна нам лучше, чем все остальные. Знания о ней позволяют представить себе другие школы: например парижскую, которой предстояло в последующие века превзойти все остальные и стать старейшим университетом; шартрскую, о чьей высокой репутации в области медицины мы уже упоминали: этой школой руководила твердая рука Фульберта. Можно представить себе школу в Орлеане, школу в Лане, которую впоследствии прославил святой Ансельм[177], школу в Туре. Южнее Луары таких школ было меньше, однако можно вспомнить школу святого Илария в Пуатье, школу в Вике, где обучался Герберт. На землях, принадлежавших Империи, Льеж блистал ярче, чем Тулы в Льеже епископ Ноткер, умерший в 1008 году, создал и укрепил епископскую школу, а также заложил основы других школ; во все из них принимали и духовных лиц, и мирян. Кельн, Трир, Майнц, Страсбург, Хильдесгейм, Магдебург, Рененсбург — во всех этих городах были свои школы, правда, менее знаменитые, нежели монастырские школы в Санкт-Галлене, Рейхенау и Фульде. В Ахене Оттон III воссоздал придворную школу, основанную Карлом Великим, однако существование этой школы оказалось недолгим. Расцвет школ Германии нельзя объяснить «Оттоновским возрождением»[178].
Монахиня-драматург
Интеллектуальная деятельность развивалась также в некоторых женских монастырях, которые принимали в первую очередь высокородных девиц. Наиболее известным из таких монастырей было аббатство Гандерсгейм, находившееся на территории современного Брауншвейга и зависевшее в те времена от герцогства Саксонского. В 60-е годы X века аббатисой этого монастыря была Герберга, племянница Оттона Великого. Эта принцесса получила очень хорошее образование, обучаясь у ученых монахов святого Эммерана в Регенсбурге. Среди монахинь, вверенных ее попечению, она сразу же отметила Гросвиту[179], которая была чуть старше ее самой, и занялась развитием ее ума. Девушка прочитала все книги из библиотеки монастыря и другие, которые доставала ей аббатиса. Она почувствовала в себе призвание к литературе. Из-под ее пера вышли религиозные поэмы «Жизнь Девы» и «Вознесение», рассказ в стихах, одновременно шуточный и назидательный, под названием «Гондольфус», жизнеописания святых, две большие исторические поэмы: об Оттоне Великом и об основании монастыря в Гандерсгейме. Но самое интересное — то, что прежде всех этих произведений она создала шесть весьма любопытных пьес для театра, в которых попыталась поставить искусство Теренция на службу христианскому воспитанию. Ей не очень удалось подражание Теренцию, но от этого ее драматические произведения ничуть не проиграли. На деле она с полной свободой создала и оставила последующим поколениям драмы, которые хотя и схематичны, но построены так, как шесть веков спустя будут построены драмы Шекспира и Кальдерона и «Дон Жуан» Мольера. Судите сами по ее «Каллимаху».
Каллимах, влюбленный в Друзиану, замужнюю христианку, открывает свою тайну друзьям, пользуясь при этом всякого рода двусмысленными иносказаниями, которые, возможно, в то время считались верхом утонченности среди образованных молодых людей. Затем мы видим, как он добивается своей возлюбленной, и его тон меняется: «Клянусь, вы для меня дороже всего, что есть на свете. — Но какое родство по крови иль другой закон дает вам право меня любить? — Лишь ваша красота. — Что общего меж ей и вами? — Покуда было мало общего, увы! Но верю, впредь все будет по-другому…» Друзиана, смущенная больше, чем хочет показать, просит Бога помочь ей умереть, чтобы избежать искушения, и ее просьба исполняется. И вот мы видим сцену на кладбище, почти такую же, как в «Ромео и Джульетте». Каллимах подкупает сторожа Фортуната, чтобы тот открыл для него гробницу. «О Друзиана, Друзиана! — восклицает он. — Какую нежность сердца я предлагал тебе, какая неподдельная любовь стесняла мою грудь! Но ты меня отвергла, противилась всегда моей мольбе. Теперь же я могу тебе подвергнуть любому оскорблению, какому я захочу». Однако змея жалит обоих мужчин. Они умирают. Бог, в милосердии своем, воскрешает заблудшего влюбленного и добродетельную супругу. Каллимах, охваченный раскаяньем, становится христианином. Друзиана получает от Бога силу, чтобы воскресить также Фортуната. Однако это существо, полностью погрязшее во зле, предпочитает вновь умереть, нежели видеть невыносимое для него зрелище благодати, снизошедшей на его бывшего сообщника. Таким образом он сам обрекает себя на проклятье: из чего следует, что божественное милосердие обращено ко всем без исключения грешникам и покидает только тех, кто сам от него отказывается. Вот так за 40 лет до 1000 года саксонская монахиня сумела поставить театр на службу вере. Возможно, она предвосхитила появление наших драматургов-моралистов или Поля Клоделя[180].
Ставились ли эти пьесы в монастыре? Это вполне возможно: высокородные монахини в повседневной жизни, конечно, не были похожи ни на кармелиток, ни на минориток[181]. Ничто не мешает нам представить себе даже, что они ставили эти спектакли для благородных сеньоров и благородных дам. Тем не менее театр Гросвиты — уникальное, нетипичное для того времени литературное явление. Уже упоминавшиеся в предыдущих главах литургические драмы представляют собой совершенно другой аспект драматического искусства, если их вообще можно отнести к драматическому искусству.
Из обычных литературных трудов духовных лиц эпохи мы уже многое упоминали. Мы знакомились с отрывками из летописей Ришера, Рауля Глабера, Адемара из Шабанна, Титмара Мерзебургского, с «Чудесами святого Бенедикта» Андре из Флёри, с рассказом о путешествии Лиутпранда, с поэмой Адальберона, с письмами Герберта, с «Жизнеописанием короля Роберта» Эльго. Мы пытались найти у них намеки на различные аспекты повседневной жизни их времени, и они, пожалуй, не обманули наших ожиданий. Их авторы отнюдь не единственные, кто был «одержим» страстью к писанию, и они сами создали немало других трудов, которые мы здесь не цитировали. Однако не будем превращать нашу книгу в исследование по истории литературы. Мы уже достаточно знаем, чтобы представить себе, каким именно жанрам литературного творчества духовные лица посвящали большую часть своей повседневной жизни.
Рауль и надписи в монастыре Сен-Жермен в Осере
Надеемся, читатель поймет нас, если мы отнесем к разделу «трудов духа» также надписи, которые в те времена наносились на алтари в храмах. Эти надписи вновь возвращают нас в монастырь, где мы окажемся в компании уже знакомого нам Рауля Глабера.
Возможно, в это время он находился в монастыре Сен-Бенинь в Дижоне. Однажды его «товарищи и братья» из монастыря святого Жермена в Осере попросили его приехать и восстановить надписи на их алтарях, «сделанные в давние времена знающими людьми, однако ныне стертые временем, как это бывает почти со всеми вещами, и едва видимые». Он охотно взялся за эту работу, для которой чувствовал себя достаточно подготовленным. Однако поскольку он все время работал стоя и, возможно, наклонившись к стенке, чтобы начертать на ней буквы, его разбил радикулит. Однажды ночью он почувствовал, что окончательно не может разогнуться, и лежал на своей постели почти парализованный. В течение трех следующих дней он находился в лазарете и не мог вставать. Наконец, святой Жермен сам явился ему во сне в образе «человека с почтенными белыми волосами». Он обнял спящего и велел ему вновь приняться за работу, пообещав, что боль уже не вернется. Рауль тотчас встал и бросился к алтарю святых мучеников Виктора, Аполлинария и Георгия, которым была посвящена часовня лазарета. Там он с радостью принял участие в утренней службе. Когда наступил день, Рауль, полностью пришедший в себя, «составил надпись, включавшую имена этих святых». После чего он занялся 22 алтарями большой церкви. Он восстановил на них надписи, «должным образом составленные в стихах гекзаметром». Надо думать, раз надписи почти уже не были видны, для такой работы требовалась немалая эрудиция, позволявшая восстановить текст, если только он не сочинял этот текст по своему усмотрению. Затем Рауль сделал надписи на надгробиях святых. Наконец он взял на себя труд «украсить таким же образом гробницы нескольких духовных лиц».
Он сделал хорошую работу, которая «пришлась по вкусу людям с хорошим чувством». К сожалению, «проказа зависти», пуще прежнего разъедавшая сердца некоторых монахов, отравила состояние всеобщего удовлетворения. Некий, незадолго до этого пришедший, человек, которому пришлось бежать из своего монастыря, где он стал «ненавистен всем братьям», возымел предубеждение против Рауля и сумел заразить своей ненавистью монахов Сен-Жермена до такой степени, что они уничтожили все надписи[182]. «Однако карающий Бог не заставил долго ждать возмездия этому вдохновителю несогласия среди братьев. Он был тотчас поражен слепотой и безвозвратно обречен блуждать во тьме до конца своих дней». Вот еще один аспект монастырской жизни, о котором также следовало упомянуть.
Эпические поэмы (жесты)
Наконец, мы получаем возможность надолго удалиться от монастырей и соборов. Если духовные лица были единственными, кто оставил нам свои писания, свою литературу, предназначенную для знающих латинский язык и имевшую хождение в замкнутом кругу, то это не значит, что это был единственный вид литературы, существовавший в 1000 году. Существовала и другая литература, говорившая на том языке, на котором говорили все, и о тех вещах, которые даже самый необразованный человек мог понять и слушать с удовольствием, с чувством.
Правда, мы не можем прочесть ни строчки из этой литературы. Однако сегодня, благодаря исследованиям многих ученых, среди которых в первую очередь следует назвать Фердинанда Лота, Менендеса Пидаля, Риту Лежён, Рене Луи, уже доказано, что она существовала.
Эпические поэмы, так называемые жесты, самым знаменитым образцом которых является «Песнь о Роланде», дошли до нас только в виде копий, сделанных с более ранних рукописей в начале XII века. Однако многие факты позволяют утверждать, что задолго до этого времени подобные эпические поэмы были хорошо известны широкой публике. Если, например, мы знаем, что в середине XI века в весьма различных районах Франции братья часто носили имена Роланд и Оливьер, то почти с неизбежностью придется поверить, что в то время, когда они были крещены, то есть около 1000 года, весьма широкое распространение имела «Песнь о Роланде», в которой главному воинственному герою сопутствует мудрый друг Оливьер. Если в библиотеке Гааги обнаруживается фрагмент латинской поэмы в прозаическом переложении со ссылками на Вергилия и Овидия, однако описывающий Карла Великого во время осады некоего города, и император окружен храбрецами, имена которых мы встречаем в жестах циклов о Гильоме д'Оранже или Эмери де Нарбонне[183], если в этом тексте есть описание удара мечом, который сверху донизу разрубил надвое и всадника и лошадь, в точности как в «Песни о Роланде», то нельзя отказаться от мысли, что этот текст, который, судя по рукописи, датируется временем между 980 и 1030 годами, свидетельствует о том, что умы того времени были знакомы с этими сюжетами эпических песен. Если этого недостаточно, то приведем еще слова одного монаха (опять монаха!). Это Альберт из Меца, который в посвящении своего исторического труда «De diversitate temporum»[184], написанного около 1020 года, извиняется за то, что пересказывает события, уже изложенные другими, и замечает, что о знакомых вещах можно не без удовольствия послушать еще раз: например, казалось бы, «кантилены» — этим латинским словом в более поздних текстах обозначали жесты — могли бы утомить своими рассказами о древних делах, однако же они молодеют день ото дня, что делает их приятными для слуха.
Таким образом, Альберт из Меца не только подтверждает существование жест в начале XI века, то есть около 1000 года; он показывает, что к тому времени за плечами этого жанра уже был изрядный отрезок времени и его форма постоянно обновлялась. Сразу хочется спросить: когда возник этот жанр и как он разросся до столь длинных поэм, которые будучи наконец записаны дошли до наших дней? Придется не согласиться с утверждением Жозефа Бедье[185], который около 1010 года пытался представить жесты и, в частности, «Песнь о Роланде» как литературные произведения в современном смысле слова, написанные не ранее самого конца XI века поэтами, не опиравшимися ни на образцы, ни на авторов предыдущих веков. Бедье считал, что уже после написания фрагменты этих сюжетов преобразовались в устные легенды, распространявшиеся и существовавшие вокруг святых мест (монастырей), мимо которых проходили пути паломников.
Такому «индивидуалистическому» объяснению можно противопоставить концепцию «традиционализма»[186], развивавшуюся в Германии и во Франции в течение всего XIX века. Однако мы предлагаем обновленный и утонченный «традиционализм». Жесты не являются, как это считалось во времена романтизма, продуктом туманного коллективного сознания, осваивающего историческую память, образы которой меняются с течением времени. Современные традиционалисты полагают, что истоком жест являются достаточно короткие поэмы-сказания, сложенные во времена описываемых в них событий. В эпоху, когда не было печатных книг и мало кто из мирян умел читать, такие поэмы играли роль современных «сводок», которые публикуются в газетах во время войны. В условиях того, что Менендес Пидаль называет «героическим климатом каролингской Франции», эти тексты, переложенные в стихи, которые легче заучивать наизусть и декламировать — или, скорее, петь — воспринимались с большим чувством. Их слушали не только воины в своих замках или военных лагерях, но и простой народ. Те из них, которые рассказывали о памятных событиях, великих победах или великих несчастьях, — таких как, например, гибель Роланда в Ронсевальском ущелье, — сохранялись в течение долгого времени. Жонглеры (joculatores), бродячие актеры, развлекавшие публику, конечно, не только песнями, включали их в свой репертуар. Их передавали устно из поколения в поколение: известно, что слуховая память очень хорошо развита у тех, кто не пользуется письмом. Однако вследствие естественной склонности певцов подхлестывать интерес публики, каждый из них приукрашивал тексты, добавляя от себя эпизоды, придумывая новых героев, короче, расцвечивая эти сюжеты. Наиболее одаренные исполнители переделывали поэмы, старались подробнее изложить интригу, придать ей драматическую силу. Из удачных результатов таких попыток наиболее совершенным является, конечно, «Роланд», дошедший до нас в Оксфордской рукописи. Бедье отказывался признать, что эта «совершенная поэма» является отражением очередного этапа развития жест, и в его глазах именно ее совершенство было одним из наиболее убедительных доказательств его точки зрения.
Однако сейчас доказано: к 1000 году уже давно в замках и в деревнях жонглеры пели людям песнь о Роланде и многие другие песни. Как и большие религиозные церемонии, описанные в предыдущих главах, эти события разнообразили монотонность их жизни.
Конечно, не одни сеньоры увлекались этими описаниями сражений и грандиозных ударов мечом, которые, пусть в сильно преувеличенном виде, напоминали им многие реальные события их собственной повседневной жизни. Беднота, которая и сейчас больше всего на свете любит смотреть фильмы о жизни миллионеров и великодушных бандитов (несмотря на то, что, по мнению многих, она нещадно эксплуатируется «капиталистами» и от души проклинает гангстеров), — беднота, слушая о великих деяниях воинов прошлого, забывала о тех несчастьях, которые ей приносили воины современные.
Притом существовало еще одно обстоятельство, более глубокого свойства, которое способствовало популярности жест: эти истории о давних событиях заставляли думать о современных проблемах. Все знали, что в Испании еще есть «сарацины», как во времена Роланда. Было известно, что потомки Карла Великого только что потеряли французский престол, — борьба последнего из них продолжалась вплоть до 991 года. В других песнях речь шла о феодальных усобицах, — они перекликались с обычными заботами сеньоров, которые, независимо от того, относились ли они к крупным или мелким феодалам, всегда оказывались втянуты в подобные конфликты. В среде подвластных им людей эти песни могли усиливать местный патриотизм. Таким образом, даже будучи стилизованной под жесты, история, плодом которой всегда является современность, жила в сердцах людей.
Мы с самого начала предупреждали читателей нашей книги, что нередко будем в состоянии предложить лишь некоторые косвенные выводы. Предыдущие несколько абзацев как раз и являются такими косвенными выводами. Они правдоподобны, но непосредственных доказательств нет. Единственное, что можно с уверенностью сказать на основе источников, так это то, что в 1000 году жесты уже были известны. Но как тогда не сделать вывод о том, что они добавляли новые оттенки повседневной жизни. Мы и попытались здесь представить себе, как и для кого они звучали.
Первые памятники «вульгарного языка»
Если мы и не имеем возможности прочитать жесты в том виде, в каком они существовали в 1000 году, то уж во всяком случае ничто не запрещает нам составить себе представление о языке этих поэм. Это вполне возможно сделать благодаря тем монахам, которые доверили пергаменту 29 стихов «Песни о святой Евлалии», сочиненной в конце IX века в аббатстве Сент-Аманд неподалеку от Баланса; благодаря 129 четверостишиям, сохранившимся от поэмы о «Страстях Христовых», переписанной около 1000 года, и благодаря «Житию святого Леодегария», сложенному в стихах, возможно, в то же самое время в Отене. Очевидно, что эти назидательные поэмы были созданы для того, чтобы читать или, может быть, петь их людям. Эти анонимные образцы «вульгарного языка», на котором говорили во Франции около 1000 года, отражают его различные аспекты и требуют осторожности при интерпретации. В «Страстях» и «Святом Леодегарии» скорее всего смешались черты языка «oil» и языка «ос». В этом можно увидеть результат влияния языковых привычек переписчика, копировавшего текст на чужом для него диалекте. Однако можно также — хотя и с большой осторожностью — предположить, что автор надеялся, что его смешанный язык будет понятен и на севере, и на юге. В чем, однако, можно не сомневаться, так это в том, что, как уже указывалось в главе, посвященной языкам, монахи, поставленные перед необходимостью передавать на письме нелатинский текст, решали как могли являвшиеся во множестве орфографические и грамматические проблемы и в конечном счете писали на языке, на котором в таком виде никто и нигде не говорил. Когда около 1050 года каноник из Руана Тедбальд де Вернон написал свое обширное «Житие святого Алексея», то его язык уже было легче определить, и знатоки однозначно видят в этом прекрасном тексте, которым действительно начинается эпоха развития французской литературы, нормандский диалект, и, возможно, еще точнее: язык, на котором говорили нормандцы, завоевавшие Англию[187].
Эти религиозные поэмы на вульгарном языке вписывают недостающее звено между латинской культурой духовенства и народной культурой жест. Они избавляют нас от необходимости представлять себе два духовных мира, абсолютно чуждых друг другу. Сколь ни малочисленны осколки этих произведений, которые свидетельствуют о существовании и других поэм, ныне утраченных, они конкретизируют в нашем понимании литературный подход, посредством которого христианская мысль могла напрямую общаться с верующими мирянами. Особенно важным в этом отношении является тот факт, что «Святой Леодегарий» был написан на основе латинского жизнеописания этого святого, которое также сохранилось до наших дней. Аналогичное взаимопроникновение, но в противоположном направлении, может быть подтверждено ссылкой Альберта из Меца на жесты и Гаагским отрывком.
Итак, поднимаясь над разнообразием языков, выявляя и постепенно подрывая молчаливое сопротивление древнего сельского язычества, преодолевая головокружительные пропасти, разделяющие разум и ученость, во времена 1000 года существовало уже некое единство культуры, в разной степени ощущавшееся всеми. Взращенные на сочетании христианства и феодальной власти, недавнее бурное прошлое которой оказывало влияние на современность, люди были обязаны этому единству самим своим человеческим существованием, которое может вдохновляться только верой и историей. Во времена, когда идея развития практически не принималась во внимание, им казалось, что в таком состоянии мир будет существовать вечно.
И правда, мир не собирался меняться. Однако некое изменение, которого никто даже не осознавал, тем не менее совершалось у них на глазах и относилось к области трудов духа. После упадка, длившегося почти век, возродилось к жизни образование, от «начального» до «высшего». Приближался великолепный расцвет латинской культуры XII-XIII веков. «Вульгарный язык» пока еще весьма робко добивался чести стать письменным. Однако уже оформились великие эпические поэмы, которые будучи 100 лет спустя записаны на пергамента придали определенный оттенок французской литературе и в эпоху позднего Средневековья наложили свой отпечаток на всю христианскую культуру.
Глава XVII ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ И ТЕХНОЛОГИЯ
Прежде чем говорить о труде крестьян и ремесленников, зададимся вопросом: какими источниками энергии они располагали? Ответ будет таким: энергией собственных мышц, энергией мышц некоторых животных и энергией движения воды.
Своей собственной силой они, конечно, пользовались тогда, когда нужно было переносить тяжести или работать различными орудиями труда. Иногда они даже сами приводили в действие жернов для того, чтобы смолоть зерно, хотя уже было известно, как приводить его в действие силой воды. В этой области ничто не изменялось в течение многих веков.
Сила животных
В отношении использования силы животных дело обстояло по-другому. Насколько можно судить, эпоха 1000 года была отмечена началом решительного прогресса в области использования упряжных лошадей. Именно в это время начало распространяться то, что сейчас называется упряжью.
С древних времен было принято соединять лошадь с повозкой при помощи ремня из гибкой кожи, который крепился вокруг лошадиной шеи. К этому ремню присоединялись постромки. В результате лошадь была вынуждена держать голову высоко поднятой, и тяжесть повозки давила ей на горло на уровне трахеи, мешая дыханию. Если груз перевозили, взвалив его на спину самой лошади, то ее избавляли от подобного удушения, давая возможность опустить голову и достичь таким образом положения, более подходящего для создания тяги. Это положение достигалось благодаря жестко закрепленному кольцу вокруг лопаток, которое можно увидеть на китайских изображениях II века, в то время как Запад начал пользоваться им лишь в конце X века. Известно, что такое кольцо должно было служить столько же времени, сколько сама упряжная лошадь. Аналогичного результата можно достичь при помощи грудного ремня, в первую очередь использовавшегося в армии. Приблизительно в то же самое время единственный известный в древности вид упряжи — параллельная упряжь — стал заменяться последовательной упряжью, что также увеличивало силу тяги.
Еще одним прогрессивным изменением в способе использования лошадиной, а также воловьей (ибо волы запрягались в ярмо еще в эпоху античности) силы было изобретение подков, которые предотвращали быстрое стирание копыт животных. Первые упоминания о подкованных лошадях относятся к X веку. К концу XI века их становится очень много. Следовательно, это важное нововведение внедрялось как раз около 1000 года.
Революция в способе упряжи, которую в 1931 году описал для широкой публики в своем знаменитом труде майор Лефевр де Ноэтт[188], в 3-4 раза повысила производительность упряжной лошади. Но, как отметил Бертран Жиль в своей «Истории техники», вначале это привело лишь к весьма скромным достижениям. Для того чтобы работала животная сила, нужны маневренные колесные средства и хорошее состояние дорог. А четырехколесные повозки, единственно способные перевозить большие грузы, еще не имели подвижного дышла. Что до телег на двух колесах и с оглоблями, то они, похоже, вообще не были известны. Так что любой поворот стоил больших усилий. Впрочем, и пути передвижения находились в плачевном состоянии. Если некоторые из меровингов (вспомним знаменитую «дорогу Брунгильды»)[189] и первые каролинги умели хоть как-то поддерживать в приличном состоянии то, что осталось от древних римских дорог, и сами построили несколько новых, то хаос X века привел к их глубокому запустению. Прибавим к этому, что мостов было мало и они находились в ужасном состоянии, свидетельством чему служит известное нам описание Ришера.
Так что не на дорогах было суждено проявиться преимуществам лошадей, которых стали более широко использовать уже в XI веке: пока это происходило в полях, где лошадь тянула плуг или борону. Она оказалась более выносливой и подвижной, нежели вол, и, не сводя применение волов полностью на нет, лошадь все же постепенно вытесняла их во многих регионах.
Те, кто не имел дорогостоящих лошадей и волов, пользовались ослами, достаточно неприхотливыми животными, которых также можно было впрягать в плуг. Хотя, конечно, сила у осла значительно меньше.
Сила движущейся воды
Даже при весьма активной эксплуатации животная сила может давать лишь ограниченные результаты. Однако это далеко не единственная энергия природного происхождения, и сегодня мы имеем тому огромное количество подтверждений. Правда, в 1000 году были известны только два других вида энергии: энергия текущей воды, осваиваемая при помощи мельниц, и энергия ветра, которую пока что умели использовать только в мореплавании, когда ветер надувал паруса. Исключение в этом плане, видимо, составляет Персия, где ветряные мельницы существовали с VII века.
Основываясь опять лишь на косвенных доказательствах, мы можем постулировать, что около 1000 года началось распространение новой технологии, которая в будущем распространилась повсеместно, то это всего лишь еще один косвенный вывод. Водяные мельницы были известны с античности. Однако они встречались редко. В Галлии в VI веке их насчитывалось не больше десятка. Однако в IX веке, согласно Марку Блоку, «в домене часто имелась хотя бы одна водяная мельница». А «начиная с X века, весьма большое число сеньоров использовали свое право вводить ограничения, заставляя людей, живших на их земле, пользоваться только их мельницей…» Впрочем, учитывая, что до нас дошло очень малое количество текстов X века, это «весьма большое число» трудно представить себе большим, нежели сто на все капетингское королевство. В конце XI века в Англии Вильгельма Завоевателя насчитывалось 5684 водяные мельницы. Во Франции же в департаменте Об в то же самое время их было 14. В XII веке число документов, подтверждающих наличие мельниц, возрастает, однако век, начавшийся в 1000 году, более скуп на информацию.
Водяные мельницы в Средневековье, скорее всего, использовались с разными целями. Около 1000 года, за исключением мельниц в пивоварнях Пикардии, все остальные служили для того, чтобы молоть зерно. Пользование именно этими мельницами или, вернее, их аренду сеньоры навязывали своим «держателям» земли, поскольку, естественно, они извлекали из этого доход. И понятно, почему древний способ молоть зерно вручную долго сохранялся среди отчаянно сопротивлявшихся крестьян.
Использование тягловой силы животных становилось эффективнее благодаря новой упряжи и подковам. Все больше и больше использовалась энергия воды. После того как в XII веке началось распространение ветряных мельниц, образовался новый набор источников энергии, которыми люди пользовались, чтобы восполнить недостаток силы собственных мышц, и этот набор просуществовал в течение последующих 600 лет вплоть до появления паровой машины. Какой бы ничтожной ни казалась эта энергия по сравнению с миллиардами лошадиных сил, производимых современной техникой, она принесла людям технические средства, несравнимо более могущественные, нежели те, которыми они были вынуждены довольствоваться в X веке. Все большее использование этих энергий, несомненно, стало одним из основных факторов, приведших к поразительному всплеску развития во всех областях деятельности, известных средневековой цивилизации. С этой точки зрения, как и во многих других аспектах, вполне можно сказать, что 1000 год знаменует собой канун серьезных изменений в жизни общества.
Технология
Чтобы представить себе, какой техникой пользовались в конце X и в начале XI века, приходится в еще большей степени прибегать к косвенным выводам. Наиболее важной отраслью производства в то время было сельское хозяйство, и ему будет посвящена следующая глава. Поэтому в этой главе остается изложить очень немногое относительно промышленности из того, что можно себе представить с достаточной степенью уверенности или хотя бы счесть правдоподобным.
Копи
Очевидно, не могла не иметь места разработка залежей полезных ископаемых. Технология их добычи, судя по всему, не изменилась со времен Античности. Железосодержащие руды обычно добывались открытым способом. Устройство шахт в виде галерей впервые появилось лишь в XII веке в Шампани и Дофине. Вертикальные же шахты были многочисленны и активно разрабатывались. Они различались по глубине в зависимости от глубины залегания породы. В Фалуне, в Швеции, есть большие шахты, в которых добывалась медь. Самая старая часть этих шахт, в настоящее время полностью выработанная, датируется приблизительно 1000 годом. Кроме того, известна шахта по добыче медной руды в Тарне, которая, судя по всему, разрабатывалась в то же время. О том, как жили шахтеры, можно только догадываться. Скорее всего, как и последующие поколения таких рабочих, они пользовались киркой, заступом и рычагом… Это была тяжелая работа. Работники, несомненно, зависели от сеньора того фьефа, на территории которого находилась шахта. Их юридический статус трудно точно определить. Не имея своего участка обрабатываемой земли и эксплуатируя шахту явно не на своем индивидуальном наделе, шахтеры вряд ли походили на обычных «держателей» земли.
Соляные копи строились в виде колодцев так же, как и рудные, однако в Салене, во французской части горной цепи Юра, эти копи, датируемые X веком (не ранее), имеют галереи. Соль не вынималась из них в виде блоков. В шахты подавалась вода, в которой растворяли соль, а затем ее поднимали наверх в огромных бурдюках с помощью гигантских жердей-рычагов. Потом воду кипятили в котлах вплоть до полного выпаривания соли. Само собой разумеется, что соль также добывалась в солончаках по технологии, широко известной и мало изменявшейся с течением времени. Такая добыча соли производилась в некоторых прибрежных районах и, особенно, в лагунах Венеции.
Металлургия
Что касается обработки руды, то в Желеховицах, в Чехословакии, были обнаружены печи, датируемые VIII-IX веками. Они вырыты в лессе и изнутри выложены тройным огнеупорным слоем. Печи в Зеротене относятся к X веку. Они сделаны в виде углубления в форме чаши и обмазаны красной глиной. Можно предположить, что этими печами пользовались в 1000 году.
Упоминания о кузнецах, обрабатывавших неочищенное железо, встречаются в каролингскую эпоху. Другой знаменитый текст мы находим в скандинавской саге, но это легенда. Кузнец Виланд, посчитав, что только что выкованный им меч недостаточно хорош, дробит его на мелкие кусочки и перемалывает их в муку. Затем он скармливает это странное снадобье «ручным птицам». Он собирает их помет и бросает его в горнило своей печи. Из переплавленных таким образом кусочков, видимо, получается более чистое железо, и из него он вновь кует меч, на этот раз удивительно острый, способный разрезать надвое клочок шерсти, увлекаемый течением воды…
Как бы то ни было, в IX веке «франкские» мечи считались лучшими. Их старались добыть или даже украсть. Те из них, которые были обнаружены, относятся ко временам каролингов и состоят из полос ковкого железа и железа, содержащего углеродистые соединения, наложенных друг на друга и сплавленных вместе, в результате чего образуется пластина со срезом квадратной формы. Лезвия, сделанные из гомогенной пластины и приваренные с обеих сторон, затачивались на точильном камне.
Известно, что в течение всего высокого Средневековья железо было редким материалом. В первую очередь, оно шло на изготовление оружия. Для удовлетворения других нужд, в том числе и для изготовления сельскохозяйственных орудий, его постоянно не хватало. В источниках мы встречаем описания utensilia lignea, то есть деревянных орудий, использовавшихся для работы в поле. Встречаются также описания орудий, у которых только режущая часть была сделана из железа. Например, таким образом укрепляли деревянные лопаты. Кроме того, только из железа могли быть сделаны топоры дровосеков, орудия камнетесов, плотников и столяров. Поразительно, что форма этих орудий не менялась, и во времена Античности они выглядели так же, как те, что изображены в «Энциклопедии» Дидро[190].
Кузнец, занимавшийся ремеслом, по тем временам редким, таинственным и имевшим отношение в первую очередь к созданию орудий смерти, живший в месте, освещенном красным огнем печи и время от времени озаряемом снопами искр, вызывал у современников чувства, почти всегда замешанные на страхе, как если бы он был так или иначе связан с адскими силами.
Ювелирное дело
Искусство отливать бронзу не вмещается в узкие рамки 1000 года, поскольку оно существовало и до и после этой даты. Во всяком случае, мы знаем, что в церквах были колокола. Что касается ювелиров, то в следующих главах мы увидим, что они не испытывали недостатка ни в работе, ни в материале. Золото и серебро получали, разрабатывая рудники. Золото находили также в речном песке. Однако больше всего его было в издавна существовавших сокровищницах правителей, а также в сокровищницах церквей. Иногда такой клад находили в скрытом месте, где его давно оставили и забыли. Именно так произошло в Орлеане после большого пожара, который разрушил весь город в 988 году. Епископ Арнуль, взявшийся за перестройку церкви Святого Креста, был, по словам Рауля Глабера, «удостоен проявления божественной помощи». Каменщики, занимавшиеся проверкой устойчивости грунта, обнаружили «большое количество золота», которое пошло на оплату расходов, связанных со строительством. Другим источником драгоценных металлов были периодические набеги на сарацин. Христианское войско, которое однажды, в точно не указанную дату, одержало над ними победу в восточных областях Испании, собрало с брошенного бежавшим противником оружия и кирас «прочные бляхи и пластины из серебра и золота», которые были отправлены в Клюни. Аббат Одилон велел сделать из них дароносицу, а остаток роздал бедным, во всяком случае, если верить Раулю. Должно быть, Рауль упростил ситуацию, потому что трудно представить себе, чтобы бедняки того времени могли воспользоваться золотом для того, чтобы сделать необходимые покупки. Возможно, остаток золота был продан, а полученные в результате продажи серебряные денье розданы бедным.
У ремесленников того времени, как и у всех других людей, был свой сеньор. Многие из них жили в епископских городах. У епископа было много работы для ремесленников. Ведь он был большим сеньором, жившим во дворце и окруженным многочисленной свитой каноников, священников, дворян, воинов, которых ему приходилось обеспечивать жильем, одеждой, пищей, оружием. Похоже, в городах уже держали лавки мясники, колбасники, пекари. Все они зависели от епископа, находясь с ним приблизительно в тех же юридических отношениях, что и «держатели» земли в сельской местности. В других городах у них мог быть светский сеньор. Например, Адемар из Шабанна рассказывает о некоем Фуше, «искусном столяре», которого граф Лиможа поселил в своем городе. Несомненно, что в эту эпоху бесконечного разделения власти и обязанностей светский сеньор и епископ в одном и том же городе могли иметь каждый свою сферу влияния в маленьком мире ремесленников. Наконец, многие ремесленники были теми же монахами, специализировавшимися на определенной работе в пределах своего монастыря. Чуть ниже мы встретим одного из них, который даже был аббатом и вместе с тем замечательным ювелиром.
От эпохи Каролингов осталось свидетельство, касающееся положения некоторых кузнецов, но, возможно, распространявшееся и на других ремесленников: кузнецы получали землю, как крестьяне, но их оброк состоял из производимого ими оружия. Однако они производили больше оружия, чем то, что требовалось в качестве оброка, и, вероятно, продавали его.
Текстильное производство
Процесс изготовления тканей был тесно связан с возделыванием земли, поскольку лен, шерсть, конопля являются непосредственными продуктами сельского хозяйства. Жены крестьян стригли овец и обрабатывали шерсть, в частности, прополаскивали ее в моче, сучили нити и ткали. Почти везде выращивался лен. Его замачивали в воде, промывали, отбивали и тоже ткали полотно. Женщинам вменялось в обязанность также красить куски ткани вайдой, мареной и киноварью и шить из них одежду. По крайней мере, так было во времена Каролингов. И эти работы вряд ли изменились, возможно, лишь пребывали в относительном застое в результате бедствий последующего времени.
Жены и дочери сеньоров тоже пряли и ткали, как и аббатисы женских монастырей. Возможно, так же как в предыдущем веке, они посвящали себя более изысканной работе: делали тонкие льняные вуали, ткали узоры, вышивали, готовя ткани для королей или епископов.
Инструментами текстильного ремесла были прялки, в особом изобилии имевшиеся, например, в Гданьске (Данциге) как раз около 1000 года, а также веретена, возникшие значительно раньше. Самопрялок еще не было, они, скорее всего, были принесены в Европу мусульманами Испании в VIII-IX веках, однако во Франции они получили распространение только в XII веке. Первые ткацкие станки, описанные в документах, относятся к XI веку. Они были вертикального типа и весьма примитивной конструкции. Их обслуживал один человек.
Шелк производили только византийцы, имевшие заводы по разведению шелковичных червей, равно как и арабы на Сицилии и в Испании. В XI веке в Лукке поселились евреи и греки — ткани и красильщики шелковых тканей, пришедшие из Южной Италии, которая все еще зависела от Византии. Во всех остальных местах шелк был предметом импорта, пользовавшимся особым спросом. Путешественники, отправлявшиеся в Восточную империю, старались привезти оттуда шелковые плащи, окрашенные пурпуром. Именно так поступил епископ Кремоны Лиутпранд, о многотрудном возвращении которого на родину мы уже читали. Однако покупка этих плащей и особенно их вывоз за пределы Империи были сопряжены с рядом сложностей. Несчастного прелата сочли недостойным одеваться в столь роскошные одежды, предназначенные для византийских вельмож. У него конфисковали пять плащей, несмотря на его возмущенные протесты. Те плащи, которые ему оставили, были более скромными, их вывоз был разрешен, и они были помечены свинцовой печаткой.
Другие технологии
Кожу и мех обрабатывали специализировавшиеся на этом ремесленники. Они работали с бычьими, козьими, овечьими и волчьими шкурами, из которых делали обувь. Особый вид этой обуви на деревянной подошве получил название «галльской», что доказывает ее весьма древнее происхождение. Для приготовления меховой одежды пользовались шкурами овец, куниц (вспомним ту мантию, которую в «Песни о Роланде» сбросил в момент раздражения Ганелон[191]), кротов, выдр, бобров. Эти животные в то время водились в лесах Западной Европы в куда большем количестве, нежели теперь. Искусству горшечников, существовавшему в течение много тысячелетий и во все времена оставлявшему потомкам осколки своих изделий, не приходилось жаловаться на упадок. Вот и все, что можно о нем сказать. Напротив, производство стекла в период высокого Средневековья переживало упадок, признаки выхода из которого наметились в начале XI века. Начиналось производство витражей, ставших чудом классического Средневековья. Вот еще один пример обновления, который можно отметить в 1000 году. Однако следует оговорить, что в целом новый технологический подъем начался не ранее XII века.
Глава XVIII РАБОТНИКИ ПОМЕСТИЙ
«Поместье — феодальный термин. Он означает земельное владение с сервами, дающее определенные права». Такое определение слова «поместье» предлагает Литтре. Если, вспомнив приведенный выше отрывок из поэмы Асцелина, принять, что сервами могли называться «держатели земли» различных категорий, то придется признать, что все они были «работниками поместий».
Каждый из них имел свой надел, который, если не считать податей и отработок в пользу сеньора, он эксплуатировал так, как если бы был его хозяином. Пришло время попытаться представить себе, по возможности конкретно, какова была жизнь этих людей. Нам в этом помогут Марк Блок и Жорж Дюби.
Лицо земли
Для начала не будем забывать, что эти люди жили на лесных прогалинах. Обрабатываемая ими земля была со всех сторон окружена лесом. Обычно эта земля располагалась вокруг нескольких домов, в которых они жили. Группа таких домов составляла деревню, часто обнесенную забором. В некоторых областях, особенно в Западной Франции, дома отстояли друг от друга на большее расстояние. Тем не менее они образовывали некое целое. Вокруг возделывавшихся полей находился большой пояс необработанной земли, где росли растения, более или менее пригодные для пастбища. А дальше находились леса, становившиеся все более густыми по мере удаления от жилья. Если деревня являлась приходским центром, то ее украшала церковь. А если несколько наделов вместе взятые соответствовали территории маленького фьефа, или сеньории, то над ними возвышался замок сеньора.
Лес
Лес, в котором было невозможно установить непосредственные границы фьефа, не был разделен между владельцами. В принципе он принадлежал сеньору. Однако крестьяне имели право пользоваться им для своих нужд, как если бы он принадлежал всем: и его эксплуатировали, а точнее сказать, грабили всеми возможными способами.
Естественно, в нем охотились. Но это было занятие для сеньоров. Крупную дичь, кабана или оленя, невозможно было добыть без травли, а для этого нужны хорошие верховые лошади, которых у крестьян не было. Таким образом, сам порядок вещей поддерживал исключительное право, которое сеньор уже часто объявлял своим, не имея покуда возможности подвести под это юридическое обоснование. Конечно, можно себе представить, что кабана способен убить и пеший, например рогатиной, а оленя можно поймать, приготовив ловушку — яму, прикрытую ветками. Это легко себе представить, но довольно трудно осуществить, и потому такие случаи были скорее исключениями. Вероятно, по-другому обстояло дело с мелкими животными и птицами, которых при известной ловкости и изобретательности можно было убить стрелой из лука или камнем из пращи, либо поймать в силок. Независимо от того, было ли это позволено или нет, есть все основания полагать, что такая охота была повседневной практикой хотя бы для тех, кто, несколько обособившись от деревенской общины, жил за счет леса.
Эти «лесные люди», как их несколько позже стали называть во французских источниках, занимались ремеслами, для которых лес был основным источником сырья или необходимого топлива. Одни были угольщиками, то есть производили древесный уголь. Другие, а иногда, возможно, и те же самые люди, пользовались этим углем, чтобы растапливать кузнечные печи. Некоторые просто жгли ветки, чтобы получить золу, использовавшуюся в то время для производства стекла и мыла. Были также и те, кто обдирал кору с деревьев, измельчал ее и получал дубильные вещества для обработки кож. Некоторые плели веревки из лиан. Напротив, бортники оберегали деревья: их работой была добыча меда и воска диких пчел.
Этот маленький мирок состоял из кочевников поневоле. Спалив ветви, они не рубили больших деревьев, ибо стволы не подходили для их целей, да и орудий для этого у них не было. Ободрав кору и обобрав пчел, они были вынуждены искать новые места и строить новые временные хижины, под кровом которых можно было спать. Это были отщепенцы, дышавшие воздухом свободы, не известной деревенским жителям. Они, несомненно, слегка презирали деревенских и вызывали у них немалое беспокойство, иногда не без причин.
Но и деревенские много что брали у леса. Им нужно было дерево, чтобы согреваться и иметь освещение (смоляные факелы), для того чтобы делать утварь и строить дома, заполнять прутьями ухабы на дорогах, делать заборы или ограду замка. К тому же, в те времена, по словам Марка Блока, «менее удаленные, чем наше, от древних обычаев собирательства», людям был нужен лес не только ради дерева: из мха и сухих листьев они делали подстилки, из плодов букового дерева выжимали масло, — сейчас горожане и не знают, что масло можно делать из бука. Они находили в лесу каштаны, хмель, чьи шишки можно использовать как приправу или для придания оттенков вкуса пиву. Дикие яблони, груши, боярышник, сливы давали им свои кислые плоды. Кроме того, они отводили свой скот в лес пастись, потому что, в зависимости от времени года, там можно было найти молодые побеги, зеленые листья, желуди, плоды бука и травы подлеска. Все помнят, что свиньи большие любители желудей. Никто не удивится и тому, что козы питаются листьями. Однако овцы, коровы и лошади тоже находили себе пишу в лесу. Они жили там на свободе, и их иногда было нелегко вновь найти.
Как бы часто люди ни ходили в лес, там все же было небезопасно. Всегда существовал больший или меньший риск встретиться с дикими зверями. Кабан уже был небезопасен. Еще большую опасность представляли медведи и особенно — волки, которые были распространены повсеместно. Конечно, это относится не только к 1000 году и даже не только к Средневековью: волки исчезли в западных странах только совсем недавно. Изредка и, может быть, только в исключительных случаях они даже выходили из леса и пробирались в деревню или, как в случае, о котором рассказали Раулю Глаберу, заходили в города. Волк, о котором пишет Рауль, даже забрался в собор в Орлеане. Он вошел туда ночью, когда служители открыли двери для тех, кто шел на заутреню. Волк настолько осмелел, что стал звонить в колокол, ухватившись за веревку зубами. Поскольку у окружающих не было под рукой оружия, они подняли крик. Волк чувствовал себя в церкви не так уверенно, как в лесу, и убежал. Само собой разумеется, что на следующий год ужасный пожар опустошил Орлеан. Бродячий волк не мог быть не кем иным, кроме как предвестником несчастья, тем более что вскоре после его прихода был дан еще один знак: в монастыре Сен-Пьер-ле-Пуэлье Христос на большом распятии стал источать слезы…[192]
Выйдя из леса вслед за этим волком, мы уже слишком далеко отошли от темы. Вернемся к ней еще ненадолго и отметим, что лес, с которым обращались так, как было описано выше, и на опушке, и чуть дальше в глубине, выглядел не лучшим образом. Его повреждение, конечно, облегчало работу расхитителям, деятельность которых все больше разворачивалась к середине XI века. Можно также предположить, что опушка леса мало отличалась от невозделанной земли, отделявшей лес от поля. За счет этой земли можно было обеспечить себе постоянные пастбища. Ведь пахотные земли предназначались для того, чтобы выращивать растения, съедобные для человека, и в первую очередь злаки. Единственным исключением были занимавшие плодородные земли виноградники, которые имелись даже в северных областях и исчезли оттуда только в наше время.
Поля
Почти вся земля, окружавшая деревню, была занята полями. Поля «хлебов», как было принято говорить на протяжении веков. Слово «ble»[193] галльского происхождения. В те времена и в течение еще долгого времени этим словом обозначали любые злаки, из которых можно было делать хлеб: пшеницу, как сейчас, а также рожь, полбу, овес, ячмень и смесь пшеницы и ржи, для которой во французском языке есть специальное слово «meteil».
Поскольку хлеб — или каша из злаков — были основой питания большинства и поскольку торговый обмен, из-за отсутствия дорог и достаточных транспортных средств, был неразвит и затруднен, каждая группа людей в первую очередь занималась производством хлеба. Если сегодня хлебные культуры требуют самых плодородных земель, то в те времена их сеяли повсюду и потребляли в том же месте, где производили. Не было регионов, специализировавшихся на какой-либо одной культуре, как, например, ныне Лангедок специализируется на виноградарстве, а долина Ожа отличается обширными пастбищами. Повсюду были поля, за исключением только земель, занятых огородами и фруктовыми садами, а кое-где посадками конопли, поскольку конопля была текстильным растением, без которого нельзя было обойтись. Такие плантации находились вблизи домов, внутри ограды, которой была обнесена деревня, и были окружены заборами, поставленными отдельными владельцами.
Попытаемся представить себе крестьян, работающих на полях.
В первую очередь, земля должна была быть плодородной. Она уже не могла быть таковой, если в течение нескольких предыдущих лет — двух, а при хорошей почве и больше — она приносила урожай. Значит, нужно было давать ей отдых, «ставить под пар». Когда ее считали готовой к тому, чтобы вновь принять семена, сначала приходилось опять выпалывать дикие травы, которыми она зарастала. Эти травы сгнивали прямо на поле и превращались в гумус. Можно было также сжечь их, свалив в кучу вместе с прилипшим к корням торфом, а затем разбросать золу по полю: это называлось «подсечкой». Наконец, всем известно, что есть и другой способ придать земле плодоносность, не давая ей отдыха: речь идет об удобрении ее навозом. Однако такое удобрение было редким: большая часть его терялась в лесу, где обычно пасся скот. Конечно, как мы увидим, скот допускался на поле после снятия урожая. Но этого естественного удобрения обычно было недостаточно. Короче, чтобы представить себе крестьянина, занимающегося удобрением почвы, его следует вообразить либо гнущим спину над прополкой парового поля, где он скорее всего вырывал траву руками, или разбрасывающим по своему полю сухой помет и коровий навоз, собранный неподалеку на естественных пастбищах и принесенный в плетеной корзине; при этом крестьянину также приходилось как следует поработать руками. Возможно, он также оставлял часть этих ценных и редких удобрений для овощей, которые выращивал непосредственно подле своего дома, на маленьком, обнесенном забором огороде.
На деле же вплоть до великой сельскохозяйственной революции XIX века не существовало удобрений, которые позволили бы обойтись без пара: разделение полей было неизбежно. Но оно было двух типов. Двухгодичный цикл, наиболее простой, состоял в том, чтобы засеивать поле один раз в два года. Следовательно, на каждой данной территории половина поля каждый год была под паром. Такой способ земледелия применялся в Пуату, на юге Франции и во всех средиземноморских странах. В северной части Франции, в Англии и на больших равнинах Северной Европы господствовало трехпольное земледелие: на каждом поле последовательно один год высевали «озимый хлеб» — пшеницу, полбу, рожь (эти культуры сеяли в сентябре); на следующий год в марте сеяли «весенний хлеб» — овес, ячмень, — иногда их заменяли фуражными культурами, такими, как вика, либо бобовыми. И наконец третий год поле находилось под паром. Общая площадь угодья разделялась, таким образом, на три части, каждая из которых находилась на одной из трех стадий цикла.
Итак, мы имеем поле для посева. Остается его вспахать. Это и был основной сельскохозяйственный труд. Туг на сцене появлялись такие почтенные инструменты, как соха и плуг.
Соха отличается от плуга тем, что у нее нет колес. Ее труднее направлять строго по прямой и, при одинаковых системах упряжи, она распахивает землю более поверхностно. Зато она более маневренна и ее проще развернуть в конце каждой борозды. В древней Италии, за исключением ее северной части, которая называлась Цизальпинской Галлией[194], была известна только соха. Лишь в части Галлии и в Германии преобладал плуг. И различия между этими двумя инструментами возделывания почвы в общих чертах соответствуют различиям в расположении обрабатываемых полей.
Во Франции к северу от Луары, в Восточной Франции, в Германии, в Англии, а также на огромных равнинах, где жили славяне, существовал обычай, согласно которому каждый крестьянин не отделял своего поля от соседского никакой изгородью. С приближением зимы или весны, когда наступало время обработки почвы, все деревенские плуги одновременно появлялись на участках, которые предполагалось засеять в этом году. Проследим за работой одного из крестьян. Его волы медленно движутся вперед. Если он достаточно богат и имеет лошадей, то движение становится немного быстрее. Однако можно сказать, что борозда, которую он прокладывает, бесконечна. Только когда он дойдет до края возделываемой территории, пройдя метров сто или больше, мы увидим, как он не без усилия разворачивается и идет обратно, прокладывая следующую борозду. Мы могли бы подумать, что у него очень большое поле, если бы не видели неподалеку от него упряжь другого пахаря, прокладывающего борозду такой же длины параллельно борозде первого. И действительно, сделав пять или шесть проходок туда и обратно, то есть 10-12 «полос», наш крестьянин уходит. Его поле очень длинное, но очень узкое. И поскольку оно не ограничено никакой изгородью, его ширину можно определить только по числу борозд, которое он имеет право проложить.
Более того, как мы увидим, эти границы принадлежащего ему участка непостоянны. Конечно, крестьянин является хозяином участка, когда в июле приходит время урожая. Именно он, вместе с членами своей семьи, умеющими снимать урожай, выходит на свое поле. Но инструмент, которым они пользуются, навязан им коллективными интересами населения деревни и является обязательным.
Этим инструментом был серп. Возможно, вы помните в рассказе Андре из Флёри о неблагочестии и злосчастьях богатого крестьянина из Блезуа упоминание о серпе с «зубчатым» лезвием. Следовательно, серп срезал стебли колосьев на манер пилы. Во всяком случае, относительно его формы сомневаться не приходится: это была форма полумесяца. На протяжении всего Средневековья именно так выглядит серп на всех миниатюрах в рукописях, и в частности на миниатюрах, сделанных в Шартре между 1026 и 1028 годами. В руках людей, которые на рисунках срезают колосья, мы нигде не найдем изображений других орудий.
Почему же серп, а не коса? Потому что коса срезает колосья почти на уровне почвы. В то время как сборщик урожая, напротив, заинтересован в том, чтобы оставить как можно более высокие черенки. Дело в том, что с того момента, как он убрал колосья, и до того времени, когда он возьмется за выращивание нового урожая, его поле, как и поля его соседей, будет ничьим. Эта полоска земли, которая не является его собственностью, поскольку он арендует ее у сеньора, остается за ним только в процессе работы, которую он на ней производит. Да и то не совсем, поскольку, в конце концов, он срезает колосья серпом, оставляя черенки: на эти черенки он имеет не больше прав, чем все остальные жители деревни. Любой может взять их столько, сколько нужно, например, чтобы покрыть соломой крышу хижины. Кроме того, крестьяне посылают на поле свой скот, который будет там находиться, пока полностью не съест все оставшиеся стебли. Это было то, что называлось правом ничьих пастбищ. Вот почему стебли не следовало срезать слишком низко.
Мог ли член такой деревенской общины посеять на своем поле кормовые травы? Ведь можно было скосить эту траву и сделать себе запас на зиму. Но и в этом случае собственностью крестьянина был только «первый урожай». После того как косьба была закончена, все, что могло вновь вырасти на этой земле, поступало в распоряжение общинного стада, в которое входил весь скот деревни.
Во Франции южнее Луары, а также в Пеи-де-Ко поля не представляли собой такие длинные и узкие полосы, несколько странные, хотя и весьма распространенные. Здесь их форма была разнообразна: прямоугольные, трапециевидные, иногда треугольные, однако по длине и ширине они были более или менее равны. То же самое было в Италии. В этих странах использовалась соха, которая не мешает при развороте на границе участка. Общинное пользование землей после уборки урожая здесь было менее обязательным, и оно полностью отсутствовало в районах «бокажей», то есть там, где поля окружены живыми изгородями. Так было в Бретани, в Котантене, в Мэне, Перше, частично в Пуату и Вандее, в Стране басков, на большинстве склонов Центрального массива, в Бюже и Пеи-де-Жекс.
И неогороженные удлиненные участки, и участки неровной формы, огороженные или открытые, обычно были небольшими. Однако каждый «держатель земли» имел их несколько. Слегка упростив для ясности, скажем, что крестьяне имели по одному участку на каждом «куске», на которые разделялась вся обрабатываемая земля. Поскольку эти «куски» могли быть неравноценными по плодородности, то ни у кого не было повода для зависти. По правде сказать, такая система раздела земли достоверно засвидетельствована только в районах, где преобладали удлиненные земельные наделы.
Надо ли специально оговаривать, что этот беглый и упрощенный набросок системы сельского хозяйства отражает состояние, характерное не только для эпохи 1000 года? О таких же порядках свидетельствуют источники более позднего времени, и это положение практически не менялось вплоть до сельскохозяйственной революции XIX века. У нас нет документов, которые дали бы точное описание системы именно в конце X — начале XI века. Однако имея в виду отсутствие каких-либо признаков серьезных изменений и зная, что разделение площадей на посевные и «пар» было известно достаточно долго, можно быть уверенными, что поля 1000 года уже были разделены и возделывались таким же образом, причем эта система существовала достаточно давно.
Оценить продуктивность этих полей не менее сложно. По мысли Марка Блока, «исторические свидетельства показывают, что в старой Франции человек был вполне удовлетворен, если снимал урожай втрое — вшестеро больше, чем объем посеянных им семян». Однако старая Франция — это Франция последних веков монархии, когда сельское хозяйство в достаточной степени процветало. Источники, которые мы цитировали в самом начале нашей книги, заставляют предположить, что около 1000 года сельское хозяйство отнюдь не процветало. Мы можем, вслед за Жоржем Дюби, предположить, что урожай редко достигал соотношения два к одному.
Виноградники
Виноградники приходилось разводить во всех районах, поскольку вино, потреблявшееся везде и являвшееся неотъемлемой составной частью мессы, было невозможно перевозить в больших количествах, как, впрочем, и другие товары. Похоже, что именно по этой причине, а также потому, что епископства и аббатства были в то время наиболее организованными хозяйствами и ни в чем не нуждались, сеньоры Церкви были наиболее богаты виноградниками. Они сохраняли первенство в этой области вплоть до конца Средневековья.
Итак, почти везде имелись небольшие виноградники, и особенно большими они были в церковных владениях, а также в некоторых областях, где виноград произрастал на больших площадях. Согласно рассказу Ришера, в 988 году в окрестностях Лана виноградники были столь огромны, что в них могли прятаться солдаты во время осады, когда Гуго Капет отвоевывал этот город у своего соперника-каролинга Карла Лотарингского. Ришер пишет также, что солдаты короля слишком много выпивали. Впрочем, в XII веке Лан заслужил титул «столицы вин», и его окрестности славились разведением винограда вплоть до XIX века. В области Суассон во второй половине XI века была основана церковь святого Иоанна-на-Виноградниках, а в одном из документов 1066 года уже упоминаются торговцы и поставщики вина, которые, конечно, появились раньше этой даты.
Особенно много виноградников было на берегах больших рек, единственных значительных транспортных путей. Виноградники Эльзаса, возможно, вели свое происхождение от посадок первой половины IX века. До 900 года в Эльзасе вдоль Рейна насчитывалось 119 деревень, имевших виноградники. В среднем течении Рейна, а также в долинах Мозеля близ Меца и Трира виноградники восходили ко временам римского завоевания[195]. Во Фландрии, в Брабанте, в окрестностях Льежа и Маастрихта, на берегах Рейна, Мозеля и их притоков находился ряд аббатств, имевших свои виноградники и получавших с них годовой запас вина для собственных нужд. Излишки же продавались в нижнем течении рею их перевозили вниз по течению вплоть до Северного моря, а оттуда в Англию. Именно перевозкам вин обязан началом своего возвышения город Кельн, в порту которого бочки с вином переносили с речных лодок на морские корабли.
Париж благодаря Сене уже в IX веке прослыл городом, «богатым вином». В Париже виноградники были в Шаронне, Бельвиле, на Монмартрском холме, где один сохранился до сих пор, в Исси, Ванве, Сюрене, пожалованном в 918 году монахам Сен-Жермен-де-Пре королем Карлом Простоватым. В этом районе ремесло виноградаря передавалось среди местных жителей от отца к сыну вплоть до начала XX века. Не весь запас этих вин, как и вин Пьерфитта, Дея, Гросле, Кормея в Паризи, оставался в месте производства: по Сене вина доставляли в Руан, о котором около 1000 года один нормандский летописец писал как о порте, в значительном количестве пропускающем винные грузы. В источниках того же времени упоминаются и виноградники в Верноне (Нормандия).
Следует предположить, что вино имелось в достаточном количестве и на берегах Луары, например, в Сансере, поскольку в «Чудесах святого Бенедикта» описывается, как около 1040 года его использовали вместо воды для изготовления извести. Ниже по течению находился Орлеан, порт, славившийся винами в эпоху Меровингов и бурно расцветший уже в XI веке.
В Шампани же, напротив, если уже и существовали виноградники в Реймсе, Эпернэ и Шалоне, то эти вина почти не вывозились на большие расстояния. В Бургундии вином славился Осер, упоминающийся в источникам с 680 года: в XIII веке Ги Салимбен напишет, что деревенские жители этой области могут позволить себе «не сеять и не жать», поскольку Йонна у их ног «течет в сторону Парижа», где можно «достойно» продать вино. У Шабли, с 867 года принадлежавшего монахам святого Мартина Турского, видимо, не было такой возможности из-за недостаточного полноводия Серена.
В южных областях, если не ошибаюсь, осталось меньше следов собственных виноградников времен 1000 года. Предположительно, они имелись в Руссильоне, в окрестностях Коллиура, где, должно быть, благодаря порту около 1290 года жили почти одни виноградари. Нет сомнений также и в том, что область Бордо к XI веку уже давно славилась виноградарством.
Крестьянская пища
Если виноградники и были повсеместно распространены, а в некоторых районах занимали большие площади, то все же не они определяли в 1000 году уровень общего благосостояния сельских областей. Вино, несмотря ни на что, было роскошью, и его потребление, повторим, в основном было уделом привилегированных. Это не относится только к некоторым винодельческим районам. Крестьяне в основном вина не пили или пили его очень редко.
Итак, что же ели крестьяне? Какую одежду они носили? В каких жилищах обитали?
Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что мука из зерна различных злаковых культур — скорее ржи и ячменя, нежели пшеницы, которая большей частью изымалась сеньором, — обеспечивала крестьян в прямом смысле слова хлебом насущным. Вполне вероятно, что, располагая для изготовления хлеба только печью, принадлежавшей сеньору, так называемой «баналитетной» печью, пользование которой не было бесплатным, крестьяне удовлетворялись зерновыми кашами. Однако было бы слишком большим преувеличением считать, что они не ели ничего другого. Во-первых, у них были лесные плоды, о которых мы уже упоминали. Кроме того, у них были маленькие огороды, где ничто — кроме разве нехватки времени — не мешало выращивать те же овощи, которые, как мы уже знаем, ели монахи: бобы и горох, капусту, латук. В том объеме, в каком им это позволяли запасы корма, они могли выращивать кроликов, а также кур, обеспечивавших их не только мясом, но и яйцами. Молоко и сыр они могли получать от коз, которым для прокорма было достаточно леса, и от коров, которые паслись на «ничьих пастбищах».
Домашние животные
По правде говоря, в источниках того времени домашние животные почти не упоминаются. Редким исключением можно считать отрывок из сочинения Рауля Глабера, из которого следует, что коровы и быки были весьма распространены, по крайней мере в области Труа. Злоумышленники похитили в этой местности много быков. Поняв, что их преследуют хозяева животных, они убежали, доверив свою добычу наивному старому бедняку. Того, естественно, сочли виновным, и граф приговорил его к повешению. Жертва этой юридической ошибки, старик спасся благодаря «весьма большой и крепкой телке», которая в течение трех дней защищала его своими рогами. Дело в том, что в юности он и его жена подарили некоему ребенку, чьими крестниками они были, своего единственного теленка… Рауль подводит итог: «Узнав о том, как он избежал смерти, во всей окрестной местности люди стали следовать его примеру и дарить своим крестникам бесчисленное множество телят». Что бы мы ни думали об этом чуде с телкой, в любом случае есть основания поверить, что в телятах в Шампани недостатка не было.
Свиньям не так посчастливилось в смысле упоминаний о них в документах той эпохи. Однако об их наличии свидетельствуют изображения. Известно, что среди видов работ, характерных для каждого месяца и изображавшихся в календарях молитвенников, символом декабря обычно является человек, разделывающий свинью. Такой символ, например, изображен в Шартрской рукописи 1026-1028 годов. Мы в первый, но далеко не в последний раз обращаемся к свидетельствам такого рода. На рисунке свинья подвешена за одну ногу к заостренному суку дерева, заменяющему крик мясника. К другому такому же суку прикреплена уже отрезанная нога. Человек продолжает работу, вооружившись ножом, напоминающим ятаган. По другим источникам мы знаем, что в кулинарии Клюни присутствовало свиное сало, и это доказывает, что свиным мясом и салом уже торговали. Мы были бы более уверены в том, что крестьяне этим тоже занимались, если бы могли точно знать, была ли у них соль и в каких количествах. Об овцах авторы того времени умалчивают так же, как и о свиньях. К тому же овец почти не изображали на рисунках. Тем не менее они наверняка имелись в деревнях, поскольку из их шерсти пряли нити.
Очевидно, в деревне 1000 года имелись все виды домашних животных и птиц. Можно быть уверенными, что, получая гораздо меньше пищи, нежели в последующие эпохи, эти животные были более мелкими и тощими. Добавим, что никто не занимался селекцией и скрещиванием пород ради их улучшения. Исключение составляли только лошади и охотничьи собаки, к которым, по вполне понятным причинам, проявляли большой интерес сеньоры. Да и число домашних животных, различное в разных регионах и в разные периоды (вспомним, например, свидетельства о периодах жестокого голода), в целом было несомненно недостаточным для обеспечения регулярного питания мясом. Ведь даже во времена Генриха IV «курица в каждом крестьянском горшке по воскресеньям»[196] была еще несбывшейся мечтой.
Одежда деревенских жителей
Шартрская рукопись дает нам очень ценные свидетельства, тем более что иллюстрированные календари были в ту эпоху чрезвычайно редки. Она помогает нам представить себе костюмы крестьян (но не крестьянок). Крестьянский костюм не изменился со времен Каролингов, а вернее сказать, он не менялся уже в течение столетий. Это были все те же штаны и рубаха, которые носили еще галлы и которые в средневековом французском языке назывались «chausses» и «bliaut». Человек, который в календаре на листе июня сгребает сено, одет в штаны, перевязанные крест-накрест ремешками. Рубаха доходит ему до середины бедра. На голове у него некий чепец. Бороды нет. Близнецы (зодиакальное созвездие июня) одеты так же, однако у них короткие бороды, а волосы средней длины и разделены пробором посередине. И у крестьянина, и у Близнецов на ногах забавные башмаки с острыми носами, что странно, во всяком случае, для обуви заготовителей сена. Однако те же башмаки мы видим на ногах садовника, изображенного на листе апреля. На голове у него корзинка, из которой сыплются цветы. Рубаха и штаны прикрыты сверху фартуком, завязанным на шее тесьмой, а на талии поясом, совсем как современные фартуки. Виноградарь, который на листе февраля изображен подрезающим садовым ножом виноградную лозу, стоит на деревянном чурбане и одет в меховые штаны, что можно объяснить холодным временем года, однако ноги его босы, что объяснить уже труднее. На голове у него круглая шляпа, обрамленная маленькими шариками. Так и хочется предположить, что таким был головной убор, по которому отличали людей этой профессии.
Об одежде крестьянок, практически не изображавшихся до XV века, мало что можно сказать. Платье самого простого покроя абсолютно не менялось на протяжении многих веков. Возможно, их платье было несколько короче, чем у знатных дам. Что касается детей, то и одежда мальчиков, и одежда девочек менялась со временем еще меньше, и можно быть почти уверенными, что их одевали в такую же рубашку типа хитон с рукавами, длина которых могла быть различной, и с подолом, доходящим до середины голени, как та, которую в XVII веке носил Людовик XIII. Согласно записям внимательно следившего за своим подопечным врача Жана Эруара, многие придворные дамы охотно запускали руку под эту рубашку юного монарха, пытаясь преждевременно пробудить в нем склонности, которыми славился его сластолюбивый отец[197]. Из этого следует, что под рубашкой венценосный ребенок не носил штанов. Это тем более справедливо в отношении детей интересующего нас времени, как, впрочем, и в отношении их матерей и старших сестер.
Ткани могли быть шерстяными, поскольку женщины чесали и пряли шерсть, реже льняными, считавшимися большей роскошью и потому достававшимися сеньору. Возможно, пользовались еще грубой тканью из конопли, которую также делали сами. Кроме того, мы видели, что и мех мог служить для производства одежды, даже штанов. Это был, конечно, только дешевый мех: шкуры овец и, возможно, кроликов.
Действительно ли деревенские жители носили те остроносые башмаки, которые так часто изображаются в Шартрском календаре? В это трудно поверить. Скорее всего, если они не ходили босыми, то носили деревянные сабо. Тем не менее, если не ошибаюсь, изображений этого типа обуви нет ни на одном рисунке эпохи Средневековья, даже позднего.
Деревенские жилища
Деревенские жилища эпохи высокого Средневековья почти не оставили следов. Потрясающая изобретательность современной археологической науки только с недавних пор стала помогать нам строить по этому поводу правдопобные гипотезы. В учебнике по средневековой археологии профессора Мишеля де Боуара, вышедшем в 1975 году, можно прочитать, что во всех сельских местностях преобладали деревянные постройки. Исключение составляют лишь побережье Средиземноморья и те районы, где дерево — редкий материал. Можно представить себе лачуги, сделанные из досок, прикрепленных к вертикальным четырехугольным столбам скорее болтами, нежели гвоздями, поскольку гвозди еще не стали привычным предметом обихода. Крыши, скорее всего, делались из соломы, из камыша, из пластин дерна, положенных на доски, называемые «перекрытиями». Согласно М. де Боуару, у большинства деревенских домов были такие растительные крыши. Отверстия в них делались редко и не были сквозными. Никаких труб для отвода дыма не имелось. Огонь разводили прямо на утоптанной земле внутри дома или на плоских камнях, лежащих на земле посередине жилища, чтобы огонь находился как можно дальше от деревянных стен. Дым выходил через окна. Поскольку издавна в домах беднейших крестьян оставляли место для животных, то, возможно, их присутствие также способствовало согреванию воздуха в доме.
Каменные постройки предполагают знание специальных технологий строительства. Видимо, на побережье Средиземного моря, где такие постройки были особенно распространены, лучше, чем в других местах, сохранились традиции римских строителей. В этих регионах чаще встречались профессиональные каменщики. Одной лишь нехваткой дерева — и то весьма относительной — всего не объяснишь. Показательно, что во Франции областью, где преобладали каменные дома, был Прованс, подвергшийся романизации намного раньше и намного основательнее, чем другие области.
Парадоксально, но в то же время вполне объяснимо, что дошедшие до нас материальные остатки деревенских жилищ относятся к наиболее редкому по тем временам виду построек. Речь идет о том, что археолог А. Суту называет «cases-encoches» («вырубленными жилищами»). В наибольшем количестве они были обнаружены в областях Альбан и Амбиале, в Тарне. Долгое время их относили к V веку до н.э. А Суту, основываясь на датировке найденных на полу осколков предметов, доказал, что в них могли жить только в период между VIII и XV веками нашей эры. Для этих построек характерен «тот факт, что задняя стена, две боковые стены и внутренняя поверхность помещений целиком или в значительной части вырублены в скальном склоне». Отверстия в полу этих cases-encoches отмечают места, куда вбивались столбы, поддерживавшие переднюю стену, а в некоторых случаях — потолок и крышу. Близость этих построек к древней медной шахте позволяет автору предположить, что их обитатели были рабочими, трудившимися на сеньора, остатки замка которого сохранились на скальном массиве.
О мебели в домах крестьян 1000 года лучше ничего не говорить. Воображению не стоит давать слишком много прав… У него вообще нет прав в исторической науке, и историка, уступающего искушению, должна мучить совесть, даже если он оговаривает каждый конкретный случай.
Неравенство в условиях жизни
Тот, кто полагает, будто все крестьяне в каждой конкретной области жили одинаково бедно, сильно ошибается. Среди них были и очень бедные, и почти богатые. Некоторые из них были потомками владельцев небольших аллодов, то есть земли, находившейся в их полной собственности, однако их предки в бурные времена скандинавских или других нашествий сочли за благо обеспечить себе защиту соседнего сеньора, став его «держателем земли». Аллод, ставший арендной землей, мог быть изрядных размеров и делал арендатора достаточно независимым. Напротив, этого нельзя сказать о клочках земли, выделявшихся в ту же эпоху сервам хозяевами больших доменов, которые таким образом избавляли себя от забот о содержании и пропитании сервов. Размер этих участков, юридически считавшихся «мансами», однако рассчитанных на удовлетворение нужд всего одной семьи, изначально дотошно исчислялся и становился недостаточным, если семья увеличивалась. Однако могло случиться и обратное: поскольку передача по наследству была в порядке вещей, то цепь случайных наследований могла сосредоточить множество таких мансов в одних руках. Кроме того, в этих случаях, как и в других, нельзя не учитывать «личные качества», позволявшие наиболее ловким крестьянам «округлять» свой земельный надел путем сделок, подробности которых нам не известны.
Таким образом, если крестьяне и не делились на различные классы, то, по крайней мере, условия их жизни были весьма разнообразны. Говоря проще, одни имели средства труда, а другие их не имели; у одних пахарей были плуг или соха с собственной упряжью, а другим приходилось делать все своими руками. По крайней мере до Великой Французской революции «пахари» — «богатые пахари» Лафонтена — составляли аристократию крестьянства. Те, кто работал вручную, мог с трудом обработать лопатой и мотыгой совсем маленький клочок земли, чтобы посеять на нем хлеб. Часто такой крестьянин отдавал свои руки внаем более удачливому собрату, размер земли которого заставлял нанимать работников, особенно в период сбора урожая.
Наиболее одаренным выпадала возможность улучшить условия своей жизни. Сеньор, кем бы он ни был, не мог сам осуществлять сбор податей, организацию работ на барщине, общий надзор за всеми наделами. Если он был мирянином, то, значит, был воином, не имевшим для организации сельскохозяйственных работ ни знаний, ни желания, ни, возможно, времени, поскольку, если не было войны, он охотился. Кроме того, он мог занимать высокое положение и жить далеко от собственной земли. У церковного феодала — аббата или епископа — тоже были другие заботы. Короче, сеньору нужен был управляющий, этакий «сержант сеньориальной службы», — ибо это слово происходит от латинского «serviens» («служащий»), из которого получилось французское «servant» с тем же значением. Впоследствии на французском языке этих людей стали называть «мэрами» или «бальи». Эти функции доверялись крестьянину, проявившему способности в соответствующей области. Можно не сомневаться, что подати собирались хорошо, что от барщины никто не уклонялся и что и в первом, и во втором случае мэр имел возможность придержать что-то для себя. Короче, он разворачивался вовсю. И однажды могло случиться (это подтверждается фактами последующих эпох), что ему удавалось выйти из крестьянского сословия.
А вот пример, который показывает, насколько относительным было деление, тем не менее проводимое не в одном источнике, на bellatores[198] и inermes[199], то есть на тех, чьей профессией была война, и тех, что были «без оружия». Из источников следует, что bellatores были членами феодальных аристократических семей, и нельзя не согласиться, что тот, кто принадлежал к этому сословию, в нем и оставался. Однако inermes, к которым относились все прочие миряне, в первую очередь крестьяне, вовсе не были осуждены всю жизнь оставаться без оружия. Во-первых, в принципе любой мог быть мобилизован по приказу короля. Сеньор, который на деле имел все королевские права, мог, таким образом, производить набор на военную службу среди своих крестьян, забирая их ненадолго или на длительное время и в том количестве, какое ему было необходимо. Поскольку он был обязан поддерживать своего сюзерена в важных военных кампаниях, ему требовалось много людей, и можно себе представить, что не все откликались на такой призыв с радостью в сердце. Но и в обычное время ему был нужен хотя бы небольшой гарнизон для своего замка. И в его землях наверняка находились в достаточном количестве молодые люди, готовые променять мотыгу на боевую дубину или арбалет. Ему оставалось только выбрать наиболее крепких, и, несомненно, число кандидатов превышало число принятых на службу, ведь у сеньора не было возможности бесконечно увеличивать свое войско. Эти новобранцы не обязательно зачислялись в пехоту. Некоторые становились конными оруженосцами, необходимыми сеньору для сопровождения его в походах. В исключительных случаях (поскольку кастовая гордость ставила на этой дороге мощный заслон) такой человек мог стать не только оруженосцем, но, покрыв себя славой в боях и завоевав благосклонность сеньора, он мог получить ранг шевалье (рыцаря) и таким образом окончательно войти в класс bellatores.
Обязанности «держателей земли»
Марк Блок на страницах своего «Феодального общества» столь ярко описал обязанности «держателей земли» в «первый феодальный период», то есть, в частности, и в 1000 году, что нельзя отказать себе в том, чтобы привести цитату: «В установленные дни они относили сеньориальному «сержанту» либо несколько монет, либо (что было чаще) колосья, собранные со своих полей, кур со своего двора, воск, взятый из своих ульев или от пчел в ближайшем лесу. В другое время они в поте лица трудились на пашнях или лугах домена. Либо отвозили хозяйские бочки с вином или мешки с зерном на телеге в наиболее отдаленные части его владений. Трудом собственных рук они чинили стены и рвы замка. Хозяину нужно где-то остановиться? Крестьянин сам обходился без постели, но снабжал постелью постоялые дворы. Начиналась большая охота — он кормил своры собак. Наконец, если разражалась война, то под знаменем, поднятым мэром деревни, он становился пехотинцем или оруженосцем».
И к этим оброкам и барщинам добавлялись различные тягостные ограничения. Во-первых, десятина, которую в принципе должны были платить священнику, служившему в приходе. Однако обычно сеньор забирал ее себе и лишь по возможности малую долю отдавал священнику. Кроме того, сеньор оставлял за собой исключительное право продавать в определенный период года вино и пиво, отдавать во временное пользование быков и боровов, но чаще всего он обязывал своих крестьян пользоваться за плату его мельницей, его печью, его винным прессом. Эти права назывались «баналитетными» (от древнего германского слова «Ьап», означавшего «право приказывать»). То, что это слово приобрело значение, которое мы придаем ему сегодня, показывает, до какой степени были распространены эти вымогательства.
Сеньору эта основанная на произволе власть давала, помимо чистой силы, право вершить правосудие. Он присваивал себе это право по крайней мере в отношении не очень серьезных дел (а на самом деле во всех случаях) аналогично тому, как он присваивал себе и другие королевские права. По правде сказать, сеньоры не любили лично пользоваться этим правом в отношении своих крестьян. Они передавали его своим мэрам, которые поневоле были в курсе «традиций», иными словами, тех условностей, весьма различных в разных регионах, которые существовали с незапамятных времен и составляли «обычное право».
Однако через посредство мэра сеньор на деле являлся судьей и участником всех разбирательств своих вилланов и сервов. Случалось, что, доведенные до крайности, они восставали. Это им дорого стоило. Подавление было обычно жестоким и надолго отбивало желание бунтовать.
По правде говоря, замок сеньора иногда служил крестьянам убежищем во время набегов врагов. Такие внезапные набеги зачастую угрожали даже самой их жизни. Вынужденные спасаться бегством во время подобных драматических событий, они, несомненно, радовались, что у них есть сеньор. Однако в обычное время они, скорее всего, стонали под его ярмом.
Вопреки тому, что можно было бы предположить, крестьяне, сеньором которых был епископ, находились не в лучшем положении. Как и все другие, они имели дело с «сержантами», мэрами, бальи, а действия этих людей были везде одинаковы. О епископских землях, пожалованных мирянам, нечего и говорить. Что до земель аббатств, то они пока еще часто находились в зависимости от «светского аббата», то есть сеньора, который в принципе и получал с них доходы. Этим сеньором часто мог быть король или какой-нибудь очень крупный феодал, который не злоупотреблял своими правами. Если же управление землей обеспечивалось непосредственно монастырской администрацией, то оно, возможно, было менее кабальным, чем в других случаях. Уже в более позднее время по этому поводу было сказано: «Удобно жить под посохом аббата».
Глава XIX СЕНЬОРЫ И КОРОЛИ
Описанные выше крестьяне были по сути подданными сеньоров, крупных или мелких. Начнем рассмотрение с наименее крупных.
Мелкие сеньоры
Это те мелкие сеньоры, которые управляли имением, состоявшим из одной или нескольких деревень, а иногда частью имения, составленного из 287 весьма различных по происхождению владений. Дворянское сословие еще не полностью сформировалось. Характерной чертой дворян, делавшей их сеньорами, был тот факт, что они располагали хорошим вооружением и боевыми лошадьми, умели всем этим пользоваться и руководить военным отрядом. Кроме того, они владели укрепленным замком. Это достигалось разнообразными путями.
Одни — и это был, наверное, наиболее распространенный случай, — были потомками древних деревенских вождей, живших в галльскую эпоху. Происхождение их имений восходило к началам времен. Другие были просто вассалами крупных сеньоров, которым в вознаграждение за службу, исполняемую под клятвой верности, «жаловали в качестве фьефа» участок земли, бывший частью собственного фьефа сеньора. Заметим, что это касалось не всех вассалов: слово «вассал» не подразумевает владения землей, оно просто означает воина, который присягнул своему сеньору на верность. Многие из вассалов жили в ближайшем окружении сеньора и непосредственно от него получали все необходимое для жизни. Те, кто получал в вознаграждение фьеф, назывались «оземеленными» вассалами («chases», от лат. «casati»). В этом случае границы их сеньории не обязательно совпадали с границами земли или земель, которые она в какой-то степени перекрывала. И тогда получалось, что крестьяне одной и той же деревни, столь единые, как мы видели, в отношении своих общинных обязательств, зависели от разных сеньоров, когда дело касалось оброка, барщины или «баналитета».
Кроме того, в эту еще нестабильную эпоху, когда феодализм только устанавливался и разрабатывал свои законы, а насилие и свершившийся факт зачастую были достаточным основанием для права, существовали и сеньоры, которые становились таковыми по собственной инициативе. Какой-нибудь военный, которого низкое происхождение не допускало в разряд полноправных вассалов, возможно, взятый сеньором на службу из крестьянской семьи, мог быть недоволен тем, как с ним обращаются, и удрать, прихватив оружие и коня. Допустим, ему удалось избежать яростного преследования со стороны своего плохого хозяина. Тогда он мог собрать вокруг себя группу крепких парней — беглых сервов, сыновей вилланов, склонных к приключениям, бродяг, обожающих драки, обычных разбойников и простаков, ищущих постоянного занятия. Его исключительная храбрость, умение владеть оружием и командовать могли заставить этих людей признать его своим начальником. Такой отряд мог проходить по много лье, жить на ничейных землях, в защищенных лесом местам. Случайно или хитростью он мог избежать расправы со стороны местных властей. Он мог добраться до мест, где уже никто не знал, кто его руководитель и откуда он родом. Тот же, хорошо зная, чего добивается, выбирал какое-нибудь удобное место, например возвышенность, доминирующую над частью дороги. А вокруг — ни одного замка. Тогда предводитель быстро организовывал строительство, и это, как мы увидим, было несложно. Оставалось убедить крупного сеньора, живущего обычно вдалеке от этой части имения, что в его интересах иметь там доброго вассала, способного защищать эту часть фьефа от нападений соседей, либо, особенно если все это происходило в IX веке, от нашествий норманнов — севернее Луары, венгров — в странах Восточной Европы, сарацин — на юге. Успех этого предприятия вовсе не так сомнителен, как может показаться. Такой человек мог рассчитывать и на собственную храбрость, и на свой замок, который, каким бы маленьким и примитивным он ни казался, было достаточно трудно взять приступом, раз его защищали на все готовые люди. Таким образом, предприимчивый вояка становился «оземеленным» вассалом. Конечно, новый сеньор, которому он присягнул на верность и подчинение, рано или поздно на ежегодной королевской ассамблее встречал того сеньора, от которого он сбежал. Однако если этот могущественный человек был доволен службой своего нового вассала, то все проблемы можно было уладить.
Оговоримся, что ни в одном источнике нет описания подобного восхождения по социальной лестнице. Тем не менее такой путь представляется более чем правдоподобным. Во всяком случае, точно известно, как замечает Марк Блок, что «укрепленные жилища мелких сеньоров строились почти всегда без всякого разрешения свыше».
Будучи оземеленным вассалом и обладателем сеньории, наш герой не может не стать шевалье. Это вовсе не означает, что он получит то благословение, которое Церковь, заботившаяся о нравах людей, носивших меч, установила в виде специальных ритуалов в течение следующего XI века. Слово «шевалье»[200], эквивалент которого существовал и в других вульгарных языках Европы, в своей основе не подразумевает ничего подобного. Оно явно не имело другого смысла, кроме обозначения со времен конца Меровингской эпохи профессионального военного, воевавшего по преимуществу верхом. Конечно, этот шевалье, который по-латински назывался просто «miles», то есть «воин», отличался от других не только тем, что воевал верхом. Ведь те, кто помогал и служил ему, тоже должны были иметь коней, чтобы следовать за своим господином. Шевалье отличался полным тяжелым вооружением, которым пользовался только он: копье, от названия которого пошло названия отряда, составляемого им и его товарищами, меч, иногда боевая дубина — для нападения. А для защиты от ударов он имел щит, кольчугу, представляемую собой род туники из железных колец, и щит. Короче, шевалье — это воин с полным вооружением, настоящий воин, и вряд ли около 1000 года, для того чтобы им быть, нужно было пройти какой бы то ни было обряд посвящения. Упоминания о подобных обрядах появляются только в источниках второй половины XI века. В 1000 году этот статус давался по факту.
Небольшой укрепленный замок
Будь он потомком древних владетелей земли или «оземеленным» вассалом, сыном или потомком такого вассала либо удачливым авантюристом, мелкий сеньор должен был иметь жилище — свой замок. Точнее — свой укрепленный замою он не имел бы возможности сохранить его за собой, если бы не мог защищать. Причем для защиты ему не требовалось особых средств и усилий. Пушечные ядра еще не существовали, а изощренные метательные машины, которыми иногда пользовались короли при осаде сильно укрепленных городов, не могли быть направлены против него. Так что его укрепленный замок был весьма прост.
Обычно он строился на возвышенности, на холме, который в текстах часто именовался «горой»[201]. Эта гора могла быть естественного происхождения, однако в случае необходимости ее можно было создать руками строителей, приказав им сложить холм из камней, хорошо перемешанных с землей. При этом было абсолютно необходимо, чтобы она была расположена над подземным источником воды, потому что без колодца обойтись было невозможно. На вершине горы строили квадратную деревянную башню, длина стены которой доходила до 12 метров, но часто была меньше. Башня имела от двух до четырех этажей, на которые поднимались по прочной внутренней лестнице, мало отличавшейся от стремянки. Внизу располагался подземный этаж, врытый в гору. Там хранилась свежая провизия, а в случае надобности туда переносили ценности и сундук с деньгами, ибо это было единственное надежное место. Туда же подводилась вода от источника. Согласно другому описанию, относящемуся к XI веку, кладовая находилась на первом этаже, а на втором было то, что мы сейчас назвали бы гостиной. Что до крыши, то трудно сказать, из чего она делалась. Из соломы? Из досок, возможно, покрытых пластинами дерна или бычьими шкурами, которые имели то преимущество, что лучше защищали от поджигательных средств, забрасываемых осаждающей стороной? Использование черепицы и шифера маловероятно. В любом случае, на находившемся под этой крышей верхнем этаже, обычно более открытом, постоянно стоял дозорный: соседние мелкие феодалы, войска владельца крупного фьефа, а иногда и банды грабителей, норманнов или сарацин, в зависимости от региона, представляли собой постоянную угрозу.
У подножия этой башни рыли ров; реже — строили систему заграждений из заборов и земляных валов, вокруг которых, на некотором расстоянии, также имелся ров. Внутри этого замкнутого пространства ютилось несколько хозяйственных построек, таких как «баналитетная» мельница, а иногда и кухня, потому что было предпочтительнее устраивать очаг на некотором расстоянии от башни. Ограда также сдерживала периодически нападавших врагов, бывших более частой и опасной причиной пожаров. Однако для того, чтобы выставить защитников и на этих рубежах, требовалось больше людей, чем могло быть в услужении у мелкого сеньора.
Мы уже сказали, что постройка такого замка не представляла сложности. Дерева было достаточно, ведь рядом всегда находился лес. А рабочие руки давали крестьяне. Конечно, это была исключительно тяжелая барщина, и ее очень не любили, однако ничто не мешало сеньору добиться от крестьян выполнения этой работы. Что до возможностей этих случайных строителей, то мы знаем, что они, привычные сами строить для себя хижины, все были немного плотниками. Правда, в средиземноморских районах положение было сложнее, ибо там дерево встречалось реже. Вместе с тем создается впечатление, что в начале XI века замки мелких сеньоров там, как и везде, строились из дерева.
Франция в то время была полна этих маленьких замков. Их было больше, чем в Германии, где сильнее уважали центральную власть, или в Италии, которая оставалась более верна городской цивилизации. Как уже говорилось в первых главах нашей книги, в те времена реальная власть, граничившая с независимостью, почти безраздельно принадлежала тому, кто непосредственно занимал данную территорию, то есть мелкому сеньору, хозяину замка. Так что замки были повсюду, и их было много, поскольку «замковое хозяйство» занимало весьма скромную территорию. Замки отстояли друг от друга не более чем на десяток километров. Из них около 10 тысяч оставили следы, по которым с большим или меньшим трудом можно восстановить их облик. Список этих замков по департаментам был опубликован в 1904 году археологом Камилем Анларом. Однако это число представляет собой лишь малую толику общего количества замков мелких властителей, которые в 1000 году покрывали территорию Франции густой сетью. Феодальная раздробленность в то время достигла своего предела. Еще никогда прежде не было такого множества маленьких замков, и в последующие века их будет становиться все меньше и меньше, по мере того как королевская власть при поддержке Церкви станет обуздывать эту анархию. Но в рассматриваемые нами времена почти ничто не мешало мелкому сеньору, в особенности если он сам себя сделал таковым, окопаться в такой берлоге. Наиболее важным и срочным делом для этих людей, которых автор «Жития святого Иоанна, епископа Турнэ» охарактеризовал как «постоянно занятых столкновениями и резней», было следующее: «Избавляться от врагов, одерживать верх над равными себе и притеснять нижестоящих».
Жизнь замка
Живя в своем собственном жилище, не обогревавшемся зимой из-за опасности пожара, возможно, не освещавшемся ночью по той же причине, никогда не имевшем достаточного освещения, поскольку окна скорее напоминали бойницы и закрывались (ведь оконных стекол еще не было) только темными внутренними ставнями, мелкий сеньор вел достаточно суровый образ жизни. Можно предположить, что, за исключением периодических осад, он старался находиться в своем замке как можно меньше. Впрочем, он никогда не был там один, и именно это могло в холодное время помогать поддерживать тепло. В «Чудесах святого Бенедикта», в уже приводившемся описании, говорится, что там «властитель <…> вместе со своими домочадцами жил, общался, ел, спал». Его домочадцы — это жена, все его младшие дети (поскольку мальчиков, достигших определенного возраста, отдавали другому сеньору, которому они служили, а он обучал их умению владеть оружием), далее: сыновья сеньоров, которым хозяин дома оказывал такую же услугу, а также слуги и вооруженная охрана. К ним могли присоединяться временные гости, например, какой-нибудь жонглер, развлекавший домочадцев пением отрывков из жест.
Это окружение далеко не тяготило сеньора и служило признаком высоты его ранга. Одинокий человек в Средние века, как и в другое время, кажется лицом малозначительным. Согласно английским правилам поведения XIII века считалось дурным тоном, если сеньор обедал в одиночестве. Окруженный ближними, хозяин замка избавлял себя от скуки уединения, приличествующего только людям, склонным к размышлению. Он постоянно пользовался своим положением руководителя. У него постоянно были под рукой защитники его имения и его самого, которые в любой момент могли ему понадобиться.
Для жизни нужна была мебель, пусть самая примитивная. Она, несомненно, делалась весьма грубо из дерева, оставшегося от постройки самого замка. Кровати, вероятно, были достаточно большими, чтобы вместить несколько человек. Такой обычай был распространен в течение всего Средневековья и являлся еще одним способом борьбы с холодом, в особенности если кровати окружали пологи из шерстяной ткани или меха, подвешенные на высоких столбах. Можно предположить, что стол для еды сооружали при необходимости, укладывая в нужное время длинные доски на козлы, а затем доски вновь прислоняли к стенам, освобождая таким образом пространство. Во всяком случае, именно так поступали в те давние годы, от которых до нас дошло выражение «накрыть стол». Посуда, скорее всего, была глиняной, как у крестьян. Должно быть, встречались и деревянные миски. Стекло, несомненно, было редкостью. Однако вполне возможно, что во многих из этих хмурых жилищ имелись также блюда, кубки, чаши и кувшины из серебра, а то и золота. Средневековая литература дает достаточно свидетельств тому, сколь притягательны были для шевалье эти ценные предметы, и вполне реально предположить, что у них хватало средств, чтобы иногда их покупать. В любом случае, в их домах наверняка хранились подарки, которые крупные сеньоры, по рангу обязанные быть щедрыми, раздавали более охотно, нежели земли, хотя именно земель обычно добивались их вассалы.
Стол сеньора
Что подавали на стол? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам следует выйти в поле и не замыкаться больше в маленьком замке мелкого феодала. Питание в основе своей было одинаково у всей феодальной аристократии, различаясь лишь большей или меньшей утонченностью, большим или меньшим числом «перемен блюд». Конечно, подробности выяснить невозможно, и все наиболее вероятные утверждения строятся на основе информации, почерпнутой из письменных источников, однако в общих чертах можно сказать, что пища сеньоров отличалась от пищи простонародья лучшим качеством хлеба, изобилием мяса и привычкой к потреблению алкогольных напитков.
Достаточно вспомнить, что пшеница, из которой делается хороший белый хлеб, была редкостью, и крестьяне, как уже было сказано, должны были отдавать большую ее часть сеньору. Что касается мяса, то мы также знаем, что тощий скот обеспечивал его в малом количестве и плохого качества. Однако в пишу шла добываемая на охоте дичь. Олени, косули, кабаны, которыми кишели леса, подавались на столы сеньоров целыми тушами. Иногда готовили медвежатину. Свой вклад вносила и мелкая дичь. Поскольку со времени 1000 года до нас не дошло ни поваренных книг, ни меню, мы не можем сказать, в каком виде ели все это мясо. Наиболее вероятным кажется, что его жарили на вертеле. Как и то, что блюда приправляли ароматическими травами — тмином, розмарином, лавровым листом, — а не восточными специями, столь ценившимися на Западе вплоть до того времени, когда процветающая морская торговля низвела их до уровня обычных приправ. В интересующее нас время эти специи были чрезвычайно редки, а возможно, их в Европе еще даже не знали.
Овощи, фрукты, различные виды сыров, должно быть, употреблялись в пищу в большом количестве, что мы уже видели при описании обычаев Клюни. Однако рыбу наши пожиратели мяса наверняка ели меньше, разве что по пятницам и во время поста, если предположить, что они его строго соблюдали. Большая часть их вряд ли относилась к своим садкам для рыбы и прудам с таким вниманием, с каким это делали монахи. Что до сладких блюд, то они, естественно, готовились только на основе меда. Трудно сказать, были ли эти блюда столь же распространены, как наши современные десерты.
Ели пальцами. Как известно, вилок в Средние века не было. Кусок каждого блюда, отрезанный слугой, — в более поздних текстах он называется «резальщиком», — передавался на большом куске хлеба, и человек резал его на части своим ножом. Такой способ еды, во всяком случае, засвидетельствован в последующие века.
Как мы уже видели, вино производилось повсеместно и во Франции, и в Южной Германии, и в странах средиземноморского.побережья. Однако создается впечатление, что, за исключением самих виноградарей, только сеньоры регулярно видели вино на своем столе. В регионах, где виноградников вообще не было, вино заменяли пивом.
Источники XIII века, в особенности рассказ о битве при Бувине, входящий в «Реймскую хронику», описывают военный ритуал, в котором важную роль играло вино. Перед боем, в конце обеда, на котором присутствовал Филипп Август[202] со своими баронами, король велел «сделать суп», то есть опустить кусочки хлеба в кубки с вином. Затем он роздал кубки гостям. Этот хлеб и это вино, очевидно, были символами Тайной вечери, и король таким образом недвусмысленно давал понять своим вассалам, что они являются для него теми же, кем были апостолы для Христа. Похоже, что существовал обычай «делать суп» в случае торжественных или траурных обстоятельств. Возможно, этот обычай столь же стар, как и сама вассальная система, и уже существовал в X и XI веках. Ришер дает нам косвенное указание на это, рассказывая, как Асцелин, предательски добивавшийся доверия Карла Лотарингского, принял от него кубок вина с накрошенным в него хлебом.
Гигиена феодала
Сколь бы настойчиво ни утверждали защитники Средневековья, что в то время удивительным образом соблюдались правила гигиены, трудно поверить, чтобы это было возможно в маленьких деревянных замках времен 1000 года. Вспомним, что даже намного лучше оснащенные монахи Клюни принимали ванну только два раза в год. Невозможно представить, чтобы владелец замка и его «домочадцы» делали это чаще или хотя бы столь же часто. То же можно сказать об отправлении естественных надобностей. Вместо удобных монастырских туалетов здесь был только ров. Лишь очень крупные феодалы в больших замках и дворцах, которые мы опишем ниже, располагали такими же удобствами, как монахи наиболее значительных аббатств.
Жизнь на свежем воздухе
По правде сказать, хорошие гигиенические условия в доме были нужны в основном именно монахам, потому что и мелкие, и крупные сеньоры большую часть жизни проводили вне дома. Как их основная профессия (военное дело), так и их развлечения были связаны с действиями на свежем воздухе.
Охота, каким бы утилитарным целям они ни служила, была одним из таких развлечений. Охотились по-разному. Эти всадники, эти воины издавна и в течение многих последующих веков страстно увлекались травлей дичи, которая заменяла им войну. Если пугливые косули доставляли только удовольствие преследования, которому их ловкость придавала пикантности, а также удовольствие убийства всевозможными способами, то кабаны уже могли постоять за себя, у медведей были когти, у волков, на которых охотились также ради истребления, — клыки. Эти жертвы могли «задрать» не только собак. Погони через лес, как и сейчас, объединяли большое число всадников, владельцев замков со всех ближайших земель, доезжачих, а иногда к ним присоединялись дамы, умевшие хорошо держаться в седле. Охотничьи трубы гремели под мирными кронами деревьев. Это доставляло радость.
Охота с птицами собирала меньше народа. Всадник ехал шагом в небольшой компании по открытой местности, держа своего специально обученного сокола или ястреба, прикрытого колпачком, на руке, одетой в перчатку. Когда появлялась дичь, охотник снимал колпачок, и вновь обретшая зрение хищная птица неудержимо устремлялась на добычу. Этот вид спорта, неизвестный в античности и почти забытый в наши дни, был занесен на Запад цивилизациями всадников-кочевников, обитавших на азиатских равнинах.
Другим развлечением сеньоров, еще более соответствовавшим их воинственному нраву, были турниры. В более поздний период Средневековья считалось, что турниры были изобретены неким Жоффруа де Прейи, который умер в 1066 году. Таким образом, получалось, что они возникли не ранее середины XI века. На деле подобная имитация боя была известна гораздо раньше. Турниры проводились, например, в Страсбурге в 843 году во время встречи Карла Лысого с Людовиком Немецким, и уже тогда это далеко не было нововведением. Действительно, четко организованные турниры, известные в позднее Средневековье, вряд ли существовали в XI веке. Можно представить себе, что они были менее официальными и более спонтанными. Поэтому поединки становились намного опаснее и иногда приводили к смертельному исходу. С другой стороны, в то время они еще не стали исключительной привилегией феодальной аристократии. Традиция подобных боев сохранялась в народе с древности, и Церковь запрещала их на своих соборах, называя «языческими игрищами». Известно, что молодой человек, погибший во время такого состязания в Вандоме в 1077 году, был сыном башмачника.
Описывая повседневную жизнь сеньоров, остается вспомнить об их участии в военных действиях. И этому будет посвящена отдельная глава. Тема того заслуживает.
Крупные сеньоры
На войне, на охоте, на турнирах, а также на ассамблеях, почти ежегодно собиравших воедино феодальную аристократию каждого большого фьефа или всего королевства, сходились вместе сеньоры различных рангов. Тем не менее существовали значительные различия между повседневной жизнью владельца маленького замка и жизнью знатного барона или короля.
Во Франции крупные феодалы, чьи богатство и сила были не меньше богатства и силы короля, жили как суверенные правители. У них была своя столица, где они проводили часть времени в собственном дворце. У Ричарда II, бывшего герцогом Нормандии в 1000 году, такой столицей был Руан, где он ежегодно принимал монахов с горы Синай и осыпал их дарами. Гильом V Великий, герцог Аквитанский, имел дворец в Пуатье. Он перестроил его к 1014 году вместе с собором и другими церквями города, разрушенными опустошившим город пожаром. Эти правители имели свой двор и свои ассамблеи, на которые обычно съезжались их вассалы, а иногда прибывали также епископы и аббаты, часто навещавшие знатных сеньоров, с тем чтобы обсудить религиозные или политические вопросы. Слуги этих сеньоров, их охрана, священники, служившие в их церквях, ремесленники, необходимые для их развлечений, а также для обновления дворцов или гардероба — каменщики, столяры, художники, скорняки, портные, — составляли обслуживающий персонал их домов. Их жены и дочери ни в коем случае не заточались в гинекее[203], а, напротив, достойно участвовали в том, что можно было бы назвать светской жизнью.
Помимо военных походов, в основном для того, чтобы усмирить непокорного вассала, сеньоры часто совершали поездки и по другим поводам: встречались друг с другом или с королем «на высшем уровне», если употребить современное забавное выражение; совершали паломничества. Гильом Великий, согласно свидетельству Адемара из Шабанна, каждый год ездил в Рим или в Сантьяго-де-Компостела. Фульк Нерра, граф Анжуйский, трижды ездил в Иерусалим в качестве покаяния за ужасные поступки, которые он, не в силах совладать со своим бурным темпераментом, совершал по отношению к людям, церквям и монастырям. Гильом Тайлефер II, граф Ангулемский, предпринял такое же паломничество в 1027-1028 годах и вскоре после этого скончался в своей столице, где велел построить себе дом близ церкви святого Андрея, с тем чтобы присутствовать в ней на всех службах.
Каменные замки
Помимо дворцов в пределах городов (представить которые достаточно трудно), бароны имели вне города замки. Они могли располагаться недалеко от города или в сельской местности. Естественно, это были не скромные деревянные башни, подобные замкам мелких сеньоров. Башня строилась из камня. Она служила и жилым помещением, и последним укреплением в случае обороны: именно это и называется «донжоном». Башня возвышалась над обширным двором, окруженным одним или несколькими рядами изгородей. Внутри изгороди находились различные постройки: казарма для военного отряда, жилище слуг и ремесленников, живших в замке, закрома, в которых хранились собранные в качестве оброка продукты. Подобные постройки, относящиеся к X веку, сохранились. Первые известные во Франции замки — это замки Ланже, Кудре, впоследствии включенный в большой укрепленный ансамбль Шинона — Фретваль. Их хорошо описал Жак Леврон.
Ланже был построен около 994 года Фульком Нерра. Сейчас его руины находятся неподалеку от замка, выстроенного в XV веке Жаном Бурре. От «неравно продолговатого» (четырехугольного) донжона, приблизительно 17 и 9 метров, стоявшего на небольшой возвышенности, возможно, на месте более древней деревянной башни, сохранились до наших дней лишь развалины двух стен, сбоку от которых видны остатки маленькой квадратной башни. У нее имелся вход на уровне второго этажа. Ниже второго этажа пространство между четырьмя стенами было засыпано землей. Так что войти можно было, лишь поднявшись по внешней деревянной лестнице, которую было легко разрушить в случае нападения. Толщина стен превышала 2 м у основания и достигала почти 1,5 м на вершине. Второй этаж, не имевший другого отверстия, кроме входа, служил убежищем. Третий был жилищем сеньора и его домочадцев. На нем сохранились следы очага и оконные проемы с полукруглым верхом.
То, что осталось от донжона Кудре, построенного Этьеном, графом Блуа, часто воевавшим против Фулька, напоминает Ланже. Эта постройка, относящаяся приблизительно к 1000 году, в недавнее время была отреставрирована. То же можно сказать о развалинах замка Фретваль, датируемых временем не ранее 1040 года. В его донжоне можно различить четыре этажа и очаги с навесом, возможно, самые древние из известных нам.
Меблировку этих недоступных изучению дворцов и лежащих в руинах замков представить себе не менее трудно. В цитируемых источниках о ней почти ничего не говорится, за исключением описания домов, где жили отдельные конкретные лица. В Шартрском календаре есть одно изображение — на листе января. Человек с двойным лицом Януса[204] греется у огня, сидя в кресле с покатыми подлокотниками и очень низкой спинкой. К передним ножкам прикреплена маленькая скамеечка. Кресло производит впечатление инкрустированного различными породами дерева. За исключением изображения этого удобного и весьма скромного предмета для сидения, можно встретить (причем на рисунках, относящихся ко временам Каролингов) только троны королей в форме курульного кресла[205] без спинки, с подлокотниками и на ножках, перекрещивающихся в форме буквы X. На таком троне обычно лежит подушка, с которой иногда свешиваются две кисти.
Костюм богатого сеньора
О том, каким был мужской костюм, обычный для королевского двора, мы знаем из описания того же вездесущего Рауля Глабера: «Около 1000 года, когда король Роберт только что женился на королеве Констанции, приехавшей из Аквитании, можно было видеть в свите этой принцессы явившихся во Францию и Бургундию людей из Оверни и Аквитании, легковесных и тщеславных, имевших столь же безобразные нравы, как и их одежда. Они украшали свое оружие и сбрую своих коней с необузданной роскошью. Они стригли волосы до середины головы, брили бороду, как скоморохи, и носили непристойную обувь и набедренники». Рауль добавляет, что «все франки и бургундцы» ревностно следовали этой моде. И в поэме, на которую его вдохновило столь скандальное поведение, он клеймит этих «людей в коротких одеждах». Из такого свидетельства, на деле весьма неконкретного, можно заключить, что эти южане побудили сеньоров, живших к северу от Луары, отказаться от манеры носить длинные волосы, бороду и рубахи, закрывавшие верхнюю часть ног. Естественно, нам хотелось бы узнать, чем их обувь и «набедренники», под которыми, возможно, имеются в виду штаны, казались «непристойными». И тут нелишне вспомнить, как, вопреки Уставу, одевались, по словам аббата святого Ремигия в Реймсе (тоже Рауля), монахи, уходившие в город. Если читатель вернется к главе «Нравы духовенства», он вспомнит о «штанах шириною в шесть футов», сделанных из столь тонкой ткани, что она позволяла угадать под ними «срамные места». Что до обуви, то она кажется скорее странной и неудобной, чем непристойной. Она была слишком узкой и украшалась «ушками». Рубашки куда больше должны были шокировать окружающих своими облегающими рукавами, «кантами», которые, несомненно, были покрыты вышивкой, и поясом, столь туго стянутым, что выпуклости ягодиц подчеркивались самым недвусмысленным образом. Если придворные бароны Роберта одевались таким же образом — а мы видели, что подобная мода существовала не только на юге, — то можно понять, почему суровый Гильом из Вольпиано[206] пригрозил, что они не смогут войти в рай в эдакой «ливрее», которую он считал порождением дьявола.
На весьма схематичных рисунках уже упоминавшегося здесь Шартрского календаря, на листе марта, можно увидеть изображение всадника, рубашка которого ниспадает до колен, а на ногах надеты сапоги. Его голова непокрыта, волосы острижены довольно коротко, подбородок обрит. Он трубит в трубу, напоминающую бычий рог — олифант, — и держит ее в левой руке, а другой рукой подгоняет своего коня хлыстом, сплетенным из трех шнуров. Экипировка коня очень интересна: седло со стременами кажется сделанным из меха; на крупе — попона из ткани; во рту — мундштук узды, как говорят кавалеристы. Этот тип мундштука, который опирается на десны выше зубов, считается более жесткой упряжью, чем удила уздечки, упирающиеся в углы губ лошади. Последним типом мундштука пользовались вплоть до недавнего времени. Возможно, в старину у лошадей были не столь чувствительные десны. Судя по всему, изображенный на картинке всадник участвует в охотничей травле.
В той же Шартрской рукописи есть миниатюра, изображающая епископа, знаменитого Фульберта, обращающегося с речью к людям, собравшимся в соборе. Среди них можно заметить важного сеньора. Возможно, это Эд II, граф Шартра и Блуа. Он бородат, его волосы острижены кружком так, что видны уши. На нем огромный красновато-коричневый плащ, представляющий собой простой четырехугольный кусок ткани, закрепленный на правом плече фибулой с драгоценными камнями. Под плащом видна голубая рубаха, доходящая до середины бедра, и красные штаны, которые, в отличие от обычая Каролингской эпохи, не закреплены перекрещивающимися ремешками. На ногах у него черные ботинки, украшенные по краю золотой лентой, которая тянется вдоль нижней части ноги до носка. Остальных людей разглядеть трудно, но видны несколько детей, одетых так же, как другие персонажи календаря.
На женщинах, изображенных на этой миниатюре, мы видим белую вуаль, возможно, из тонкого полотна, которая покрывает голову и ниспадает до пола. На шее она крепится большим драгоценным украшением. У некоторых этот паллиум[207], если его можно так назвать, расшит золотом. Он запахнут не настолько плотно, чтобы нельзя было увидеть длинное, до пола, женское платье с широкими вышитыми рукавами с золотыми галунами. Платье полностью скрывает ноги. У одной дамы оно, помимо всего прочего, украшено цветной вышитой лентой на уровне колен. Благодаря тому, что одна из женщин на рисунке немного приподняла руку, можно увидеть облегающий рукав ее рубашки, называвшейся на французском языке «chainse». Эти одежды часто шили из шелка, который, как мы знаем, был предметом импорта.
Любовные истории короля Роберта
В среде и высшей, и низшей феодальной аристократии брак был средством, с помощью которого каждый мог увеличить свои владения, усилить влияние, получить новых покровителей. Это означает, что чувства играли в вопросах брака ничтожную роль. Впрочем, не всегда.
Едва став королем Франции, Гуго Капет занялся поисками супруги для своего сына Роберта, которому было в то время почти 17 лет. Одно время он мечтал просить для него руки византийской принцессы. Это был широкий размах, слишком широкий. Возможно, письмо, которое он велел написать Герберту, даже не было отослано. Во всяком случае, вскоре Роберт женился на Розале, прозываемой Сюзанной, недавно овдовевшей супруге графа Фландрского Арнуля II. По расчету Гуго, она должна была принести ему дружеское расположение Фландрии, которая до того вместе со своим графом неблагосклонно наблюдала за тем, как он сместил своего соперника-каролинга. Кроме того, он надеялся побудить Фландрию к совместным действиям по защите двух стран от происков германского двора. Вдобавок Розала в качестве приданого принесла Франции графство Понтье, которое долгое время было предметом спора между Нормандией и Фландрией. И наконец, она была особой королевской крови: ее покойный отец в 50-х годах X века носил корону Италии.
Молодая супруга, вступившая в брак в 988 году, была уже не очень молода. Не прошло и года, как Роберт от нее отказался. Ришер пишет, что за это его осуждали, впрочем, исподтишка, потому что никто не осмеливался критиковать его открыто. Церковь, всегда строго настаивавшая на незыблемости брака, никак не реагировала. Роберт — можно сказать, «король Роберт», поскольку его отец разделил с ним трон и помазал на царствие при своей жизни, — Роберт все же оставил за собой Понтье, что говорит не в пользу его галантности. Тщетно «престарелая итальянка» пыталась вернуть себе замок Монтрей-сюр-Мер, бывший портом и оплотом графства. Она уехала к своему сыну графу Фландрскому Балдуину Бородатому, прожила еще 15 лет и умерла только в 1003 году.
Молодой король мог бы, как это делали другие, оставить при себе жену и завести любовниц. От этого легкого решения вопроса его, несомненно, отвратили христианские чувства, многочисленные свидетельства которых приводит Эльго, составивший его жизнеописание. Роберт хотел быть верным мужем. Он также хотел, чтобы его жена была ему по душе. Такое представление о браке не слишком часто встречалось в ту эпоху, однако Роберт с удивительным упорством старался претворить его в жизнь, иногда, как мы увидим, даже вопреки другим христианским чувствам.
Избавившись от Сюзанны, он вскоре вдруг влюбился. Но — увы! — в замужнюю женщину. Его избранницей стала Берта Бургундская, супруга Эда I, графа Шартра, Тура и Блуа. Это был ненадежный вассал короля Франции. В 993 году он участвовал в заговоре с целью передачи Французского королевства Оттону III. Заговор был раскрыт, Гуго и Роберт вступили в союз с Фульком Нерра против Эда I. Три года войны привели графа Шартрского на грань катастрофы. К тому же он заболел грудной жабой и чувствовал приближение конца. Эд запросил пощады, предложил заплатить репарации, стремясь избавить своих четверых сыновей от королевской мести. Гуго позволил себя уговорить. Однако Роберт был неумолим. Посланники, вернувшись, узнали, что их господин уже умер.
Едва прослышав об этой новости, молодой король, а он действительно был хозяином положения, так как его отцу жить оставалось уже недолго, — молодой король делает неожиданный кульбит: он берет под защиту детей человека, которого собирался стереть в порошок. Он отбирает у Фулька Тур, куда тот сразу же бросился, и объявляет о своем намерении жениться на Берте. Он ничем не помешал ей стать вдовой, — это наименьшее, что можно сказать.
К сожалению, Берта, хотя и была вдовой, не могла стать женой Роберта. Во-первых, она была его троюродной сестрой, происходя, как и он, по женской линии от короля Германии Генриха Птицелова. Кроме того, она в свое время избрала Роберта в крестные отцы одного из своих сыновей, то есть была ему кумой. Подобный союз в глазах Церкви был вдвойне кровосмесительным.
Напрасно Герберт, давний учитель Роберта еще по Реймской школе, увещевал своего бывшего ученика, напрасно родственники отказывались дать согласие на брак, — любовь разгоралась еще сильнее. Как только умер (вероятно, от оспы) Гуго Капет, Роберт, став единственным королем, заставил французских епископов разрешить его брак с Бертой. Он считал, что наконец-то сможет стать счастливым и верным супругом.
Не тут-то было. Папа Григорий V, имевший и другие претензии к французскому королю, собрал в Павии синод, который отстранил от должности слишком снисходительных епископов и, под угрозой отлучения от церкви, потребовал, чтобы Роберт явился для оправданий.
Король попытался найти компромиссное решение. Папа требовал также, чтобы был восстановлен в правах архиепископ Реймский Арнуль, которого Гуго и Роберт сместили с этого места в наказание за предательство. Возможно, удовлетворившись этой уступкой, папа забудет о другом требовании? Однако Григорий сделал вид, будто понял, что виновный согласен исправиться по всем пунктам. И поскольку Роберт оставил жену при себе, то общий консилиум, созданный в Риме, повторил приказание, приговорил его и Берту к 7 годам покаяния и пригрозил проклятием в случае их упорствования.
Проклятие было страшнее отлучения. Это было полное проклятие, которое должно было преследовать свою жертву и на том свете. Для Роберта оно было бы ужасным, если бы он принял всерьез духовные санкции главы Церкви. Однако Григорий V, бывший первым по времени германским папой, слишком очевидно был связан с партией императорского двора, и французский король не мог не понимать его политические мотивы. Французские епископы, осужденные вместе с ним, несомненно думали так же, как и он, поэтому Роберт не разошелся со своей возлюбленной, и они продолжали участвовать в богослужениях. Короче, Франция оказалась на грани схизмы, подобной той, на которую спустя пять столетий в сходных обстоятельствах решился английский король Генрих VIII[208].
Однако подобной драмы, чреватой историческими последствиями, впрочем, маловероятными в общих условиях той эпохи, не произошло. В 999 году умер Григорий. Герберт стал Сильвестром II. Он начисто и запросто проигнорировал проклятие, которым разразился его предшественник. Казалось бы, теперь Роберт мог мирно наслаждаться радостями брака по любви…
Но почему тогда с 1001 года Берта перестала быть его женой? Он все еще любил ее и доказывал это на деле. Проявление религиозной щепетильности было бы слишком запоздалым. Истинной, или наиболее вероятной, причиной может быть вопрос о престолонаследии: за четыре года Берта не смогла подарить королю наследника французского престола. Едва родившаяся династия могла угаснуть. У соперников-каролингов не осталось ни одного серьезного претендента на корону. После смерти Роберта в королевстве неминуемо и надолго воцарился бы хаос. Если это действительно было мотивом его действий, то долгая и славная история Франции под властью Капетингов многим обязана Роберту.
Короче, молодой король, которому даже не пришлось аннулировать второй брак, заключил третий. Он женился на Констанции, дочери Гильома I, графа Арльского. Выше мы видели, какой тон она задала при французском дворе и сколь скандальным это показалось Раулю Глаберу, а также другим, более влиятельным монахам. Южане из ее свиты вели, судя по всему, приятный и свободный образ жизни. Если это и недостаток, то он не был единственным. Констанция оказалась сварливой и властной женщиной. В дальнейшем ее поведение в отношении сыновей, которых она родила королю, показало, насколько она была помешана на власти[209]. Покуда же она каждодневно доводила своего супруга до исступления.
Единственным утешением для Роберта была возможность беседовать о его дорогой Берте со своим родственником Гуго де Бовэ, который, будучи связан с домом Блуа, приходился родственником также и ей. Констанция, двоюродная сестра Фулька Нерра, была заклятым врагом этого дома. Суровый граф Анжу поддержал в этой ссоре королеву. Он стал действовать без околичностей: подослал убийц к Гуго Бовэ, когда тот охотился вместе с королем. Ужасный скандал. Королевская ассамблея признала инициатора этого злодеяния достойным высшей меры наказания. Естественно, Фульк при этом не присутствовал. Епископ Фульберт Шартрский постарался более или менее замять скандал. Однако Эд II, сын Берты, и Эд I Шартрский, несомненно подстрекаемые королем, возобновили давнюю войну, которую их род вел против Анжерского графа. Война внезапно прекратилась в 1010 году, когда Фульк, возможно, раскаиваясь в своих злодеяниях, предпринял второе паломничество в Святую Землю.
В тот же год Роберт также совершил путешествие. Он отправился в Рим. Берта его сопровождала. Он должен был принести извинения папе Иоанну XVIII, чьему авторитету было нанесено серьезное оскорбление на синоде, проходившем в присутствии короля в Орлеане. Он был готов любыми способами возместить нанесенный ущерб, а взамен, понятно, надеялся получить разрешение отослать от себя Констанцию и вернуть Берту.
Таким образом, у этой любви была долгая жизнь. Это тем более удивительно, что Берте, которая родилась около 964 года, было уже далеко за сорок. Следует думать, что женщины того времени не всегда старились столь преждевременно, как это утверждают некоторые. Конечно, существует также сердечная привязанность, и, как бы то ни было, Роберт может служить в этом отношении добрым примером, что делает честь его характеру. К сожалению, нет возможности узнать, в какой степени на его чувства отвечала Берта. Ведь у нее, кроме любви, могли быть и другие причины: она могла хотеть остаться или вновь стать королевой Франции.
Тем временем Констанция ожидала известий в замке Тейль, близ Санса, вместе со своим младшим сыном Гуго. В беспокойстве она не находила себе места, но однажды ночью ей явился во сне святой Савиниан, первый архиепископ Санса, и утешил ее. Следующим вечером прискакал посланник и объявил о возвращении короля. Поездка в Рим не принесла ожидаемых результатов. Летописец, описавший этот эпизод, заключил его такими словами: «С тех пор король полюбил Констанцию». Скажем, что он сделал вид, будто это так.
Милосердие короля Роберта
Роберт Благочестивый — это единственный король, и вообще единственный из живших в 1000 году людей, о чьих любовных делах нам известно хоть что-то. Мы также лучше, чем кого-либо, можем представить его в повседневной жизни. Эльго, тот монах из Флёри или из монастыря святого Бенедикта на Луаре, с которым мы уже раз или два встречались в нашем рассказе, долго жил среди его ближайшего окружения и оставил о нем книгу, куда более богатую конкретными описаниями, чем все остальные источники того времени. Именно потому, что он стремился восславить его «святые добродетели», оставляя «историкам» заботу об описании «его светских битв, его побед над врагами и земель, которые он завоевал благодаря своей доблести и искусству», Эльго сумел показать нам этого короля в его повседневной человеческой жизни.
Сразу оговоримся, что Роберт не был типичным властителем своей эпохи. Во-первых, его благочестие было исключительным. Еще более исключительными были его любовь к активному участию в литургии, к пению у аналоя на правах обычного монаха хора и талант сочинять гимны. Однако есть еще одна черта, которую подчеркивает Эльго и которая могла бы показаться маловероятной, если бы настойчивость летописца не свидетельствовала, что он сам считал ее необычным явлением.
«Если кто-то украдет твой плащ, отдай ему и рубаху». Создается впечатление, что Роберт особенно серьезно относился к этому завету Христа, наименее распространенному из всех евангельских заветов. Вот, например, что произошло во дворце в Этампе, который был построен по приказу Констанции. Чтобы отпраздновать завершение постройки дворца, был устроен пир, и король приказал открыть двери для бедных. Один из них, более нахальный, чем другие, лег у его ног и «насыщался под столом тем, что он ему передавал». Однако нищий пошел еще дальше: он срезал «украшение в семь унций золота», «гербовую связку», висевшую «у колен короля», и убежал. Когда из дворца ушли гости и бедняки, Констанция обнаружила пропажу и стала проклинать вора, говоря, что кража «бесчестит» того, кого обворовали. Роберт на это ответил: «Никто меня не обесчестил. Богу было угодно, чтобы этим украшением воспользовался тот, кто его взял и кому оно нужно больше, чем нам».
В другой раз «бедный маленький священник» из Лотарингии по имени Ожье, которого король приютил и послал в «коллегию» своей церкви, похитил подсвечник с алтаря. Он спрятал его под плащом (стало быть, подсвечник был небольшой). Роберт видел это, но сказал, что не знает, кто вор. Констанция, «распаленная яростью, поклялась душой своего отца Гильома применить пытку к плохим охранникам и вырвать им глаза…» Роберт отвел Ожье в сторону и сказал ему: «Уходи, если не хочешь, чтобы тебя разорвала неистовая Констанция, моя супруга. Того, что у тебя есть, достаточно, чтобы ты мог благополучно добраться до своего родного края. Да пребудет с тобой Господь, куда бы ты ни направил свои стопы». Он «подарил ему другие вещи вдобавок к тем, которые он похитил, чтобы этому несчастному ни в чем не было недостатка в дороге». Спустя несколько дней Роберт заявил одному из своих приближенных: «Зачем тратить столько усилий и искать этот подсвечник, когда всемогущий Бог даровал его одному из бедных своих? Бог дал нам, грешным, все блага земли только для того, чтобы мы могли помогать бедным, сиротам, вдовам и всему нашему народу».
Будучи «в своей королевской резиденции в Пуасси», Роберт однажды обнаружил, что его копье «пышно украсила серебром его горделивая супруга». Он тут же выглянул в окно, увидел какого-то несчастного и «прямо попросил его принести какой-нибудь обломок железа, чтобы соскоблить серебро». Бедняк довольно быстро вернулся «с неким орудием, которым можно было сделать эту работу». Король закрылся с ним в комнате и соскреб драгоценный металл в его котомку, посоветовав избежать на обратной дороге встречи с его супругой…
Эльго приводит и другие анекдоты в том же духе. Он также рассказывает нам о том, что в «королевских городах» Париже, Санлисе, Орлеане, Мелене, Этампе, Дижоне, Осере, Аваллоне — три последних города стали королевскими после того, как он отнял Бургундию у узурпатора, — в этих городах король приказывал раздать тремстам нищим, «или, точнее сказать, тысяче нищих» «хлеб и вино». Во время поста он делал то же «повсюду, куда бы ни направлялся» и добавлял к раздаваемым продуктам рыбу. В Святой Четверг он завершал милостыню раздачей каждому нищему по денье. Сто бедных священников получили от него по целых 12 денье. Затем, «одетый только во власяницу, он омыл ноги 160 священникам, обтер их своими волосами и дал каждому по два су». (Что соответствовало 30 денье, то есть цене предательства Иуды. Наверное, поэтому на этот раз Эльго предпочел подсчитать сумму в су, а не в денье.)
Однажды Роберт держал совет с епископами своего королевства и «увидел, что у одного из них, страдающего изрядной тучностью, ноги висят в воздухе». Король пошел и сам принес «издалека» табурет, который подставил ему под ноги. Эльго не мог удержаться, чтобы не восхититься этим жестом самоуничижения со стороны короля.
Королевские резиденции
Эти рассказы и множество других, от которых мы избавим наших читателей, повествуют не только о повседневной жизни Роберта и о пустом тщеславии его супруги. Они показывают, что он много путешествовал, переезжал из города в город и что в некоторых городах у короля были «дворцы». Помимо упоминания о дворце в Этампе, построенном Констанцией, мы узнаем о том, что дворец в Париже, несомненно, построенный до Роберта, «был великолепен». Из текста можно понять, что в Компьене у него было два дворца, поскольку один из них Эльго коротко называет «дворцом», а другой «дворцом Карла Лысого» (последним Роберт, судя по всему, пользовался хотя бы иногда). Вероятно, в других местах, где останавливался Роберт, его резиденции были проще и не всегда заслуживали названия «дворец». Во всяком случае, это слово больше не встречается.
Что касается замков, то упоминается лишь один — в Крепи-ан-Суасоннэ, и этот замок не принадлежал королю: его «с великолепием построил могущественный Готье», местный сеньор. Жаль, что Эльго не был склонен подробно описывать все эти «великолепные» здания.
Драгоценные предметы
Тем более достойны удивления и доверия те описания ценных вещей, которые он приводит в огромном количестве: олень «из чистого серебра», подаренный Роберту Ричардом, герцогом Нормандским, видимо, достаточно маленький, раз вор смог спрятать его в своих штанах; массивное золотое распятие и «серебряный сосуд весом в 60 ливров (!)», преподнесенные церкви Святого Креста в Орлеане родителями Роберта во имя его выздоровления от некой болезни, которой он болел в детстве; чаша «из тонкого золота, стоящая сто су» и сделанная по заказу епископа Орлеанского Тьерри для той же церкви. Роберт присовокупил к чаше дискос[210], «сработанный в таком же стиле». Поскольку Орлеан фактически был столицей королевства, он беспрестанно заботился о церкви Святого Креста, наиболее почитаемом храме города. Епископ Ульрих получил в дар «священническое облачение, столь великолепное», что когда он служил мессу, то «казался окруженным со всех сторон золотом и пурпуром» (наконец-то зрительный образ!). Другим даром была «небольшая ваза из оникса, купленная королем за 60 ливров». Добавим к этому «три отреза драгоценных тканей» (их опять невозможно себе зрительно представить) и «множество других вещей, которые невозможно ни описать, не подсчитать»…
Далее: «раки из золота, серебра и драгоценных камней» для мощей святых Савиниана и Потенциана, принявших мученичество в Сансе; «весьма богатая ткань» для алтаря Святой Девы в церкви святого Бенедикта, вместе с которой была подарена «кадильница, во всех отношениях достойная восхищения, пышно украшенная золотом и камнями» и «сработанная в том же стиле, что и золотая курильница, сделанная аббатом Гозленом, автором чудесных произведений, затмивших все, что мы до того видели во Флёри». Из чего следует, судя по всему, что этот аббат, бывший сводным братом короля, собственноручно занимался ювелирным делом и имел способности к этому занятию.
Властители, подобные Роберту, дарили «великолепные» предметы не только церквям: они дарили их также друг другу. Когда в августе 1023 года король Франции на берегах Мааса встретился с императором Генрихом II, он просил его принять «множество даров из золота, серебра и драгоценных камней, сотню лошадей в роскошной упряжи и сотню кольчуг и шлемов». Генрих не захотел принять ничего, кроме «Евангелия, инкрустированного золотом и драгоценными камнями, и подобным же образом украшенного реликвария, содержавшего зуб святого Винсента». Императрица приняла в дар только два золотых блюда. На следующий день Роберту, приехавшему с визитом на другой берег реки, предложили в дар сто ливров чистого золота, — он ограничился тем, что взял два золотых блюда. Таким образом, обмен все-таки не был равноценным. По крайней мере так рассказывает об этой важной встрече Рауль Глабер.
Эти россыпи камней, это раздаваемое золото, эти драгоценные ткани могут создать впечатление об описываемом времени как об эпохе изобилия. Читатель сам понимает, что подобное впечатление обманчиво. История всех цивилизаций на всем своем протяжении показывает, что великолепие богатых ни в коей мере не прибавляет достатка бедным. Да и само оно становится столь заметным, лишь возвышаясь над нищетой простого народа.
Глава XX ВОЙНА
Общество 1000 года постоянно находилось в состоянии войны. Можно сказать, оно ее порождало, потому что все его мирские члены, снизу до верху иерархической лестницы, были военными людьми. Церковь, как мы видели, пыталась ограничить их воинственность. Результаты этой ее деятельности были ничтожно малыми.
Но что это была за война?
Природа войн
В интересующее нас время не было (или почти не было) того, что позже назвали национальными войнами, то есть войнами одного королевства против другого. В течение всего исследуемого периода случилась только одна такая война. Она была короткой и не привела ни к каким последствиям. Речь идет о рейде Гуго Капета на Ахен, после чего Оттон II предпринял кончившееся бегством вторжение во Францию. Он дошел до берегов Сены и затем отступил, причем его арьергард был в пух и прах разбит подле Суассона. Эти события произошли в 977 году. Другого рода войной, принявшей к тому же более широкие масштабы, было эфемерное завоевание Англии королем Дании Свеном, который в 1014 году оспаривал корону короля Этельереда для своего сына Кнута. Тот вскоре потерял ее, затем снова отвоевал и удерживал власть вплоть до своей смерти в 1035 году. Однако здесь речь идет не о столкновении между двумя королевствами, а о попытке совершения династического переворота и собирания воедино большой империи, оказавшейся весьма хрупкой и почти сразу распавшейся.
Еще велись войны против язычников Востока, но их вел исключительно германский император, который, кроме того, иногда нападал на территории, принадлежавшие в Южной Италии Византии — эти походы произошли в 1021-1022 годах. В тех же землях происходили войны и с 1017 года. Их вели склонные к подобным авантюрам вассалы герцога Нормандского, подстрекаемые папой Бенедиктом VIII. Эти войны положили начало длительному периоду нормандских завоеваний в Средиземноморье, происходивших в следующем веке. Были и войны против последних еще не ассимилировавшихся норманнов, против сарацин, которые удерживались в Ла-Гард-Френе и были уничтожены в результате краткой экспедиции в 972 году, а также против сарацин, которые до 1019 года нападали на Нарбонну, а затем были разбиты и пленными попали в рабство. Наконец, приблизительно с 1020 года в Испании велась война против войск всесильного Моджехида, короля Балеареса, и против войск короля Сарагосы. Эти экспедиции на периферии христианского мира были прообразом крестовых походов, начавшихся 80 лет спустя.
Однако хлебом насущным военного дела были феодальные войны, то есть те, что велись между сеньорами, между властителями и вассалами, между королем и сеньорами.
Каковы были мотивы, каковы обстоятельства этих войн? Все они сводятся к тому, что мы сейчас называем стремлением к власти. В отличие от современной ситуации, когда вооружение сосредоточено в руках государства, в то время средства удовлетворить подобные стремления при помощи оружия были в распоряжении почти всех членов феодальной аристократии. Возможности каждого зависели от богатства, то есть, по тем временам, от площади земельных владений, контролируемых каждым, от числа вассалов, которых они позволяли иметь. Многое зависело также от стратегического положения, от позиций на местности, всегда более выгодных при наличии замка. За эти позиции и шла борьба, их отнимали, теряли и вновь завоевывали до бесконечности. Взаимная ненависть намного чаще была результатом именно этих столкновений, а не обид или вопросов чести. А семейная солидарность, перераставшая в солидарность «рода», в который входили братья, кузены и все остальные родственники, приводила к тому, что в эти конфликты, даже самые незначительные, в эти неистребимые вендетты, оказывалось втянуто огромное число дворян.
Какими были войны на самом деле
Когда читаешь жесты, которые, как мы помним, уже исполнялись в 1000 году, представляешь себе эти феодальные войны как эпические столкновения, в которых шевалье с невиданной храбростью наносят удары копьем и мечом. Когда читаешь летописи, разочаровываешься.
Мы договорились: шевалье — это всадник, плотно сидящий в своем боевом седле опершись на стремена, повсеместно распространенные со времен Каролингов, хорошо защищенный шлемом, конической каской с наносьем, панцирем[211] с железными рукавами и круглым или овальным щитом. Его тяжелая лошадь, которую при атаке пускали в галоп, позволяла достичь огромной силы удара. От всадника зависело, сможет ли он нанести более сильный удар, чем его противник: мощно, точным движением руки поразить противника в уязвимое место, выбить его из седла ударом копья, «уязвить» его мечом, убить его топором или дубиной. «Сержанты», или конные оруженосцы, сопровождали эти живые олицетворения войны и служили им, что ясно из самого их названия[212]. Эти люди, которыми они с презрением управляли, играли лишь вспомогательную роль, притом на деле более опасную из-за того, что они были менее защищены своим обмундированием; хотя иногда у них было стрелково-метательное оружие (судя по рисункам, они уже иногда были вооружены арбалетами). В основном же они участвовали в рукопашном бое.
Но хотя эта «техника» действительно имелась в наличии, они, конечно, не была ни единственной, ни даже наиболее часто применявшейся. По крайней мере, такое впечатление неизбежно создается при чтении повествовательных текстов. Чтобы представить себе феодальные войны 1000 года, придется отойти от привычных шаблонов.
Причина проста: драки шли в основном за укрепленные места — замки или города. Следовательно, в этих войнах преобладали осады.
Но было и еще кое-что, что кажется более ужасным. Основная цель — это ослабить противника, нанести ему по возможности больший ущерб. Иначе говоря, опустошить его земли. Сжечь урожай, спалить хижины его крестьян, при возможности перебить их самих, изнасиловать их жен и дочерей.
Осады, зачастую в сочетании с предательством, опустошение окрестных земель, реже всего — генеральное сражение, а иногда также вызов на поединок. Именно так следует представлять себе войны 1000 года.
Эпизоды
Карл, герцог Нижней Лотарингии, брат предпоследнего короля династии Карла Великого Лотаря и единственный наследник своего рода, смещенный в 987 году Гуго Капетом, не желал сдаваться. На следующий же год он попытался вернуть себе Лан, традиционную столицу династии, воплощенной в его лице. Думаете, вместе с Ришером, мы сейчас станем свидетелями регулярной осады? Ничуть. Жители города не особенно поддерживали своего известного лихоимством епископа, уже знакомого нам Адальберона по прозвищу Асцелин. Кто-то из них пообещал лазутчикам Карла сдать ему город. Рассказ Ришера, который на этот раз не стремится подражать древним, а пишет как хорошо осведомленный человек, слишком жив и конкретен, чтобы не привести его полностью.
«Карл прибыл с войском в благоприятный момент, когда садилось солнце, и послал своих лазутчиков к отступникам, чтобы узнать у них, что надо делать. Его люди прятались в виноградниках и за изгородью, готовые войти в город, если позволит удача, либо защищаться с оружием в руках, если так будет угодно судьбе. Те, кто был послан, чтобы подготовить дорогу, встретились с изменниками в установленном месте <…> и объявили им, что Карл прибыл во главе многочисленного конного отряда. Изменники с радостью послали этих людей назад к Карлу, чтобы просить его немедленно подойти. Получив такое сообщение, Карл во главе своего отряда выехал из-за горы (Лан, как известно, находится на крутой скале) и появился перед воротами города. Стражники, услышав стук копыт и бряцание оружия, поняли, что возле ворот находятся люди, и крикнули со стены: «Кто идет?», одновременно с этим бросив вниз камни. Изменники ответили: «Свои. Мы — жители города», и стражники, сбитые с толку этим ответом, открыли запертые изнутри ворота и впустили отряд. Спускалась ночь. Враги заполнили город. Они захватили ворота и поставили там охрану, чтобы никто не мог убежать. Одни трубили в трубы, другие кричали, некоторые гремели оружием так, что испуганные горожане, не понимавшие, что происходит, покидали дома и пытались убежать. Некоторые прятались в самых дальних уголках церквей, другие запирались везде, где только могли спрятаться. Некоторые прыгали со стен. Епископ, среди прочих, бежал в одиночку и спустился с горы, однако его обнаружили в виноградниках люди, посланные для наблюдения, и привели к Карлу, который заключил его под стражу. Карл также <…> захватил в плен почти всех дворян города».
Вот, можно сказать, взятие города без единого выстрела. Карл сразу же постарался сделать город неприступным. Он заготовил большие запасы провизии, особенно зерна, приказал организовать ночное патрулирование улиц и стен. Он надстроил «высокие зубцы» на башне — донжоне, которая, на его взгляд, была недостаточно высока, и велел вырыть вокруг большие рвы. «Он велел сделать противоосадные машины. Он также приказал принести бревна, пригодные для создания других машин. Он велел заострить колья и сделать палисады. Он призвал кузнецов, чтобы они сделали снаряды и обеспечили железными частями все орудия, которые в этом нуждались. Он даже нашел людей, которые с такой точностью стреляли из баллисты, что одним уверенным ударом пробили насквозь торговую лавку, проделав в ней два отверстия, расположенные напротив друг друга, и без промаха убивали птиц на лету, и те, пронзенные насквозь, падали с большой высоты». Точное описание города, готовящегося выдержать осаду.
Гуго Капет и его сын Роберт, сам уже ставший королем, прибыли к стенам Лана. Они выбрали для своего лагеря такое место, в котором их войско было бы укрыто от возможного нападения защитников города, окружили лагерь рвами и «шоссеями», — возможно, имеются в виду низкие земляные стены. Однако «крутизна холма, на котором стоит город, делала его неприступным». Наступила осень. Осаждающие ушли, «чтобы вернуться весной». Карл воспользовался этим и дополнительно укрепил оборону, он велел заложить ворота и заделать «тайные отверстия, которые обычно делали позади домов».
Наступила весна 989 года. Оба короля вернулись, приведя с собой, по словам Ришера, восемь тысяч человек, — впрочем, ясно, что эти цифры нельзя принимать всерьез. Короли восстановили свой лагерь. Затем они велели построить таран, чтобы попытаться разрушить стены.
«Они сделали эту машину из четырех бревен невероятной толщины и длины, расположив их по периметру четырехугольника, и поставили их стоймя. На вершине и у основания между ними были закреплены четыре бревна. Посредине поперечные брусья были только с правой и с левой стороны. На верхних соединениях поставленных стоймя бревен они расположили две длинные закрепленные балки, заключавшие между собой треть пространства, разделявшего бревна. К этим балкам были прикреплены переплетенные канаты, на которых был подвешен очень толстый кусок дерева, по краю обитый железом. В середине и на концах этого куска дерева также были закреплены канаты, которые можно было поочередно тянуть и отпускать силою многих рук, приводя в движение окованное железом дерево. <…> Эту машину поместили на три треугольно расположенных колеса, с тем чтобы легко передвигать ее и направлять туда, где она будет необходима».
Увы! «Поскольку расположение города на вершине высокого холма не позволило подвести эту машину к стенам, ею не пришлось воспользоваться». Инженеры короля умели строить машины, но, должно быть, не отличались дальновидностью.
Однажды ночью, в августе, осажденные, воспользовавшись сном королевских воинов, отяжелевших после обильных возлияний, совершили вылазку и подожгли лагерь. Запасы продуктов и снаряжения были полностью уничтожены, и королям не оставалось ничего другого, как скомандовать отступление.
Карл захватил Лан благодаря измене. Измена же, чуть позже, вернула город в руки короля. Но прежде другая измена отдала в руки претендента-каролинга город, еще более важный, чем Лан: Реймс.
Изменником был Арнуль, незаконнорожденный сын короля Лотаря, то есть побочный племянник Карла. Гуго Капет, надеясь добиться его верности, сделал его архиепископом Реймским. Неблагодарный, спустя немного времени после своего воцарения в городе, приказал открыть ворота своему дяде. Возмущенный и разгневанный Гуго собрал «шесть тысяч» человек и решил покорить Реймс «оружием или голодом».
«В пылу этих чувств он отправился в путь и повел свою армию по тем землям, откуда неприятель получал провизию, начисто опустошил их и предал огню с такой яростью, что не пощадил даже бедной хижины, принадлежавшей нищей, впавшей в детство старухе». После этих подвигов он намеревался сразиться с армией противника.
Похоже, король был очень на это настроен. Что до Карла, то он привел с собой в опустошенные земли «четыре тысячи» человек из Лана. «И он был полон решимости сохранять спокойствие, если на него не нападут, но в случае нападения — сопротивляться».
Такова была подготовка. Прибыл Гуго. Он увидел, что войско Карла построено для битвы. «Он разделил своих людей на три отряда, боясь, что излишнее количество людей будет мешать ему и собственные войска загромоздят пространство. Итак, он создал три отряда: первый должен был начать бой, второй — поддерживать первый, если он ослабеет, а третий должен был увозить добычу. Разделив и упорядочив таким образом свою армию, король встал во главе первого отряда и двинулся вперед с развернутыми знаменами. Два других отряда были поставлены на условленные места и готовились оказать ему поддержку».
Против этих «шести тысяч» человек короля Карл выставил только «четыре тысячи», — сделаем из этого хотя бы тот вывод, что его войско было не так многочисленно. «Обе стороны остановились в нерешительности, потому что у Карла было недостаточно военных сил, а король прекрасно отдавал себе отчет в том, что действует противоправно, смещая Карла с трона его предков, чтобы занять его самому. Подобные соображения не давали активно действовать ни тому, ни другому. Наконец знатные сеньоры из свиты благоразумно посоветовали королю на некоторое время остановиться вместе с войском. Если противник двинется вперед, с ним нужно будет сразиться; если противник не нападет, можно будет отойти вместе с армией. Карл, со своей стороны, принял такое же решение. Таким образом, остановившись, обе партии уступили по собственному побуждению. Король увел свою армию, а Карл отступил в Лан».
Со всеми этими всадниками и пешими, которые следовали за предводителями, война обошлась менее жестоко, чем со старой нищенкой из Шампани…
Понятно, что Карл, зная, что у него меньше людей, должен был постараться избежать сражения. Что до мотивов, которые Ришер приписывает Гуго, то они малоправдоподобны и в любом случае удивительны. Эти запоздалые угрызения совести, заставляющие бездействовать на поле битвы, плохо согласуются с его изначальным «пылом» и тем более с вероломными средствами, которыми он впоследствии воспользовался для того, чтобы одержать окончательную победу над своим соперником. Если бы он сомневался в своих правах, то скорее всего дал бы ситуации развиваться самой по себе, что было равнозначно предоставлению дела на суд Божий, а не стал бы пользоваться услугами «старого изменника» Асцелина для того, чтобы заманить Карла в западню в Лане. Детали этой низкой интриги слишком далеки от того, что называется борьбой за свое место под солнцем. Отметим, однако, что если Карл был захвачен при помощи измены, то и сам он прежде воспользовался тем же средством, чтобы отобрать у Гуго два города.
Мы не удивимся, если узнаем, что сын Гуго Капета Роберт Благочестивый, смиренную повседневную жизнь которого мы наблюдали в предыдущей главе, был на войне не меньшим разрушителем, чем его отец. Ожесточенно стремясь завоевать герцогство Бургундское, он без колебаний стал совершать на него опустошительные набеги. Каким бы «благочестивым» он ни был, он тем не менее подверг яростной атаке аббатство Сен-Жермен, находившееся близ города Осера. Правда, аббатство было хорошо защищено «мощными валами» и оборонялось под началом графа Неверского Ландри, при содействии местных жителей, которые, как пишет Рауль Глабер, «страшились, что неистовство противника обратится против святого воинства». Вмешательство Одилона, знаменитого аббата Клюни, не укротило его ярости. Правда, ему пришлось отказаться от идеи взять аббатство, и на следующий день он покинул его, по словам Рауля, «поджигая на пути дома и поля, не нападая только на хорошо защищенные города и замки». Это еще одно доказательство того, что опустошение окрестных земель было привычным способом ведения войны.
За несколько десятилетий до того королю Лотарю удалось захватить Верден, один из основных городов той Лотарингии, которую Каролинги вечно оспаривали у германских императоров. По причине сопротивления жителей Лотарь напал на город со стороны, где он соприкасался с равниной, и пустил в действие «военные машины различных видов». Защитники, видя, что помощи ждать неоткуда, сдались через восемь дней. Однако несколькими месяцами позже лотарингские вассалы императора захватили «укрепление, которое окружавшая его стена делала подобным крепости». Это место находилось напротив Вердена, на другом берегу Мааса, однако было связано с городом двумя мостами. Они запасли в этом месте провизию и строительный лес, взятый в Аргоне, и могли сделать в случае необходимости колья с железными наконечниками, снасти и щиты, «чтобы сделать черепаху»[213]. Лотарь был предупрежден. Он созвал своих шевалье и недавно набранных на службу людей и попытался уничтожить крепость. Ришер описывает некую машину, весьма отличающуюся от тарана Гуго Капета. Речь идет о деревянной башне достаточной высоты для того, чтобы с ее вершины можно было смотреть на защитников крепости сверху вниз и сбрасывать на них различные снаряды, «дротики и камни». Чтобы привести башню в соприкосновение со стеной, не попадая под обстрел противника, были применены канаты, обернутые вокруг ворота: их тянули быки, и башня приближалась к стене, когда они от нее удалялись. Машина двигалась на «цилиндрах», которые перекатывались под ней. Таким образом, она прибывала на место и «никто при этом не был ранен». Честно говоря, нелегко понять, почему те, кто должен был глубоко врыть в землю этот ворот почти у основания стены, находились в меньшей опасности, чем если бы они просто толкали машину…
Как бы там ни было, защитники крепости, чтобы не дать нападавшим атаковать себя сверху, построили сходную машину. На этом подвесном поле боя началась битва, очевидно, мало похожая на привычные конные стычки той войны. Победили люди Лотаря: машину неприятеля зацепили канатами, снабженными крюками, сильно потянули так, что она наклонилась и все, кто на ней находились, упали на землю. Гарнизон запросил пощады. Король даровал им прощение и удовлетворился сдачей крепости.
Рассказ Ришера ценен благодаря подробностям описания военных событий. Кроме того, Ришер, более нежели другие летописцы, обращает внимание на все обстоятельства этих событий. Конечно, ему нельзя слепо доверять. Однако даже если то, что он описывает, на деле происходило не совсем так, в его хронике в любом случае отразились типичные особенности военной практики того времени. Похоже, его манию подражать Саллюстию сильно преувеличивают. Она выражается в основном в тех речах, которые он вкладывает в уста своих героев. В любом случае, «Югуртинская война»[214] не содержит ни одного описания военной машины. Ришер мог почерпнуть материал для своих описаний только из собственного опыта или от знающих людей, как он делал в других случаях, описывая перипетии различных конфликтов.
Генеральное сражение
Есть описание только одного генерального сражения, о котором рассказывают и Ришер, и Рауль Глабер. Это сражение 27 июня 992 года Фульк Нерра дал графу Ренна Конану близ Конкерейя, в нынешней области Атлантическая Луара. Неудивительно, что эти два описания совпадают не во всех пунктах. Однако в основном они сходны.
Оба автора пишут, что Конан велел вырыть на земле, отделявшей его от армии Фулька, ямы и тщательно замаскировать их ветками. Согласно Ришеру, он затем объявил, что будет ждать неприятеля на своих позициях, ибо право на его стороне. По описанию Рауля, во время сражения его войска сделали вид, что бегут. В обоих текстах далее, естественно, рассказывается о том, что люди Фулька, бросившись в погоню, упали в ямы. Дальнейшие события описаны по-разному, однако в конце, согласно обоим авторам, победа осталась за Фульком.
Выводы
В летописях можно найти множество описаний других осад и мало описаний генеральных сражений, однако и те и другие по большей части описаны лишь в общих чертах. Из этих рассказов можно почерпнуть только сведения о частоте взятия замков, их разрушениях, перестройке и новых осадах. Деревянные башни было столь же легко построить, как и разрушить. Особенно часто такие описания встречаются у Адемара из Шабанна, который рассказывает в основном о феодальных войнах в Аквитании. Но чаще всего звучат ужасающие рассказы об истреблении деревень.
Выше у нас было достаточно возможности отметить, что крупные сеньоры только в исключительных случаях погибали на поле битвы. Источники не позволяют судить, было ли положение таким же в среде их вассалов и младших всадников. Однако мы бы не удивились, если бы узнали, что и они были в бою в какой-то мере неуязвимы. Их кольчуга, шлем и щит защищали их от смертельных ударов лучше, нежели менее полное обмундирование сержантов, и уж тем более надежнее, чем совсем легкое обмундирование пехотинцев. Добавим, что на коне можно было в случае необходимости ретироваться намного быстрее… И наконец, если шевалье оказывался во власти противника, его не торопились убивать, как простых солдат: его брали в плен, чтобы потребовать выкуп.
Конечно, история позднего Средневековья явила миру прекрасные черты героизма и примеры славной смерти на поле боя, вплоть до побоища при Азенкуре[215], где погиб цвет французского дворянства, одержимый гордыней и пользовавшийся отсталой тактикой перед лицом английских лучников. Идеал шевалье, разработанный Церковью ради организации крестовых походов и поддерживавшийся верностью и преданностью, которую сумели внушить мелкой феодальной аристократии великие Капетинги XII и XIII веков, просуществовал долго. Однако в 1000 году его еще не было. А «героическая атмосфера каролингской Франции», которую Менендес Пидаль считал основным источником вдохновения авторов жест, уже давно испарилась. В действительности она не пережила Карла Великого.
В достигшей кульминационной точки развития феодальной анархии восприятие окружающего мира было корыстным. В основном воевали только за себя и за свои материальные интересы, за добычу, за завоевание земель или ради получения их в качестве награды от более крупного сеньора. Люди были сильными, тренированными, хорошо вооруженными и жестокими. Они любили войну: ведь было куда больше тех, кто на ней наживался, нежели тех, кто погибал.
Глава XXI ТОРГОВЛЯ И ГОРОДА
В западном обществе 1000 года, независимо от того, какую среду мы возьмем: духовенство, земледельцев или военных, — торговля занимала очень незначительное место. Читая предыдущие страницы, вы могли в этом убедиться сами.
Все необходимое для повседневной жизни: продукты питания, одежду, предметы обихода и даже строительные материалы можно было произвести или добыть прямо на месте. Пожалуй, исключение составляло только оружие, потребность в котором была столь велика, что местные кузнецы зачастую уже не могли обеспечить достаточное его количество в рамках оброка, как это практиковалось в эпоху Каролингов. Обычно же домен кормил, одевал, укрывал от непогоды и снабжал всем необходимым своего сеньора, мирского или духовного, равно как и всех, кто в нем жил.
Мелкая торговля
Несомненно, какая-то торговля все же существовала. На маленьком деревенском рынке, который, возможно, функционировал раз в неделю, крестьяне продавали скромные плоды своих огородов и скотных дворов, куски ткани в несколько локтей, сотканные их женами, а также кроличьи шкурки. Как предполагает Анри Пиренн в своей «Экономической и социальной истории Средних веков», на рынке они скорее искали возможности пообщаться и поболтать. Однако при этом они могли выручить пару денье, этих «маленьких монет из темного серебра», роль которых в деревенской экономике того времени, согласно Жоржу Дюби, была «незначительна, но реальна». Часть этих денег требовалась крестьянам для того, чтобы заплатить сеньору оброк, поземельную подать, десятину, другие сборы. Кузнецы продавали оружие, сделанное сверх того, которое они должны были отдать сеньору, а вдобавок можно предположить, что они продавали подковы для лошадей: в то время такие услуги ценились тем более высоко, что не в каждом маленьком фьефе и не в каждой деревне был свой кузнец.
В зависимости от обстоятельств могли происходить и более крупные торги. Какой-нибудь сеньор, на землях которого случился недород, мог попытаться купить зерно у более удачливых соседей. Поскольку чаще всего у него не было достаточного количества наличных денег, он занимал их в соседнем богатом аббатстве, либо отсылал свою серебряную посуду на ближайший монетный двор, который также мог находиться в аббатстве, — ведь Каролинги многим уступили свое королевское право чеканить монету. Нуждающийся мог также обратиться и к более крупному сеньору, например, к тому, чьим вассалом он был, если предки этого сеньора узурпировали право чеканить монету вместе со многими другими королевскими правами. Здесь самое время отметить, что если феодал мог накапливать богатство в виде имущества, то он редко стремился копить деньги, потому что обычно в большом количестве они не были ему нужны. Он предпочитал накапливать сокровища в виде прекрасных произведений ювелирного искусства, которыми он наслаждался и горделиво раскладывал перед собой на столе, в случае же необходимости мог ими пожертвовать. Это еще одно доказательство того, что монеты играли весьма незначительную роль.
Похоже, что торговля вином была более регулярной. Мы уже видели, что довольно часто сеньоры оставляли за собой монополию на торговлю вином в определенный период года в ущерб своим крестьянам-виноделам, которые после этого могли обнаружить, что рынок в пределах их досягаемости уже насыщен. Мы также видели, что отдельные винодельческие области уже достаточно далеко отправляли свои бочки с вином, в частности по руслу больших судоходных рек.
Для настоящей торговли не было места
Однако все эти люди продавали лишь то, что производили: собственноручно или руками тех, кто от них зависел. Они не занимались в чистом виде тем, что называется торговлей: они не были купцами. Заниматься торговлей, быть купцом означает перепродавать с прибылью то, что покупаешь, причем прибыль является платой за услугу, оказанную покупкой товара там, где он есть, и доставкой его туда, где в нем нуждаются.
Эта профессия, столь необходимая в нашей современной цивилизации, в те времена была почти бесполезной, тяжелой и опасной.
Почему почти бесполезной? Мы уже имели возможность видеть, почему: почти все вещи, которые нельзя было добыть иначе, как покупая у купцов, относились к разряду вещей, без которых можно обойтись, то есть к роскоши.
Почему тяжелой? Подобные товары, по определению, надо было привозить на место продажи издалека. Между тем их перевозка на большое расстояние, прежде всего из Ближнего Востока, стала весьма сложным делом. Если в римские времена и даже во времена Меровингов существовал удобный морской путь, то все изменилось с тех пор, как Северная Африка, почти вся Испания и Сицилия попали в руки мусульман. Вдобавок речной путь по Дунаю, по которому такой обмен мог бы продолжаться, уже в течение двух столетий был перекрыт венграми. Они приняли христианство лишь незадолго до 1000 года, и это событие еще не успело сказаться на положении дел. На Северном море судоходство процветало вплоть до времен Карла Великого в портах Квентовике, неузнаваемом ныне под личиной скромного Этапля на Канше, и Дорштадте, ныне не существующем, но находившемся на Рейне выше Утрехта, — но эти торговые пути были полностью перекрыты норманнами. Известно, что эти пираты многократно появлялись на Сене и на Луаре, так что даже во внутренних областях Франции постоянно чувствовалась угроза нападения. Однако их время уже подходило к концу. Речной способ передвижения был в 1000 году наиболее пригодной для использования системой сообщения: сообщение по дорогам, унаследованным от Рима, пришло в упадок, в чем мы уже многократно убеждались; повозки, и без того маломаневренные, передвигались по ним с трудом, только вьючные животные могли пройти везде, да и то лишь в том случае, если мосты были не слишком разрушены. К этим физическим трудностям добавлялось еще множество видов дорожных пошлин — наследие Римской империи, которая, однако, использовала собранные средства на поддержание дорог. Теперь же эти пошлины взимались в нарушение всяких прав местными хозяевами земли, видевшими в них возможность безнаказанно получать доход. Это было «лихоимством» и «дурным обыкновением», против которого купцы более позднего времени отчаянно боролись.
И наконец, профессия купца была опасной. Легко догадаться, почему: на дорогах было небезопасно. Всегда существовал больший или меньший риск подвергнуться нападению какого-нибудь сеньора-грабителя, который просматривал всю местность с высоты своей деревянной башни, либо разбойников, разбивших свой лагерь в лесу. Если человек решался плыть по Средиземному морю, у него был не меньший шанс подвергнуться атаке мусульманских пиратов, базировавшихся в Алжире (позже их назвали берберами[216]), и окончить свои дни рабом какого-нибудь эмира. Возможно, реки были наименее опасными дорогами, однако они не могли удовлетворить потребности всех.
На пути тех, кто, несмотря ни на что, чувствовал влечение к этому занятию, отвращавшему от себя многих по вышеприведенным причинам, вставало еще одно, чисто моральное препятствие: Церковь осуждала торговлю. Желать заработать деньги означало впасть в грех «корыстолюбия»: таким образом, прибыль купца считалась не меньшим грехом, чем ростовщичество. Хлебному зерну и скоту Господь в щедрости своей дал способность множиться; в отличие от них, «деньги не порождают деньги»: то, что приобретает один, отнимается у другого. Видимо, эта мораль позволяла считать безгрешными сеньоров, богатеющих, и зачастую весьма изрядно, на плодах земли, выращиваемых их крестьянами. Таких сеньоров было немало, включая епископов и аббатов. Но та же мораль осуждала купцов, как бы тяжела ни была их работа.
Евреи
Потому неудивительно, что единственными купцами в эпоху Каролингов были евреи. В те времена слова «mercator»[217] и «judeus»[218] практически были синонимами. Большая часть евреев обосновалась в мусульманских странах. Через Испанию они попадали в христианские земли, привозя с собой специи, богатые ткани, а также ладан, необходимый для отправления культа, но не производившийся в Европе. Эти евреи-«раданиты»[219] могли запасаться товарами в Сирии, Египте и Византии.
Известные нам источники 1000 года не упоминают о евреях, приезжавших с Востока. Однако они рассказывают нам о том, что в христианских городах жило много других евреев. Источники не говорят, что они занимались торговлей, несомненно, потому, что это подразумевалось само собой. Они сообщают о другом, и эти сообщения весьма печальны.
Рауль Глабер пишет, что в Орлеане «существовала значительная колония людей этой расы, которые вели себя более горделиво, более злонамеренно и более оскорбительно, чем другие их соплеменники». Пришло известие, что «князь Вавилонский» — то есть халиф Багдада фатимид Хаким — приказал разрушить в Иерусалиме Церковь Гроба Господня (это произошло в 1010 году) и что именно орлеанские евреи подтолкнули его к этому. Тотчас же «все христиане единодушно решили изгнать всех иудеев с их земель и из городов. Став предметом всеобщей ненависти, они изгонялись из городов. Некоторые были заколоты мечами, другие — утоплены в реках. Их убивали тысячью различных способов, и были среди них такие, которые даже различными способами кончали с собой <…> Епископы также издали указ о том, что любому христианину запрещено общаться с ними по какому бы то ни было делу». Под «каким бы то ни было делом» имеется в виду торговля и, конечно же, ростовщичество, так как это были их обычные занятия. Далее Рауль повествует о казни христианина, обвиненного в том, что он передал «князю Вавилонскому» послание орлеанских евреев. Он пишет далее: «Тем временем беглые и бродячие иудеи, которые, спрятавшись в скрытых местах, избежали избиения, через пять лет после разрушения святыни вновь начали понемногу появляться в городах. И хотя это должно было повергнуть их в смятение, как правило, некоторое число иудеев всегда остается в живых, чтобы вечно служить доказательством их собственного преступления или свидетельствовать о крови, пролитой Христом. По этой причине, думаем мы, Провидению было угодно, чтобы ненависть христиан в их адрес на некоторое время смягчилась».
Рауль описывает аналогичные события, произошедшие в Сансе. Похоже, жившим там евреям было не на что жаловаться: граф Санса Рено «относился с такой благосклонностью к ним и их бесчестным обычаям, что окружающие прозвали его королем иудеев». Можно предположить, что этот сеньор скептически относился к вопросам религии, как, возможно, и многие другие, но меньше, чем другие, скрывал это. Видимо, он успешно вел дела со своими купцами и ростовщиками. Его «проиудейская мания» заставила короля Роберта в 1015 году пожелать «возвратить управление столь значительным городом королевской власти». Согласно свидетельству Рауля, который находит все это правильным, войска короля «взяли город, разорили его полностью и даже сожгли значительную его часть». Была ли эта «значительная часть» еврейскими кварталами? Это вполне можно было бы заподозрить, если бы другие источники, более близкие по времени к событию, не рассказали нам о нем совсем по-другому. По их свидетельству, именно Рено устроил поджог после того, как Роберт занял город. То, что пишет Рауль, свидетельствует тем не менее об умонастроениях эпохи.
Судя по всему, много евреев было в городах Южной Франции, и к ним там относились не лучше. Адемар из Шабанна, живший в Лимузене, описывает нам евреев Лиможа, преследуемых, как и в Орлеане, причем по такому же поводу. Это указывает на то, что их было везде понемногу, о чем и говорится в приведенном выше высказывании Рауля. Вместе с тем рассказ Адемара, намного более короткий, чем запись Рауля, свидетельствует только о насильственном обращении в христианство, от которого большинство спасались бегством «в другие города», а некоторые — самоубийством. Однако летопись Адемара приводит нас также в Рим, где, как известно, в течение всего Средневековья существовала значительная еврейская колония, не имевшая особых оснований жаловаться на пап. Впрочем, бывали и исключения, и Адемар описывает как раз одно из них. Однажды в понтификат Бенедикта VIII, то есть в период с 1012 по 1024 год, в Святую Пятницу в Вечном городе случилось землетрясение и «ужасный циклон». Папе сообщили, что «именно в этот час иудеи осмеивали в синагоге образ Распятого». Было проведено расследование и получено подтверждение. Понтифик приказал казнить виновных, и, «как только они были обезглавлены, ярость ветра улеглась». Либо циклон был слишком долгим, либо расследование коротким…
А вот, опять с помощью Адемара, мы переносимся в Тулузу и присутствуем при проявлениях еще большей жестокости. Гуго, капеллан Эмери, виконт Рошшуара («капеллан» — значит священник), «дав пощечину иудею, как принято в этом месте делать по случаю праздника Пасхи, неожиданно приказал вышибить мозги и вырвать глаза этому изменнику. И то и другое упало на землю, иудей умер на месте. Его братья по вере забрали его из базилики св. Стефана и похоронили».
Вряд ли можно точно установить, каким видом торговли занимались евреи в христианских городах. Возможно, но это только гипотеза, они держали лавки по продаже товаров, привозимых с Востока их странствующими собратьями. Либо, что тоже может быть, они и сами путешествовали. И нет сомнений в том, что они давали под проценты (очень большие проценты) ту ссуду, которую было запрещено брать христианам, но к которой при определенных крайних обстоятельствах людям приходится прибегать в любом обществе, за исключением только самого примитивного.
Венеция
То, что во многих крупных христианских городах были еврейские колонии, в какой-то степени доказывает, что там занимались торговлей. Вполне возможно, если верить Анри Пиренну, в эпоху Каролингов других купцов вообще не было. Однако к 1000 году положение изменилось.
Начнем с того, что в Европе существовал христианский город, который благодаря своему географическому положению и сохранившимся связям с Византией был поставлен в заведомо лучшее, нежели другие, положение. Этим городом была Венеция.
В Венеции нет ни полей, ни пастбищ, ни виноградников, ни лесов. Если заставить ее жителей жить, используя лишь собственные природные ресурсы, то они могли бы рассчитывать только на ловлю рыбы. Остается, в общем-то, загадкой, что могло заставить людей поселиться в этой лагуне, усеянной островами. О правах на этот город, не похожий ни на один другой (по словам Ле Корбюзье[220], это «самое невероятное урбанистическое явление на земле»), долгое время спорили Византийская империя и государство каролингских «франков», а затем оттоновские «германцы», но к 1000 году Венеция сумела отстоять свою независимость. Оттон III отказался от традиционной подати, которую город платил королю Италии, и пожаловал безоговорочное право свободного проезда в Павию по рекам По и Адидже. Непосредственно в 1000 году дож Пьеро Орсеоло, который победил далматов[221] и завладел их портами на побережье Адриатического моря, объявил себя их герцогом от имени императора Восточной империи. Таким образом, Венеция обеспечила себе нечто вроде колонии на континенте и имела ту же степень свободы по отношению к басилевсу, какую крупный западный феодал имел в отношении своего короля. Местечко Риальто стало столицей этого множества маленьких городков, разбросанных по лагуне: Читтанова, Торчелло, Маламокко… В 976 году Венеция сгорела во время восстания, поднятого горожанами против дожа Пьеро Кандиано IV. Ее восстановили, и она стала еще прекраснее. Собор святого Марка был построен уже в 1071 году.
Сарацины даже не пытались беспокоить Венецию в глубине ее залива. Скорее, сами венецианцы разыскали их и в 1002-1003 годах очистили от них пролив Отранто. Это не помешало хорошим торговым связям. Христианскую щепетильность успокаивало покровительство великого святого Марка, чьи мощи были перенесены купцами из Александрии в IX веке… Этот город, который не мог существовать без очень активной торговли, экспортировал в гаремы Египта и Сирии захваченных или купленных на далматском берегу юных славянок, — ведь славяне еще не были крещены, а продавать в рабство христиан было запрещено! Как известно, от этих несчастных в западноевропейских языках пошло слово «esclave» — «раб»[222]. До сих пор в Венеции есть набережная, называемая Ripa dei Schlavoni. Кроме того, мусульмане нуждались в дереве и железе, которых не было в их странах. Венецианцы сами не добывали их, но знали, где получить, и, не задавая себе вопросов, не пойдут ли эти материалы на постройку кораблей и производство оружия против христиан, продавали их мусульманам.
С тех пор Венеция стала городом, полностью посвятившим себя торговле и мореплаванию. Ее жизнь, условия существования ее жителей коренным образом отличались от того, как жили люди во всех других регионах Западной Европы. В Венеции никто даже отдаленно не был похож на серва. Простонародье состояло из матросов, ремесленников, мелких торговцев. Богатые люди почти ничем не напоминали сеньоров-землевладельцев феодального общества, даже если некоторые из них еще владели доменами на континенте. Они становились знатными сеньорами только за счет размаха своих сделок. Эти богатые торговцы уже были капиталистами. Анри Пиренн пишет: «Сами дожи подавали им пример, что кажется почти невероятным для современников Людовика Благочестивого[223], в середине IX века».
Само собой разумеется, что эта интенсивная торговая деятельность не ограничивалась сомнительными сделками с последователями ислама. Став крупной морской державой, которая в XI веке могла уже поспорить с нормандцами в Западном Средиземноморье, Венеция, естественно, имела связи с Византией и с византийской Италией[224]. В Византии существовала колония венецианцев. Такие же колонии были, или, точнее, вскоре появились во многих прибрежных городах и на островах Эгейского моря.
Обмен, уже весьма активный во времена 1000 года, должен был привести к освоению тех товаров, которые при анализе последующих веков перечисляют П. Браунштейн и Р. Делор в своей книге «Венеция, исторический портрет города». С Запада везли дерево из лесов Трентино и Апеннин; металлы: железо из Брешии, Каринтии, Штирии, медь и серебро — из Гарца, Чехии и Словакии, золото — из Силезии и Венгрии; привозили также шерсть. Через Венецию ввозились специи и духи. Византия, в обмен на зерно, сукно и драгоценные металлы, продавала шелка, золотую нить, вина и разнообразные товары, приходившие с Черного моря и с Ближнего Востока.
Скандинавская торговля
На периферии христианского Запада разворачивался и другой вид торговой деятельности, которым занимались скандинавы. Как показывает история, и в особенности история архаической Греции, пиратство, развиваясь естественным образом, превращается в торговлю. Пиратство — это только первый ее этап. С конца IX века северные пираты начали все более походить на купцов. И регион их деятельности был необозрим.
В то время как датчане и норвежцы подвергали «планомерной стрижке» (слова Анри Пиренна) империю Каролингов и Британские острова, шведы взялись за Россию. Подобно тому что их соплеменники делали в бассейнах Шельды, Мааса и Сены, они в середине IX века создали лагеря вдоль Днепра и его притоков. Они свозили в эти «города»[225] дань, накладываемую ими на население, рабов, которых они захватывали в окрестностях, мед, меха, добываемые в местных лесах. Эти товары пользовались большим спросом в двух империях, граничивших на юге с их собственными владениями: к востоку был Багдадский халифат, а к западу — Византийская империя. В X веке басилевс Константин Багрянородный[226] упоминал, что скандинавские корабли собирались у Киева. По мере таяния снегов они спускались вниз по течению Днепра, где приходилось преодолевать многочисленные пороги, перетаскивая лодки по берегу. После этого они достигали берегов Черного моря и доплывали до Константинополя, где у «руссов», как их называли славяне и византийцы[227], был свой квартал. Обмен товарами осуществлялся по правилам торговли, которая началась в предыдущем веке и с тех пор постоянно развивалась. Эти грубые купцы быстро поднимались по иерархической лестнице почтенной столицы христианского Востока. Они приняли ее религию в 1015 году[228] и больше не меняли вероисповедания. Они пользовались ее религией, подражали ее искусству, учились у нее пользованию звонкой монетой. Они организовывали в своих землях управление на манер византийского. Где-то около 1000 года Россия стала приобретать то лицо, которое она имела вплоть до Петра Великого и многие наиболее характерные черты которого сохранила вплоть до Ленина[229]. Вот еще одно основополагающее изменение, поворотным пунктом которого можно считать 1000 год.
В Византии скандинавы обменивали мед, меха, рабов на драгоценные товары Востока: специи, вина, шелка, которые они везли на север по Волге или по Днепру. Таким образом они достигали Ботнического залива. Оттуда они рассеивались по всему балтийскому побережью. На острове Готланд, где во время раскопок было обнаружено множество византийских и арабских монет, у них, возможно, была большая база. Именно там они обменивали плоды своих походов в Россию и торговли на Босфоре на добычу, привозимую их братьями из Англии и Франции. За счет этого вирус коммерции начал действовать и на пиратов, которые долгое время опустошали Западную Европу. В X-XI веках эти норманны бороздили во всех направлениях Северное море, основывали свои поселения в устьях рек от Эльбы до Вислы, а также построили севернее Киля, в Дании, огромный торговый склад Хедебю, развалины которого еще сегодня позволяют оценить степень его значительности. Еще в большей мере, нежели континентальное побережье Северного моря, где они обеспечили процветание Гамбурга, ареной их торговли стала Англия, в особенности в то время, когда датский король Кнут в 1017 году на 18 лет присоединил ее, как и Норвегию, к своей державе.
Во времена 1000 года скандинавы явно обладали гегемонией в мореплавании и торговле в северных водах. С их моряками никто не мог сравниться в смелости. Именно в это время они колонизировали Гренландию, откуда их смогло вытеснить только резкое похолодание климата. Именно из Гренландии и, судя по всему, именно в 1000 году знаменитый Эйрик Рыжий отправился под парусами в «Винландию», то есть в Новую Шотландию, полуостров на северном побережье Америки[230].
Первые западные купцы-христиане
Евреи, венецианцы, скандинавы — все эти купцы, несмотря на трудность и опасность их повседневной жизни, не могли не послужить примером для христианских стран Европы, где они понемногу торговали почти повсеместно. Многие видели, что они зарабатывают деньги. А всегда и везде находятся люди, у которых это порождает зависть. Конечно, большинству нищих нищета кажется непреодолимой силой судьбы. Однако некоторые чувствуют, что готовы взвалить на себя еще большие тяготы, бросить вызов еще большим опасностям, чтобы затем избавиться от своего нищенского положения. Начиная с X века в христианской Западной Европе начали появляться такие личности.
В среде сельского населения постоянно имелись молодые люди, у которых не было или уже не было своего места в естественном укладе деревенского хозяйства. Их гнал голод, и они отправлялись на поиски более счастливых земель. Многие больше не возвращались. Другие, у чьих отцов было слишком много детей, оказывались вынуждены покинуть семью, чтобы уменьшить число голодных ртов. Они становились бродягами, просящими подаяния у дверей то одного, то другого аббатства, нанимались работниками при уборке урожая или сборе винограда. Однако наиболее предприимчивые чувствовали, что шанс им может дать торговля. В первую очередь, конечно, они становились грузчиками на морском или речном побережье, в местах, где купцы разгружали свои товары с кораблей, — и при случае они норовили стащить то, что плохо лежит. Либо они нанимались в вооруженные отряды, сопровождавшие караваны. Либо, что еще лучше, они служили матросами на кораблях, плывших в далекие земли за драгоценными товарами, чтобы привезти их в Европу. Заработав свои первые деньги и мудро их сэкономив, наиболее ловкие тратили их на то, чтобы приобрести за морем первую небольшую партию специй, шелков, благовоний. Они становились купцами. Если они действовали с умом, а превратности судьбы обходили их стороной, то им удавалось быстро расширить свою торговлю.
Вот наиболее правдоподобное объяснение того, как появились купцы в христианской Европе. Такое объяснение было предложено Анри Пиренном. Десятилетия, обрамляющие 1000 год, стали героической эпохой для этих людей. В то время они были в первую очередь путешественниками, ведь их занятие состояло именно в том, чтобы доставить свои товары в места, где они могли найти покупателей. Однако любое путешествие — это приключение. Не было никакой возможности путешествовать иначе, как группой и в состоянии готовности к обороне. Группа называлась «братством», «союзом милосердия», «компанией», «гильдией» или «ганзой». Ее члены присягали на верность. У группы был руководитель, которого в немецких землях называли ганзграфом. Существовал специальный знак, который несли впереди отряда, он назывался Schildracke. Все были вооружены, кто луком, кто «мечом», то есть копьем. Их можно было бы скорее принять за войско в походе, если бы эти воины не группировались вокруг вьючных животных или повозок (там, где позволяла дорога) и если бы груз, который перевозился этими средствами, не был единственной причиной и смыслом их путешествия.
Города до возникновения торговли
Этим пионерам современной экономики были нужны базы. Пристанище на зимнее время, когда непогода делала дороги практически непроходимыми. Место, где можно было подсчитать годовую выручку и сохранить товары на складе. Именно поэтому развивающаяся торговая деятельность оказала решающее влияние на судьбу городов.
Выше уже было сказано, что со времен эпохи Каролингов, и в особенности в результате вторжений норманнов, венгров и сарацин, жизнь продолжалась только в тех городах, которые были резиденциями епископов или (иногда вдобавок к этому) столицами королевств или крупных фьефов. Те ремесленники и лавочники, скорее всего, еще очень малочисленные, которые там жили, занимались исключительно удовлетворением потребностей церковных или мирских лиц, зависевших от прелата или сеньора. Однако основные из этих потребностей — потребность в пище и одежде — удовлетворялись за счет деревни, где епископы, так же как и король или графы, располагали обширными доменами, земли которых обрабатывали крестьяне. Так что в городах, даже самых значительных, население было немногочисленным, не более нескольких тысяч душ.
Это вовсе не означает, что жизнь в городах едва теплилась. Духовенство как правящий класс было активным, склонным к действию. Оно созывало консилиумы, на которых проходили бойкие дискуссии. В городах оно организовывало большие религиозные зрелища, например по случаю перенесения мощей, что уже неоднократно описывалось на страницах этой книги. Как мы уже видели, то, что происходило при дворе епископа, интересовало всех горожан, готовых, если позволял случай, наводнить «огромный епископский дворец». Там, где функционировали школы, например в Реймсе или Шартре, студенты наверняка вносили оживление и давали возможность заработать хозяевам таверн, а также, вне всякого сомнения, проституткам и тем, кто их содержал. И то, что можно сказать о городах, расположенных к северу от Луары, несомненно, в еще большей степени относится к городам юга и тем более к городам Италии, где никогда полностью не утрачивались античные традиции городской жизни. В Италии сеньоры предпочитали жить в городах, а не в своих доменах в сельской местности, и в их городских домах, например в Болонье, до сих пор можно видеть башни, возведенные прямо посередине дома. В немецких землях и в Северной Франции внешний вид епископских городов был приблизительно таким же. Вокруг собора располагались монастыри и школы. Напротив «дворца» возвышалась башня, принадлежавшая облеченному доверием сеньору, отвечавшему за безопасность епископа, или бургграфу. Дальше находились дома дворян, составлявших гарнизон, и более скромные жилища домашней прислуги, то есть мирян простого происхождения, исполнявших различные подсобные работы, а также дома ремесленников: пекарей, пивоваров, кожевенников, изготовителей пергамента, плотников, тележников, каменщиков, слесарей, оружейников.
В некоторых городах, например в Сент-Омере или в Аррасе, место дворца епископа занимало аббатство. В других изначальным ядром служила светская крепость. Так было в первую очередь во Фландрии: в Брюгге, Генте, Ипре, а также в городах, основанных в X веке немецким королем Генрихом Птицеловом[231] вдоль течения Эльбы и Заале.
Однако в целом все эти города были всего лишь резиденциями духовных или светских сеньоров, которые жили за счет своих сельских доменов. Иногда даже случалось, что в городе были резиденции нескольких лиц. В городах не происходило ничего, что не было бы связано с повседневной жизнью хозяев этих резиденций. Однако появившиеся чуть позже купцы полностью изменили положение дел.
Города, обновленные купцами
Для того чтобы обосноваться на зиму или оборудовать склад для товаров, купцам подходило не любое место. Им нужны были города, расположенные возле важных путей сообщения. Портами, способными принимать их суда, имевшие покуда малое водоизмещение, были: Брюгге, Руан, Бордо, Кельн, Вормс, Амьен, Авиньон, на притоках — Гент, Льеж, Лион, Майнц. Важным городом, видимо, был Франкфурт — «брод франков», также отвечавший их требованиям. Впрочем, неудивительно, что места расположения этих городов, особенно удобные для разгрузки и перевозки товаров, почти всегда совпадают с местами расположения известных римских городов: античность строила города для тех же целей.
Сначала купцы искали убежища внутри стен городов, построенных и перестраивавшихся под угрозой норманнов и других воинственных народов. Однако вскоре, по мере разрастания складов, им становилось там тесно. Они выходили за пределы этих городов, которые — укрепленные или нет — часто обозначались словом «burg», «bourg» («крепость»). Внешняя зона, которую они таким образом занимали и в свою очередь окружали защитной изгородью, называлась внешним городом, или пригородом. Означавшее его латинское слово «forisburgus» во французском языке превратилось в «faubourg» («пригород»). Тем не менее купцов называли не «пригорожанами», а просто горожанами; именно от слова «бург« образовалось слово «буржуа». Благодаря своей многочисленности и активности они сразу же приобрели такое значение, что их стали считать наиболее характерными жителями самого города, где они обзаводились собственными домами. Появилось еще одно слово для обозначения купеческих предприятий, особенно в X и XI веках: слово «portus» — «порт», которое означало не обязательно береговую гавань, но любое место, через которое проходит перевозка грузов. Слово «порт» в этом значении чаще употреблялось в германоязычных странах: во Фландрии и в Англии на его основе образовался термин для обозначения купцов, живших в этих местах: poorter, portman.
В течение Средневековья коммерсанты преобразовали города: из резиденций крупных землевладельцев они превратились в нервные узлы экономической деятельности, которой было суждено бурно развиваться вплоть до кризиса, произошедшего в XIV веке. Силой обстоятельств эти города стали привлекать к себе все большее число ремесленников, которые постоянно расширяли свое дело и постепенно становились хозяевами крупных производств. Так произошло с фламандскими суконщиками, с медниками Намюра, Юи и, в особенности, Динана.
Итак, эпоха 1000 года отмечает начало этого великого эволюционного процесса и является временем рождения той буржуазии, которая вскоре стала ведущим классом западного общества, классом, который, несмотря на препятствия и мальтузианские настроения корпораций[232], развивал технологии, обеспечивал обмен на всех уровнях, породил почти всех ученых и интеллектуалов, даже если они, как это часто бывало, проводили свои работы ради каких-то церковных задач или в церковной среде. И наконец, во Франции этот класс руководил Революцией, которая дала ему верховную власть в обществе[233]. Так можно ли сомневаться, что 1000 год был поворотным пунктом в истории?
Глава XXII БЕЛЫЕ ОДЕЯНИЯ
Из всех изменений, которые историк может законно связать с 1000 годом, люди, жившие в то время, осознали только появление «белых одеяний новых церквей», восславленное Раулем Глабером. Признаемся, что именно об этой черте весьма непросто писать сегодняшнему историку.
Установлено, что «время вторжения норманнов ознаменовало собой почти на всей территории современной Франции период, когда произошел глубокий отрыв цивилизации IX века от цивилизации начала Средневековья». Эти слова принадлежат Жану Юберу, чья книга «Религиозная архитектура высокого Средневековья» отличается конкретностью изложения и даже спустя 18 лет после выхода в свет остается актуальной. Под термином «Средневековье» в этом отрывке следует понимать период, начавшийся в XI веке. Другими словами, новые церкви 1000 года появились после долгого периода архитектурного застоя. Они стали признаком пробуждения, отправной точкой развития.
Причины
Почему произошло пробуждение? Потому что в 1000 году не наступил конец света и люди вновь поверили в будущее? Конечно, нет. Просто церкви и монастыри становились все богаче. Дары и благочестивые подношения крупных и средних сеньоров умножались. Доходы Церкви, некогда урезанные Карлом Мартеллом[234], были восстановлены, когда окончился период бедствий IX и первой половины X века. Обновление духа христианства довершило этот процесс. Черное и белое духовенство, которое все больше и больше охватывало население своей духовной культурой, хотело предложить людям храмы, более достойные Бога и святых, которым они молились и поклонялись. Эти храмы должны были пробуждать в них благочестие, а также вызывать восхищение.
И получив этот первичный импульс, движение продолжало развиваться в течение последующих пяти веков. Оно прервалось или замедлилось только в период бедствий Столетней войны. В течение всех этих пяти веков новые здания, все более и более просторные, все более и более разнообразные по форме и цвету, вытесняли, закрывали или замещали собой те, которыми восхищался Рауль Глабер, так что теперь от старых церквей почти ничего не осталось.
Если судить по тем реконструкциям этих церквей, которые удалось сделать, то хочется сказать, что Рауль, человек, не пресыщенный впечатлениями, был слишком скор на восхищение. По большей части это очень простые, строгие здания без украшений. Очень редко в них можно найти украшения в виде скульптур, и все они на удивление неуклюжи. Создается впечатление, будто строители и первые создатели скульптурных образов были вынуждены учиться всему на собственном опыте, начиная с азов.
В работе Жана Юбера упомянуто 35 таких сооружений храмового типа, от которых до нашего времени дошли хоть какие-то остатки. Они датируются периодом с конца X по 30-е годы XI века. Думается, читателям нашей книги вряд ли стоит посещать эти развалины стен, фундаменты и подвалы, обнаруженные при раскопках и способные сообщить что бы то ни было только искушенным археологам, да и те зачастую понимают их каждый по-своему. Эти остатки сооружений не добавят ничего нового тому, кто хочет представить себе повседневную жизнь людей в 1000 году.
В пользу туризма по теме 1000 года
Тем не менее есть несколько зданий, которые сохранились целиком или частично. Поскольку они вполне доступны французскому туристу, их имеет смысл здесь упомянуть.
Наиболее интересной, поскольку она полностью сохранилась и может быть датирована с точностью до десяти лет, несомненно, является маленькая коллегиальная церковь[235] Нотр-Дам в Мелене, построенная для общины каноников, которую Роберт Благочестивый основал в период между 1020 и 1031 годами.
Маленькая приходская церковь Сент-Обен-на-Старом Мосту в Кальвадосе, кантон Сен-Пьер-сюр-Див, также дошла до нас в своем изначальном виде. Надпись, сохранившаяся на стене колокольни, позволяет сделать вывод, что она была построена на несколько лет раньше или на несколько лет позже 1000 года.
Наиболее характерной чертой этих построек является расположение камней, образующих стену, то есть «кладка». Камни в ней небольшие и расположены «елочкой», или, если хотите, зигзагообразно. В других случаях это «сетчатая кладка» в виде равносторонних ромбов, расположенных напротив друг друга. Иначе говоря, их соединения всегда не горизонтальные и не вертикальные, а наискось. На основании этого признака к обзору Жана Юбера можно было бы, наверное, добавить еще две церкви, расположенные в долине Луары: церковь в Рестинье, неподалеку от Бурже, и церковь в Мегере, в 15 км к северо-востоку от Сент-Эньяна. У этих зданий по меньшей мере щипец[236] фасада имеет кладку описанного типа.
Кроме этих церквей, до нас дошли хоть в каком-то виде еще два склепа той эпохи. Один из них — склеп в коллегиональной церкви Нотр-Дам в Этампе, построенной Робертом Благочестивым и, видимо, предназначавшейся для размещения реликвий, которые он привез из своей поездки в Рим в 1016 году. У этой церкви есть капители, украшенные скульптурой, единственные из сохранившихся с того времени. Они свидетельствуют о весьма примитивном уровне искусства и технологии строительства. Второй из склепов, завершенный к 1030 году, находится в соборе святого Стефана в Осере. Что до «склепа святого Фулькрана», то было установлено, что его свод, покоящийся на очень мощных столбах, восходит к более позднему времени. На деле этот «склеп» является епископской церковью, возможно, построенной епископом Лодева, носившим имя Фулькран и умершим в 1006 году.
Массивный вход на колокольню церкви святого Отца в Шартре, скорее всего, также был построен в конце X века. Строительство такого же входа в церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже происходило при аббате Морарде, умершем в 1014 году. Однако многочисленные более поздние перестройки сделали его неузнаваемым.
Стены нефа[237] коллегиальной церкви Сен-Мексм в Шиноне предположительно датируются временем около 1000 года, то есть временем, когда была основана местная коллегия каноников.
В маленькой церкви в Мутье, в Тьере, есть прямоугольная апсида[238], стены которой были построены вскоре после 1011 года.
Нижний этаж церкви аббатства Сен-Бенинь в Дижоне, построенный в форме ротонды, к которой примыкает прямоугольная часовня, — это все, что осталось от здания, возведенного по приказу Гильома из Вольпиано, сурового аббата, с которым читатели этой книги уже знакомы. Однако эта церковь в 1836 году была «не очень досконально» отреставрирована. Как бы то ни было, мы не можем уже видеть этот храм таким, каким он был реконструирован на основе источников учеными XIX века. Ссылаясь на них, Кристиан Пфистер в своей книге «Исследование правления Роберта Благочестивого» пишет следующее: «Это была романская церковь с тремя нефами, расположенными в форме латинского креста, подземная, мрачная церковь с низкими сводами. Ее массивные колонны воспроизводили мистический знак «Т›», который был явлен Иезекиилю как еще незавершенный образ креста[239]. Но более всего восхваляли ротонду с тремя возвышающимися друг над другом этажами. Два из них были на одном уровне с двумя церквями, верхний покоился на 36 колоннах из драгоценного мрамора. Он был наполнен светом благодаря большим окнам и просторному сквозному куполу». Что ж, если исследователи Буто в «Истории аббатства Сен-Бенинь», Шевалье в книге «Достопочтенный Гильом», Пенго в работе «Гильом, аббат Сен-Бенинь», опубликованной в «Annales franc-comtoises», — если эти ученые не поддались искушению преувеличить то, что было написано в изучавшихся ими источниках, не приукрасили результаты своего собственного обследования местности и не датировали ошибочно более ранним периодом то великолепие, которое они воссоздали, тогда можно предположить, что аббатство Сен-Бенинь в Дижоне было исключительным для своей эпохи сооружением как в отношении архитектуры, так и в отношении пышности убранства.
Однако скорее всего в это же время множество маленьких деревенских церквей, напротив, строилось самыми скудными средствами и из дерева. Подтверждение этому нам дает Эльго, который велел построить такую церковь во Флёри-на-Луаре. Он пишет, что она была «в действительности весьма скромной, но очаровательной». Эльго сильно возгордился, когда почитаемый им король оказал ему честь тем, что приехал посмотреть на нее.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Под белым одеянием было скрыто зарождение нового мира. Мира соборов. Мира крестовых походов, которые уже начинались в Испании. Мира рыцарских традиций, которые требовали соблюдения мира Господнего и перемирия во имя Бога и хотя бы на время пробуждали в душе многих носителей меча чувство ответственности и долга, что особенно ярко проявилось при Филиппе-Августе и тем более при Людовике Святом. Зарождался мир, в котором королям предстояло все успешнее и успешнее обуздывать насилие мелких сеньоров, остающихся грабителями и вояками (первые попытки такого рода предпринял уже Роберт Благочестивый). В этом новом мире будут беспрестанно создаваться новые монашеские ордена: цистерианцы, францисканцы, доминиканцы, — ревностно борющиеся, как раньше это делали монахи Клюни, против упадка нравов предыдущих поколений и проводящие, по словам Даниеля-Ропа, «безостановочную реформу». В этом мире будут созданы университеты, предшественниками которых были епископские школы Франции, Германии и христианской Испании. Это будет также мир жест, которые уже исполнялись и раньше, — теперь через их посредство «вульгарные языки» пробьют себе дорогу в сферу литературы.
В новом мире усовершенствование методов применения лошадиной силы и использование энергии текущей воды на строящихся все чаще мельницах откроют новые возможности для улучшения обработки земли и всего, что с ней связано. Крестьяне последующих веков извлекут пользу из нововведений и будут жить вплоть до Столетней войны в относительном, но реальном достатке. А те пионеры торговли, которые попробовали свои силы на новом поприще, заложат основы новой экономической деятельности, создадут новый общественный класс, которому будет суждено придать городам новые функции и обеспечить рост их значения.
Действительно, людям 1000 года было чем заняться, вместо того чтобы страшиться наступления конца света.
НЕМНОГО ОБ ИМЕНАХ
Учитывая тот факт, что многие французские географические названия включают в себя имена святых, которые по звучанию значительно отличаются от привычного русского аналога, читателям, интересующимся историей Франции, возможно, окажется полезной следующая таблица соотношения французских и русских имен наиболее часто встречающихся святых.
Что касается имен королей и сеньоров, то напоминаем, что французское имя Шарль обычно передается как Карл, Анри - как Генрих, Луи - как Людовик. Часто встречающееся имя Guillaume имеет три возможных соответствия: Вильгельм, Гильом и Гийом. Последнее стало появляться в русских текстах только в недавнее время. Поэтому в этой книге данное имя в основном переводилось как Гильом, что соответствует устоявшейся традиции и не создает путаницы с именами немецких исторических деятелей. Исключением являются случаи, когда имя конкретного лица традиционно передается как Вильгельм, например Вильгельм-Завоеватель.
СООТВЕТСТВИЯ ФРАНЦУЗСКИХ И РУССКИХ ИМЕН СВЯТЫХ
Антуан — Антоний (Антон)
Базиль — Василий
Блез — Власий (Влас)
Бенуа — Бенедикт
Дени — Дионисий
Жак — Иаков (Яков)
Жан — Иоанн (Иван)
Жервэ — Гервасий
Жермен — Герман
Жером — Иероним
Жиль — Эгидий
Жорж — Георгий
Илер — Иларий
Клод — Клавдий
Кристоф — Христофор
Лоран — Лаврентий
Мишель — Михаил
Поль — Павел
Пьер — Петр
Реми — Ремигий
Сесиль — Цецилия
Теодор — Феодор (Федор)
Эли — Илия
Элуа — Элигий
Этьен — Стефан (Степан)
ЗАМЕЧАНИЯ АВТОРА ОБ ИСТОЧНИКАХ И БИБЛИОГРАФИЯ
Книги серии «Повседневная жизнь» не адресованы ученым. Их читатели в большинстве своем не имеют ни возможности, ни времени, ни желания обращаться к древним источникам или к многочисленным современным исследованиям, на данных которых я основывал свои выводы. Я не счел необходимым испещрать эту книгу многочисленными ссылками на литературу, которые вряд ли нужны читателю. Тем не менее, очень часто я приводил прямо в тексте имя автора, на которого ссылался.
Однако при этом многим читателям, возможно, покажется желательным и полезным получить информацию о том, где можно ознакомиться с документами эпохи и с трудами современных исследователей, которые были использованы при написании только что прочитанных ими страниц. Поэтому я предлагаю вашему вниманию далеко не исчерпывающий список книг, из которых были взяты основные средневековые тексты.
ИСТОЧНИКИ
Прошу извинения у читателей за то, что начинаю с книги, изданной мной. В ее названии читатель увидит знакомые ему имена авторов исследуемой эпохи, которых мы цитировали, упоминали и описывали наиболее часто.
L'An Mille. Oeuvres de Liutprand, Raoul Glaber, Ademar de Chabennes, Adal - beron, Helgaud, reunies, traduites et presentees par Edmond Pognon. Paris, Gallimard, 1947.
Эта книга давно распродана, но имеется во многих публичных библиотеках.
Текст Ришера есть также во французском переводе: Richer, Histoire de France (888-995), editee et traduite par Robert Latou - che, Paris, Champion, 1930-1937. (Collection «Les classiques de l'Histoire de France au Moyen Age», № 12).
Если его трудно достать, то можно воспользоваться фрагментом в старом переводе Годэ, приведенном в книге: Hugues Capet roi de France, par Edmond Pognon. Paris, Albin Michel, 1966. (Collection «Le memorial des siecles», etabli par Gerard Walter. Vol. «Les hommes, Xe siecle»).
Этот фрагмент относится к 950-995 гг., однако из него исключены главы, посвященные тому, как Герберт преподавал в Реймсе.
На французском языке можно также прочитать источник, который не цитировался, но использовался в этой книге: Andre de Fleury: Vie de Gauzlin, abbe de Fleury. Vita Gauzlini, abbatis Floriacensis monasterii. Nexte edite, traduit et annote par R.-H. Bautier et G. Labory. Paris, 1969. (Collection «Sources d'histoire medievale», 2).
Только знающие латинский язык смогут воспользоваться текстом «Чудес святого Бенедикта», поскольку пока существует только одно старое издание: Les miracles de saint Benoit, ecrits par Adrevald, Aimoin, Andre, Raoul Tortaire et Hugues de Sainte-Marie, moines de Fleury, reunis et publies pour la Societe de l'Histoire de France par E. de Certain, Paris, 1858.
Труды Герберта не переводились, а на латинском языке их читать довольно трудно. Только несколько его писем приводятся в указанной выше книге о Гуго Капете, а также в другой книге серии «Memorial des siиcles»:
La naissance du Saint-Empire, par Robert Folz. Paris, Albin Michel, 1967. (Vol. «Les evenements, Xe siecle»).
Te, кто пожелает ознакомиться с латинским текстом, могут изучить его по изданию:
Oevres de Silvestre II, editees par Alexandre Olleris, Paris, 1867.
«Целитель» Бурхарда Вормского опубликован на языке оригинала в книге:
Wasserschleben, Die Bussordnungen der abendlаndischer Kirche, nebst einer Rechtsgeschichte Einleitung. Halle, 1851.
БИБЛИОГРАФИЯ
Ниже в алфавитном порядке следуют имена авторов и полные названия основных работ, использованных в этой книге:
Block (Marc), La societee feodale. La formation des liens de dependance, Haris, Albin Michel, 1993.
Block (Marc), Les charactиres originaux de l'histoire rurale francaise, Paris, A. Collin, 1952-1956, 2 vol. (Новое издание с предисловием Люсьена Лефевра и приложением других работ автора, сделанных с 1931 по 1944 г.)
Block (Marc), «Avenement ete conquete du moulin а eau» dans Annales, 1935, pp. 538 et suit.
Boiiard (Michel de), Manuel d'archeologie medievale: de la fouille а l'histoire, Paris, Societe d'etditions d'enseignement superieur, 1975.
Cohen (Gustave), Le theatre en France au Moyen Age. I. Le theatre religieux, Paris, Rieder, 1928.
Dion (Roger), Histoire de la vigne et du vin en Franse des origines au XIXe siecle, Paris, l'auteur, 1959.
Dion (Roger), Les frontieres de la France, Paris, 1947.
Dontenville (Henri), La mythologie francaise, Paris, Payot, 1948.
Duby (Georges), L'economie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident medieval, Paris, Editions Montaighe, 1962.
Duby (Georges), Guerriers et paysans; VIIe-XIIe siecle, Paris, Gallimard, 1973.
Duby (Georges), Le Chevalier, la femme et le prкtre, Paris, Hachette, 1981.
Fliche (Augustin), L'Europe occidentale de 888 а 1125, Paris, Presses universitaires de France, 1941.
Gille (Bertrand) (sous la direction de), Histoire des techniques, Paris, «Encyclopedie de la Pleiade, Gallimard, 1978.
Higounet (Charles), «Les forets de l'Europe occidentale du Ve au XIe siecles», dans Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'alto medioevo, Settimane du Studio del Centra italiano di studi sull'alto medioevo, XIII (1966), pp. 343-398.
Hubert (Jean), L'Architecture religieuse du haut Moyen Age en France. Plans, notices et bibliographie. Paris, Imprimerie nationale, 1952. (Ecole pratique des Hautes Etudes. Section des sciences religieuses. Collection chretienne et bysantine. Directeur d'etudes: A. Grabar.)
Imbart de la Tour, Les paroisses rurales du IXe au XIe siecles, Paris, 1900.
Lefebvre de Noettes, La force motrice animale а travers les ages, Paris, 1924.
Le Roy Ladurie (Emmanuel), Histoire du climat depuis Pan mil, Paris, Flammarion, 1967.
Levron (Jacques), Le chateau fort, Paris.
Menendez Pidal (Ramon), La chanson de Roland et la tradition epique des Francs. 2e edition, aves le concours de Rene Louis et traduit de l'espagnol par Ireenee-Marcel Cluzel. Paris, A. et J. Picard, 1960.
Merlet (Robert) et Clairval (Vabbe), Un manuscrit chartrain du XIe siecle, Chartre, 1893. (С большим количеством цветных и графических репродукций.)
Ollivier (Alain), Otton III, empereur de l'an mille, Lausanne, Editions Rencontre, 1969.
Pfister (Christian), Etudes sur le rиgne de Robert le Pieux (996-1031), Paris, Vieweg, 1883.
Pirenne (Henri), L'origine des constitutions urbaines au Moyen Age, dans Revue historique, 53 (1893), pp. 57 et suiv., et 57 (1895), pp. 57 et suiv.
Riche (Pierre), Gerbert d'Aurillac, le pape de l'an mil, Paris, Fayard, 1987.
Soutou (A), «Les cases encoches d'Alban et d'Ambiatet», dans Archeologie medievale, 1973-1974, pp. 297-317.
Valous (Guy de), Le monachisme clunisien, Paris, 1936.
Vogel (Cyrille), Le pecheur et la penitence au Moyen Age. Textes choisis et presentes par Cyrille Vogel. Paris, Editions du Cerf, 1969. (В этой работе приводится большое количество отрывков из «Целителя» Бурхарда Вормского в переводе на французский язык.)
ЛИТЕРАТУРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Следуя примеру автора книги, переводчик позволит себе небольшой комментарий. Русское издание все равно пришлось испещрять многочисленными примечаниями, так как многие реалии, знакомые французам со школьной скамьи, могут быть непонятны русскому читателю. Кроме того, учитывая многократно отмечавшийся факт, что Россия — одна из самых читающих стран в мире, и то, что российский читатель зачастую имеет и возможность, и время, и желание обращаться к сложным, в том числе научным изданиям, мы позволим себе ниже привести список литературы, опубликованной на русском языке и касающейся истории Западной Европы и Франции X-XI веков. Список включает также несколько работ, рассматривающих более ранний период, но, возможно, позволяющих лучше понять то, о чем написано в этой книге.
ИСТОЧНИКИ
1. Памятники средневековой латинской литературы IV-XI вв. М., 1970.
2. Памятники средневековой латинской литературы X-XII вв. М., 1972.
3. Хрестоматия по истории средних веков (под ред. С.Д. Сказкина). М., 1961-1963. Т. 1-2.
4. Видукинд Корвейский. Деяния саксов / Вступ. ст., пер. и коммент. Г.Э. Санчука. М., 1975.
5. Лев Диакон. История / Под ред. Г.Г. Литаврина. М., 1988.
6. Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро. М., 1976.
7. Песнь о Гильоме Оранжском. М., 1985.
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992.
2. Блок М. Характерные черты французской аграрной истории. М., 1957.
3. Блок М. Феодальное общество. Т. 1. Ч. 1, кн. 2. Условия жизни и духовная атмосфера. (В кн.: Блок М. Апология истории. М., 1986.)
4. Волкова З.Н. Эпос Франции. М., 1984.
5. Городская жизнь в средневековой Европе. М., 1987.
6. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд. М., 1984.
7. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.
8. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
9. Дюби Ж. Европа в Средние века. Смоленск, 1994.
10. Каждан А.П. Деревня и город Византии IX-X веков. М., 1960.
11. Каждан А.П. Византийская культура (X-XII вв.). М., 1968.
12. Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987.
13. Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. М., 1992.
14. Карсавин Л.П. Культура Средних веков. Киев, 1995.
15. Киселева Л.И. О чем рассказывают средневековые рукописи (Рукописная книга в Западной Европе). Л., 1978.
16. Ковальский Я.В. Папы и папство. М., 1991.
17. Лебек С. Происхождение франков (V-IX вв.). М., 1993.
18. Левандовский А.П. Карл Великий: Через Империю к Европе. М., 1995.
19. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1922.
20. Литаврин Г.Г. Византийское общество и государство в X-XI вв. М., 1977.
21. Лозинский С.Г. История папства. 3-е изд. М., 1986.
22. Ловмяньский X. Русь и норманны. М., 1985.
23. Самаркин В.В. Историческая география Западной Европы в Средние века. М., 1976.
24. Сидорова Н.А. Очерки по истории ранней городской культуры во Франции. М., 1953.
25. Славяне и скандинавы. М., 1986.
26. Средневековая Европа глазами современников и историков. Книга для чтения в 5 ч. / Отв. ред. А. Л. Ястребицкая /. М., 1995. Ч. I-IV.
27. Тейс Л. Наследие каролингов. IX-X вв. М., 1993.
28. Элита и этнос Средневековья / Отв. ред. А. А. Сванидзе. М., 1995.
Примечания
1
Апология истории или ремесло историка. М., 1973 и 1986.
(обратно)2
Бои за историю. М., 1991.
(обратно)3
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв. T. 1-3. M., 1988-1991; Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992; Дюби Ж. Европа в средние века. Смоленск, 1994.
(обратно)4
Его две книги о генерале Де Голле — De Gaulle et l'Histoire de France (P., 1970) и De Gaulle et l'Armée (P., 1976) удостоены престижных премий.
(обратно)5
L'An Mille. P., 1947.
(обратно)6
От лат. «mille» — тысяча и «annus» — год; хилиазм — греческий эквивалент того же понятия.
(обратно)7
На этой основе в Средние века сложились различные секты, в том числе в Италии — Апостольские братья (XIII век), в Германии — анабаптисты (XVI век), в Англии — пуританские милленарии (XVII век).
(обратно)8
Miсhaud J.F. Histoire des croisades. P., 1812-1822.
(обратно)9
Мишле, Жюль (1798-1874) — известный французский историк, автор многотомной «Истории Франции». В своих работах он делал акцент на психологию французского народа и живое описание различных сторон его жизни. Он активно работал с источниками, но отличался богатым воображением, как многие исследователи периода Романтизма. Мишле также активно участвовал в политической и социальной деятельности и получил кличку «народник» за выступления в пользу реформы школ.
(обратно)10
Карл Великий (742-814) — франкский король (с 768 г.), с 800 г. — император. От его имени получила название династия Каролингов. Империя Карла включала в себя почти всю Западную Европу, в том числе земли саксов на востоке и королевство лангобардов на юге. Карл активно сотрудничал с Римом и поддерживал распространение христианства в Европе. Он провел судебную и военную реформы, способствовал образованию школ и развитию грамотности. Его Империя была разделена после его смерти между его внуками согласно Верденскому договору 843 года.
(обратно)11
En pace (лат.) — в мире.
(обратно)12
Адемар из Шабанна (Адемар Шабаннский) (ок. 988-1034) — французский монах-хронист.
(обратно)13
Высокое Средневековье — этот термин соответствует принятому в российской историографии термину «конец раннего Средневековья», т.е. обозначает период IX-XI вв.
(обратно)14
Роберт Благочестивый (ок. 970-1039) — французский король (996-1031). Второй король династии Капетингов, прославился как «король, сведущий в Господе».
(обратно)15
Эльго (Helgaud) — французский хронист 1-й половины XI в., монах-бенедиктинец монастыря во Флёри-на-Луаре.
(обратно)16
Рауль (Радульф) Глабер (Глабр) — французский монах-летописец, на труды которого в этой книге будет очень много ссылок. Он родился в Бургундии в конце X в. и двенадцати лет от роду был отдан дядей-монахом в монастырь Сен-Леже-де-Шампо, однако вскоре был изгнан оттуда «за неподобающее поведение». За свою жизнь Рауль сменил много монастырей, в частности при аббате Одилоне он находился в Клюни. Он написал пятитомную «Историю», которая, видимо, была им задумана как всеобщая история, однако, согласно мнению современных исследователей, скорее является сборником исторических анекдотов и наглядно иллюстрирует нравы конца X — начала XI в., содержа при этом очень большое число хронологических и географических неточностей. Впервые «История» Рауля Глабера была опубликована в 1596 г. Кроме нее, он написал ряд небольших жизнеописаний.
(обратно)17
Гуго Капет (ок. 940-996) — французский король с 987 года, основатель династии Капетингов, младшими ветвями которой являются Валуа и Бурбоны.
(обратно)18
Тьерри, Жак Николя Огюстен (1795-1856) — один из основоположников так называемой романтической школы во французской историографии. Его основные работы посвящены истории средневековой Франции. На русском языке неоднократно выходили его «Рассказы из времен Меровингов» (последнее изд.: в «Малой исторической серии». СПб., 1994).
(обратно)19
Гебхардт, Эмиль (1839-1908) — французский историк-медиевист, автор многих работ по истории католической церкви.
(обратно)20
Литтре, Эмиль (1801-1881) — французский философ и лексикограф. Его основной труд — монументальный «Словарь французского языка» (1863-1873), на который в дальнейшем в этой книге будет несколько ссылок.
(обратно)21
Лот, Фердинанд (1866-1852) — известный французский историк-медиевист.
Руа, Жюль (р. 1907) — французский романист, эссеист и драматург.
Пфистер, Кристиан (1857-1933) — французский историк. Преподавал в университетах Нанси, Парижа и Страсбурга. Специализировался по истории высокого Средневековья во Франции и по истории Лотарингии.
Дюваль, Фредерик Виктор (1876-1916) — французский историк, автор работ по религиозной, социальной и военной истории Средних веков и Нового времени.
(обратно)22
Ла Варенде, Жан Маллар де (1887-1959) — французский писатель, автор исторических романов и рассказов. Действие многих из них происходит в Нормандии. Наиболее известные романы — «Кожаный нос» (1936), «Кентавр Бога» (1938), «Вильгельм-бастард — завоеватель» (1946) и др.
(обратно)23
Ла Тур дю Пен, Патрис де (1911-1975) — французский поэт. Цитируемые строки взяты из стихотворения «Прелюдия» (сборник «Поиски радости».
(обратно)24
«Илиада» — одна из двух сохранившихся эпических поэм древнегреческого поэта Гомера (VIII-VII вв. до н.э.).
«Песнь о Роланде» — старофранцузская эпическая поэма, посвященная историческому походу за Пиренеи Карла Великого и франкского войска в 778 году. Самая ранняя запись поэмы относится к началу XII века.
(обратно)25
Герберга — королева Франции, сестра императора Оттона Великого и (во втором браке) жена Людовика IV, мать последних каролингов Лотаря и Карла Лотарингского.
(обратно)26
Аббон Флёрийский (Аббон из Флёри) — ученый X в. (ум. в 1004 г.), монах, аббат монастыря св. Бенедикта на Луаре, автор ряда религиозных сочинений, активный сторонник клюнийской реформы.
(обратно)27
Гиршау — название местечка в Южной Баварии (Германия).
(обратно)28
Дюрер, Альбрехт (1471-1528) — немецкий живописец, график и теоретик искусства эпохи Возрождения.
Дюве, Жан (1485-1570) — французский гравер, ювелир, медальер. По стилю во многом сходен с Дюрером. В 1546-1555 гг. создал серию из 25 гравюр «Картины Апокалипсиса».
(обратно)29
Робертсон, Вильям (1721-1793) — шотландский историк, в свое время очень популярный. Его наиболее известные работы — «История Карла V» и «История Шотландии конца XVI века».
(обратно)30
Полиптик — при Карле Великом опись имущества и доходов крупных сеньориальных и церковных владений. Наиболее известен доскональный полиптик аббатства Сен-Жермен-де-Пре под Парижем, являющийся ценным историческим документом.
(обратно)31
Домен — земельное владение феодала, на котором он вел собственное хозяйство. Крупные феодалы жаловали своим вассалам земли, входившие в их домены, но сохраняли при этом политическую власть над всем доменом (например, королевские домены, домены герцогов и графов).
(обратно)32
Блок, Марк (1886-1944) — французский историк, профессор Страсбурского университета, затем — Сорбонны. В период немецкой оккупации Франции — активный участник движения Сопротивления, расстрелян гестапо. Основные работы посвящены истории западноевропейского Средневековья.
(обратно)33
Братья Гонкур, Эдмон (1822-1896) и Жюль (1830-1870) — французские писатели, авторы романов и мемуаров.
(обратно)34
Латеранский дворец — дворец папы римского в Риме, сохранивший название по имени своих первоначальных владельцев — семьи Латерани. С начала III века он принадлежал императору и в 311 году был подарен папе супругой императора Константина Фаустой. До 1308 года был папской резиденцией.
(обратно)35
Имеется в виду книга современного французского историка Пьера Рише «Повседневная жизнь в империи Каролингов», вышедшая, как и книга Э. Поньона, в издательстве Hachette (1973, 1979).
(обратно)36
Дюби, Жорж (род. 1919) — французский историк-медиевист, специализирующийся в основном на истории X-XIII вв. Его работы посвящены анализу экономического и социального развития средневекового общества, а также его менталитету и культуре. Наиболее известные работы: «Экономика сельского хозяйства и жизнь деревни на средневековом Западе в IX-XV вв.» (1962); «Воины и крестьяне» (1973); «Рыцарь, Дама и Священник» (1981).
(обратно)37
Шоню, Пьер (р. 1923) — французский историк, специалист по истории религиозной психологии.
(обратно)38
Дион, Роже (1896-1981) — французский географ, занимался исторической географией. Наиболее известные работы: «Очерки по истории образования французского сельского ландшафта» (1934), «История виноградников и виноделия во Франции» (1959).
(обратно)39
No man's land (англ.) — ничья земля.
(обратно)40
Ссылка на работу Ш. Игуне «Леса в Западной Европе V-XI веков», опубликованную Итальянским центром исследований по средневековой истории в 1966 г.
(обратно)41
Франция описываемого периода условно разделялась на большие исторические области, которые сформировались в границах самостоятельных политических единиц, существовавших во Франкском королевстве в VII веке. Нейстрия — это Северо-Западная Галлия, т.е. Франция к северу от Луары. Ее основные города — Париж и Орлеан. Аквитания — это область южнее Луары, точнее, юго-запад Франции. Герцогство Бургундия находилось на юго-востоке, гранича с королевством Бургундией. Эти области изначально отличались друг от друга этническим составом, социальным строем и степенью феодализации. В VII веке, кроме этих областей, в состав Франкского королевства входила еще Австразия, находившаяся на северо-востоке и включавшая исконные франкские области по обоим берегам Рейна и Мааса. Однако в IX-X вв. большая ее часть вошла в Германскую империю.
(обратно)42
Outlaw (англ.) — люди вне закона, разбойники.
(обратно)43
Ссылка на книгу Эмманюэля Ле Руа Ладюри «История климата после 1000 года», вышедшую в 1967 г. на французском языке.
(обратно)44
Сетье (от лат. «секстарий») — мера объема, изначально заимствованная у римлян, однако со временем утратившая соответствие римскому оригиналу, который равнялся 0,55 л. В разных областях значение сетье было различным. Например, к концу Средневековья сетье в округе Монпелье составлял 48,92, в Нарбонне — 70,6, а в Тулузе — 93,32 л. В Париже XIII века сетье оценивался в 156 л. Видимо, именно поэтому Лиутпранд уточняет, что речь идет о павийском сетье.
(обратно)45
Мюид, или мойд (от лат. «модий») — также мера объема жидких и сыпучих тел. В Париже он равнялся 268 л, а на юге Франции — 274 л (римский модий = 9 л).
(обратно)46
Андре из Флёри — монах, написавший около 1000 года отдельные части сборника нравоучительных текстов «Чудеса св. Бенедикта», который создавался в течение многих лет трудами нескольких авторов.
(обратно)47
От латинского названия действующего вещества (экстракта) спорыньи — «ergotinum».
(обратно)48
Герцог Баварии Генрих II Строптивый (или Неуживчивый) был соперником императора Оттона II. В 974 году он составил против него заговор, но был захвачен в плен и лишен имущества и власти. После смерти Оттона II он был выпущен на свободу и в 984 году захватил несовершеннолетнего Оттона III. Эта авантюра не привела его к желаемой цели, но ему удалось вернуть себе Баварию и Каринтию. Генрих умер в 995 г.
Оттон III, Чудо Мира (Mirabilia mundi) (980-1002) — германо-римский император, единственный сын Оттона II Рыжего, был коронован после смерти отца в трехлетнем возрасте. В период его малолетства страной управляли его бабушка императрица Аделаида (Адельгейда) и мать императрица Феофано (Феофания), племянница византийского императора Иоанна I Цимисхия и жена Оттона II. Оттон III был коронован как император в 996 г.
(обратно)49
Смерть Генриха I, герцога Бургундского, брата Гуго Капета, положила начало длительной войне его племянника Роберта Благочестивого за Бургундское наследство.
(обратно)50
Видимо, имеется в виду византийский император из Македонской династии Василий II Болгаробойца (957-1025), правивший с 976 года.
(обратно)51
Конрад II (ок. 990— 1039) был первым представителем салической (франконской) династии императоров Священной Римской империи (1024-1125). Он стал императором после смерти Генриха II. Двоюродный брат Конрада II Конрад Младший сначала претендовал на германский престол, а затем отстаивал свои права на престол Бургундского королевства. Он принял участие в восстании против Конрада II и был им пленен. Конрад II присоединил к своим владениям королевство Бургундию в 1033 г.
(обратно)52
Возможно, Рауль не ошибся. Дело в том, что папа Бенедикт IX изгонялся римлянами неоднократно. Будучи племянником двух предыдущих пап, он вступил на престол в 1032 г. в возрасте 15 лет и, видимо, вел весьма свободный образ жизни, потому что вскоре после этого был обвинен в разбое, насилии и распущенности и изгнан населением Рима из города. Видимо, именно этот мятеж имеет в виду Рауль Глабер. Бенедикт IX укрылся при дворе Конрада II, а затем с помощью императорских войск вернулся в Рим. Однако его образ жизни не изменился, и в 1044 г. он был объявлен недостойным сана и опять изгнан. Разумеется, во всех этих изгнаниях играли роль также чисто политические причины. Впоследствии Бенедикт IХ еще дважды ненадолго возвращался на папский престол, в последний раз — в 1047-1048 гг.
(обратно)53
Столетняя война (1337-1453) — война между Англией и Францией, длившаяся (с перерывами) сто лет.
(обратно)54
Цицерон, Марк Туллий (106-43 до н.э.) — знаменитый оратор, юрист, писатель и политический деятель Древнего Рима. Его речи, трактаты и письма считаются образцами стиля и классического литературного латинского языка.
Ливий, Тит (59 до н.э. — 17 н.э.) — римский историк, автор «Истории Рима от основания города» в 142 книгах, из которых сохранилось 35.
Сенека, Луций Анней (6-3 до н.э. — 65 н.э.) — римский философ-стоик, политический деятель, писатель. Воспитатель императора Нерона.
(обратно)55
Диалекты старофранцузского языка можно распределить по территориальному принципу следующим образом. В центре страны локализовался франсийский диалект, бывший языком королевского домена и королевского двора. На северо-западе были нормандский диалект, диалекты Бретани, Анжу, Мена, Турени. На юго-западе обычно выделяют диалекты Пуату, Сентонжа, Ангулема, Аниса. На севере известен пикардский диалект. Существовали также валлонский (Фландрия), лотарингский и бургундский диалекты. Территоральные границы этих диалектов весьма условны. Под языком «ос» обычно подразумеваются южные диалекты, а термин язык «oil» относится к диалектам северо-запада. Языком «ос» иногда также называют провансальский.
(обратно)56
Короли приносили клятву перед войсками, причем Людовик на романском, а Карл на немецком языке («Lodhuvicus romana, Karolus vero theudisca lingua»).
(обратно)57
Арморика (Ареморика) — античное название северного побережья Франции, впоследствии закрепившиеся за полуостровом, носящим ныне название Бретань.
(обратно)58
Бритты — древнее кельтское население Британских островов до вторжения в V веке англов, саксов и ютов.
(обратно)59
Mappae mundi (лат.) — карта мира.
(обратно)60
Современники называли монастырские карты Т-О типа «Imago Mundi rotunda* («Круглый образ мира») или «Карты Ноя», поскольку на них изображалось деление мира между сыновьями Ноя Симом, Хамом и Иафетом. Наиболее ранние из этих карт иллюстрируют «Этимологии» Исидора Севильского. Морские карты, в отличие от сухопутных, назывались не mappa, a charta.
(обратно)61
Исидор Севильский (ок. 570-636) — архиепископ Севильи, славившийся своей эрудицией. В Средние века его труды были одним из основных «учебных пособий». «De natura геrum» — «О природе вещей», «Etymologiae» — «Этимологии».
Беда Достопочтенный (673-735) — английский ученый, монах, перу которого принадлежит ряд трудов по истории, географии, филологии и богословию, вместившие основные научные сведения того времени. Наиболее известна его «Церковная история англов». «De ratione computandi» — «О способе исчисления».
Саллюстий, Гай Крисп (86-35 до н.э.) — римский историк. «De bello Jugurthino» — «Югуртинская война».
(обратно)62
Беат из Вальковадо — испанский бенедиктинский монах, написавший в 776 году знаменитый комментарий к Апокалипсису. Дошедшие до нас рукописи X века — копии. На карте в этих рукописях, при сохранении основной схемы mappa mundi, отмечены многочисленные острова Средиземного моря и океанов, омывающих землю, Черное, Каспийское, Эгейское и другие моря, крупнейшие реки и горные массивы, которые, как и города, даны перспективными изображениями. Соседняя Галлия занимает на карте значительно больше места, чем удаленные страны. Существует множество подражаний карте мира Фра Беата, весьма отличающихся от оригинала, но тем не менее носящих его имя.
(обратно)63
Рифейские горы (Riphaei montes) — по мнению некоторых авторов, это название означало мифические горы на северном краю земли, по другой точке зрения, это — Уральские горы. У римского историка II в. н.э. Юстина читаем: «Скифия <…> ограничена с одной стороны Понтом (Черным морем), с противоположной — Рифейскими горами…»
(обратно)64
Корнуайль — графство в Бретани.
(обратно)65
В Средние века сарацинами называли представителей всех арабских народов и некоторых народов Ближнего Востока.
(обратно)66
Эйнгард (Эгинхард) (ок. 770-840) — монах-ученый, биограф Карла Великого.
(обратно)67
Пиренн, Жак (1891-1972) — бельгийский историк, профессор Брюссельского, Гренобльского и Женевского университетов. Наиболее известный труд — «Великие течения Всемирной истории» в 7 томах (1945-1956).
(обратно)68
Епископ Лана Адальберон (Асцелин) в 991 году присягнул на верность Карлу Лотарингскому, несмотря на давние счеты с этим последним Каролингом, а затем открыл ворота Лана людям короля и помог Гуго Капету пленить соперника.
(обратно)69
Буквально это означает «всадник».
(обратно)70
Дом Пьер Периньон (1639-1715) был бенедиктинским монахом и аббатом монастыря Сен-Варм. Будучи еще келарем, он изобрел технологию, позволявшую получать пенистое шампанское вино, а также добился улучшения его вкусовых качеств.
Дом — почтительное обозначение настоятеля монастыря.
(обратно)71
Буцефал — легендарный конь Александра Македонского.
(обратно)72
Ливром (от лат. libra) называлась и денежная единица и мера веса (то же, что фунт).
(обратно)73
Дож — выборный пожизненный глава Венецианской Республики (697-1797).
(обратно)74
Ecce mitto anglum meum (лат.) — «Вот посылаю ангела Моего», начало католического гимна.
(обратно)75
Басилевс (от греч. basileus) — титул византийского императора.
(обратно)76
Angelus — католическая молитва во славу Воплощения Христова; название дано по первому слову.
(обратно)77
Гарун-аль-Рашид (766-809) — халиф Багдада (786-809) из династии Аббасидов.
(обратно)78
Orologium (от искаженного лат. horologium) — часы.
(обратно)79
Людовик IX Святой (1214-1270) — король Франции с 1226 г. из династии Капетингов. Возглавил VII и VIII крестовые походы. Проводил активную политику централизации Французского королевства.
(обратно)80
Cum fieri possit ut aliquando fallatur (лат.) — так как может случиться, что когда-либо станет неисправна.
(обратно)81
Prima hora, tertia, sexta, nona (лат.) — первый час, третий, шестой, девятый.
(обратно)82
Расчет Пасхи, таким образом, велся от весеннего равноденствия. Такое исчисление дня Пасхи было предписано Никейским собором (325 г.) и соблюдается до сих пор. Православная Пасха обычно празднуется на неделю позже католической, что объясняется реформами календаря.
(обратно)83
В древнеримском календаре счет дней месяца осуществлялся следующим способом. Первый день месяца назывался календами. Седьмой день в длинных месяцах или пятый в коротких назывался нонами. Ноны приблизительно совпадали с первой четвертью фазы Луны. 15-е число (полнолуние) в длинных и 13-е в остальных месяцах называлось идами. Отсчет дней делался в обратном направлении. Например, 2 января — это «4-й день от нон», т.к. январские ноны наступали 5-го числа.
(обратно)84
De temporum ratione* (лат.) — «О счете времени».
(обратно)85
Боссюэ, Жак-Бенинь (1627-1704) — французский католический священник при дворе Людовика XIV, епископ Мо. В 1681 г. написал историко-философский труд «Рассуждения о всемирной истории», в котором рассматривает исторический процесс с точки зрения Священного Писания.
(обратно)86
Иоахим Флорский (Калабрийский) (ок. 1132-1202) — итальянский мыслитель, монах. В своих сочинениях рассматривал историю человечества как прогрессивное развитие от рабства к свободе, проходящее через три состояния мира (статуса), соответствующие трем ипостасям Троицы. Это учение осуждалось традиционной Церковью (например, на IV Латеранском соборе в 1215 г.) и оказало значительное влияние на развитие массовых еретических движений последующих веков.
(обратно)87
Отец Гуго Капета Гуго Великий (ок. 900-956), «герцог франков», обладал исключительной властью при короле Людовике IV и фактически подготовил восшествие на престол своего сына.
(обратно)88
Сантьяго-де-Компостела — город в Испании, основанный близ могилы св. Иакова, апостола Испании, одна из наиболее почитаемых святынь католичества.
(обратно)89
Арьес, Филипп (р. 1914) — французский историк. В своих работах исследует менталитет различных эпох, отношение людей к жизни, смерти, семье, детству.
(обратно)90
Константин Великий (род. между 274 и 280 — ум. 337) — римский император с 306 г. Объединил в своих руках всю империю, завершил преобразование ее государственного устройства. Проводил политику веротерпимости, отменил гонения на христиан и все более прислушивался к мнению руководителей христианской церкви. В самом конце жизни принял христианство. Перенес столицу империи в г. Византии (Константинополь).
Сильвестр I (понтификат: 314-335). О жизни этого папы мало известно, но вокруг его фигуры в Средневековье возникли многочисленные легенды. После перемещения двора в Константинополь Сильвестр оставался в Риме, и именно с его именем связана знаменитая фальшивка, т. н. «Константинов дар», подложный документ, удостоверяющий, что Константин якобы передал Сильвестру и его преемникам императорскую власть над Римом. Этот документ часто использовался в Средние века для обоснования претензий пап на политическую власть.
(обратно)91
Боббио — монастырь в Северной Италии, сопротивлявшийся церковной реформе.
(обратно)92
Кесарь и Петр, т. е. Цезарь (император) и первый папа (апостол Петр) — символы высшей светской и высшей церковной власти.
(обратно)93
Ахен (Аахен) был основан в римскую эпоху и назывался Aquisgranum из-за минеральных источников, посвященных Аполлону Гранусу. В Средние века город насчитывал более 100 тыс. жителей и был «вольным городом св. Римского престола». Долгое время в Ахене короновались императоры и приходили императорские сеймы. Утверждение Ахена как столицы империи произошло при Карле Великом. Город стал символом его традиций в особенности потому, что именно здесь находилась гробница великого императора. Около 1000 года Оттон III распорядился вскрыть гробницу и, сняв со скелета золотой крест, символическим жестом повесил его себе на грудь. Он и другие императоры считали своим долгом поддерживать славу Ахена.
(обратно)94
Август (63 до н. э. — 14 н. э.) — первый римский император (27 до н. э. — 14 н. э.), внучатый племянник Юлия Цезаря.
Траян (53-117) — римский император (с 98 г.). Усилил централизацию государственного управления и расширил границы Римской империи.
(обратно)95
Renovatio Imperii Romani (лат.) — Обновление Римской империи.
(обратно)96
Юстиниан (482-565) — император Восточной Римской империи с 527 г. При нем была осуществлена кодификация всего римского законодательства и был составлен Corpus juris civilis (Свод гражданского права). В этот свод входили: 1. Императорские указы («Кодекс Юстиниана» в 12 кн.); 2. Извлечения из сочинений правоведов («Дигеста» в 50 кн.); 3. Руководство по законоведению («Институции» в 4 кн.); и 4. «Новеллы». См. также гл. XVI.
(обратно)97
Венгры (самоназвание — мадьяры) относятся к угрофинским народам и пришли с Урала на занимаемую ныне территорию в IX — начале X в.
(обратно)98
Кресценции — аристократическая римская семья партициев, противостоявшая «германским» папам. Вопреки воле императора Оттона III Кресценций Младший пытался посадить на папский престол своего ставленника вместо назначенного Оттоном Григория V, за что был обезглавлен. Новое усиление оппозиции Кресценциев привело к бегству императора из Рима.
(обратно)99
Фьеф (или феод) — наследственное земельное владение, пожалованное сеньором вассалу в пользование под условием несения службы.
(обратно)100
Серв (от лат. «servus» — «раб») — крепостной крестьянин. Следует, однако, иметь в виду, что французские сервы сильно отличались от русских крепостных. М. Блок определял серваж как «форму личной зависимости, которая, несмотря на всю суровость, была очень далека от трактовки человека как вещи, лишенной всяких прав» («Апология истории». Гл. 4, с. 93)
(обратно)101
Меровинги — первая королевская династия во Франкском государстве, правившая до 751 года. Название династии пошло от имени легендарного родоначальника Меровея (V в.). Фактический ее основатель Хильперик I (457-481). Наиболее известные короли — Хлодвиг I, Хлотарь I, Дагоберт I. Последний меровинг Хильдерик III (743-851) был свергнут и заточен в монастырь отцом Карла Великого Пипином Коротким.
(обратно)102
Диоцез (лат. diocesis) — в католичестве церковный административный округ, относящийся к юрисдикции епископа и Ватикана.
(обратно)103
Каноник — священник кафедрального собора, живущий по уставу (канону), получающий доход от приписанных к церкви земельных владений и имеющий право голоса при выборе епископа.
(обратно)104
Фульберт Шартрский (ум. 1028) — епископ Шартра (1006-1028), основатель Шартрской школы схолатсической философии.
(обратно)105
Мани — основоположник манихейства, религиозного учения, зародившегося в III в. в Месопотамии. Проповедовал принцип дуализма и извечность борьбы двух начал. Адептам манихейства предписывался аскетизм как отход от зла (отказ от мясной и некоторых видов растительной пиши, безбрачие, запрет касаться руками «тленного»). Секты оформились в конце III — начале IV в. Они состояли из «глав учения», «апостолов», епископов (глав манихейских общин в отдельных областях), старейшин (глав отдельных общин), «избранных», «слушателей». С Ближнего Востока учение Мани было принесено в восточные области Римской империи, в Среднюю Азию, Индию, Китай. Мани был казнен в 276 г. и манихейство объявлено «вреднейшей ересью». В Европе его идеи оказали влияние на такие религиозные движения Средневековья, как павликианство, богомильство, движение катаров.
(обратно)106
Последователи манихейства в Западной Европе назывались катарами, тексгарантами (ткачами), тулузскими или провансальскими еретиками. С конца XII века за ними утвердилось название альбигойцы. Их отлучали от церкви и подвергали гонениям (Альбигойские войны 1209-1229 гг.).
(обратно)107
Вергилий Марон, Публий (70-19 до н.э.) — римский поэт. Наиболее известные сочинения: «Буколики» (пастушеские песни), «Георгики» (поэма о земледелии), «Энеида» (поэма о герое-троянце Энее).
Гораций Флакк, Квинт (65-8 до н.э.) — римский поэт, автор «Од», «Сатир», «Посланий», «Эподов», а также «Науки поэзии», содержащей теорию поэтического искусства.
Ювенал, Децим Юний (ок. 60 — после 127) — римский поэт-сатирик, автор 16 сатир.
(обратно)108
Лафонтен, Жан де (1621-1695) — французский писатель, автор сказок, комедий и басен.
(обратно)109
Хлодвиг I (Кловис) (481-511) — основатель Франкского королевства из династии Меровингов. В 498 г. принял крещение и способствовал распространению христианства в Галлии. Его обращению весьма способствовала его жена Клотильда (Хлодегильда), племянница бургундского короля Гундобада, с детства воспитанная в католичестве.
(обратно)110
Менгиры (бретонск menhir) — вертикально врытые в землю длинные камни иногда образующие ряды. Предположительно связаны с культом мертвых.
Дольмены (от бретонск toi — «стол» и men — «камень») — сооружения из нескольких огромных каменных плит, поставленных вертикально и перекрытых сверху массивной плитой.
(обратно)111
Рабле, Франсуа (1483-1553) — французский писатель, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» (5 кн., изд. 1532-1564).
(обратно)112
Перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в итальянский город Бари имело место около 1087 г.
(обратно)113
Mutatis mutandis (лат.) — с изменениями, с оговорками.
(обратно)114
Сен-Дени — одно из наиболее почитаемых аббатств близ Парижа, строительство которого, по преданию, началось при покровительнице Парижа святой Женевьеве (V в.). В течение многих веков служило усыпальницей французских королей.
(обратно)115
Св. Бенедикт Нурсийский (VI в.) — христианский подвижник, монах. С юности он не мог примириться с недостаточной строгостью жизни духовенства и, «презрев научные знания», долгое время уединенно жил в пещере. Около 529 года он основал монастырь Монте-Кассино (в Кампани) на месте древнего языческого храма. Вскоре появились дочерние монастыри в других районах, монахи которых жили по провозглашенному св. Бенедиктом Уставу для монахов. Источником по истории жизни св. Бенедикта является книга папы Григория Великого «Vita Benedicti» («Жизнь Бенедикта»).
Св. Бенедикт Анианский (750-821) — реформатор бенедиктинского ордена. Основал монастырь в своем родовом имении Аниане, в Лангедоке. Этот монастырь прославился строгостью и полнотой исполнения бенедиктинского Устава. Св. Бенедикт Анианский пользовался покровительством Карла Великого и его сына Людовика Благочестивого. В 817 г. на Ахенском соборе был принят составленный им статут для монахов из 80 пунктов.
(обратно)116
Денье (денарий) — серебряная монета. При Карле Великом из одного ливра (фунта) серебра чеканилось 240 денье. Название монеты идет от латинской традиции, и денариями во французских текстах обозначались также сребреники, полученные Иудой (см. гл. XIX).
(обратно)117
«Te Deum laudamus» (лат.) — «Тебе, Господи, хвалим».
(обратно)118
Бенефиций -в период раннего Средневековья так называлось земельное владение, которое жаловалось королем или другим крупным сеньором в пожизненное пользование вассалу на условии определенной, чаще всего военной, службы. К IX-XI вв., как показывает автор книги, эти земли уже практически превратились в наследственные владения.
(обратно)119
Петр Пустынник и Вальтер Голяк (Готье-нищий) возглавили крестовый поход бедноты в 1095-1096 гг. Почти все участники этого похода либо погибли в пути, либо были истреблены сельджуками. Этот поход фактически был прелюдией крестового похода.
(обратно)120
Ссылка на книгу аббата Сирила Фогеля «Грешник и покаяние в Средние века», вышедшей на французском языке в 1969 г.
(обратно)121
Поцелуй мира — поцелуй, которым отправляющий службу священник или аббат благословлял остальных духовных лиц перед причастием в знак братской любви. Этот символический жест мог распространяться и на мирян, участвующих в службе. С XIII в. этот обычай был изменен: прихожанам и монахам стали давать для поцелуя металлическую или костяную пластинку.
(обратно)122
MLF (Mouvement de libaration des femmes) — французское феминистическое движение, основанное в 1968 г.
(обратно)123
Эпические песни (жесты) (от лат. gesta — «деяния») — эпические поэмы на исторические сюжеты. Многие из них посвящены событиям времен Карла Великого, например знаменитая «Песнь о Роланде».
(обратно)124
Уток — совокупность нитей, расположенных параллельно друг другу и идущих поперек ткани.
(обратно)125
Парки — у древних римлян три богини судьбы, прядущие нить жизни каждого человека. Возможно, Бурхард, воспитанный на латинской культуре, называет парками аналогичные древнегерманские божества, именовавшиеся норнами, поскольку трудно предположить, чтобы вормские крестьяне действительно поклонялись римским богам.
(обратно)126
Тридентский собор (1545-1563, с перерывами) — Вселенский собор, происходивший в Тренто и обсуждавший основные догматы католицизма. Многие из положений Тридентского собора действительны до сих пор.
(обратно)127
Григорий VII (ок. 1020-1085) — папа римский с 1073 г. Провел ряд серьезных церковных реформ, в частности утвердил целибат (безбрачие католических священников) и запретил симонию (продажу и покупку церковных должностей). Боролся с императором Генрихом IV, стараясь ввести запрет на право светских властей на инвеституру (т. е. на назначение, смещение и перевод епископов).
(обратно)128
Фаблио — литературный жанр городской стихотворной новеллы, возникновение которого обычно относят к середине XIII века. Сюжеты фаблио обычно носят комический или авантюрный характер. В Германии этот жанр носил название «шванк».
(обратно)129
Мениппова сатира — сатира в манере греческого философа Мениппа (III в. до н. э.). Под этим заглавием во время религиозных войн 2-й половины XVI века во Франции вышел анонимный художественный памфлет против Католической лиги.
(обратно)130
Верлен, Поль (1844-1896) — французский поэт-символист.
(обратно)131
Ante et retro (лат.) — вперед и обратно.
(обратно)132
Св. Амброзий (Амвросий) Медиоланский (ок. 334-397) — один из латинских отцов Церкви, философ, богослов. Утверждал духовную независимость Церкви от государства, боролся против язычества и арианства. Будучи помимо этого поэтом и композитором, св. Амброзий создал ряд латинских гимнов.
(обратно)133
Kyrie eleison (греч.) — Господи, помилуй.
(обратно)134
Во Втором послании к коринфянам Павел, перечисляя свои страдания ради Евангелия, пишет: «От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного» (11, 24).
(обратно)135
Prandium (лат.) — завтрак, закуска, трапеза вообще.
(обратно)136
Refectoгium (от лат. reficio) — восстанавливать.
(обратно)137
Pater (лат.) — Отче (наш).
(обратно)138
Сепа (лат.) — обед.
(обратно)139
Deus in adjutorium (лат.) — «Боже, поспеши на помощь мне» (Пс 21:30, 37:23).
(обратно)140
Gloria (лат.) — слава.
(обратно)141
Psalmi prostrati (лат.) — «распростертые псалмы».
(обратно)142
Magnificat (лат.) — Величит (душа моя Господа), гимн.
(обратно)143
Conversi (лат.) — обращенные.
(обратно)144
Barbati (лат.) — бородатые.
(обратно)145
Illiterati (лат.) — неграмотные.
(обратно)146
Deus in adjutorium meum intende (лат.) — «Боже, поспеши на помощь мне» (Изменен, текст псалмов 21:30, 37:23).
(обратно)147
Gloria Patri (лат.) — «Слава Отцу».
(обратно)148
Pater, adjutorium nostrum (лат.) — «Отче, помощь наша».
(обратно)149
Beatus vir (лат.) — «Блажен муж» (псалом 1).
(обратно)150
Benedicite (лат.) — «Благословите (ныне Господа)» (Псалом 133).
(обратно)151
Именем Григорий Святой обозначаются несколько выдающихся деятелей христианской церкви. В Средние века особой популярностью пользовались труды двоих из них: Григория Назианзина, по прозвищу Богослов (328-389), и Григория Нисского (ок. 330 — ок. 400). Оба они относятся к отцам Церкви. Григорий Назианзин был выдающимся ритором, в 381 г. стал епископом Константинопольским, является автором нескольких десятков богословских поучений, из которых наиболее известны пять «Богословских слов» о Троице. Его перу также принадлежат несколько поэм (в частности, автобиографическая «Песнь»), ряд эпиграмм и посланий. Некоторые его тексты вошли в состав византийской литургии.
Григорий Нисский считается одним из наиболее глубоких метафизиков и мистиков IV в. Он также в совершенстве владел искусством риторики. Наиболее известными его сочинениями были «Гомилии на Песнь Песней», «Жизнь Моисея», «Большой катехизис», а также несколько полемических богословских трактатов.
Монахи-бенедиктинцы также тщательно изучали и переписывали труды папы Григория Великого (540-604), сохранившего для потомков историю жизни св. Бенедикта и создавшего целый ряд основополагающих богословских трудов («Нравоучения на книгу Иова», «Пастырское правило», «Диалоги» и др.).
(обратно)152
Боэций, Аниций (480-524) — римский философ, а также переводчик и комментатор сочинений Аристотеля по логике. Автор сочинений по логике, математике и теории музыки.
(обратно)153
Проскомидия (греч. proskomide, от proskomidzo — «приношу», «заготовляю») — первая часть литургии, во время которой священнослужители приготовляют хлеб и вино для таинства причастия.
(обратно)154
Suscipe me, Domine (лат.) — «Прими меня, Господи».
(обратно)155
Miserere (лат.) — Помилуй мя, Боже (псалом 50).
(обратно)156
Игра слов заключается в сходстве звучания французских слов «crepe» — «блин» и «creper» — «закручивать», «завивать».
(обратно)157
Паскаль, Блез (1623-1662) — французский математик, физик и философ. Был последователем религиозного учения янсенизма и ушел в монастырь. Его известные философские работы: «Мысли» (изд. 1669) и «Письма провинциалу» (1656-1657).
(обратно)158
Custos vini (лат.) — хранитель вина.
(обратно)159
Титул коннетабля (от лат. comes stabuli — шталмейстер, смотритель конюшни) был заимствован франкским двором из Восточной Римской империи, где так назывался командующий императорской конницей. У франков cuenstables первоначально были служащими при дворе по хозяйственной части или предводителями войск. С XII века коннетабль Франции — высшая государственная должность. Он осуществлял верховный надзор за всеми королевскими войсками, был первым лицом после короля и обладал высшей военной властью во время войны. Из-за излишнего могущества коннетабли стали вызывать подозрительность королей, и эта должность была упразднена Людовиком XIII в 1627 г. Она ненадолго возродилась при Наполеоне I, который назначал на нее своих ближайших родственников, и была окончательно упразднена после Реставрации.
(обратно)160
Обычно антиминсом называется льняной или шелковый плат с изображением положения Христа во гроб и с зашитой в него частицей мощей. В православии в России антиминс употребляется с XII века.
(обратно)161
Extra chorum (лат.) — с хоров.
(обратно)162
Союз братьев христианских школ — организация религиозных мирян, созданная в 1680 году для того, чтобы давать образование детям бедняков. Система школ Союза обеспечивает начальное, техническое и профессиональное обучение, имеются также институты среднего образования. Сеть этих школ распространена по всему миру; в 1980 г. в Союз входило 10 446 человек, объединенных в 1346 общин.
(обратно)163
Фактически Римская Республика пала в 42 г. до н.э. после битвы при Филиппах. В течение последующих нескольких лет победители делили власть, и в 27 г. до н.э. она окончательно перешла в руки Августа, правившего до 14 г. н.э. I век до н.э. и I век н.э. ознаменовались расцветом древнеримской литературы и искусства. Если латинский язык до 80 г. до н.э. считается «архаическим», то именно период конца Республики (с 80 по 30 г.) принято считать периодом «классической» римской культуры, а век Августа обычно называется «золотым» веком (в отличие от «серебряного» — с 14 по 117 г.). Поэтому именно произведения, относящиеся к этим двум периодам, использовались в обучении на протяжении многих последующих веков.
(обратно)164
Дионисий Малый (ок. 500-545) — римский монах, папский архивариус, по происхождению скиф. Предложил в 525 г. летосчисление «от Рождества Христова», а в 532 г. создал Пасхалию, которой в течение многих веков пользовались для определения дня Пасхи. См. также гл. VIII.
(обратно)165
Лев IX (Бруно, граф Эгисхейм-Дагсбург) (1002-1054) — епископ Туля (Лотарингия), в 1049 году был назначен папой императором Генрихом III в присутствии римских легатов. За время его понтификата в римскую курию вошли многие немецкие и лотарингские кардиналы. Лев IХ во многом проложил дорогу реформам Григория VII. В 1053 г. возглавил военные действия против норманнов в Италии, но потерпел поражение. За несколько месяцев до его смерти произошел окончательный разрыв между римской и константинопольской Церквями.
(обратно)166
Ars grammatica (лат.) — искусство грамматики.
(обратно)167
Донат, Элий (IV в) — известный римский грамматик и ритор. Из его сочинений известны «Ars grammatica» в 3 кн. и краткое изложение учения о частях речи «Ars minor». Его книги были главными руководствами при элементарном обучении, и впоследствии слово «донат» стало вообще обозначать латинскую элементарную грамматику, а в немецком языке ошибка в латинской грамматике даже называлась «донатической ошибкой».
(обратно)168
Теодорих (ок. 454-526) — король остготов, при котором они завоевали Италию и основали в 493 году свое королевство.
(обратно)169
Стаций, Публий Папиний (ок. 40-96) — римский поэт, автор лирической поэмы «Леса» и эпических поэм риторического склада «Фивы» и «Ахиллеида».
Теренций, Публий, по прозвищу Африканец (ок. 185-159 до н.э.) — римский комедиограф, автор 6 пьес («Свекровь», «Братья» и др.).
Персии Флакк, Авл (34-62) — римский поэт-сатирик, проповедовавший идеалы стоиков.
Лукан, Марк Энней (39-65) — племянник Сенеки Старшего, римский поэт и декламатор, автор оставшейся незаконченной поэмы «Фарсалия» (в 10 кн.) о борьбе Цезаря с Помпеем
(обратно)170
Regula de abaco computi (лат.) — Правила исчисления на абаке.
(обратно)171
Для дробей у римлян существовала двенадцатиричная система обозначения, причем каждая дробь от1/12 до 11/12 имела собственное название. В этой системе 1/8, например, должна называться «полторы двенадцатых». Происхождение этой системы неизвестно.
(обратно)172
De musica (лат.) — О музыке.
(обратно)173
Слово «симфонический» в данном случае употреблено не в привычном нам современном смысле, а означает одновременное звучание нескольких звуков (от греч. symphonia — «созвучие»).
(обратно)174
Гвидо д'Ареццо (990-е — ок. 1050) — итальянский монах. В отличие от того, что пишет Э. Поньон, другие источники указывают, что он получил образование в монастыре Помпозы, близ Феррары. Он изобрел многолинейную форму нотного письма, прообраз современной пятилинейной нотации и ввел слоговые названия нот. Свою музыкальную систему он изложил в трактате «Краткое слово об изучении искусства музыки» и в письме к монаху Михаилу, сохранившемся до наших дней. Его авторитет в Средние века был столь велик, что ему даже приписывали изобретение музыки.
В названиях нот, предложенных Гвидо, «си» отсутствует, так как он пользовался гексахордом (шестиступенным звукорядом). «Си» появилось лишь в XVI в. «Ut» заменяет принятое теперь «до». Каждый из слогов является первым слогом строки латинского гимна св. Иоанну, широко известного певчим того времени: это была молитва певцов об избавлении от хрипоты. Однако мелодия гимна была другой. Гвидо соединил текст с мелодией, в которой каждая строка начиналась со следующей по гамме ступени звукоряда. Поэтому первые слоги строк и дали названия соответствующим звукам. Вот этот гимн:
Ut queant Iaxis Resonare fibris, Mira gestorum, Famali tuorum, Solve polluti Labii reatum, Sancte Johannes!Употребление буквенных обозначений нот сохранилось в профессиональной музыке: от «до» до «си» ноты обозначаются как с — d — е — f — g — a — b (или h).
(обратно)175
Поскольку принятые в средневековой музыке лады характеризовались типичными, запоминаемыми мелодическими формулами, то для воспроизведения каждой мелодии было важно напомнить порядок следования отдельных типичных фрагментов и конфигураций. Это наглядно осуществлялось невмами, специальными значками, располагавшимися над текстом и показывавшими направление движения мелодии (аналогично движениям рук дирижера). Обычно каждый значок обозначал целую попевку, хотя существовали и значки, соответствующие одному звуку. Предположительно эти значки произошли от греческой (александрийской) системы обозначения ударений и попали на Запад из Византии в VIII веке.
(обратно)176
Изначально Парижский университет (Сорбонна) славился своим богословским факультетом, однако со временем этот факультет стал оплотом фанатически настроенных католиков, устраивавших травлю инакомыслящих.
(обратно)177
Св. Ансельм Кентерберийский (1033-1109) — ученый-богослов, аббат, с 1093 года заменил Ланфранка в качестве архиепископа Кентербери. Автор ученых трудов по философии и богословию. Впервые выставил и развил онтологическое доказательство бытия Бога. Учил, что «вера предшествует познанию». В 1720 г. причислен к числу отцов Церкви.
(обратно)178
«Оттоновским возрождением» по аналогии с «Каролингским возрождением» называют подъем культурной жизни с Германии в последней трети X и начале XI в. В это время Оттон III, следуя примеру Карла Великого, сделал королевский двор одним из крупнейших культурных центров и старался способствовать распространению грамотности.
(обратно)179
Гросвита (Hrotsvit, Hroswitha, Hrotsvitha; на русском языке есть также старая форма передачи этого имени — Ротсуита) (932 — ок. 1002) считается первой немецкой поэтессой.
(обратно)180
Клодель, Поль (1868-1955) — французский поэт-символист и дипломат. Утверждал католические нравственные принципы. Писал драмы в ритмизированной прозе («Благовещение», 1912; «Шелковая туфля», 1924). Создал также тексты для ряда опер и ораторий и гимнические стихи.
(обратно)181
Кармелиты (от названия горы Кармель в Палестине) — католический монашеский орден, основанный в 1253 г. Минориты (францисканцы) — католический орден, основанный в 1223 г. Оба ордена характеризуются очень строгим уставом.
(обратно)182
Тем не менее историки начала XX века сообщали о том, что в крипте (подземном сооружении) церкви аббатства Сен-Жермен были обнаружены частично сохранившиеся надписи Рауля.
(обратно)183
Гильом д'Оранж (Оранжский) и Эмери де Нарбонн — герои известных жест.
(обратно)184
De diversitate temporum (лат.) — О различии времен.
(обратно)185
Бедье, Жозеф Шарль Мари (1864-1938) — французский филолог, автор исследования «Эпические сказания» в 4 тт. (1908-1913).
(обратно)186
Традиционализм — концепция, утверждающая раннее происхождение эпической поэзии и относящая его к эпохе воспеваемых исторических событий (VIII-X вв.). Традиционалисты считают, что автор этих поэм — коллективный и что они долгое время существовали в устной форме, прежде чем были записаны. В противовес этой точке зрения «антитрадиционализм» выдвигает идею принадлежности поэм индивидуальным авторам и датирует их временем письменной фиксации. В качестве возможного автора называется, например, Турольд, упомянутый в «Песни о Роланде», и др.
(обратно)187
Норманны под предводительством Вильгельма II, 7-го герцога Нормандии, завоевали Англию в 1066 г. Согласно сохранившимся свидетельствам, последний король из англо-саксонской династии Эдуард Исповедник (1042-1066), не имевший детей, пообещал Вильгельму Нормандскому английскую корону в благодарность за оказанную ему помощь. Однако шурин Эдуарда Гарольд Уэссекский заявил, что перед смертью тот передал трон ему. В результате последовавших войн Гарольд и другие претенденты были убиты, и нормандский герцог взошел на английский трон под именем Вильгельма I Завоевателя, основав Нормандскую династию, правившую до 1135 г. Принесенный норманнцами французский язык оказал большое влияние на развитие английского языка, в словарном составе которого появилось огромное количество романских корней. Так что, если говорить о времени 1000 года как о переломном периоде, то следует отметить также, что в Англии в это время складывались предпосылки для смены династий.
(обратно)188
Ссылка на книгу Лефевра де Ноэтта «Применение тягловой силы животных в различные эпохи» (Париж, 1924).
(обратно)189
Брунгильда (Brunehaut) (534-613) — жена короля Сигиберта II из династии Меровингов и мать Хильдеберта II. После смерти мужа проводила активную политику, направленную на объединение королевства, пользуясь для этого любыми средствами. Под названием «дорога (или дороги) Брунгильды» известны старые римские дороги на территории Галлии.
(обратно)190
Дидро, Дени (1713-1784) — французский философ, писатель, основатель и редактор «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел».
(обратно)191
Будущий изменник Ганелон советовал императору отправить посла к царю сарацин Марсилию в ответ на его приглашение. Карл согласился, но по совету Роланда решил послать в это опасное путешествие самого Ганелона.
Граф Ганелон всем телом содрогнулся, Он сбросил мантию на мехе куньем, — Под ней была одежда на шелку.(Перевод А. Сиповича)
Впоследствии Ганелон мстил Роланду за этот совет, данный императору.
(обратно)192
Любопытно, что этот сюжет часто встречается в «Романе о Лисе» и почти дословно пересказан в следующей исповеди Лиса Ренара о кознях, которые он строил волку Изенгрину (Изегриму):
Был мной обманут Изегрим, Теперь уж он непримирим. В доверье втерся я к нему, Но скоро в злую кутерьму Хитро ввел друга своего: Монахом сделал я его; И убедил его со зла Вовсю звонить в колокола; Коварный удался мой ков: Священник с сотней мужиков Приспел, и все давай орать Да бить, — едва успел удрать.Конечно, возможно, автор этого фрагмента слышал историю об орлеанском волке так же, как ее слышал Рауль Глабер. Однако по аналогии с жестами можно предположить, что сюжеты «Романа о Лисе», относящегося к рубежу XII и XIII веков, уже имели хождение около 1000 года, а соединение этой истории с другими примерами несчастий в Орлеане — уже результат фантазии и веры самого Рауля.
(обратно)193
Ble (фр.) — хлебный злак, зерно, пшеница.
(обратно)194
Древние римляне называли Цизальпинской Галлией территорию Северной Италии. А территория современной Франции, Бельгии, Люксембурга, части Нидерландов и Швейцарии обозначалась названием Трансальпийская Галлия.
(обратно)195
Активное завоевание германских земель и образование в них римских провинций относятся ко второй половине I в. н.э.
(обратно)196
Генрих IV (1553-1610) — французский король с 1589 (официально с 1594) года. Придя к власти после длительных религиозных войн, он взялся за наведение порядка в стране и действительно пообещал французам эту «курицу». Хотя такого идеала достичь не удалось, все же благодаря снижению прямых налогов упорядочению государственных расходов и прекращению войн положение крестьянства в целом улучшилось.
(обратно)197
Отец Людовика XIII, Генрих IV, согласно свидетельствам современников, пользовался успехом у женщин, и официальный список его любовниц насчитывает более 50 имен.
(обратно)198
Bellatores (лат.) — воины.
(обратно)199
Inermes (лат.) — безоружные.
(обратно)200
Слово «chevalier» происходит от слова «cheval» — лошадь, конь.
(обратно)201
Во французском тексте здесь употреблено слово «motte» — «глыба».
(обратно)202
Филипп II Август (1165-1223) — французский король из династии Капетингов. Успешно боролся против феодальной раздробленности за усиление централизации страны и королевской власти. В этой политике он опирался в основном на мелких и средних феодалов. В войнах с Англией отвоевал большую часть владений Плантагенетов во Франции, эти позиции были окончательно закреплены победой в битве при Бувине (1214 г.).
(обратно)203
Гинекей (от греч. gyne — «женщина») — женская часть дома.
(обратно)204
Янус, древнеримский бог ворот, входов и выходов, также покровительствовавший началу года (ему был посвящен месяц январь) и исполнявший ряд других функций, изображался с двумя лицами: одно из них смотрело вперед, другое — назад.
(обратно)205
Курульное кресло — складное, выложенное слоновой костью кресло консулов, преторов и курульных эдилов в Древнем Риме.
(обратно)206
Гильом из Вольпиано (962-1031) — клюниец, реформатор монастырей, считается святым, хотя официально его культ не признавался.
(обратно)207
Паллиум — древнеримская мужская одежда типа плаща. Изначально паллиум представлял собой кусок мягкой ткани, который набрасывали на плечо и обворачивали вокруг талии. Однако затем слово «паллиум» стало родовым обозначением плащей разного покроя. Общим для них было то, что их надевали на себя, а не обертывались ими, как тогой.
(обратно)208
Схизма (от греч. schisma — «раскол») — церковный раскол. Генрих VIII (1491-1547) — английский король с 1509 г. из династии Тюдоров. После того, как папа не дал ему разрешения в четвертый раз вступить в брак, он в 1534 г. объявил об отделении англиканской церкви от Рима. Следует иметь в виду, что это происходило на фоне развивающегося движения Реформации.
(обратно)209
В 1030 г. Констанция побудила своих сыновей Генриха и Роберта к мятежу против их отца короля.
(обратно)210
Дискос — литургический сосуд из золота, серебра или стекла.
(обратно)211
Это вряд ли был панцирь в том виде, в каком мы встречаем его в позднем Средневековье. Скорее всего, шевалье X-XI вв. надевал т.н. хауберк, т.е. рубаху из плотной кожи или плотной простеганной ткани, к которой могли крепиться железные рукава и металлические пластинки. После появления металлических панцирей хауберк стал использоваться как подлатник.
(обратно)212
См. объяснение в тексте гл. XVIII.
(обратно)213
«Черепахой» называлось переносное прикрытие для таранов и пехоты, использовавшееся при осаде. Оно представляло собой конструкцию, обычно на больших деревянных колесах, по бокам защищенную щитами, а сверху мокрыми кожами. Под этой «переносной крышей» можно было вплотную подойти к стенам осаждаемой крепости, не особо опасаясь кипящей смолы, стрел и т.п.
(обратно)214
Ссылка на книгу Саллюстия «Югуртинская война», которой подражал Ришер. Югурта был царь Нумидии, первое время удачно воевавший с Римом, но затем потерпевший поражение. В 105 г. до н.э. мавританский царь Бокх выдал его римлянам, которые уморили его голодом.
(обратно)215
Битва при Азенкуре (Фландрия) произошла в 1415 г. во время Столетней войны. В этой битве французская армия, ослабленная внутренними усобицами, потерпела поражение, и англичане уничтожили и пленили 10 000 французских воинов.
(обратно)216
Сейчас берберами принято называть группу народностей, представляющих собой коренное население Северной Африки (Марокко, Алжир, Ливия, Тунис). Они являются потомками древних ливийцев, говорят на близкородственных берберских языках и частично арабизированы.
(обратно)217
Mercator (лат.) — купец.
(обратно)218
Judeus (лат.) — иудей, еврей.
(обратно)219
О еврейских купцах-раданитах (или, точнее, «ар-Разанийа»), говоривших на арабском, персидском, греческом, «франкском», андалузском и славянском языках и путешествовавших по торговым делам с Запада на Восток и обратно по странам Арабского халифата, Византии и «землям франков», рассказывал арабский автор Ибн-Хордадбех (80-е гг. IX в.). Происхождение их названия («раданиты») неясно.
(обратно)220
Ле Корбюзье (1887-1965) — французский архитектор и теоретик архитектуры, оказал большое влияние на архитектуру XX века.
(обратно)221
Далматы — население северного побережья Адриатического моря, бывшей римской провинции Далмация. К X-XI вв. этнический состав этого населения был неоднороден, но они говорили на далматинском языке, относящемся к романской языковой группе.
(обратно)222
Слово «раб» образовалось от корня «слав-» во французском — «esclave», испанском — «esclavo», английском — «slave», немецком — «Sklave» и некоторых других языках. На основе этого факта некоторые авторы предполагают, что рабы-славяне, возможно, продавались не только в восточные страны.
(обратно)223
Людовик Благочестивый (778-840) — сын и наследник Карла Великого, франкский император (814-840).
(обратно)224
В 555 г. Остготское королевство, основанное Теодорихом, было завоевано Византией, но, начиная с 568 г., византийцы стали терять власть в Италии под натиском лангобардов. Дольше всего владычество Византии продержалось на юге Италии (Беневент, Апулия, Калабрия, Сицилия), однако к 1000 году эти владения сократились, поскольку Сицилия была захвачена арабами. В XI в. Южная Италия была завоевана норманнами.
(обратно)225
Э. Поньон употребляет в этом месте транслитерацию «goroda».
(обратно)226
Константин VII Багрянородный (Порфирогенит) (905-959) — византийский император с 913 г. Автор трактатов «Об управлении империей», «О фемах» и др.
(обратно)227
В этой главе Э. Поньон излагает взгляды т.н. «норманнистов» на происхождение Руси и русской государственности. Их точка зрения сводится к двум основным утверждениям: 1) норманны военным путем или на основе договора, добились господства над восточными славянами и заложили основы государственности славян, которые до этого были «политически инертными»; 2) слово «русь» первоначально обозначало норманнов, о чем свидетельствует ряд византийских и латинских источников и лингвистические данные.
Проблема происхождения Руси (в том числе и происхождения названия Русь) чрезвычайно сложна и не может быть однозначно решена на основании имеющихся в нашем распоряжении источников. Отметим лишь, что та крайняя точка зрения, которой придерживается автор книги, вряд ли может быть признана обоснованной, поскольку кажется очевидным, что образование государства является в значительной степени следствием внутренних процессов, происходящих в обществе.
(обратно)228
Если речь идет о Киевской Руси, то это явная ошибка: крещение Руси имело место в 988-989 гг. при князе Владимире Святославиче. (1015 год — год смерти Владимира.) Христианизация скандинавских стран произошла несколько позднее, в основном в первой половине XI в., хотя первые миссионеры появились там раньше. Таким миссионером был, например, монах Анагарий, апостол Севера, прибывший в Швецию из Гамбурга в начале IХ в. Однако реальная христианизация Швеции началась где-то около 1000 года, после того как конунг Олаф Шетконунг распространил свою власть на всю страну, а окончательно христианство укрепилось в Швеции только в XII в. В Норвегии христианство было официально введено в конце X века конунгом Олафом Трюггвасоном, который умер в 1000 году, и его введение было завершено Олафом II Харальдсоном (Олафом Святым), правившим с 1015 по 1028 г. В Дании христианство начало распространяться при Гаральде Синезубом (950-986) и окончательно утвердилось в XI в.
(обратно)229
Несомненно, очень упрощенный взгляд, основанный на недоразумении. Достаточно вспомнить о монголо-татарском нашествии (30-40-е гг. ХIII в.), полностью изменившем ход русской истории.
(обратно)230
Скандинавы основали в Северной Америке три небольших колонии: Хеллюланд (в районе Лабрадора), Маркланд (на Ньюфаундленде) и Винланд (предположительно в районе современного Нью-Йорка). Эти поселения просуществовали, видимо, относительно недолго.
(обратно)231
Генрих Птицелов (876-936) — первый король Саксонской династии (с 914 г.). Укреплял единство Германского королевства, начал завоевание земель полабских славян, воевал с венграми. Провел военную реформу (создал новую боевую конницу) и построил много крепостей. Его преемником был Оттон I.
(обратно)232
Мальтус, Томас Роберт (1766-1834) — английский экономист, основоположник концепции мальтузианства, утверждал, что безработица и бедственное положение населения — результат «абсолютного избытка людей», действия «естественного закона народонаселения». Под «мальтузианскими настроениями корпораций» автор, скорее всего, имеет в виду идеологию замкнутых цеховых ремесленных организаций, развившихся в Средние века и противостоявших расширению рынка рабочей силы, которое было неизбежным следствием развития городов и торговли.
(обратно)233
Речь идет о Великой Французской революции 1789-1794 гг.
(обратно)234
Мартелл, Карл (ок.688-741) — майордом,фактический правитель Франкского государства с 715 г. при последних Меровингах, дед Карла Великого. Он укреплял военные силы государства за счет конфискации части церковных земель и раздачи их феодалами в бенефиции. В 732 г. при Пуатье он разгромил войско арабов, остановив их движение в Западную Европу.
(обратно)235
Коллегиальная церковь — в католичестве и англиканстве церковь, при которой имелась коллегия (капитул) священников, состоявших при епископе или кафедральном соборе.
(обратно)236
Щипец — симметричная двускатная верхняя часть стены, продолжающая без выступов ее основную плоскость.
(обратно)237
Неф — прямоугольное помещение, часть интерьера церкви, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов.
(обратно)238
Апсида (абсида) — выступ здания, обычно полукруглый (извне иногда граненый или прямоугольный). В христианских храмах обычно находится в конце главного нефа и является алтарной частью.
(обратно)239
Пророк Иезекииль говорил людям Иерусалима, что Господь повелел им сделать у себя на лбу крест в виде буквы «Т», или тау-крест, как знак освобождения для тех, кто был обвинен, но потом оправдан. Некоторые исследователи полагают, что этот знак был также священным символом у друидов, которые изготовляли его, спиливая дуб на некоторой высоте и укладывая верхнюю часть на нижнюю горизонтально. Поэтому с некоторой осторожностью можно предположить, что подобные опоры могли присутствовать и в древних постройках галлов.
(обратно)
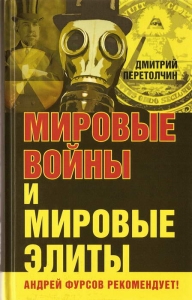


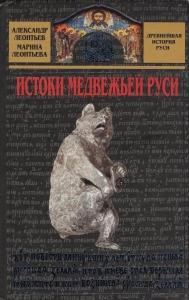
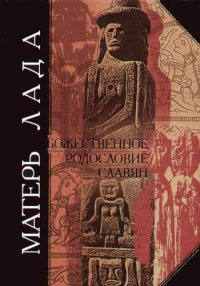


Комментарии к книге «Повседневная жизнь Европы в 1000 году», Автор неизвестен
Всего 0 комментариев